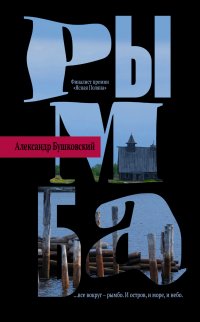
Читать онлайн Рымба бесплатно
- Все книги автора: Александр Бушковский
© Бушковский А.С., 2019
© ООО «Издательство АСТ», 2019
* * *
Глава 1
Рымбо и Волдырь
«…В лето семь тысящ трицать осьмое от сотворения мира пришли топорники через леса на берег озера-моря и принесли на плечах свои ло́дьи, кои называли ушкуя́ми. Берегов у моря-озера не видно, а вода чистая и сладкая, как в колодце. Два дня и две ночи гребли ушкуйники против ветра и парус не ставили. Спины гудят, руки повисли. На третье утро увидели остров и решили пристать, на тверди земной постоять.
Встретили их лесные люди-людики, добрые охотники и рыбаки. Дали топорники им меду и квасу, угостили вяленой козлятиной. А людики отдарились грибами и рыбой. Кланялись медвежьим головам на лодьях, дивились бородам гостей кудрявым и их вострым топорам. Сказали гостям, что все вокруг – рымбо. И остров, и море, и небо.
А остров лесист, и море богато. И что значит “рымбо” – никто из гостей не понял. Стали жечь костры, менять меха на топоры, меды-квасы пить и рыбой с грибами закусывать. Радостно стало и гостям, и хозяевам, замутнело в головах, плясали у огня от заката до рассвета и попадали усталые, кто где стоял. Мертво спали целый день и всю ночь, а утром открыли хозяева глаза, ан гости уж вовсю топорами стучат, бревна корят, венцы подымают, нагеля забивают. Только щепки летят…»
* * *
В одной деревне Рымба, на острове, старики говорили, что деды им рассказывали, будто жил здесь еще до революции батюшка, поп, нерусский какой-то, то ли грек, то ли мордвин, так тот читал из старинной книги, как давным-давно, при темном царе, пришли сюда с разных сторон люди и стали жить. Заставлял прихожан, мужиков и баб, а особенно детей, учить эту книгу наравне с Евангелием и Псалтирью. Так говорил: «Если хотите, людики, знать, что будет с вами дальше, сначала узнайте, что раньше было». Тут даже остался живой один человек, которого в детстве прадед заставлял на слух целые былины из этой книги затвердить. Тому самому, видно, розгами по малолетству учение вбили, вот он и считал нужным внуку его передать. Но только рассказывает оный человек всегда нетрезвый (трезвый молчит) и, выпивши, вставляет свои шутки. Поэтому за точность ручаться нельзя. Зовут же этого живого человека Волдырь. Володя Неверов. Владимир Николаевич.
Волдырь хоть и стар, но пока крепок. Родился он прямо здесь, на острове, в прошлом веке, до войны. Жива была еще деревня. Женщины в банях рожали. Были у Волдыря и братья, и сестры. Отцу его Николаю исполнилось двадцать пять, когда призвали его на фронт матросом, и попал он служить то ли на линкор «Отважный», то ли на торпедный катер «Отчаянный» – точно теперь не вспомнить. Все мужчины тогда ушли из деревни воевать, остались одни пацаны да калеки.
Рымбу враг оккупировал. Волдыреву деду Мите было за пятьдесят, он партизанил в лесах. На фронт его не взяли: был одноногий, еще в первую кампанию оторвало германской шрапнелью. Да он бы и с ногой не пошел, считал, что война – дело молодых, и дочку с внуками боялся оставить без присмотра, сиротами. По ночам таскал им отнятые у мертвых оккупантов рыбу и муку. Но оккупанты, остававшиеся в живых, повесили его жену Любу за связь с лесными людьми. На мысу повесили, с южного берега, для острастки и от ужаса. В качестве акта возмездия и террора. Только им это не помогло.
Подошел как-то раз к южному берегу линкор «Отважный», а может, торпедный катер «Отчаянный» или еще какой-нибудь кораблик с морской пехотой на борту, и загорелась земля у врагов под ногами. Тлела-тлела да и вспыхнула. И, как говорил одноногий моряк, те из них, кто остались в живых, позавидовали мертвым. Кричали, плакали, умоляли скорее убить. Морпехи в конце даже патронов не тратили, штыками их кололи да пыряли.
А мыс с тех пор так и называется – «Партизанка». Возле него ряпушка в нерест хорошо ловится.
Деда Митю после победы отправили в каторгу за то, что прятался на вражьей территории, пока остальной народ выбивался из сил на передовой и в тылу. Вернулся он только тогда, когда помер великий полководец, победитель врага. Но радость от Митиного возвращения в семью скоро прошла. Митя вернулся безумцем. Пил брагу, курил самосад, пел песни похабные, работать и слушать никого не хотел. Ни стариков, ни ветеранов. Прятался в своих лесах, и его даже одноногого поймать и снова посадить, теперь уже за тунеядство, не могли. Вешать же родню за это органы победившего народа не стали. Не тот грех.
Надежда, Митина дочка и мать Волдыря, в оккупации как могла старалась прокормить детей, грибы-ягоды по болотам собирала, на нерестах мережи в ламбах[1] держала, а после войны еще и на ферме работала. И четверых на ноги поставила. И сама всегда опрятна да причесана, не простоволоса, даром что ладони в мозолях.
Волдырь же с братьями и сестрами, пока мать работала, оставался под присмотром прадеда Ивана, с ним и дружил, а тому было за восемьдесят. Скрипучим голосом прадед рассказывал былины и небылицы. Волдырю казалось, они даже от голода помогали. Интересные. Прадед, как и сказки его, был мрачен и добр.
Повезло Волдырю: отец вернулся живым, через четыре года после победы. Раньше командование не отпускало: служить некому. Радость была на всю округу. Еще бы, один живой из семерых ушедших. Вслух он о войне не вспоминал. Отремонтировал дом. Стал бригадиром. Рыбачил в бригаде с подростками и стариками. Волдыря учил.
Сначала отвез его ненадолго в школу. На том берегу, на большой земле, стояла в деревне школа, но туда каждый день нужно было ездить на лодке, а маленькой лодки у отца не имелось. Отец немного повозил Волдыря на своей, пока тот буквы с цифрами не выучил, а после стал брать сына вместо школы на промысел. Там было здорово, хоть и тяжело. И рыба жирнее, чем в школе, да и запивать ее казалось лучше отцовским киселем из морской капусты, чем школьным чаем из брусничного листа.
Отец у Волдыря был человек веселый и недоверчивый. В том смысле, что в Бога Николай не верил, да и на́ слово тоже почти никому. Вообще, старался больше улыбаться. Считал, что горя да слез и так хватает вокруг, зачем же их еще и множить унылым лицом. В Бога не уверовал, так как родился во времена неверующих. Церкви были закрыты или использовались под овощехранилища. Православная вера держалась тогда в тайне, настоящие батюшки в тюрьмах сидели, ненастоящие служили другим силам и их органам. Таинства совершали старушки. По крайней мере детей крестили дома, втихаря. Отец по-доброму над ними смеялся. Не верил он в женщин-священников, даже и со святой водой. Зато к суевериям относился с опаской, видел, что и при кресте, и при звезде бабки-знахарки грыжи да зубы заговаривают, сглаз снимают-наводят и много еще чего могут. А если колдун – дед, то к нему потихонечку едут болящие из градов и весей и ссориться с ним никто не желает. Даже и начальники.
На слово отец перестал верить людям после войны, сказав Волдырю под хмелем, что все, кому он доверял, остались в морской пехоте. В море, как в поле. Что это значит, Волдырь не понял, но выспрашивать почему-то не решился.
На промысле Волдырю нравилось. По малолетству его сильно не запрягали, а к трем своим обязанностям, «вода-дрова-помойка», он давно и дома привык. Скоро научился рыбу чистить, мыть посуду, дрова колоть, даже уху варить. Кухарки-то на лову не было. Отец как бригадир и моряк не доверял женщинам ни на воде, ни на берегу. Справедливо полагал, что женщина – скандал в мужском коллективе. Хотя дома с женой Надеждой жил мирно. Волдырь привык спать в промысловых избушках на нарах, дыша табаком и укрываясь фуфайкой, рано вставать, привык мокнуть под дождем, вялиться на ветру, счищать с лодок снег и выпутывать из сетей рыбу. Лицо его потемнело, руки огрубели от соли и воды, ноги и плечи окрепли в работе.
Весело было рыбачить с отцом! Таких ку́мжин видал подчас Волдырь – по пуду, а сёмжин – по два! Жаль, что все приходилось сдавать в рыбсовхоз. Себе из государственной рыбы оставляли только чуть-чуть ряпушки. Ее же, ряпушку, оставляли для наживки. Круглый год держали в тайне самоловки и переметы. И рыбу разную тоже ловили и пробовали. Порой без хлеба икру есть приходилось деревянной ложкой.
Но не это вспоминает на старости лет Волдырь. Вспоминает он ястреба в озере. Рассказывает, что ехали как-то они вдвоем с отцом на лодке с похо́жки[2], везли домой улов. Осень, вечер, холодно, тихо. Закат за тучками багровый, вода как свинец, тускло отсвечивает. Отец на веслах, парус висит. Волдырь по сторонам глядит.
Видит – что-то вдали на водной глади качается. Лесина? Почему как живая? Собака? Не так собака плавает, гребет чаще и голову высоко не высовывает. Подгребли с отцом поближе, а это ястреб с собаку ростом. Крыльями машет в воде, как в небе, а не летит. Оттолкнуться не от чего, по плечи только и может выдернуться. Молодой еще, говорит отец. Хоть и крупный. Видно, утку бил на воде, да по неопытности не рассчитал – окунулся в атаке. Взлететь не смог, так и гребет. Устал уже, последние силы тратит.
Вытащил отец весло из уключины и протянул ястребу. Тот, ни секунды не медля, вцепился когтями в лопасть. С трудом поднял его Николай из воды и опустил в лодку, рядом с корзиной рыбы. Ястреб обтекал, опустив голову и бросив крылья. Крупно трясся. Ишь, измучился, сказал отец, поднял с носовой скамьи фуфайку и накинул для тепла на птицу. Только голова осталась торчать. Волдырь смотрел с кормы, опасливо поджав сапоги. Ястреб был мокрый и красивый. Воткнул он пронзительный взгляд куда-то в пространство перед собой и не шевелился. На острие клюва дрожала капля.
Лодка уткнулась в песок на берегу. Отец крякнул и поднял фуфайку вместе с птицей. Отнесу на чердак, сказал он, авось оклемается. Ястреб не сопротивлялся. Отец положил его прямо в фуфайке на опилки чердака и открыл окошко. Если сможет – улетит. По совету отца Волдырь принес в миске куриное яйцо, надколол его и поставил миску перед самым клювом.
На следующий день ястреб уснул с полуоткрытыми глазами, не притронувшись к пище. Так и не проснулся. Голова упала, глаза помутнели. Отец убрал его в мешок и с помощью Волдыря закопал на краю огорода. Видно, переохладился, не смог очухаться, вздохнул отец. Волдырь не плакал, но ему сильно хотелось, прям так, чтоб навзрыд. Очень уж красивый был ястреб. Крылья шире, чем руки отца, когти опасные, и перья переливаются. И что это за смерть? Не в бою, не от старости, а от воды холодной… Нечестно.
Часто потом вспоминал Волдырь этот случай. То в армии, сидя на броне «мотолыги»[3] и наблюдая с горы парящего внизу, в тумане ущелья, орла. Тайно радуясь, даже гордясь его силой и свободой. То на целине, где приходилось задирать голову и щурить глаза от яркого, жгущего степь солнца, чтобы разглядеть беркута в синеве. И даже в лагере, на лесоповале, когда нужно было убедить бригадира, старого урку, не рубить сосну с гнездом тетеревятницы.
Раньше, до старости, Волдырь был выше всех в деревне ростом и сильнее всех. Потом время прошло, он подсох, остались одни жилы да еще морщины, будто трещины на темном лице. С тюремных времен тускло блестят во рту зубы из бронзы. Потому блестят, что он все время улыбается или беззвучно смеется, сощурив глаза. Но чтобы радоваться, ему всегда нужно быть хумалас, то есть, по-местному, пьяненьким. Достижением этой цели он и занят. Нет у него ни жены, ни детей, родители лежат на погосте. (А погост хороший – тихий, под елями.) Есть родня, но в городе живет, давно не виделись. Дальние родичи на остров не приезжают. Часто пустует его бревенчатый дедовский пятистенок, большой, о двух этажах, и темный, как лицо Волдыря. Покосился он, наклонился над водой, хоть ныряй с резного балкона.
Ночует Волдырь на печи, если хмель не застанет его где-то в другом месте, а утром выходит на поиски халтуры, работы за бутылку и закуску. Волдырь может все. Сеять, пахать, боронить, с лошадьми управляться. Корову подоить. Кабанчика заколоть. Разделать-освежевать. Лес рубить и строить из него, а также из камня и кирпича. Охотиться, правда, не любит, хотя ружье и спрятано на темный день, зато рыбачить может всеми способами. Удочкой, блесной, капканом. Сетью, мережей и неводом. Острогой, в конце концов.
Жизнь научила не попрошайничать, но и копить привычки не дала. Свои пол-литра в день Волдырь как-нибудь да выудит, а больше ему и не надо. Выпьет Волдырь склянку, закусит сухарем или чем бог пошлет и рассказывает побасенки Сливе, своему другу и собутыльнику, который живет у него в старой бане. Тем и счастлив.
Добавить надо, что это Слива прозвал Волдыря Волдырем. Скрестил он имя Володя со словом «колдырь», то есть, по-нашему, «пьяница». Так и прилипло.
Глава 2
Крест и Слива
«…Удивились хозяева-людики, призадумались, почесали в затылках. Земля эта хоть и рымбо, но все же наша, сказали они ушкуйникам. Однако можем и потесниться. Платите за место. Выпили они с гостями еще по чашке меду, решили брать по три топора за дом. Гости согласились. Дали сразу девять лезвий. Заложили три избы. Сели тут людики в лодки и погребли по своим промыслам. Вернуться обещали. Долго ли промышляли, коротко ли, неизвестно, а вернулись – стоят три избы по берегу, окнами на юг. Новенькие, желтые. Сосной пахнут. И на пригорочке крест деревянный вкопан. Высок. Аж из четырех бревен собран. Одно вкопано, два поперек и одно наискосок. Говорят топорники людикам, мол, это нашему Богу крест. Людики поглядели, покумекали меж собой и прикатили из лесу каменное колесо. Всё во мху от старости. Поднатужились и надели колесо сверху на крест. Аккурат на вершинку влезло. Это, говорят, нашему богу колесо. Заволновались было топорники, поглядели на свои топоры, но атаман их успокоил. Велел обождать, норов унять. Вынесли бабы квасу да меду, снова кир на весь мир. Утром прочухались людики с топорниками, глядь, а колесо на земле лежит, и крест из колеса торчит, будто пророс. Ну не чудо ли? Все удивились, но переделывать пока не стали. Головы трещат, требуха дрожит, надо бы бражкой отпиться. Отпились, снова глянули – а может, и так сойдет? Никто вроде не в обиде. Махнули людики рукой, в лес пошли. А топорнички взяли да и приладили на крест крышу из досочек двускатную, чтоб колеса каменные от греха подальше скатывались. Так и началась деревня Рымба…»
* * *
Кожа на лице у Сливы бурая, борода – как у лешего, нос картошиной, со сливовым оттенком. Фамилии его никто не знает, а зовут Славой, вот Волдырь и прозвал его Сливой за сизый от пьянства нос.
Было это недавно совсем. Стояла осень темная, со штормами. Весь ноябрь свистел ветер то с севера, то с востока. А тут вдруг затихло на денек, даже солнышко блеснуло, но потом снова так раздуло, что волны прямо в Волдыреву баню забили. Тучи набежали, небо потемнело.
Деревня Рымба маленькая, всего три дома жилых и осталось. Вообще-то, их девять, домов, но в остальных шести люди живут только летом, а на зиму разъезжаются кто куда, где зимовать легче. Осенью, под дождичком да на ветру, никто особо не шастает. Тем более втёмнах.
Только Волдырь и шел домой, на удивление трезвый. Хотя ничего и удивительного, если подумать. До земли на лодке не добрался, рыбу наловленную не продал, на самогон не сменял. Возникает законный вопрос, отчего Волдырю своего самогону не завести? Ответ простой. Чтоб самогон выгнать, нужна брага. Хорошая брага три недели ходит. Тепло нужно, сахару гора да дрожжи. В крайнем случае морошка забродившая. Совокупности всех этих компонентов Волдырю вовек не добиться. Ни сахару у него, ни дрожжей. Морошку собирать он не любит. Ленится возиться. Да и сколько ее соберешь и сохранишь? А три недели чтоб печь была теплая, такого у Волдыря отродясь не случалось. То на земле он загуляет, то на промысел уйдет, вот изба и простынет.
Митя с Любой, муж да жена из соседней избы, те крайне редко выпивают, некогда им, на Пасху разве да на Рождество, и у них Волдырь просить стесняется. Всю работу в доме да в поле Митя и сам делает, руки правильно заточены. Любаня тем более женщина строгая, у нее не забалуешь. Дети их и вовсе не пьют. Старший сын Фёдор – студент, в городе учится на строителя, а младший Степан еще только школу закончил, служить собирается. Ездит на лодке работать в село, учится у плотников. Каждый день. Физкультурник, готов к труду и обороне. Дочка еще у них есть, Вера-Верушка, хорошая девушка, почти близняшка Стёпкина, но она домоседка, очень плохо видит, слепенькая. Свет от тьмы только и отличает. Матери по хозяйству помогает. Потом доскажем, почему «почти».
В крайней же избе, на отшибе, живет старуха по прозвищу Манюня. Ровесница Волдыря. Костлявая, черноглазая, седая. Слышит туговато (а может, притворяется), зато видит, как во тьме неясыть. К ней куча внуков приезжает на лето, не боятся же такой ведьмы.
Что Манюня ведьма, здесь все знают. У нее и мать, и бабка заговорами по-тихому детей лечили, коров-лошадок тоже, даже репу от жучка и яблони от гусениц. Женам мужей из загула возвращали, если надо. А вот со своими мужиками им не везло. Хоть бабы все видные да статные – одинокие были. Вот и у Манюни отец на войне погиб, а муж Илья, лепший друг Волдыря, пропал на рыбном промысле. И трех лет с молодой женой не прожил. С тех пор Манюня одна, детишек сама подымала…
У той запасы всегда есть. Самогон добротный. Но с Волдырем она не очень контачит, только в крайних случаях. Когда надо поле под картошку перевернуть. У нее огород. Все растет. Виноград даже есть, хоть и зеленый, орехи разные, табак. Сливы. Правда, не сильно сладкие, все же не Кавказ. Раньше Манюня корову держала, Волдырь и зимой ей нужен бывал, чтобы сено в санях привезти с покоса. Теперь сил мало осталось, корову убрала (тоже с помощью Волдыря), и требуется он ей только весной раз да осенью другой. Вспахать поляну, подготовить огород. Лошадей теперь в хозяйстве не держат. Землю пашут мотоблоком, сено возит снегоход. У Мити все есть, выручает подчас. Еще бы, Волдырев родной племянник. Волдырь, конечно, не в унынии. Бывает, в стужу навяжется иной раз Манюне дров кольнуть за чекушку, ну а летом в деревне и без нее халтуры хватает. Дачников много. Зимой же бегает Волдырь через пролив по льду на большую землю, в село. А там уж каждый день к вечеру он сыт и пьян и нос в махорке. Ковыляет обратно, покачивается. Присказки свои бормочет. Сам себе смеется.
Но тут он шел тверезый и молчал. На острове халтуры нету, на землю не попасть: штормит. Завечерело. Глядит Волдырь: лежит на берегу куль, мочалит его прибоем. Вдруг что полезное? Подошел интересоваться, глядь – человек! Живой ли?
Хоть и не оторопел Волдырь, а на секунду стало не по себе. Мертвяка еще не хватало! Всякого видал он на веку, но с мертвыми возиться не любил. Да и кто их любит? Тяжелые, вонючие, гроб стругай, яму рой, рубаху чистую надень. Еще и родня плачет, и Писание читают…
И мимо не пройдешь: вдруг живой? Закряхтел Волдырь, спички вынул. У него в горсти спичка горит, как свеча в церкви, никаким ветром не задует. Осмотрел утопленника: возможно, что и жив! Да, скорее живой, чем наоборот… Глаза закрыты, челюсти сжаты, дыхания не слыхать, и проверить нечем. Борода мокрая, а кожа все ж не каменная, хоть и задубела. Ткнул пальцем. Заодно подумал, что к Манюне ближе бежать за самогоном. Мимо нее как раз и тащить этого пловца. Ишь ты, нательная рубаха-то – казенная. Такие солдатам раньше выдавали. Да и штаны ватные, а вот сапог нет, скинул, видать, в воде. Шапку тоже волной, наверное, сбило – грива длинная, сырая.
Расстегнул Волдырь пару верхних пуговиц на рубахе у человека, чтоб не задушить, ухватился руками за ворот и попробовал тащить. Не, не осилить. Напрягся, кое-как отволок на шесть шагов от прибоя, бросил.
Свет у Манюни еще горел – «летучая мышь». Волдырь загоцал каблуками по крыльцу, трижды дал кулаком в двери.
– Кого там?.. – спустя минутку звонко спросил голос из-за дверей.
«Вот ведьма, голос – как у молодой!» – мелькнуло в голове у Волдыря, и он громко ответил:
– Вечер добрый, Марь Михална!
– Кому добрый… Чего тебе, Вовка?
– Там, на берегу, утопленника выкинуло, вроде живой… – Тот замолчал, держа паузу.
– Ну!
– Надо в чуйство привести. Вот такой енегдот.
– Ну!
– Бутылку дай в долг, ну! Мань, не замай! Авось оклемается мужичок, нам с тобой грехи на том свете спишут.
– Ну, гляди, коли брешешь…
Волдырь облегченно вздохнул и затоптался на месте. Через минуту дверь приоткрылась.
– Надо в дом тащить, беги, Митьку зови. – И в щель просунулась бутыль с пробкой в горлышке.
– Уже бегу.
Волдырь сунул бутылку в карман фуфайки и поспешил к берегу, слегка прихрамывая. «Гудит волна под ветром, видать, не скоро стихнет, – размышлял он на ходу, – да и Манюня озадачилась, поверила, видит, что я трезвый».
Полоса прибоя тускло белела в сумерках. Там, возле лежащего на боку тела, он выдернул пробку и наклонился. Нащупал ладонью подбородок и надавил. Кажется, есть щель между зубами. Волдырь плеснул в нее немного и чуть подождал. Через несколько секунд человек вдруг дернулся, как от удара током, и снова застыл.
«Выживет, однако. Не будем пока добро переводить», – подумал Волдырь, заткнул бутыль и поспешил к Мите. Надо взять у него мотоблок с телегой и самого в подмогу.
Митина собака Белка радостно заскулила, когда Волдырь открыл калитку.
– Цыть, профурсетка! – поздоровался тот с ней и толкнул дверь в избу.
Хоть и торопится Волдырь, все же немножко придется ему обождать, надо ведь рассказать коротенько об Мите с Любой. Чтоб потом яснее было, легче понимать, что да как и почему всё так, а не иначе.
Глава 3
Женитьба и спиртик
«…Много ли времени прошло с тех пор, как срубили гости на острову первые три избы, никто уже не скажет, а только стало их теперь в три раза больше. Разрослась деревня Рымба. Крест сосновый потемнел под крышей, каменное колесо мхом поросло, почти целиком в землю ушло. Рядом с ними часовенку поставили, но попы с монахами сюда еще пока не добрались.
К первым топорникам родня подселилась. Хорошо жили. Сытно и мирно. С хозяевами гости не ссорились. Коров завели. Гусей домашних. Рожь посеяли, ячмень-горох. Морковь и лук полными лодками возили продавать на материк, в село на ярмарку. Торговали там и с людиками, и с ливвиками, и с весью, и с русью.
Была в Рымбе девка на выданье. Звали ее Таисья. Скромная девушка. Полюбил ее один охотник с дальнего берега по имени Урхо, из людиков. Встретил на ярмарке и глаз отвести не смог. Подарил беличьи рукавички на зиму. Смутилась Таисья, а Урхо осенью сватов и прислал.
Те на лодке пригребли, мужики крепкие, у всех на поясах ножи, все старше жениха, дядья его. Отцу-матери Таисьиным подарки привезли – шали-сапоги, младшим братьям-сестрам – сласти да игрушки, а Таисье – шубу рысью.
Топорники – люди вольные, девки у них сами решали, за кого замуж идти. И Таисье Урхо нравился, ростом вышел, лицом чист, глаза добрые, волосы сивые. Да вот боялась она в лес к нему перебираться, с острова уезжать. Вы, сваты дорогие, говорит дядьям, скажите ему, пусть сам ко мне придет да избу для нас срубит, а рымбари, мужики наши, помогут. Тогда и пойду за него. Да, мужики? Рымбари серьезно брови сдвинули, кивнули, поможем, мол. А чё, крепкие руки не лишние.
Урхо тоже был свободный охотник и ловкий рыбак. Не привыкать ему, где и как в своем родном краю жить и промышлять. Такому собраться – только подпоясаться да рот закрыть. Сложил он в туес опорки да ремки́, стрелы да крючки и причалил к острову в лодочке-долбленке.
Пришел к отцу-матери Таисьиным, те поглядели, вздохнули. Отец с облегчением, мол, этот не подведет, а мать с печалью – уходит дочь к лешему, креста на нем нет. Хоть с виду и честный, кто знает, что у него на уме? Но все же благословила и перекрестила. Таисья в ноги родителям поклонилась, Урхо голову склонил.
Свадьбу гуляли где-то неделю. Православного батюшки не нашлось поблизости, так ушкуйский атаман Митрофан (такая борода не у каждого архимандрита) молодых святой водой окропил. Хорошо, воды в Крещение набрали в иордани. В часовне еловые ведра полны стоят до нового мороза, потом по избам разольют.
С местными топорниками все окрестные людики брагу пили, мясо ели. Толпа собралась со всего лесу. Митрофан с невестиными родителями со счету сбились. Не ожидали, что их так много. Как муравьев на солнцепеке. Правда, все с подарками прибыли и со своими закусками.
Даже ливвиков позвали с северного берега. Там тоже большая родня оказалась. Причапали на лодках из цельных сосен, в лосиные шкуры одетые. Притянули осиновой дранки целый воз для крыши будущего дома. А в подарках шкуры лисьи, желчь медвежья, оленина копченая и морошка моченая. Струя бобра и в туесах икра.
Даже столетнего шамана с собой привезли. Тот был из лопарей, ан все ж таки сродник через вепсов и саамов. Вынесли дедулю из лодки на руках, он глаза на волю щурит, два последних зуба скалит – радуется, что позвали. Костер развел, мухоморов наелся и в бубен забил заячьей лапкой. Костер дымит, шаман завывает. Привели Урхо и Таисью. Дед измазал им лица оленьим жиром, печной сажей и семужьей кровью. Велел взяться за руки и связал им ладони красной нитью. Дунул, плюнул и отпустил на все четыре.
И пошло тут гулянье такое, что многие, с Митрофаном и шаманом, не помнят, чем оно кончилось.
Гости разъехались, ладошкой взяла Таисья Урхо за палец и привела к мужикам-рымбарям. Раскатили топорники бревна, запасенные для будущей избы, и пособили людику срубить ее до снега.
По-новому построил Урхо дом, по-топорницки. Окнами в озеро, на юг, овином и глухой стеной на север. Только на коньке вместо кисти резной медвежью голову выдолбил.
Старый ушкуйник печь им сложил русскую, в четверть избы. Кирпичей из красной глины налепили, насушили-обожгли, печь известью с мелом побелили, голышами прибрежными под со сводом забутили, живи да грейся. Шанежки-калитки пеки. Как раз у родителей Таисьиных корова отелилась, рыжую телочку молодым подарили. Стали зиму зимовать.
Молодым зима – что родная мама, а печь – как пуховая перина. Урхо рыбачит – сети-крючки подо льдом. Охотится – капканы на тропах. А ночами темными дома с Таисьей нежится. Долго так продолжаться не могло, слишком уж ладно…»
* * *
…Редки теперь на свете крепкие семьи, но иногда еще встречаются. Если и есть такая, так это у Святкиной Любани с Митей Неверовым. А почему? Потому, что совпало.
Служил Митя Неверов в армии рядовым солдатом-пограничником. Честно служил, не тужил. Знаете, как говорят: «Кто честно служит, тому нечего бояться». Или: «Служи по уставу – завоюешь честь и славу». И так далее. Однако бывает, что и у здорового сопля выскочит.
Охранял Митя южные рубежи нашей империи, самой необъятной на свете. А империя возьми и развались в одночасье. Теперь, конечно, через многие годы, стало ясно, что неспроста рухнул колосс, но тогда обычному человеку невдомек это было.
Погнали в тех местах чужих солдат с юга на север и всех русских – из домов на улицы темнолицые бородачи-муджахеддины. А кто не хотел или не успел уйти, стали перед выбором: рабство или смерть. Порой события развивались так быстро, что приходилось русским пограничникам спасать своих соплеменников от этого выбора да и самим спасаться, из окружения вырываться.
Сначала на Митину заставу пришли баба Зина с внучкой Любой, шестнадцати лет, а потом заставу окружили горные мужчины с оружием.
Зина была замужем за таджиком Рузи, что означает «счастливый». Давным-давно Рузи привез ее с севера, когда служил там солдатом на аэродроме, в диком лесу, где летом нет ночи, а зимой – дня. В соседней деревне на танцах он с ней познакомился, даже дрался из-за нее с местными пацанами. Она полюбила его, стала таджичкой, почти забыла свой язык, поскольку говорить на нем в кишлаке было не с кем. Даже глаза потемнели, не говоря уж о лице. Муж заболел и умер, а сын ее, полукровка Закир, поехал на север, на заработки, вернулся без денег, но с беременной женой, светловолосой русской девушкой Ниной. Родилась у них дочь Любаша. Она носила тунику и шаровары, тюбетейку или платок на голове, а дома говорила с мамой по-русски. И вот однажды город, где жила Любаша с родителями, заволновался.
Что стало с родителями, Люба не знает, потому что они привезли ее накануне к бабке, а сами уехали, и в горах началась стрельба. Зина удивилась и обрадовалась, что внучка так хорошо говорит на ее давнем языке, но испугалась, что та слишком похожа на русскую да к тому же еще и красива.
Не стала она дожидаться, пока кто-то из знакомых вспомнит, что и они из неверных, и с узелком на голове и с девчонкой за руку ночью пошла к русской заставе. Вовремя успела. Посты тут же вступили в бой и отошли под прикрытие опорного пункта, теснимые превосходящими силами противника.
Из оружия у горцев были автоматы и пулеметы Калашникова, гранатометы, был и снайпер с английским «буром». Даже минометик был, паскуда. Три дня и две ночи застава вела бой в окружении, а на третью ночь, когда в живых осталась треть личного состава и по одному боекомплекту на ствол да и помощи ждать было неоткуда, командир отдал приказ прорываться к своему отряду.
Все трое суток Люба набивала патронами магазины Митиного ручного пулемета, ошалела от грохота, стала серой от пыли и пороха, измочалила все пальцы и до сих пор не выносит число сорок пять[4]. Еще она перестала верить, что Аллах велик, когда ее посекло осколками того же гранатометного выстрела, который убил бабу Зину.
Мертвых прикопали как могли, двоих тяжелораненых потащили на себе, и к рассвету Бог миловал. Всё же вышли к соседней заставе, а потом и в отряд.
Начальник расстрелянной заставы, капитан двадцати шести лет, сидел на полу и плакал навзрыд, закрыв черное от пыли и копоти лицо изодранными ладонями, снова и снова повторял имена и фамилии своих убитых солдат и сержантов, а супруга командира погранотряда гладила его по голове, шепча: «Ничего, Серёжа, ничего, мой хороший…» Командир орал открытым текстом в телефонную трубку: «Где поддержка с воздуха, хотя бы вертушки?! У меня тут девятнадцать “двухсотых”, я уж не говорю о раненых!!!»
Остальные молчали.
Люба потеряла семью, и Митя не отпускал ее дальше вытянутой руки. Он был уже дембель, ему хватило денег на два билета до дому. Мать была не против невестки, девка-то неприхотливая и сильная. Тем более что сын с нее глаз не сводил. Спорить с ним и больной отец не стал. Митя был как шальной. Люба стала ему и невеста, и медсестра, и второй номер у пулеметчика в ночных кошмарах. Потом успокоились. Выправили ей новый паспорт, где она взяла девичью фамилию мамы, Святкина, и добавила себе два года, чтобы выйти замуж за Митю.
Время шло, на запросы о Любашиных родителях ответа не было. Митин отец умер, мать уехала в город к старшей дочери, оставив избу Мите с Любой.
Ни он, ни она не хотели уезжать с острова, так было им тут тихо и спокойно. Соседей раз-два и обчелся, а больше никого и не надо. Им хватало друг друга. Спустя нужные месяцы Люба родила Мите сына Фёдора, серьезного мальчишку и задумчивого. Он не плакал, не пищал, занимался своими делами. В три года стал книжки читать.
А Люба в это время собралась рожать второго. И родила, и снова мальчика. Приехали Митя с Федькой за ними в город, в роддом, а Любаша встречает их, глядит глазами карими и говорит: «Митенька, муж ты мой любимый, не могу я смотреть на это. У нас тут одна мамаша девочку оставила. В детдом сдадут. А она здоровенькая, хорошенькая, только с глазами беда, не видит почти. Давай возьмем себе. Молока у меня на двоих хватит, я уже и кормлю их обоих…» Отвечает Митя: «Эх, Люба-Любонька, целую тебя в губоньки. Что ж, где двое, там и трое, да, Фёдор? Вижу, ты и решила уже все сама. Где бумаги-то подписывать на удочерение?..»
Назвали мальчика Степаном, девочку Верой. Потому она только почти близняшка Стёпке. Светловолосая росла, вся в Митю.
В это время в государстве власть была, небось, только в кремлях, а в наших краях, на озерах да в лесах, ее не стало. Ни тебе егеря, ни рыбнадзора. Даже участкового не найти. Колхозы и совхозы развалились, начальства не осталось. Всяк сам распоряжался. Кто-то ныл, что нет работы, и потому пил. Главное, интересно – работы нет, а на водку всегда найдется. Кто-то крал что попало. Потом краденым торговал.
Митя ни красть, ни пить не стал. Как уже сказано было, руки-ноги у него правильно выросли. Голова, хоть и контужена, соображала исправно. Да и Любаша в помощь. Жили они натуральным хозяйством, и неплохо жили. Корова Зорька, поросенок Борька. Это из крупных. Из мелочи – куры, утки, гуси. Собака Белка да кошка Пышка. Белка потому что белая, а у Пышки шерсти богато.
Со временем мотоблок купили, с культиватором и сенокосилкой в придачу. На зиму снегоход. Люба детей растит, хозяйство ведет, заодно приглядывает за огородом. Митя летом сено косит, картошку окучивает, осенью грибы-ягоды, зимой лес пилит и рыбачит сетным промыслом. Со всеми в округе договорился, отцовские места застолбил.
Дядя Волдырь рыбачить помогает, сети охраняет. Из отцовского карабина однажды с берега ворам лодку прострелил, голову у мотора отколол, больше никто не зарится.
Довольно-таки много рыбы Митя ловит и продает, хватает и на бензин для моторов, и на аккумуляторы. Электричество-то на острове автономное. У каждого свое.
За восемнадцать лет двор окреп. Жизнь по накатанной колее пошла. Старший сын в институт поступил, младший – школу закончил, спортсмен и отцу помощник, а дочь Верушка, славная девушка, хоть и едва свет от тьмы отличает, но весь дом на ощупь знает, не хуже матери все умеет. И готовит, и стирает, и посуда, и полы. Из горницы в избу, из избы в сени чуть ли не бегом бегает. При необходимости может и воды из озера принести на коромысле, нигде не запнется. Благо до берега рукой подать.
С первых дней Митя Веру за родную принял, а Люба и вовсе едва ли не больше Стёпки ее лелеяла. Платья, сарафаны ей шила. Косы заплетала. Митя книжки детям читал по вечерам, а когда Степана в школу определили, накупил учебников для слабовидящих и сам стал с Верой заниматься. И братья ее любили, особенно Стёпка. И она их. Никто уже и не помнил, что она приемная. А сама она и не знала до поры…
…Когда Волдырь вошел в избу, семья заканчивала ужин. Над столом горела лампа в зеленом плафоне. По радио тихо маяковали «Подмосковные вечера». Люба допивала чай из синей чашки. Вера убирала со стола, а Митя размышлял, глядя на оплывающие в тарелке ломтики сала да на плошку тертого хрена, не предложить ли жене махнуть по рюмке. Хоть повода и нет и до праздника далеко, но с устатку, для профилактики. Третий день опять вот север дует, сырость и тоска за окном…
– О, на ловца и зверь! – обрадовался поводу Митя. – Заходь, дядя Вова. Откуда в потемках?
– Хлеб да соль честной компании, – заторопился Волдырь. – Я по делу.
– Присядь, расскажи. Редко у нас бываешь. Может, стопарик для сугреву? Любонька, достань-ка нам по рюмочке…
– Любушка, не беспокойся! – остановил Любу Волдырь. – Тут, Митрий, спешить надо. На берегу, против Манюни, утопленника выкинуло. Надеюсь, живой. Хочу в дом отволочь, в чуйство привести… Не пугайся, Веруня, двум смертям не бывать.
Вера дернулась, звякнув посудой, и обернулась к Волдырю. Глаза ее, обычно полуопущенные, отчего она часто казалась смущенной, сейчас широко раскрылись, и Волдыря снова, как всегда в таких случаях, остро кольнула жалость. «Вот ведь жизнь, – подумал он, – девке бы на белый свет радоваться, глазки парням щурить, а они у нее – как ледышки…»
– Ишь ты, поди ж ты! – Митя встал из-за стола. – А я в сумерках гляжу, чья лодка у Партизанки на мысу валяется, полузатопленная? Думал, чью-то ветром оторвало от причала. Мотоблок, что ль, заводить? Куда потащим?
– Ко мне, знамо дело. У меня печь с утра натоплена, да и не помешает никому этот… коли выживет… – Волдырь огляделся. – А где Стёпка ваш? Пособил бы, здоровый жеребец. Фонарь не забудь, Митрий.
– На соревнованиях жеребец, с командой от бригады, – на ходу ответила за мужа Люба, быстро и ловко заплетая косу, – послезавтра только явится. Дядь Володь, я с вами пойду, помогу. Взять чего с собой?
– Ну, разве спиртику возьми чуток, вдруг растирать придется?
– Сала с хреном прихвати, Любаша, – добавил Митя, – а уж спирт я не забуду. Оживет – напоим, а помрет – помянем.
Глава 4
Ослопенголь и слезный дар
«…Только разговелись на Пасху рымбари, только распаленье льда минуло, только понесли весну дальше на север птицы из Сарацинской земли, приплыли на остров, как цветы по пролуби, царские лодьи. А в них стрельцы с секирами да в красных кафтана́х, дьяк-писарь и боярский сын, молодой, но дерзкий. Прибыли они из Московского приказу – Новгородской чети.
Собрали топорничков. Объявил барчук эту землю государевой, казенной. Раньше, говорит, были вы ушкуйники вольные, опосля местами этими, как своими, хвастался Селифошка Твердиславич, вор и опальный новгородец, а теперь будете вы у великого князя Московского в крепости. Как за каменной стеной. Никто вас зазря не обидит, но уж и вы не озоруйте, царскую долю не воруйте.
Кликнули атамана Митрофана, стали с ним ходить по дворам, мужиков считать. Всех пересчитали, тягло наложили. Посевы и покосы обмерили, угодья лесные и рыбные тони уточнили, а вместо часовенки велели всем миром церкву срубить. Батюшку вам православного, говорят, пришлем, чтобы в ересь и мракобесие не впадали.
Ну, и напоследок выбирайте, мужички, кто из вас пойдет в солдаты, на службу царскую. Рымбу вашу защищать. Так и быть, выбирайте одного, поскольку мало вас.
Совсем тут рымбари приуныли. У всех семьи, дети малые. У кого побольше дети, тот стар уже. Один Урхо молодой да бездетный. Поклонились ему – выручай деревню, парень.
Думал было Урхо в лес уйти, там-то уж солдатики городские его век бы не нашли, да не оставишь молодую жену на съедение псам краснокафтанным. На сносях уже Таисья, и деревню жалко. Еще туже петлю затянут царские собаки. Делать нечего, людик голову забрил. Повесила ему жена на шею крестик, а он ей отдал медвежий коготь на кожаном ремешке. Никого, говорит, не бойся, ни о чем не печалься, я вернусь вскорости.
Рыдала Таисья, рыдала, а все же вымолила у своего христианского Бога послабление. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Только встал Урхо в строй, тут и война приспела. То ли с крымским ханом, то ли со шведским королем, это теперь неизвестно. Лихо и ловко сражался Урхо-солдат, храбро и хитро, по-другому не мог. Не то у людиков было воспитание. Да и “урхо”, по-нашему, по-людиковски, значит “герой”.
Бабка ему в детстве рассказывала, что еще в древние времена появлялись в наших землях воры и разбойники. Всяких хватало, свеев, норгов, данов. Пригребали они с северо-запада на больших лодках с драконьими головами и полосатыми парусами. Грабили, резали, жгли. Баб и детишек в плен уводили. Так, бывало, допекут, что и в сказке не опишешь.
И вот однажды не стерпели лесные люди. Собрали в своих краях большое войско и отправились в погоню за врагами кто правды, кто мести искать. По пути с собой ливвиков прихватили и всю корелу. Те позвали чудь и весь да и лопарей не забыли.
Кто по вражьим следам лесами шел, кто в малых лодочках их кильватерной струи держался, только догнали супостата на берегах северного моря. Фьордами прокрались незамеченные до самых до ворот их мрачной столицы, называемой Ослопенголь, и на вражьих спинах прорвались сквозь крепостные стены. Устроили им небо в алмазах и рубинах, расцветили его заревом, только не полярным сиянием, а красным петухом. Порубили в капусту. Не ждали свеи такого поворота, отпору дать не смогли. Рассеялись, кто вырвался, по островам, по тундрам.
Дотла лесные люди сожгли Ослопенголь. (Покуражились, конечно, немного.) Главного свейского шамана, римского епископа, тюкнули обушком по темени, чтоб не проклинал, хулы не изрыгал, слюной не брызгал. Да чуток не рассчитали, поп испустил дух. Что ж делать, война спишет. Пленников, своих соплеменников, освободили, а железные ворота города сняли и с собой увезли вместе с добычей. Потом новгородским купцам продали, те их в Новгороде приспособили, на храм Святой Софии.
С тех пор в местах сиих есть поговорка: “Карел с ножом страшней берсерка, а три карела – Божья кара”.
Хоть и говорится, что смелого пуля боится и штык не берет, но про осколки ничего не сказано. В одном сражении прилетел от неприятеля фугас, и выбило нашему Урхо осколком правый глаз. Как дальше воевать, как целиться?
Списали подчистую. Дали медальку, он ее в карман сунул. По дороге где-то потерял. Вернулся домой без глаза, без медальки, зато на своих ногах и с обеими руками. А то невдомек командирам и начальникам, что людик-охотник и с левого глаза не хуже прицелится. Не промахнется.
И Таисья меньше любить его не стала. Может, даже наоборот.
Урхо когда во двор вошел (через глаз повязка, через скулу шрам), она как раз воду несла с озера. Утро было, вода розовела. На круглых плечах коромысло с полными ведрами. Платок на голове – женщина-то хоть молодая, а замужняя.
Остановилась как громом ударенная. Но ни капли воды не пролила. Да и он замер. Ноги ослабели. А она коромысло тихо наземь опустила и в дом бегом. Совсем опешил Урхо, но ничего, ненадолго. Выбежала Тая на крыльцо, а у нее на руках дите сидит, в одной рубашке мальчишечка. Урхо-младший.
Что тут скажешь? Нечего добавить. Разве что подарок ей привез, бусы янтарные. Одна капля крупнее другой, солнышком сияют. В срединной капле мушка увязла, может, тыщу лет назад, а может, мильен.
Ну и сыну штык трофейный в сидоре нашелся. На будущее, авось пригодится…»
* * *
…Завел Митя мотоблок, прицепил «телегу» – металлический прицеп. Волдырь с фонариком пошел впереди, дорогу показать. Люба за ними. Прибой все так же гудел под ветром. Звезды кое-где проступили из-за туч.
– Кажись, светится что-то, – пробормотал Волдырь, но Митя с женой за мотором и за ветром не расслышали, – или показалось?
Разглядывали недолго. Обычный мужик, не старик еще. Лицо широкое, веки запали, борода вся в песке. Лицо как у спящего. Люба вытащила зеркальце и приложила к губам человека:
– Дядь Володя, посвети! Дышит вроде. Еле-еле…
– Точно! Знать, не захлебнулся! Не надо и воду с него сливать!
– Сейчас разберемся! Николаич, хватай за правую ногу, – скомандовал Митя, – Люба, ты за левую! Я за подмышки. Грузим в кузов!
– Легкий, видать, не дохлый! – кряхтя, заметил Волдырь.
– Дай бог! – И Митя со стуком опустил ношу в кузов.
До дома Волдыря было недалеко. Через несколько минут таким же способом втащили тело в избу и опустили на дощатый рундук возле печи.
– Зажгу лектричество ради такого дела. – Волдырь пошарил под столом и накинул провод на клемму. Над столом тускло загорелась лампочка, чуть разогнав по углам темноту.
Обстановка была скромной и простой, но не убогой. Темный стол из струганых досок, без клеенки. На столе огарок свечи в пол-литровой железной банке, полной парафина, и коробок спичек. Больше ничего. Темный пол из толстых и широких плах, без половиков, чисто подметен. Стены в старых, когда-то зеленых обоях, а потолка в темноте не видать. Печь тоже темная, хотя раньше и белилась. В избе было тепло.
– Посвети, Любаша, срежу с него рубаху, – сказал Митя и, не церемонясь, стал рвать по швам-рукавам материю, помогая себе вынутым из ножен ножичком.
– Можно и так снять, вон он какой мяккой, – придержал его Волдырь.
И точно. В тепле бесчувственное тело быстро обмякло. Одежда снялась, как с мертвецки пьяного, Волдырь поправил только полусползшие темно-синие трусы с белой полоской на боку. Сатиновые.
– Динамовец, что ли? – удивился Волдырь.
Ноги холодно белели в полумраке, а тело выше пояса, как камуфляжем, было покрыто татуировкой – рисунками и узорами разных темных цветов.
– Якудза! – догадался Митя. – Сердце послушаю… – И он приложил ухо к груди человека. – Не пойму. Но не мертвяк, не совсем ледяной.
– Какая якудза, гля, у него крестик на шее и рожа-то рязанская! – заспорил было Волдырь, но его перебила Люба:
– Потом узнаем, якудза или динамовец, сейчас надо, чтоб в себя пришел! Три спиртом! – Она протянула Мите склянку.
Митя сдернул крышку, плеснул на ладонь и шлепнул на грудь незнакомца. Стал жестко тереть вверх-вниз, крест-накрест, а потом и кругами. По избе поплыл запах алкоголя. Волдырь сглотнул:
– Глухо пока. Надо ноги растереть и уши.
– Ставь горсть и растирай, – отозвался Митя. – Любаня, потри ему уши.
Все трое принялись молча тереть.
– Без толку, – спустя полминуты констатировал Волдырь, – может, леща ему?
Волдырь нацелился было на хорошую пощечину, но Люба удержала его, наклонилась, сложила пальцы кольцом и резко щелкнула мужчину по носу. Веки у того задрожали и чуть приоткрылись. Люба отпрянула назад.
– Тихо! – беззвучно крикнул Митя и поднял указательный палец.
Все трое напряглись до звона в ушах.
В тишине прошло несколько секунд, потом серые губы мужчины разлепились, будто треснули, и спасатели услышали сиплый шепот:
– Слава… Слава…
Глаза его снова закрылись, а губы слиплись.
– Доставай стаканы, дядя Вова! Ожил твой утопленник! – громко заявил Митя. – Слава, видишь ли… Надо и Славе налить. Быстрее очухается. Любаня, накрой его тулупом, вон, на печке лежит.
Люба за полу сдернула с печи тулуп. Волдырь достал из темного угла, из старого буфета с непрозрачными стеклами, пару граненых стаканов и звякнул-поставил на стол:
– Было бы чего налить, а из чего выпить, найдется. Люба, рюмку тебе достать?
Люба отмахнулась, прислушиваясь и разглядывая с фонариком рисунки на груди и плечах бородача.
– Давай болящему спиртику пля́снем, а сами вот. – И Волдырь поставил на стол Манюнину бутылку. – Чего медицинский препарат переводить зазря…
Митя пожал плечами и разлил самогон по стаканам.
– Ну, Славик, или как тебя, выздоравливай! – сказал он весело. – Нам тут лишние упокойники ни к чему. Люб, приподними ему голову, пусть лекарство примет.
Волдырь тоже выпил, выдохнул шумно, занюхал рукавом и вставил свое обычное в таких случаях присловье:
– Крепка советская власть! Что там за сюжеты, Любаша?
– Иди сам глянь, дядя Вова. Надо его подсадить чуток, голову закинуть и зубы разжать, чтоб внутрь затекло.
Так и поступили. Митя приподнял бородатого за плечи, Волдырь нажал ему на подбородок, удерживая голову откинутой, а Люба залила в образовавшуюся между губами трещину полстакана спирта.
– Утек вроде бы, – сказала она, и пациента уложили обратно.
– Да-а! – протянул Волдырь. – Тут картинная галерея прямо. Баталии, патреты, цельный натюрморт.
– Оживает, кажись, – перебил его Митя, щупая пульс на шее якудзы-динамовца. – Только больно уж быстро он оттаял да помягчел, а? Чудеса…
– Чудеса, да и только. Я подходил – он трупом лежал, а теперь уже теплый весь. Будто батарейку новую вставили. Казус какой-то… Феномен, одним словом. Налей-ка, Митенька, еще маленько.
Митя налил. Люба поставила на стол блюдце с салом и села на лавку у стены. Мужики выпили, Митя крякнул, Волдырь похвалил его:
– Всяк выпьет, да не всяк крякнет.
– Ладно, дя Вова, пойдем мы. Вроде оживает мужичок. Завтра загляну. И ты заходи, держи в курсе. Интересно же, что за крендель…
– До завтра, дядя Вова, – попрощалась Люба, и они ушли, освещая дорогу фонариком.
– Сало оставили, – пробормотал Волдырь.
Наступила тишина. Он встал, наклонился над лежащим человеком, разглядывая татуировки, и вдруг увидел, как у того из-под вздрагивающих век быстро текут слезы. Из глаз попадают в уши и вязнут в жесткой, как медная проволока, бороде.
– Эка! Еще не легче. Милай, слышишь меня? – напрягся от неожиданности Волдырь.
Человек всхлипнул и плавно открыл глаза. Слезы блестели в них и продолжали течь. Лицо вытянулось, словно от удивления.
– Слышу… – просипел он.
– Попей воды, не будет беды! – брякнул Волдырь первое, что пришло в голову, налил в стакан самогону, потом приподнял мужику голову и влил жидкость в рот.
– Значит, Славой тебя зовут?
– Наверное, Славой…
Говорил он медленно и тихо, да оно и неудивительно. «Хорошо хоть по-русски понимает, – подумал Волдырь, – не якудза. Не надо языку учить».
– Откуда ты взялся-то, друг?
– С Конского острова… В лодке… В шторм попал…
– Да-а, не ближний свет. Из монастыря, что ли?
– Угу.
– Монах?
– Не. Трудник.
– А в лодку зачем полез в шторм?
Слава не отвечал. Из глаз его все еще текли слезы. Он это чувствовал, но сил их вытереть, видно, не имел и потому лежал со сморщенным лицом.
– Что ж ты все плачешь-то, сынок? Радоваться надо, что жив остался, а ты…
– Плачу от водки. Потому и на Конский попал, что пил все время и плакал. Болезнь какая-то, наверное.
Говорил Слава связно и довольно осмысленно, заметил Волдырь, значит, не бич какой. Татуировки не тюремные. Видать, не каторжанин, что было бы понятно. Но все равно странная это ситуация… Хотя мало ли в жизни странных ситуаций, решил Волдырь в конце концов.
– Думал, сопьюсь на воле, изойду на сопли, остановиться не мог, – медленно продолжал тем временем Слава. – Решил Богу помолиться, но не у нас в городе: там я не верю никому. Поехал на остров, в монастырь. Слышал, что там Ианнуарий живет, мудрый монах. Хотел, чтоб он мне помог… Он меня в храм привел, служба началась, а у меня слезы еще сильней хлынули. – Слава замолчал, отдыхая.
Волдырь так же молча слушал. Надо бы его покормить, думал он, да чем? Сала ему сейчас не осилить. Каши, что ли, сварить? Эх, бульончику бы куриного…
– Батюшка отец Ианнуарий, да и вся братия тоже, говорит, что слезы – это хорошо, Божий дар, а у меня голова трещит от плача и весь ливер болит – сердце, печень, селезенка. Терпел-терпел, потом в храм перестал ходить… Тоска напала, работать не мог, выпить захотелось, аж зубы сводило… Как раз батюшка уехал в город на пароходе, я в лодку – и на веслах к берегу за водкой. Ветром унесло. За десять минут из штиля буря нарисовалась…
– Это верно, у нас так. Раздует волну, чирикнуть не успеешь, – поддакнул Волдырь. – Хочешь самогону еще?
– Хочу.
– А слезы?
– Ничего, меньше пописаю. Зато голова не болит.
– Нос у тебя синий, Слава. – Волдырь уже прилично захмелел и радовался возможности поговорить. Он налил самогон в стаканы, из одного выпил, а второй поднес к губам рассказчика. – От водки небось?
– Вероятно, – ответил тот и выпил.
– На сливу похож. Тебя точно Славой зовут, дружище?
– Славой, Славой, слава тебе господи. Да и какая разница? Главное, живой остался…
– Эт точно! – Волдырь икнул, быстро пьянея. – Но чё-то мне не верится, что тебя Славой зовут… Я тебя буду звать Сливой, ладно?
– Хоть персиком, – вздохнул Слива.
Слезы все текли по его скулам, но лицо от самогона порозовело и разгладилось.
– Может, ты есть хочешь? Больно быстро оживаешь. Чудеса…
– Не знаю. Видимо, еще не все здоровье пропито… – Слива помолчал и добавил: – Мне ведь Богородица сегодня являлась, помогла. Я, когда тонул, думал – всё. В глазах темнеет, сил больше нет. Рук не поднять, ног не чую… Вспомнил Ее, Пречистую Деву, перед смертью. Волной накрыло, и вдруг понимаю как во сне, что меня волной этой по дну катит. Из последних сил пополз – и темнота… Потом раз – и свет включили. Голубой такой… Идет по песку женщина, тоже вся в синем, красивая. Кругом солнышко светит, даже птички чирикают… «Ну что, раб Божий Святослав? Хочешь жить, дурашка?» «Хочу, Матушка!» – говорю. «Живи, раз хочешь», – говорит… А голос – как у Светки Ильиной из девятого «Б». Мягкий, будто вельвет. Перекрестила меня, ладошку теплую на темечко мне положила и пошла. Опять все вокруг потемнело, ветер задул, гляжу, а вместо Девы старуха уходит, седая и страшная. Очухался уже здесь…
– Вон оно что! – пьяненько усмехнулся Волдырь. – Я было подумал, что ты захмелел и бредишь, а теперь понял. Это Манюня тебя раньше нас попользовала. Без нее не обошлось. Не ожил бы так скоро. Так как насчет каши?
Но Слива уже спал. Ладно, утро удалее, подумал Волдырь, сдернул клемму и ощупью полез на печь.
Глава 5
Смута и подарки
«…Пришла рымбарям пора платить царским сборщикам налоги. На большую землю надо ехать, везти пять коробей ржи и овса, куньи шкурки или медные деньги.
Делать нечего – почесали мужички в затылках, покумекали и решили, что легче заплатить и жить спокойно, чем придут и отберут. Не с руки бодаться с царской, а значит и с Божьей властью. Всякая ведь власть от Бога. Да и церковь не мешало бы построить, а то негде с Богом говорить. Не язычники же мы, чтобы камню в лесу молиться.
За весла сели, песню запели. Паруса к ветру поставили, лодки к берегу направили.
А на берегу опять тревога: воевода из Корелы ополчение собирает, снова война, говорят. С ляхами или с литаками – все одно опять со свеями. Те всегда рядом, граница острогами щетинится. В общем и целом, налоги забрали, еще больше велели собрать. Мало того, приказали троим топорничкам явиться в войско на своих лошадках.
Бабы повыли, старики покряхтели, дети покричали. Проводили защитников в поход, жизнь труднее стала. Рук не хватает.
Тут холодный год выдался. Снег лежал до лета, а в сентябре снова выпал. Земля не успела родить, голод подступил. Надеялись на охотников, а лось с острова уплыл, и пушной зверек куда-то подевался. Вороны ближе к деревне перебрались.
Перебивалась деревня одной рыбой, а в октябре мороз ударил снова, сети подо льдом остались. Побежали гонцы деревенские по льду на материк, муки купить на остатние заначки, а там уж голод, мор и черные вести. Никто из ополченцев не вернулся, все как один полегли. Вместо них свейские рейтары Ганса Мунка приближаются, последнее забирают. У кого нет ничего, вместе с избами сжигают.
Едва успели гонцы восвояси убраться. И как назло, свежего снега за ними не выпало, метели не выдалось, остались за рымбарями следы до самого острова. По ним и явился отряд, как черти из преисподней.
Деревня ворота закрыла, так рейтары первых три дома сожгли, мужиков-хозяев на штыки, на алебарды подняли, у остальных всё подчистую вымели. Молодежь деревенская за околицей молчком отсиделась. Иначе всем бы смерть.
Потек народ из наших мест кто на Русь – на юг, кто в лесах хорониться. Дома бросают, поля волчанкой заросли, покосы ивой.
Урхо и Таисья старые уже были, некуда им было бежать да и незачем. Жили-доживали, держась друг за друга. Старший сын их, Урхо-младший, в лес ушел. Он удачливым был охотником, в отца, чем мог – родителей подкармливал. Дочь их молодая, Лийса, замуж вышла в Новгород, а оттуда ни слуху, ни молвы.
Тут царь державу разделил хитро. Половину оставил боярам, половину отдал на разор своим холопьям, опричнине. Те хуже врагов народ драть стали. Теперь уже остатний люд не на юг, а на север побежал, с Ладоги через наши места в Лопские погосты, в глушь и пустынь.
А опричники резвятся, последних купцов да дворян без суда на кол сажают да и простых посадских и земских разоряют. Налетают, как татары, как рейтары, избы жгут. Пугают православных собачьими головами. Совсем не стало жизни в наших землях.
Нечего и удивляться, что снова год голодный выпал. Зимой земля промерзла до камней и до костей, а летом от засухи растрескалась под солнцем.
Но не всё еще горе людики вычерпали. Пришла беда – открывай ворота. Дошли известия, что разбиты царские войска и вся наша пятина свейскому королю принадлежит теперь по договору. Вот уже свеи в наших землях хозяевами разъезжают. Прислали своих переписчиков, народ считать, налогом облагать. А народу-то и не осталось. В прибрежных селах девять душ из десяти пропадом пропали, даже в Рымбе, на что уж друг за друга все держались, и то больше половины люду сгинуло.
Всё же и сюда добрались на лодках. Прошлись солдаты по деревне, а в деревне три дома жилых, остальные три – брошенные. И три пепелища черными трубами. Вот и вся деревня. В первой избе вдова ополченца с тремя детьми допризывного возраста, в другой – инвалид на одной ноге, с кошкой и собакой, а в третьей – Урхо с Таисьей.
Когда военные переписчики вошли в дом, дед с бабкой сидели на лавке в углу под образами.
– Кто с тобой живет еще, старик, кроме твоей старухи? – спросил по-русски офицер в шляпе и кирасе.
– Никого более.
– Где твои дети?
– Ушли.
– Потрудись называть меня “господин капитан”. Куда они ушли?
– Бродить, господин капитан.
– Что есть “бродить”?
– Ходить туда-сюда…
– Господин капитан!
– Господин капитан…
– Зачем ходить туда-сюда?
– Хлеба ищут, господин капитан.
– Когда вернутся?
– Не знаю, господин капитан. Может, никогда.
– С виду ты не голоден. Что ты ешь?
– Есть немного ржаной муки, вяленой рыбы и сушеных грибов, господин капитан.
– Покажи.
Урхо показал.
– Это все? – удивился тот.
Урхо кивнул.
– Sök! (Обыскать!) – велел офицер солдатам.
Те полезли в подпол и на чердак, затопотали по сараю и в пустом хлеву. Старики сидели опустив глаза.
– Det är tom, Herr Kapten! (Пусто, господин капитан!) – доложил унтер.
– Сколько детей у тебя, старик?
– Сын и дочка, господин капитан.
– Сын – взрослый мужик? – Офицер говорил “мужик” с мягким “ж”.
– Постарше тебя, господин капитан. И дочка взрослая, замуж отдал. Давно уже. Нет вестей.
– Если через три месяца ты не заплатишь налог за дом, он будет гореть. Нам не нужен еще один дом для партизан. Ты меня понял?
– Так точно, господин капитан. Понял.
– А сейчас будет гореть ваша языческая часовня. Вы должны молиться на нашем языке, Лютери Реформация. Подумай об этом. Прощай.
Солдаты ушли, записав стариков в свой гроссбух. Часовня на мысу закоптила черным дымом среди елей и вспыхнула.
– Я тебе говорил про свою бабку Суоятар? – спросил Урхо у жены, когда лодки скрылись за мысом.
– Тысячу раз говорил ты мне про эту ведьму.
– А говорил я тебе про ее деда Лембо?
– Говорил и об этом колдуне.
– А говорил, что он мог бурю выпросить у Укко?
– Нет, не говорил такого.
– Лембо по-нашему значит леший. Когда великий бог Укко создал весь мир вокруг, – закряхтел Урхо, а Таисья перекрестилась, – ему нужны были помощники, чтобы смотреть за лесами и водами. В Морях жил Ахто, сын Укко, а в Лесах – Тапио, брат Ахто. В каждом озере и ламбе Ахто назначил водяника, а Тапио в каждом лесу – лешего лембо. Как-то раз поссорились леший с водяным. Казалось бы, что им делить? Один в лесу, другой в озере. Однако ссора вышла из-за богатых свейских кораблей, что везли из наших лесов по нашему озеру жирную добычу от разбоя. Оба хотели забрать ее себе и взмолились Укко о буре. Укко не возражал. И вот ураган выбросил свеев с кораблями на песок и на камни между лесом и водой. Ни водяной, ни леший достать их сразу не смогли. Что делать? Наслали они тогда на свеев ужас. Казалось свеям, что кругом, и в камнях, и в волнах, подстерегают их души мертвых людиков и столько их, что волосы зашевелились у свеев в бородах. Бросили тогда свеи корабли с добром, взяли себе на спины только деньги и пошли пешком через лес. Лишил Укко свеев разума, кто же идет в лес с деньгами вместо хлеба и мяса? Вот и разделили водяной и леший между собой добычу. Озеро подмыло песок волнами, стащило в бездну корабли с награбленным, а свеев с деньгами лембо из леса не выпустил. Кого в болотную трясину заманил-засосал, кого накормил вместо клюквы да черники вороньим глазом да волчьим лыком. Сгинули все до одного. Лембо эту историю вместе с молитвой о буре прадеду моему передал, прадед деду, дед отцу, а отец мне. Только давно это было, я подзабыл. Но ничего, нужда заставит, вспомню.
И пошел из избы на берег.
Через некое малое время добрался на остров Урхо-младший с братьями-ополченцами. Принес отцу с матерью сала, крупы, свечей восковых и валенки на зиму. Дров наколол. Вдову с детьми и инвалида с кошкой тоже не забыл.
Рассказал, что прибило свеев бурей к северному дикому берегу, погребли они вверх по реке, а дороги не знают. Чаща кругом непролазная. Встретили свеи его, Урхо, на рыбацкой утлой лодочке, всего рыбьими возгрями перемазанного. Поймали, схватили за сивые космы, веди, говорят, в столицу. Надо волоком тащить, по другой реке сплавляться, отвечает им Урхо, но тут волочь недалеко, три дня лесом. Потащили свеи свои лодки ламбами-протоками, ночевали у костров, проводника на ночь связывали, чтоб не утек. Измучились, но вышли в другую реку, быструю и темную. Скалы по берегам – как стены. Урхо встал на носу головной лодки и фарватер показывает. Гребут-сплавляются, вокруг озираются. Течение все быстрее. Хотели уже весла убрать, так Урхо не дал. Скорее надо, говорит, тут по берегам ополченцы-разбойники. Свеи давай грести во все спины, слышат – гул впереди.
“Вот они, разбойники!” – кричит Урхо, указует перстом в чащу берега, а сам прыг за борт, враги даже пальнуть не успели. Потому что водопад. Гирвас – лосиный водопад, знаешь ведь, отец? Страшный и высокий. Из пены – камни острые, как рога. Пытались свеи лодки развернуть, да куда там! Все в щепки. Тех, кто выплыл, ополченцы-людики из ружей-самопалов добили, а остальных ниже по течению налимы обсосут и корюшка догрызет…
…Долго еще потом не было покоя в этих землях. То прилетят известия, что снова мы с Русью, что враг отжат от наших краев и нас милостиво освободили от налогов аж на десять лет. За верную службу, видать. Или чтоб народ на приграничную землю вернулся.
А то опять война разгорится, и враг не только Новгород – и Москву возьмет. И новый царь, Василий, сдаст с потрохами все, за что сражались. Да еще и на помощь себе в борьбе за трон призовет на Русь лютых ненавистников.
Все смутные годы Урхо партизанил в лесах. В трех ополчениях участвовал. Так и ходил бобылем, не до женитьбы ему было. Отца с матушкой поддерживал, а потом время пришло и похоронил обоих рядом. На мысу, под елями.
Сестра его, Лийса, с мужем и детьми вернулась на остров из Новгорода, спасаясь от захватчиков. Муж ее, Илья, рукастый был мужик, кузнец новгородский. В одно из перемирий брошенную избу починил, рядом кузницу построил, домницу слепил. Болота у нас рудой богаты, стал Илья породу рыть, железо плавить, топоры, насошники ковать, разный другой инструмент. Старшего сына Николку начал учить кузнечному ремеслу.
В это время вся Русь поднялась против захватчиков, у нас в лесах воевода Богдан Чулков третье ополчение собрал и гонял по ним казаков-черкасов, польских наемников из окраинских земель. Знали казацкие банды, что недолго им осталось грабить безнаказанно, оттого и лютовали, воровали-разбойничали, ни баб, ни детей не щадили.
Увидели однажды рымбари черный дым вдали, на материке. И тут же прибежал на остров мужичок из прибрежного села, из последних сил пригреб в челне Ивашка Харлашкин сын, весь черный от копоти. Догорает, кричит, село, жгут его черкасы. Совсем озверели, чуют свой конец. Со всех сторон жмут их ополченцы, скинуть в озеро хотят, так что могут запорожцы сесть в свои струги и нагрянуть сюда.
Только сказал, появилась на горизонте незнакомая лодья и прямо на Рымбу курс держит. Собрал тогда Илья-кузнец всех деревенских, а всей деревни трое взрослых да шестеро детей.
– Ты, Лизавета, и ты, Надежда, – говорит он бабам, своей жене и ополченской вдове, – берите детей и ступайте в лес. Ты, Лиза, лучше меня знаешь, где схорониться. Ты, Митрий, – говорит он инвалиду на костыле, – ступай с ними, им без мужика страшно. Побереги их. Вот тебе пищаль. Не мне тебя учить, как с ружьем обращаться. А ты, Иван, поступай как знаешь. Хочешь – дальше греби, хочешь – в лес иди, а можешь со мной остаться, гостей встречать.
– Обижаешь, хозяин, – отвечает Ивашка, – хватит уже греблей спасаться да по лесам шататься. Ну что же, встретим…
Лийса с Надеждой, слова не сказав, собрали детей, попрощались с мужиками. Повели детей в лес, Митрий на костыле и с ружьем через спину вслед заковылял. За ним собака с кошкой…
Огонь по гостям хозяева открыли тактически разумно, пока те еще не пристали к берегу. Илья стрелял из бани, прямо от уреза воды, а Иван прикрывал его из брошенной избы. Противник не ожидал такой встречи, понес первые потери, однако все же сумел высадиться, поскольку обладал перевесом в огневой мощи.
Долго заряжать самопалы, в бане не продержишься. Илье пришлось отступить в свою кузницу. Из двух ее окон хорошо простреливалось все пространство перед избой, где засел Ивашка, а тот в свою очередь прикрывал подход к кузнице. Некоторое время защитники Рымбы держали неприятеля под перекрестным огнем, но вскоре тот определил численность обороняющегося гарнизона и то, что к избе подойти труднее. У кузни же задняя глухая стена оказалась незащищенной, ее-то и подожгли атакующие. Замысел их был такой: подавить огневую точку в кузнице, а потом окружить избу и тоже поджечь.
Когда огонь охватил кузницу, один из казаков попытался пробраться в избу через хлев, но получил пулю прямо из пламени. Не помогла даже кольчуга. Илья попал ему точно в бритый затылок. Казачок ткнулся лицом в лопухи огорода.
Другой нападающий был ранен Ивашкой, он лежал возле изгороди и кричал от боли, все слабее и слабее звал на помощь, остальные залегли. Иван выжидал, карауля тех его товарищей, кто полез бы вытаскивать его из-под обстрела. Но таких не нашлось.
Кузня разгоралась, пламя завыло. В бою же, напротив, наступило затишье. Ивашка понимал, что помочь Илье ничем не может, и сжал зубы, а казачки, гуси дикие, просто ждали, изредка постреливая. В это время с берега донесся крик дозорного:
– Братки, тикаем! Погоня!
После чего осада прекратилась и братки поползли в сторону своей лодьи. Ивашка, Харлашкин сын, добил раненого и продолжал стрелять вслед отступающим, бегая от одного окна к другому.
На горизонте появились паруса. Бросив убитых, казаки в спешке отчалили. Иван побежал было к горящей кузне, но у той провалилась крыша, и к пожарищу стало не подойти.
Паруса на горизонте разделились. Два направились вслед казачьей лодке, а один – к острову.
В этой лодье прибыл Урхо-младший с товарищами. Вместе с Иваном закопали они на берегу мертвых черкасов, привалили камнями, чтобы зверь не потратил. Остальная деревня вернулась из лесу, Урхо увел Лийсу с детьми от пепелища. Когда угли остыли, нашли мужики обгоревшие останки Ильи, совсем немного, завернули в рогожу. Потом вырубили гроб из сосновой колоды и похоронили Илью на мысу, на деревенском погосте, рядом с Урхо-старшим и Таисьей. Было это в Ильин день, второго августа.
Лийса с детьми вернулась жить в мужнин дом, а Урхо-младший – в отцовский. Помогал сестре детей растить, любили его племянники. Ивану, Харлашкину сыну, возвращаться было некуда, сгорело на берегу его село. Остался он в Рымбе, прижился у Надежды, ополченской вдовы…»
* * *
Ночью Волдырю во всей красе приснились те картины, что он успел разглядеть на теле Сливы. Только были они как живые.
Два ворона, сидящие на ветках приземистой полузасохшей сосны, каркают и сучат лапками. Трава у корней шевелится под ветром, а берег оврага, на котором она растет, осыпается в медленную реку. Корни, обнаженные осыпью, свиваются под дерном в новый ствол, и ствол этот уже своими корнями уходит в воды реки. Из осыпающегося песка торчат сломанные человеческие кости и черепа с дырами пробоин, ржавые мечи и гнилые древки копий.
На левом плече Волдырь увидел голову старого воина в стальном шишаке. Вместо правого глаза у него шрам, длинная седая борода заплетена в косицы, на концах которых болтаются маленькие, как костяные нэцкэ, змеиные головки с живыми глазами. Воин устало морщится. Борода его оплетает всю левую руку Сливы до кисти, а рука правая так же полностью, с плечом, покрыта пейзажем речного дна, видимым сквозь толщу воды. На дне камушки, песок, ракушки и слегка мутит воду меж водорослями огромный чешуйчатый карп с пустыми глазами.
«Хороший кольщик его расписывал», – подумал Волдырь и открыл глаза. Было уже светло. Слива сидел на лавке спиной к Волдырю, упершись локтями в колени и держа голову ладонями.
– Ты чего, мил человек? Не спится? – заговорил с печи Волдырь и отметил про себя, что тот даже не вздрогнул при звуке чужого голоса.
– В туалет мне надо, отец, и рубашку мою найти бы да штаны, а то неудобно перед вами.
– Перед кем «перед нами»? Я один тут вроде.
– Извините, я на «вы»…
– Можешь на «ты», не князья, чай. Зови меня дядя Вова.
– Штаны и рубаха вон, сохнут висят. Выходишь в коридор, там дверь на сарай, там и туалет найдешь. Сможешь сам?
– Смогу.
Слива с трудом поднялся и снял с печи одежду. Медленно, через силу, натянул рубаху, спрятал разрисованное тело. Штаны положил на рундук и, шатаясь, пошел к двери. «Не мелкий, однако, мужик, – глядя на него, думал Волдырь, – как Митя, поди. И в одних годах. Гляди-ка, сам до ветру зашагал, не придется мне утку ему подавать. Молодец, “стальная воля”[5]».
Когда Слива вышел в коридор, Волдырь слез с печи, поежился – прохладно уже, достал из-под лавки щепок для растопки и привычно разжег в плите огонь. Потом налил в черный чайник воды из ведра и поставил его на плиту, сдвинув кружки́. Запихивая ноги в валенки, стоящие у дверей, прислушался, что творится на сарае, и вышел за дровами.
Чугунный настил плиты быстро дает тепло. Когда босой Слива так же медленно, пошатываясь, вернулся с сарая, чайник уже согрелся, а Волдырь сидел на корточках у печной дверцы и курил папиросу, глядя в огонь. На столе лежало в тарелке вчерашнее сало и получерствый хлеб.
– Пей чаю с салом, а хошь – кури, – предложил Волдырь. – Чаю с салом – это меня хохлы научили, когда на стройке с ними в одной бригаде работал. На чае с салом целый день можно проканать.
– Спасибо. – Слива сел на табурет, от холода сарая его потряхивало. – Есть пока не могу, а курить бросил.
Долго молчали. Наконец, уняв дрожь, Слива спросил:
– Что это за место, дядя Вова?
– Это Рымба, сынок. Деревня на острове. От Конского тебя унесло верст на сорок. До города отсюда и того дальше. Ближайшее село вон там, на материке, час на веслах, полчаса на парусе. На моторе минут восемь. Только мотора у меня нет. У Митьки есть, племяша моего. По соседству живет. Вчера они с женой тащить тебя помогали, в чуйство приводить.
– Спаси Господь, – кивнул Слива.
– Манюню надо благодарить, она раньше нас тебя пользовала. Тоже соседка.
– И ей спасибо. Бог даст, отблагодарю.
Волдырь кивнул в ответ.
– А большая деревня?
– Девять домов. Три жилых, шесть дачных, хозяева только летом. И то не всегда. Церковь есть, старая, черная, семнадцатого века. Табличка висит, мол, культурно-исторический памятник, охраняется государством. А как охраняется? Священника нет, замок сломан, службы не проводятся. Туристы мимо едут – водку там пьют… Не, я все же каши сварю, тебя качает прям. Есть у меня геркулес где-то. Хоть на воде, а все сил прибавит.
Волдырь достал из комода мешочек, с полки чугунок, из ведра зачерпнул ковшом воды. Поставил на огонь. Слива сидел, глядя в пол. Снова молчали. Через минуту хозяин, в одиноком житье соскучившийся по беседе, заговорил, шевеля кочережкой угли в печи:
– Ты, небось, Славик, парень городской?
– В общем, да, дядя Вова. Дедушка в деревне жил, а я от него уехал в город.
– М-м…
– Ездил я к нему потом на лето. Давно это было, и далеко…
– Понятно… У меня дед лихой был, а прадед и того круче. В строгости нас, мальцов, держал. Учил грамоте… Мне от него топор остался на память, старинный, самокованный. Любой сук с одного удара берет, только плечо подымай. Один ухарь городской предлагал мне за него финский топор, острый, оранжевый. Слова даже такие говорил: вечный и са-мо-за-та-чи-ва-ю-щий-ся. Отвезу, говорит, твой топор в краеведческий музей. Но финский мне не с руки оказался. Мой лучше. Зачем мне вечный? Да и память дедовская.
Дед сам из местных был, из людиков. Помню, посадит меня, малого, на колено, как в седло, подбрасывает и приговаривает:
- Вот Вотя-вос,
- Вотя-вос, вопитос.
- Вове – сликки,
- Вове – скокки,
- Вос сис си!
Что сие означает, хоть убей – не вспомню. Деды с бабками померли, язык с собой забрали. Власть говорить не разрешала, я и позабыл почти все. Манюня еще, может, и помнит, так она ведьма, мы с ней редко.
Видишь, деревня-то уменьшается, как озеро хвощом зарастает, и язык, как ручей из озера, усыхает. Митька по матери помор, по отцу тоже людик, а языка совсем не помнит. Любаша – та полутаджичка, а дети их вовсе непонятно кто. Русские, одним словом… Хотя Митька, племяш мой, молодец мужик. Шапку ни перед кем не ломает, только вот шуток порой не понимает. Контузило в армии. Мозг с места сдвинут малость. Зато рукастый и самостоятельный. А Любка у него еще пуще молодца. Характер – кремень, хозяйка – золото, а уж красавица – не извольте сомневаться. Даже дочка ее, Веруня, против мамки не сдюжит. Хотя ей и неважно…
– Слушай, дядя Вова, там идет кто-то, женщина какая-то, – перебил его Слива, глядя в окно, – я, наверное, залезу за печку, а? Не по себе мне как-то.
– А как же каша? Готова почти…
– Потом, дя Вова…
Только Слива уковылял за печь, в дверь постучали.
– Заходи, Любаша! – пригласил Волдырь.
– Здравствуй, дядь Вова!
«Точно! Как у Богородицы голос!» – насторожился Слива.
– Здравствуй, матушка! Да ты, никак, с подарками к нам?
– Тут бульон в банке, бутылка молока и яиц свежих пяток. Как там твой купальщик? Пришел в себя?
– Приходит потихонечку. Твоими заботами скоро на ноги встанет.
– Ну ладно. Хорошо. Пойду я.
– Чаю хоть попей, Любаня…
– Спасибо, некогда. Митя хотел попозже зайти, проведать.
– Сейчас я Сливу покормлю да и сам к вам заскочу.
– Какую сливу?
– У нашего утопленника нос как слива. За печкой сидит, тебя боится.
– Ладно, пока, дядь Вова. Сливе привет!
Глава 6
Церковь и огарок
«…На кухне – баба голова, а на деревне – церква. В дому хозяином мужик, а в приходе – батюшка…
…Всякое время кончается, кончилось и смутное. Не так, как чаяли, конечно, но все-таки. По Столбовому миру граница со свеями совсем рядом стала проходить. А все порубежье войной разорено – ни ремесла, ни торговли, ни промысла.
Годами в Рымбу не заглядывали ни власти, ни купцы. Начисто забыли. С берега ее дымов не видно, а на ма́ндере[6] села и деревни впусте лежали, иван-чаем заросли. Пришлось нашим мужикам самим на отхожий промысел бегать. Знал Урхо-младший все леса и воды, как свои огороды. Младшего племянника Лембо да старшего Надеждина сына Ваньку охоте и рыбной ловле обучил.
Известно, что места наши пушниной богаты, а рухлядь мягкая везде за золото торгуется. Стали они втроем горностая-куницу ловить, лису-енота давить. Повезет, так и с рыси, и с барсука шубу снимали. Ну а уж медведя-волка брали редко, на заказ. Шкурки квасили-дубили, мяли-мыли-чистили.
Ворохами меха продавать возили. До южного бережка под парусом, потом речушками на веслах подымались аж до Пудоги, до Муромского монастыря. А там уж и с Вологдой, и с Новгородом, и со всей Русью северной торгуй. Мзды, конечно, не платили, обходили околицей и налоги, и таможню, и стрелецкую стражу. Домой возвращались с городскими подарками, бусами да тканями, порохом да пулями.
Иван, Харлашкин сын, грамоте и разным ремеслам оказался обучен, деревне полезен. Вместе с Николаем, старшим сыном Лизаветы и погибшего Ильи, срубили они новую кузницу, слепили в ней новую домницу. Опять руду роют, железо плавят. Молоточек с молотом на весь остров звенят. Вечером весенним издалека слушаешь – будто капли с сосулек в лужицу капают. Дин-дон. Малая и большая. Дин-дин-дон. Две маленьких – большая.
Стала потихоньку Рымба оживать. Ведь как ни крути, деревня стоит на известном пути. Мимо нее течением и ветрами лодьи носит. Весной с севера синей водой на юг несет, а осенью серой – с юга на север.
Возвращаются к своим дворам с чужбины рымбари. Целыми семьями прибегают людики со свейских земель. И не только людики, а и ливвики, и даже финны с лопарями. Нету сил терпеть произвол господ и королевские налоги. Кто-то дальше на Русь уходит, а кто-то и остаться хочет. Все брошенные избы заселили, гари растащили, заново отстроили. В общем, жили дружно, когда выжить нужно.
Ну а с юга пробираются в поморье богомольцы, к Соловкам. Да и скупщики пушнины ищут через нас путей на северо-восток, к архангелу Михаилу, к коми-пермякам. А там уж за Уралом и Сибирь. Вольная земля. Всем земли и воли хочется.
Там, говорят, когда гуси летят, неба не видно. Если лосось на нерест в речки подымается, по рыбьим горбам с берега на берег перейти можно. Стадами лоси, как коровы, на лугах пасутся. Тетерками березы усыпаны, будто жуками в мае. Подходи да хватай, в мешок пихай. А уж зверя там пушного – за хвосты лови. В чащу с пояса стреляй – не промажешь. На деревьях вместо шишек и рябины – орехи да яблоки. В общем, земля обетованная… Вот только нам и дома хорошо.
…Сколько лет прошло спокойных, нам о том не сказано, а погост под елями разросся. Урхо-младшего рядом с родителями схоронили, у племянников его и свои дети уже выросли, а у тех – свои родились. Сестра Урхо, Лизавета, и Надежда, ополченская вдова, дряхлыми старухами состарились.
Атамана Митрофана праправнук, тоже Митрофан, вызрел богомольным отроком. Дед Иван, Харлашкин сын, по плотницкому делу его натаскал, заодно на Евангелии грамоте выучил. Сам в бозе почил…
Как-то на Преображение пристала к берегу лодка, а в ней два брата бородата, Нестор да Путята. Ликами темны, ладонями тверды, кресты на шеях деревянные. Топоры за кушаками, а в заплечных кошелях инструмент. Оказалось, зодчие.
– От Антихриста бежим, – говорят, – на Выгреку пробираемся. Бог даст, и до Соловков догребем. Рубили мы церкви на Руси, во Пскове и в Рязани, да нагрянули слуги Никона, вражьего пастыря. В латинскую веру обратить нас пытались… Дух перевести у вас хотим, можем пособить избы починить. Срубы косые поднять, венцы гнилые поменять. Пустите?
Отчего же не пустить, мы, чай, тоже православные. Правда, наших рымбарей, кроме Митрофанушки, Антихристом не удивишь, видали в свейских землях и похлеще чертей лютеранских.
– Как это – в латинскую? – испугался юный Митрофан.
– Ты, парень, перекрестись, – велел Путята.
Перекрестился торопливо.
– Вот молодец! А они тремя перстами крестятся. И крестным ходом противусолонь идут!
А Нестор утвердил:
– Учат святые отцы: “Иже не крестится двумя перстома, яко и Христос, да будет проклят!”
Пока Митрофан кормил зодчих в своей избе, всё они ему и обсказали.
– Посолонь крестным ходом верные идут, вслед за солнышком, – оглаживал Путята квадратную бороду. – А царь Алексей со своим ересиархом Никоном велят против солнца иконы нести. Бороды ровнять не дают, хотят, чтобы мы, как турки-агаряне или как лешие, волосами заросли. Древние святые книги переписывают. Матушки святой Софии “Кормчую” сжечь хотели! – Он достал из туеса черную книгу, приложился губами и снова убрал, завернув в чистый плат.
Нестор кивнул:
– Сказано: не подобает святыя аллилуйи трегубити, но дважды глаголати “аллилуйя”, а в третий – “Слава Тебе, Боже!” Потому как “аллилуйя” и есть “слава Богу”. По одной славе Отцу, Сыну и Святому Духу. А у них четыре получается! Четвертую кому? Борову рогатому?
У Митрофана глаза ширились:
– Батюшки, отцы мои! Научите церковь поднять, сожгли часовню супостаты. Всей Рымбой поможем, умолю мужиков.
– Церковь до снега не успеем, весной надо было начинать, – отвечал Путята, – разве часовню… Литургию служить у вас пока некому, так хоть самим молиться. Будет поп, тогда и алтарь, и трапезную прирубите… А как явятся царские стрельцы в иноземных зипунах, как велят побожиться? Каким знамением себя осенишь? Двумя ли перстами?
– Двумя, батюшка!..
– Истинно, отрок! За это бесы никонианские могут нас ломтями настругать, но лучше пострадать за веру и пред ликом Исусовым в чистоте предстать, чем подвизаться у врага рода человечьего.
– Никон из “Символа веры” аз велел убрать и тем смысл его извратил. А мы за аз единый смерть любую примем, – подвел итог Нестор.
Остальных рымбарей эти тонкости не сильно волновали, однако часовню строить порешили всем миром. Вон на Клименцах-островах деревня в девять дворов, а церковь себе срубила. Порядную грамоту с зодчими-плотниками составила. Чем мы хуже?
Ударили по рукам. От нас кузнец Никола руку жал, от плотников – Путята. Договорились так: зодчие возглавят стройку, ее же завершат, работу деревне сдадут. Делать будут на совесть и споро, дабы успеть до снега. Деревня обязуется посильно помогать, кормить-поить, баню топить. Как закончат, медью расплатиться и в дорогу снарядить. Дать харчей, одежу зимнюю и проводника до Выгореции.
Еще дали рымбари лесу некореного. Благо с зимы нарублено, по снегу лошадьми на берег стащено да весной сплавлено до места. Сгоревшая часовня как раз в таком месте стояла, куда ветром плоты из хлыстов прибивает. Старики не зря подметили. Или Господь управил? Кто его знает… Широко, вольно, со всех сторон видно.
Кузнец Никола гвоздей наковал. Пуд гвоздей дороже вышел, чем весь лес строевой-часовенный. Рымбарям скобеля-топоры закалил. Это ж только в сказках без железа терема строят, деревянной сохой дерн на гарях-палах пашут.
А еще надо бревна окорить, мха в пазы по болотам надрать, бересты для подложки нарезать. Не одну осину надо свалить, на чурки распилить, из них потом лемеха натешут. Пособлять хлысты ворочать. Тесать, строгать, на плахи распускать. Сложа руки сидеть не придется.
Кормить и поить мастеров – дело важное. А они в постные дни мяса не ели, хоть им и предлагали силушку поддержать. Да и в скоромные ели редко, больше рыбу, по воскресеньям не работали. Жили у Митрофана, тетка его готовила и стирала. Вечером после работы клали топоры под свои лавки, лезвиями к стене, чтоб домашние случайно ноги не изрезали. Как кормильцев их берегли.
Митрофан глазел на дивный инструмент. Темны рукоятки топоров, блестят от ладоней мастеров. Лезвия тесел и полотна пил слегка смазаны и в тряпицы замотаны, как дитятки в пеленки. Черта-чертилка, для разметки пазов вилка, каленая, подпружиненная, стальным колечком перетянута. Веревочка отвеса, словно девичья коса, сплетена, чтоб не крутилась, не вилась, легче сматывалась. Сам отвес как жало у стрелы – тяжкий, колкий, отцентрованный. Веревка с узелками равномерными – аршин, молоток с ласточкиным хвостом и бурав с буравчиком. А краше всех ручничок – маленький топор для вытесывания лемеха, – тот как игрушечка! Да-а, у Путяты с братом кошеля большие, на разные чудеса богатые…
Строить начали на прежнем месте. Где ж еще? Там и фундамент остался, камни черные, в землю вросшие. Посетовал Путята, мол, рядом еще лучше место есть, выше и светлее. Но там карсикко стоит. Старая могучая сосна, вершинка еще в древности отрублена, потому она вширь и растет. Нижние ветви в десятки слоев лентами да платками перевязаны, многие тряпки истлели уже. В тени ее кроны замшелые могилы прячутся, еще до Рымбы у людиков здесь было капище.
– Что за православные вы, рымбари, – удивлялся Нестор, – коли языческий идол срубить не даете?
– Новый Бог наш – Исус, но и старого Укко гневить бы не надо, – отвечали деревенские мужики. – Карсикко-дерево еще за сто лет и за сто зим до часовни тут росло, не засохло, не сгнило и в огне не сгорело. А кому мешает?
Рукой махнул Нестор. Поплевали зодчие в ладони, взялись за топоры. На старые камни постелили бересту, чтобы бревна не мокли, не гнили, а потом уж и первый венец закатили. Часовня, она ведь вначале та же изба. Тот же сруб – клеть, четверик. Окна, стены, всё как там. Любой плотник справится. Да что плотник – любой мужик рукастый с топором.
А вот дальше дело зодчих. Восьмерик из бревен на клеть надеть, прирубить, высчитать, в квадрат вписать. Каркас шатра поднять, сам шатер ложоным тесом забрать.
– Из дерева, как из глины, лепить можно, – вытесывая ложок на доске, наставлял Митрофана Путята.
Тот слушал, кивал и счищал кривым скобелем смолистую шкуру с соснового ствола.
– Одна сосна витая выросла, бревно из нее в сруб идет, – учил зодчий, – другая ровная, ее на плахи клиньями расколем, в пол уложим. Третья же мало что ровна, еще и высока, и годовые кольца одинаковы, в спиле красивы. Из нее красный тес для отделки получится.
Самое же важное – главка с крестом. Уже когда каркас шатра стоял в лесах, выбрал Нестор золотое от смолы бревно, отложил отдельно. Сверху донизу протесал его тщательно, от вершинки до комля.
– Знаешь ведь, отрок, почему открытые небу досочки мы стараемся топорами рубить, обтесывать? – спрашивал он парня.
– Чтоб не гнили, видать?
– Верно мыслишь. Пила древесину треплет и грызет, волокна рвет. А острый топор при точном ударе режет-отсекает, за собой срез заглаживает. Поры затыкает, воду не пускает. Потому шов от пилы намокает и гниет, а затес от топора подсыхает-вялится. Топорные храмы и живут веками.
От верхушки до середки сделал Нестор бревнышко квадратным брусом, зарубил в нем пазы для восьмиконечного креста. Посредине бревна яблоко вытесал, круглый шар с юбкой по низу, чтоб вода дождевая стекала, а остатнюю часть ствола восьмигранным брусом закончил. Вставил перекладины. Верхнюю – малую, среднюю – большую, нижнюю – косую. Получился крест православный.
– На верхней перекладине, сынок, имя нашего Царя Славы было написано, Исуса, – объяснял по ходу дела Нестор, – ко второй его руки прибили. А на третьей должны были ноги стоять, да согнулась она у ромеев и тем Господу мук добавила.
Теперь крест водрузить надо. Всей деревней мужики за веревки на шатер его тянули, а Путята с Нестором наверху крепили. На восток лицом повернули.
Опосля кружала у основания главки врубили, на них барабан тесовый, чтобы главку опереть. На барабан журавцы, птичьими шеями изогнутые. А уж по восьми журавцам как серебряная чешуя – лемех осиновый. Заранее натесанный, гвоздиками прибили. Вот и главка белая засветилась по-над елями.
Ладная вышла часовня. Легкая. Высокая. С оперенным шатром и резьбой украшенная. Внутри, как заходишь, светом пронизывает. Потому как изладили зодчие небеса над головой, к Богу уходящие. От тесового круга-щита в высоте, в центре неба, расходятся к стенам вниз тябла-грани. А они, эти грани, затянуты доской иконной, точеной и шлифованной, на тугой шип собранной.
– Мал и одинок человек на свете, – вздохнул в конце работ Путята, – только в Божьем храме, под горними небесами, видит он свою дорогу.
– Вот такое наше ремесло, сынок, – добавил Нестор, зачехлил топор и убрал за пояс, – место для Бога на земле готовить… Нужен вам, однако, иконописец. Небеса и паруса расписать. Ничего, Господь управит, еще и батюшку пришлет.
Кузнец Никола из дому отцовскую икону в храм принес, “Огненное восхождение пророка Илии”, а тетка Митрофанушки, Варвара Митрофановна, свою любимую отдала, “Преображение Господне”. С них и начался иконостас часовни в Рымбе.
На такую красоту рымбари полюбовались, с братьями-зодчими медью рассчитались. Дали им с собой лосятины вяленой, ряпушки сушеной, соли и муки. Звероловы Лембо да Иван вызвались дорогу до поморья показать, по рекам и озерам до ледостава проводить. А то ведь осень на носу.
Вышли всей деревней провожать, а Митрофан и кинься зодчим в ноги, мол, с собой возьмите, батюшки! Хочу вашему ремеслу сполна обучиться и в святых местах Богу помолиться. Я, мол, обузой не буду. Могу на веслах грести, могу огонь развести. Рыбу ловить, кашу варить. У Митрофана руки к топору привыкли и душа просится…
Что ж, отвечают мастера, и ты, отрок, по нраву нам пришелся. Не ленив, сметлив, богобоязнен. Коль отпустит тебя деревня и родня, так и мы не против…
…На целых три года ушел Митрофан из деревни. Дошел с мастерами до Белого моря, работал в поморье у них на подхвате. Сподобил Господь и до Соловков добраться. По соленой воде, через ветер и качку. Трудничал там во славу Божию, монахи его привечали. А Нестор с Путятой остались в Выгореции, поскольку кончилось Соловецкое стояние, ушла с острова старая вера.
Сам архимандрит Макарий, игумен Соловецкий, благословил Митрофанушку учиться у братьев Спиридоновых, Семёна и Василия, холмогорских иконописцев. Они как раз придел Зосимы и Савватия на острове расписывали и паперть Преображенского собора.
Митрофан им доски строгал, краски растирал, слушал размышления. Заодно Евангелия читал и жития святых. Иконописцы паче плотников духовно горели, только не о сугубой аллилуйе, а о жертве Господней.
Через время малое дали ему богомазы попробовать написать небо, птиц и горы. Вышло славно. Потом змия и ангела. Оба получились у Митрофана. Потом Николу и лик Божий. Все похожи. А в конце и Матушку Его с печальными глазами.
– Можешь больше не учиться, парень, – сказал ему Семён Спиридонов-Холмогорец. – Бог тебя и так отметил, а в твоей Рымбе храм расписать у тебя таланта хватит. Знаний тоже. Видим, что желаешь, так что ступай и делай умно. Благословись у батюшки и иди… Разве что остаться захочешь, мыслишь стать великим богомазом?
– Нет, отче, не хочу. Гордыня это. Мне бы до дому Божий лик донести да себя пред Ним спасти, и хватит с меня.
В это время в Рымбу пришла лодья с новой властью. Опять стрельцы на веслах, опять дьяк указ зачитал. Только теперь вместо обычного тягла обязали мужиков тройное тягло тащить, если не хотят в солдаты. Ну а на закуску привезли попа. Велели к часовне алтарь прирубить, церковь изделать, отца Моисея всем миром содержать.
Стоят мужики перед дьяком, глядят уныло. То на него, то на стрельцов, то на священника. Думают, как такие налоги платить, да еще надо и батюшку кормить-поить, обхаживать.
А батюшка из лодки вышел: росту чуть не с версту, волосы – льва рыкающего грива сива, борода лопатой. Старый подрясник по животу ремнем солдатским перетянут, кулаки – как от киянок головы. На груди медный крест, на плече сидор. Берестяные лапти на ногах.
– Ноги у меня болят, ребята, – кряхтит мужикам, – застудил, по лесам шатаючись. Опухли вот. Сапоги, как у бояр, носить не могу.
– Как же ты, отче, их застудил? – хмуро спрашивает кузнец Никола, сам думает: “К такому не явись к обедне – по пояс в землю вобьет. А есть этот детина, небось, за троих может”.
– Был я раньше, сын мой, пушкарем, по распутице пушки таскал. Сил не стало, пошел Богу молиться. Думал, грехи замолю, легче станет.
– Стало легче-то?
– Пока нет, мил человек… Значит так, епископ Павел к вам меня отправил. Велел щек не раздувать, ереси не потакать. Бородой, сказал, не тряси, а стадо паси. Однако Духу Святого, как Господу нашему, мне не всегда хватает, потому не меч я принес вам, ребята, а только добрые вести. – Отец Моисей достал из сидора Евангелие. – И воды морские предо мной не расступаются, как перед тезкой моим, потому притек я в лодочке. Меча вам, слыхал я, досталось, и сорок лет по пустыне вас водить не вижу толку. Так что будем на Бога надеяться, а и сами не плошать, задачи решать.
На его речь почесали рымбари в затылках, по домам разошлись. Кузнец Никола отца Моисея к себе на постой пока взял.
– Как велишь креститься, отче? – спросил он у попа за ужином. – Двумя ли перстами? Тремя ли?
– А сам-то как желаешь?
– Да мне все равно, коль по-честному.
– Так и крестись. Главное, справа налево. Мыслю я так, что о вечной душе надо думать, а вот есть ли у нее персты, нам неведомо… Как, впрочем, и лево-право…
…Вернулся в Рымбу Митрофан, а та еле жива после пожара. Засуха-жара стояла, молния без дождя ударила. Избы почти все сгорели в одночасье в августе. Только кузня да часовня уцелели да еще пара избенок поблизости.
– Роптать и сетовать не время, – сказал отец Моисей погорельцам.
Рымбари скрипя зубами летом лес валить пошли. Батюшка со всеми вместе. Хоть и в подряснике, а топор в руках держать умеет. Ест, и правда, за троих, зато работает за пятерых. Бревна ворочает, как пушечные лафеты, камни аки ядра мечет, видать, не врет, что пушкарь.
Рымбари со всего острова хлысты строевые к берегам стащили, плоты под парусами на еловый мыс погнали. Мужики строят, Митрофан помогает, а по утрам, на рассвете, часовню расписывает. Молодость сил не считает.
– Ты, чадо, когда Илью-пророка в колеснице пишешь, лошадкам уши-то подкороти, а то они у тебя на лосей похожи, – заметил ему как-то отец Моисей. – Если так уж хочешь, лосишек-олешек снаружи рисуй, ага? На той стене, что к лесу повернута.
Алтарь Никола с Митрофаном уже по снегу прирубали, а сени с трапезной – ранней весной. Иконостас всей Рымбой собирали. Две иконы отец Моисей с собой привез, еще две от Лизаветы с Надеждой остались, а Богородицу Митрофанушка сам написал с отчего благословения.
Через год освятил отец Моисей церкву в деревне Рымба во имя пророка Илии, защитника от грома и молнии. А старики-людики в его же честь на белом камне у западной стены барана зарезали. Костер развели, в углях запекли, требуху в котле сварили. Батюшку благословить просили, тот рукой махнул и крестом осенил. Его угостили, сами ели, детей кормили. Остатки лешему и водяному выплеснули, чтобы всем хватило, никому обидно не было…»
* * *
То, что Сливе некуда податься, выяснилось почти сразу.
Увидев принесенную Любой еду, он помрачнел еще больше. Есть, конечно, хотелось, но долго ли можно пользоваться гостеприимством?
Слива сидел за печкой и не мог придумать, что делать дальше. Запах яичницы с салом не давал сосредоточиться.
– Батька мой Николай, Царствие Небесное, говорил, – услышал он из кухни веселый голос Волдыря, – не решай ничего на пустое брюхо. Иди, перекусим. Люба от души принесла, а мы в долгу не останемся, отработаем после.
Сливе полегчало. За едой он признался, что в город возвращаться ему не к кому, а в монастырь незачем. Да и там, когда обнаружат, что он сбежал, искать не кинутся. «Мало ли таких, как я, – успокаивал он себя, – за всеми не набегаешься». Странно, но это помогало.
После того как они с Волдырем доскребли ложками сковороду и вымакали хлебом жидкое сало, Сливу прорвало:
– Я понимаю, дядя Вова, что звучит это дико. Позволь, однако, недолго у тебя пожить. Нет, не в избе, в избе я не готов, а хоть в сарае или вот в бане на берегу.
– С чего же не в избе-то? Горница пустая, там печь-лежанка. Живи сколько захочешь. Вижу, что одыбаться тебе надо… Глотни-ка бульону. Любаня думает, что ты еще пластом лежишь, а ты уже…
– Спасибо, дядя Вова, я все же в бане. Порядок гарантирую, чистоту. Работать буду что скажешь. Есть и мыться могу на улице, а если будешь недоволен – скажи. Я сразу уеду.
– С чего же на улице-то мыться и есть? Собака ты, что ли? Да и на чем ты уехать собрался? Не на моей ли лодочке, товарищ Слива? Видали мы таких гребцов. Одного вчера откачивали.
– Виноват. Не сообразил сразу.
– То-то! А лодка твоя на камнях у Партизанки полумертвая лежит, без весел. Митя видел. Ладно, короче. Баню топим раз в неделю. Моемся. Ополаскиваем и сушим. В бане ходишь босиком, сапоги-фуфайки в предбаннике. Спать можешь на полке. Есть будем в избе, на хлеб и на дрова дам тебе заработать. Какие, однако, сапоги-фуфайки? Ты ж гол как сокол. Погоди-ка… – Волдырь вышел в сени и скоро вернулся со старой фуфайкой и пыльными прохорями под мышкой. – Держи-ка, примерь! Я помоложе крепкий был тоже. – Он порылся в рундуке и достал застиранные портянки. – Лови. Наматывать умеешь?
– Приходилось. – Слива четко обмотал тряпками ступни и вдел ноги в сапоги. Примерил фуфайку – влез, около дела.
– Если на улицу выйти собираешься, держи шапку. – Волдырь кинул Сливе черный вязаный «плевок». – Сил-то хватит?
– Надеюсь… Дядя Вова, ты спроси меня, что хочешь знать, я отвечу. Не буду от тебя ничего скрывать. Нечего, да и смысла нет.
– А ты сам расскажи, что тебе нужно. Больше мне и не требуется.
Слива помедлил, перевел дух и начал:
– Обычная история. Сначала был солдатом, потом бандитом, потом грузчиком, потом бичом и алкашом. В тюрьме не сидел, врать не стану. Только на следствии немного. С женой в разводе. Дети взрослые. Сын и дочь. Жалеют меня, помочь хотят, я от них прячусь. Не от закона бегаю, а от себя. Злости во мне много, подлости и кайфа… Раньше все на риск, на водку и на дурь мерил, теперь сил мало, а страху много. Богу молиться не могу. С людьми общаться тоже. Боюсь их или не люблю, за что – сам не пойму. К детям только нормально, и то не ко всем.
Волдырь курил, убирал со стола, ковырял в печи кочергой и молчал, но Слива видел, тот слушает внимательно и, кажется, не удивлен.
– Никто, главное, не виноват ни в чем, а мне не легче, – заговорил опять Слива. – Везде подвох вижу. Вот рассуди. Работал я на одного хозяина. Плитку клеил во дворе, возле бассейна. Богатый хозяин. Умный. Образованный. Посмотрел, что я ровно кладу, говорит, дам тебе три рубля, как закончишь. А мне как раз три рубля надо было, последние алименты уплатить, дочке восемнадцать уже. Поклеил я, а он говорит, нет сейчас денег. Потом. Я говорю, как нет? А так. Нет, и все. Потом. Я подождал немного, не дает денег. Ну и залез ночью к нему во двор. Собака у него хорошая, алабайша, Матильдой зовут. Меня знает, не залаяла, я и разобрал всю поклейку обратно. В углу аккуратно сложил. Так же тихо и ушел, через забор. Как считаешь, прав я или нет?
– Плитку умеешь – это хорошо, – похвалил Волдырь.
– А отец Ианнуарий говорит, не прав. Говорит, надо было простить. Неужели тебе легче стало, спрашивает. Так ведь и правда легче! Откуда такая подлость?
– Собак, значит, не боишься – это хорошо, – ответил Волдырь.
– Весело с тобой болтать, дядя Вова, – усмехнулся нерадостно Слива, – умеешь беседу поддержать.
– Ага. Это я могу. – Волдырь в улыбке сощурился, глаза спрятались в морщинах. – Тренировали на собак, что ли?
– Да нет, они меня с детства любят почему-то. Не кусают. Я когда бичевал в городе, один парень молодой своего питбуля на меня, пьяного, травил-травил возле помойки, а тот хвостом виляет. Нюхает. Улыбается. Хозяин не выдержал, пинка ему дал. И мне заодно.
– Матильде-то попало от хозяина?
– Навряд ли. Он же знал, что меня не кусают. Да он и сам ее боится. Зверюгой называет. Жена-дети вообще не подходят…
– Вот что, Слива-дружок, если силы есть, давай-ка дойдем до Мити. Смогешь?
– А зачем?
– Надо, значит. Заодно познакомлю с хорошими людьми.
– Мож, потом?
– Пойдем, говорю. На вот тельняшку, вместо исподней своей рубахи надень.
Снаружи дул ветер и светило солнце. Озеро под ним сияло. Было холодно, и видно далеко в прозрачном воздухе. С трех сторон, сколько хватало глаза, яркая синева неба отделялась чертой горизонта от темной синевы воды. С четвертой, северной стороны лес готовился к зиме, облетая листьями. Каменный мыс головой змеи вдавался в озеро. Ели чернели на нем, прятали в вершинах маковку церкви.
«На Бесов Нос похоже, – думал Слива и втягивал грудью холод ветра, – только лучше. Да! Это оно. То, что мне нужно».
Деревня косым строем вытянулась вдоль дорожной колеи по берегу. Волдырь повел Сливу в сторону Митиного дома. Слива с любопытством оглядывал избы с заколоченными окнами, уже закрытые на зиму, полуголые деревья за заборами, усыпанные прелой листвой огороды.
– Раньше, видишь, было стадо колхозное и поля под рожь, – по пути показывал рукой Волдырь, – покосы. Да на мельницу зерно возили. Дорога осталась от телег, от трактора. Колхоз давненько упразднили, мельницы нету, поля заросли, стадо на мандеру увезли. Митя с семьей для себя косит, скот-огород у них. С Любашей они душа в душу, трое детей. Старший в городе учится, на строителя, что ли. Стёпка с Верой близнецы: он спортсмен, она хозяюшка, мамке в доме помогает. Слабовидящая. Мы с ней по корешам. Заходит ко мне иногда, я ей сказки сказываю-вру…
По дороге Волдырь рассказал Сливе почти все, что знал о Митиной семье. Из-за дома с новыми окнами, куда они подошли, выскочила белая лайка с черным пятном вокруг левого глаза, пролезла под изгородью и подбежала к ним. На морде ее светилась улыбка.
– Знакомься, Белка, это Слива, – сказал ей Волдырь.
Слива слегка наклонился, протянул руку и скрюченными пальцами почесал Белку по боку, ближе к хвосту. Та встала не шевелясь и чуть опустила голову, словно задремала.
– Вот шабо́лда[7]! – громко сказал Митя.
Он вышел на крыльцо в ярком комбинезоне, видно, собирался уехать. Высокого роста, широкоплечий, с небольшим пузцом.
«Сильный мужчина, – про себя отметил Слива, – под насадку стриженный».
– На охоту, вишь, редко беру, так ведь и дом не охраняет, – посетовал Митя. – Хоть бы гавкнула на незнакомого, Белка, едрит твою! Заходи, мужики! – Он толкнул изнутри калитку.
Во дворе пожали руки. Слива с трудом сдержал Митину лапу и его внимательный взгляд.
Митя радостно улыбался:
– Ты, Слава, железный человек, как я гляжу! Ночью без памяти лежал, а сейчас уже на своих ногах.
– Это вам с супругой спасибо и дяде Вове, – смущенно пробормотал Слива.
– Без Манюни не обошлось, – добавил Волдырь.
Митя словно не заметил реплики:
– Стёпка в окно издаля вас заметил, утром он приехал, раньше времени. О, говорит, Николаич утопленника ведет! А Веруня давай его пытать, мол, какой он из себя, страшный небось? Да не, говорит. Прикольный. На льва Бонифация похож. Как это? Ну, рожа бурая, грива сивая и тельняшка, как в мультике. Заходите, чаю-кофею пейте.
– Вот какое дело, Митрий. – Волдырь состряпал озабоченное лицо. – Я ж вчера у Марь Михалны бутылку в долг брал, самогону. На припарки. – Волдырь кивнул на Сливу. – Хотел вернуть поскорее, так мне за ней в село надо ехать, халтуру искать. Работа-то есть, но вот товарищ мой слаб еще, одного не хочется оставлять…
– Понятно, – перебил его Митя. – Там, в сарае, корзина с сетями. Надо перебрать. Сделаешь – возьми у Любани бутылку. Только самогона пока нет, брага еще не вы́ходила.
– А что есть?
– Водка.
– Что за водка? – деловито уточнил Волдырь.
– Обычная водка. Русская, – строго пояснил Митя. – Из этилового спирта и воды. Что, не будешь брать, что ли?
– Буду, буду! – заторопился тот.
– Я сейчас уеду на берег, дела там обтяпаю, вечером вернусь. Бензин для дырчика надо привезти.
При слове «дырчик» Слива быстро глянул на Митю, и Митя это заметил.
– Вы уж, Дмитрий, обо мне на берегу не говорите никому, ладно? – попросил Слива.
– А если ищут тебя?
– Да кто меня может искать? Разве монастырские. Этим можно и сказать, мол, жив, здоров и лодку верну.
– Ладно, коли так. Сети завтра поставим. – Митя обернулся к Волдырю. – У Партизанки ярус снимем, на мысу похожнем. Грязью небось забило после шторма. Холод идет, ряпушка может шевельнуться. И рыба за ней. Ну все, хорош болтать, заходите в дом!
Зашли, сняли в сенях сапоги.
– Люб, кинь мои шерстяные носки, – громко попросил Митя, приоткрыв дверь в избу, – а то ведь гости портянок своих стесняются.
Люба вышла в сени с носками в руках. Была она в старых потертых джинсах и пестрой рубашке навыпуск с закатанными рукавами. Темные волосы собраны в большой хвост на затылке.
– Здравствуй, Люба! – разулыбался Волдырь. – Вот Слава, наш пловец, познакомься.
– Здравствуйте-здравствуйте. – Люба говорила серьезно, улыбаясь только карими глазами. – Проходите, хвастайте. С тобой, дядь Володя, виделись уже. Чайник горячий у меня, в печи стоит.
Интересно, во сколько же лет она родила, думал Слива, надевая носки и смущаясь под Любиным взглядом. В волосах седые нити, а на лице ни морщинки, и кожа чуть смуглая, с виду будто теплая. Высокая она, под стать Мите, стройная, чего греха таить, хоть и не худая. А лицо женщине делают красивые брови и ровные зубы, почему-то вспомнилось Сливе, когда Люба улыбнулась, приглашая в дом.
В доме было тепло от печи и вкусно пахло выпечкой. Да какой-то еще ароматной травой-приправой. На столе, на яркой клеенке, стояло блюдо с калитками и лепешками, чайник-заварник и чашки на блюдцах с синей каймой.
– Садитесь, не стесняйтесь, пробуйте лепешки, – предложила Люба, доставая с печного пода чайник, – с утра пекла. Детям нравятся, а вот мужу калитки подавай. Дядя Володя, налей человеку чаю, видишь, боится нас. Мы тут с Верой прибираемся.
– Привет, Веруня, радость моя! – обратился Волдырь к вошедшей девушке.
Митина любимица Вера ходила дома в трикотажном костюме, светлые волосы собраны в хвост, как у мамы. Росточку она была невысокого, но ладно и даже изящно сложена. Сливе подумалось, что за полуопущенными ресницами она прислушивается к чему-то, может быть, внутри себя.
– Здравствуй, дядя Вова. Здравствуйте, Вячеслав. – Вера от смущения порозовела.
– Здравствуйте, Вера! – вежливо ответил Слива и прокашлялся.
Он тоже сильно стеснялся. Но тут в сенях загрохотало, и в дом ввалился Стёпка, высокий, широкоплечий парень, лицом неуловимо похожий на мать.
– Об ваши сапожищи запнулся, дя Вова! – громко сказал он и засмеялся. – Сразу две пары не перепрыгнуть! Здрасьте!
– Здорово, мужик! – Волдырь с удовольствием оглядел Любиного сына и добавил, обращаясь к Сливе: – Гляди, какой конь вымахал!
– Степан! – Тот протянул Сливе широкую, как у отца, ладонь.
«Хороший парень», – подумал Слива, пожимая Степану руку и улыбаясь в ответ.
– Слава.
– Отцу мотор в лодку отнес, чтоб ему спину не рвать, – продолжал громыхать Стёпка. – Ладно, давайте чай пить, а то мне еще потом всю скотобазу убирать.
– Что за выражения, Стёпа? – попыталась строгим голосом спросить Люба, но тот добавил, будто исправился:
– Прости, мамулечка, за телятками-свинятками прибраться. Это у нас такое распределение обязанностей, – объяснял он уже гостям. – По субботам мама с Веруней в доме порядок наводят, я в хлеву навоз собираю, а папаня в село уезжает, по делам. Кто на что учился!
– Не обращайте внимания, шутник доморощенный, – вставила Вера.
– Всё, ребя, я собрался. Поехал, – сказал из-за дверей Митя, – вечером вернусь. Ребенок, иди поцелуй меня.
Вера вышла в сени, слегка касаясь пальцами стены.
– Вот, Любонька, какие дела, – дуя на блюдце и держа в руке лепешку, заговорил Волдырь. – Слава пока у меня поквартирует. Такая у него жизненная ситуация. А что? Я не против. Мне веселее. Пусть остается. Парень крепкий. Не буйный вроде. Авось в деревне пригодится…
– Слава, а вы городской? – спросил Степан.
– До армии жил в деревне, потом остался в городе. – Слива немного успокоился, видя доброе отношение.
– Я тоже в армию собираюсь. Даже поступать никуда не стану, сначала отслужу. А там видно будет. – Стёпа мазал лепешку маслом, зачерпывал ложечкой варенье и отправлял в рот. – Слава, делайте, как я. Так мамины лепешки вкуснее всего.
– Спасибо. – Слива отломил кусок лепешки. – Очень вкусно. Настоящая кульча[8]…
Люба хотела было что-то спросить, но Стёпа перебил:
– А вы где служили? В каких войсках?
Слива помялся немного:
– В связи. Катушки мотал.
– А я хочу в десант. Или в морскую пехоту. В крайнем случае – в погранцы. Как батя.
– Что ж, дело хорошее.
– Только он все смеется. Иди-иди, говорит, на границу. Стрелять научишься, как ковбой, а бегать – как его лошадь. Но я стрелять уже могу: и батя учил, и в школе стрелковая секция. Да и бегать приходится, и на лыжах тоже. Только вот боксом бы позаниматься… Так тренера нет. Вы, случайно, не боксер? Нос вон кривой.
– Не, я не. Носом это я об стол упал. А так я больше специалист по метанию лепешек в рот. – И Слива отломил еще кусок.
Степан усмехнулся, и Вера, заходя в избу, улыбнулась.
– Значит, домой не к спеху? – все же спросила Люба и тоже улыбнулась.
– Ладно, спасибо, Любонька! – поблагодарил за угощение Волдырь, дав Сливе возможность промолчать. – Нам еще сети перебрать и Марь Михалне должок занести.
Чай допили быстро.
Из сосновой щепы двуручную корзину с сетями унесли с собой, в избу Волдыря, там сети растянули на вешалы и занялись их переборкой. Работа нетрудная, зато нудная. Поплавочек к поплавочку собери, колечко к колечку, ячею к ячее, узелок к узелку. По пути весь мусор вытряси, рыбьи возгри собери, полотно сполосни и на просушку.
Встали друг напротив друга, у Волдыря кольца, у Сливы поплавки. Волдырь закурил беломорину, стандартно смяв гильзу.
– Понимаешь, что делать? – спросил он.
– Пробовал, – ответил Слива.
Начали перебирать, и пошло неплохо. Слива почти не отставал от Волдыря, хоть поплавки мудреней ковырять, чем кольца.
– Что думаешь насчет шкалика? – спустя немного времени снова спросил Волдырь.
Слива в меру подержал паузу.
– Я за любой, если можно так сказать, кипеш, – осторожно проговорил он, – кроме голодовки.
– Тогда сейчас перебираем, пол-литра у Любы забираем. – Волдырь потер ладони друг о друга. – А Манюне вернем, но потом.
– А долг?
– Так ведь я у Михалны самогон брал, а у Любы водка. Митя брагу перегонит, отдадим самогоном. Или вообще отработаем. Ей вон огород перевернуть надо перед снегом. Как раз окучник протащим… Завтра.
– Как скажешь, дядя Вова.
За два часа сети перебрали, поплавки на рогатки насадили, кольца веревочками схватили. По ходу дела Волдырь рассказывал Сливе байки из деревенской жизни и потихоньку выспрашивал о нем самом. Слива коротко отвечал. Так Волдырь узнал, что татуировки на теле Сливы – синтез мазохизма, ошибок молодости, а также ложного понимания красоты и мужественности. Хотя причины эти можно расставить и в обратном порядке.
Слива же понял – остров могуч, деревня стара и живуча, люди в ней добры и веселы, а земли и воды вокруг кормят их и поят. Не ленись только, не жадничай и не гадь вокруг себя.
– Теперь до Манюни, а как иначе? – утвердил Волдырь по окончании работы.

