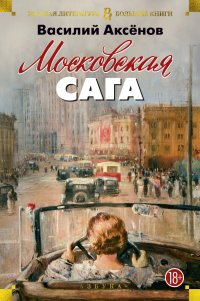Читать онлайн Лекции по русской литературе бесплатно
- Все книги автора: Василий Аксенов
Знакомство. Первое вводное занятие
Господа, я хочу для начала познакомиться визуально с участниками семинара, мне дали маленький список. Баумюллер, Божица, Филлипа уже знаю, и теперь Памела Хэнкин, это вы, прекрасно, Левицкая Лариса, так, и Энтони Машиочи? Правильно как произносится, не знаете? Его нет? Энтони… нет Энтони. Черил Нилсон, очень приятно. Маргарет Бобик, тоже нет. Сара Нелсон, нет. Тамара Попова и Сюзен уже знаю. И вот больше у меня никого здесь нет в списке. Назовите, пожалуйста, чтобы я… Моррис? Савраски… Джон Фридман. Пол… Людмила, вы тоже будете как студент? О’кей. Ну что ж. Теперь организационные предметы: вам раздадут то, что я набросал как темы семинара. Здесь примерно четырнадцать тем на весь наш семестр, но они очень, конечно, flexible[1], и необязательно каждая тема – это каждое занятие, одна тема может быть половина занятия, а другая тема, как у нас получится просто, может быть на два занятия. Скажем, «Альманах “Метрополь”» – это большая очень тема, и она наверняка у нас не менее двух занятий займет, потому что там двадцать семь авторов, представляющих довольно широкий спектр современной русской литературы. А другая тема – я здесь еще не указал, потом мы вставим в пятое, кажется, занятие – будет тема «Писатели “окопной правды”», я буду говорить о таких авторах, как Бондарев, Бакланов, – это писатели-фронтовики, Межиров, Винокуров, Константин Симонов и Виктор Некрасов. Эта тема, поскольку я не очень хорошо ее знаю, у нас займет немного времени (смеется). Я прошу относиться ко мне не как к настоящему профессору, потому что я таким и не являюсь, и… прошу прощения, я, по-моему, более ценен для вас не как профессор, а как непосредственный участник событий, о которых мы будем говорить. Когда-то Вознесенский про себя сказал: «Дитя соцреализма грешное», в общем-то, я тоже «дитя социализма грешное» (смеется), более грешное, чем Вознесенский. И одновременно и участник, и в какой-то степени жертва событий этих двух штормовых десятилетий советской русской культуры, литературы в частности. Если кто-нибудь что-то не понимает по-русски, something Russian is lost on someone, пожалуйста, спрашивайте, и будем прояснять какой-то момент, договорились, да? И я бы хотел, чтобы то, что я говорю, прерывалось все время вопросами, это мне не только мешать не будет, а наоборот, будет помогать, и, наверное, и вам тоже лучше, потому что, как я себе это представляю, это семинарское занятие, а семинарское занятие – это взаимное творчество.
Поскольку у нас первый день, все будет скомкано… Вот еще очень важный организационный момент – это литература, книги, круг чтения. Я составил список этих книг, это надо будет размножить, но я не уверен, что вы сможете достать все эти книги, да и все, видимо, читать необязательно, каждому необходимо выбрать, что ему нужно, и совместно сделать какую-то селекцию… Ну вот, например, Илья Эренбург, «Оттепель». Это хорошо бы прочесть, потому что название этой книги дало название целому периоду русской культуры. У меня эта книга есть совершенно случайно, она не моя, мне ее дала Елена Александровна Якобсон. В магазине Канкена (?) и в библиотеке университета ее нет. Наверняка есть в библиотеке Конгресса. У вас есть? Как-то поступить с этим, может быть, зирокс[2] снять или… мы потом подумаем вместе.
А есть у вас в библиотеке, где можно поставить книги на полку, чтобы они стояли под этим курсом…
(Реплика из зала: Reserve shelf!)
Но все равно получится, что есть только одна книга, скажем, на десять человек…
(Реплика из зала: Она не уходит из библиотеки, она остается на полке.)
Может быть, кто-то там [в библиотеке] прочтет, и я буду говорить об этих книгах в двух словах. О наиболее важных книгах я буду говорить, поэтому у студентов, по идее, должно быть представление, о чем книга, и дальше студенты будут читать, кто [что] захочет, в зависимости от того, какую кто изберет тему. Как я понимаю, работы будут… должны писаться студентами, да? Затем Владимир Дудинцев, «Не хлебом единым». Это книга очень важная, но, на мой взгляд, очень скучная. Ее читать необязательно (смеется). Я о ней буду немножко говорить. Но вот альманах «[Литературная] Москва», его прочесть, такой толстый, невозможно, конечно. Но в нем есть отдельные вещи, очень важные. И как [быть]? Это тоже принадлежит Елене Александровне, не мне. Ни в библиотеке, ни в магазине тем более этого нет, как мы поступим в данном случае, я затрудняюсь [сказать], но это надо будет решить. Дальше, Симонов, «Записки…(м.б. «От Черного до Баренцева моря. Записки военного корреспондента», или это оговорка, а имеются в виду «Разные дни войны. Дневник писателя», упомянутый следом?). Дневник писателя», это интересно для темы «Послевоенная литература», и тот, кто хочет, может прочесть. Такой писатель Всеволод Кочетов был, он представлял собой крайне правое крыло советской культуры шестидесятых годов, яростный враг «Нового мира» и Твардовского, сталинистского типа писатель. Его очень хорошо бы роман достать, который называется «Чего же ты хочешь?», но как его достать, я не знаю. Этот роман очень ярко отражает атмосферу литературной борьбы в середине шестидесятых годов. Валентин Катаев, «Святой колодец», это имеется и в библиотеке, и в магазине, и у меня здесь имеется – с дарственной надписью автора. Вот это всё с дарственными надписями авторов (смеется). Анатолия Гладилина хорошо бы прочесть, чтобы знать молодую прозу начала шестидесятых годов. Анатолий Кузнецов, «Продолжение легенды», Виктор Конецкий, затем альманах «Тарусские страницы»…
Вообще, альманахи – это какого-то рода ключевые моменты в развитии советской русской литературы этих десятилетий. В отличие от американских или западноевропейских традиций, русская литературная активная жизнь идет в основном на страницах толстых журналов. Этого нет в Америке, здесь «Атлантик» раз в месяц печатает какой-то рассказик, и единственный такого типа журнал, как толстый русский, – это, похоже, Partisan Review в Бостоне. Остальные все – с рекламами парфюмерии и так далее. А в России, если вам не удалось напечатать в каком-нибудь из влиятельных толстых журналов вашу вещь, считайте, что ее не заметили вообще. Самое главное – напечататься в журнале, вы можете издавать книги в издательствах, получать за это гонорар, но вас никто не будет замечать, критика о вас писать не будет. Поэтому очень важно было, особенно в шестидесятые годы, когда были полярно противоположные журналы, такие, скажем, как «Новый мир», орган левой интеллигенции, и «Октябрь» – это орган сталинистов, или, как мы их называли, правых, а на Западе бы их называли наоборот: мы бы оказались правыми, а сталинисты левыми (смеется), понимаете? Очень важно было следить, как колеблются эти чаши весов, очень важно следить за журналами. Что касается альманахов, то альманахи создавались, я бы сказал, в кризисные моменты, когда скапливалась какая-то энергия, которая требовала дополнительного выплеска; тогда возникали альманахи. Вот как возник этот альманах, первый, о котором я сегодня буду говорить, «Литературная Москва», и вызвал огромный скандал в литературной жизни того времени. Затем, после разгрома этого альманаха, возник альманах «Тарусские страницы», провинциальное издание московских авторов, это явно было похоже, я бы сказал, на своего рода парашютный десант (смеется) – неожиданный марш в Калугу, в Калужскую область. И затем, в конце семидесятых годов, возник «Метрополь», который определенно иллюстрировал глубокий кризис современной советской литературы, и вслед за ним альманах «Каталог». Так что это очень важные пункты, и его [ «Литературную Москву»?], может быть, пустим по рукам, только с условием, что его никто не прикарманит, не украдет в смысле (смеется). Для карманов… да, многовато. Думаю, что необязательно снимать копии, желающим мы дадим его посмотреть, когда дойдет очередь до него. Затем Юрий Трифонов «Дом на набережной», надо обязательно прочесть, где-то найти этот текст. У вас [есть]? Прекрасно. Вот видите, я был уверен, что мы начнем помогать друг другу. Чудно. У вас книга? А, в двух журналах. Прекрасно. Простите за нескромность, но, видимо, придется прочесть и «Звездный билет» Аксенова тоже, потому что это отражает молодежную прозу начала шестидесятых годов. Это в «Юности», есть еще датский репринт, Копенгаген, в университете Орхус, в русских книжных магазинах продавался репринт из «Юности». Может быть, сделать зерокс. Валентин Распутин и Василий Белов – это два самых ярких представителя деревенской прозы. Их надо где-то достать, я не мог достать их нигде. В магазине не достал, и в библиотеке не оказалось. А их обязательно нужно, потому что это очень репрезентативные писатели.
(Реплика из зала: У нас две библиотеки… <нрзб>.)
Распутин. Чудесно, да. Солженицын, «В круге первом», – я бы рекомендовал прочесть. Потому что «Один день Ивана Денисовича» – это еще его советский период. Затем «Архипелаг ГУЛАГ» – это… ну, все знают, что это такое, но в смысле литературном «В круге первом» гораздо сильнее и интереснее. Нужно достать где-то «Пушкинский дом» Андрея Битова. Я тоже его не нашел почему-то. У «Ардиса» заказать? Не было. У меня [в списке] двадцать пять названий, это слишком много, конечно, для студентов, нужно как-то выбирать, кто что захочет. «Сандро из Чегема» Фазиля Искандера. Это интересно будет прочесть по двум причинам: во-первых, как явление неподцензурного романа, который пережил две судьбы – цензурную (он издан в Советском Союзе с определенными купюрами) и неподцензурную судьбу (он [вышел в] издательстве «Ардис» уже полным текстом), – то есть он живет двумя жизнями. И, кроме того, интересное явление представляет [сам] Искандер, явление национальной литературы на русском языке, это довольно необычное явление, существующее только в Советском Союзе, когда авторы национальных республик, моего поколения примерно люди, воспитанные еще вне века растущего и цветущего национализма, не получили достаточно родного языка, чтобы писать книги на нем, и получили более-менее достаточно русского языка, чтобы иметь возможность писать на нем книги. Но не вполне точно получили – их язык отражает национальность, и они пишут о своем национальном характере, о национальной психологии. Получается любопытный сплав. К ним я бы еще отнес одного из самых established советских райтеров (смеется) – Чингиза Айтматова. Он лауреат всех премий, депутат Верховного Совета, он на самом верху общества, но, несмотря на это, писатель довольно талантливый. Затем альманах «Метрополь», конечно, надо прочесть или хотя бы просмотреть всем. Так же как новый альманах «Каталог», но главное – «Метрополь», это важнее. Владимир Войнович. Я думаю, его нетрудно будет достать, «Приключения солдата Ивана Чонкина» – это просто интересное чтение, забавное. И очень важно прочесть Георгия Владимова, «Верный Руслан», – это один из крупнейших писателей современных, еще оставшихся в Москве. Затем есть два представителя так называемого андерграунда московского, который так и называется английским словом underground: Венедикт Ерофеев, его «Москва – Петушки» – блестящая сатирическая, лирическая, гиперболическая маленькая повесть, очень ее рекомендую просто для удовольствия, кроме всего прочего, и Эдуард Лимонов, сейчас живущий в Париже, его нью-йоркские приключения описаны в повести «Это я, Эдичка». И последний в списке молодой писатель и, на мой взгляд, самый интересный стилист молодого поколения – Саша Соколов, живущий в Америке. Его книгу «Между собакой и волком» достать нетрудно. Затем у меня есть список поэзии, которую вы явно нигде не достанете, это книги из моей собственной библиотеки, которые подарены сто лет назад авторами, и я вам буду давать по своему выбору какие-то стишки оттуда, и, может быть, вы эти стишки будете ксерокопировать. Ну, например, вот вторая книга Беллы Ахмадулиной, «Уроки музыки»; ее первая книга тоже у меня есть, называется «Струна», вот она. Евтушенко – очень старая книга «Со мною вот что происходит». Роберт Рождественский, который был в молодости молодым человеком (смеется), называется «Дрейфующий проспект». И Андрей Вознесенский, всегда умудрявшийся выпускать самые красивые книги в Советском Союзе, вот видите, какая хорошенькая. Я вам буду это давать, и вы будете копировать. Надо будет еще Бродского почитать: две книги в издании «Ардис» – «Часть речи» и «Конец прекрасной эпохи», это нетрудно достать. И вот это перед вами типичный московский самиздат – «конец прекрасной эпохи». Это очень большой поэт, который не выпустил ни одной книги за свою жизнь, Евгений Рейн, он живет в Москве, и вот так выпускает свои книжечки. Я вам тоже буду давать, и вы будете просматривать эти книги и по желанию делать копии. Думаю, мы как-то все организуем. Или, может быть, есть какие-то еще предложения?
(Реплика из зала, нрзб.)
Ах так? Хорошо. Будем устраивать. [Книги] пропадут – это очень бы не хотелось. Нет, я хотел здесь их давать, так (смеется), не выходя.
Сегодня я хочу поговорить о самом начале из начал. Тему я так приблизительно озаглавил: «Конфликт хорошего с отличным сменяется ранней оттепелью Эренбурга. Владимир Померанцев призывает к искренности в литературе. Зашатались тотемные знаки социалистического реализма. Альманах “Литературная Москва” – первая попытка организовать разрозненные поиски новых звуков. Рычаги без точки опоры». Любое событие – существует такая несколько метафизическая точка зрения – начинается до его начала. Возьмем, предположим, петровские реформы на Руси. Известно всем, что они начались до рождения Петра, а называются «петровские реформы». Еще до рождения Петра, когда вокруг России существовал своего рода – похожий на коммунистический – железный занавес, иностранцев было мало, но все-таки они уже были. Уже была слобода Кукуй в Москве, уже некоторые бояре, оставаясь наедине в своих дворцах, надевали европейское платье, тайно курили табак, слушали музыкальные шкатулки и даже, говорят, танцевали менуэт, что было равно… Что сейчас танцуют? Твист, нет, шейк? Диско?.. [было равно] диско. Или, скажем, открытие Америки: она тоже была, как известно сейчас, открыта до своего открытия, правда? Когда-то просто садились на корабли и плыли в западном направлении, и открыли [ее], но не знали, что это Америка. Идея плыть в западном направлении существовала и блуждала несколько веков по Европе, пока не пришла к Колумбу, тогда совершилось официальное открытие Америки. Вот так же то, что мы называем оттепелью, – вы знаете, что обозначает термин «оттепель» в советской культуре, весь период шестидесятых годов условно называют «время оттепели» – началось еще до шестидесятых годов. И самое знаменательное, что начало это движение литературного сопротивления, литературный резистанс, не новое поколение писателей, не молодежь, а люди, появившиеся в сталинское время и сделавшие себе имя в сталинской литературе. К концу сталинского времени, в пятьдесят третьем году, в советской литературе торжествовала идея предельного идиотизма. Она называлась «теория бесконфликтности». Когда что-то достигает предельно гигантских размеров, то потом начинает отмирать, как динозавры: им дальше уже некуда было развиваться. Также и идиотизм сталинского времени достиг в литературной области высшего предела, когда была обоснована теория, что наше время настолько прекрасно, что в нем не может быть конфликта добра и зла, по сути дела. Не может быть борьбы между добром и злом, а может быть только борьба между хорошим и отличным, то есть еще лучшим. Существует такой анекдот, литературная легенда, основанная на реальном факте, как два классика теории бесконфликтности, Михаил Бубеннов и Александр (или Алексей) Сурин[3], драматург такой был, подрались в пьяном виде. Они были уже лауреаты всех премий, но подрались, и один другому вилкой ткнул в зад, и в связи с этим много возникло шуток. Я даже сам зарифмовал в одной своей пьесе эту историю таким образом: «Один поэт другого уважал, и вилку медную он в зад ему вогнал. Гудит эпоха, но, следуя традициям привычным, лишь как конфликт хорошего с отличным все это обозначил трибунал. Не так уж плохо» (?). Оттепель родилась в самой глубине сталинской заморозки, сталинского рефрижератора, ибо все-таки, несмотря на колоссальный террор и на стагнацию общества, внутри литературы существовала мысль, талант существовал определенно, с ним вообще невозможно бороться. И, когда возникла новая жизнь после смерти Сталина, когда стала пробуждаться страна в политическом отношении, немедленно отреагировала литература. Советская литература еще в ранних пятидесятых годах, безусловно, ждала каких-то перемен, и она воспользовалась первым попавшимся случаем, чтобы начать эти перемены. Возьмите, например, этот сборник, альманах «Литературная Москва», который являлся манифестом этих перемен и вызвал страшную реакцию официальной критики, стал центром сильной борьбы и подавления со стороны партийных идеологических органов. Да, альманах «Москва» состоит из двух томов. Первый том прошел более-менее спокойно, хотя уже он содержал в себе взрывчатку. Но его как бы не заметили, но, когда вышел второй том, началась бешеная атака, бешеная борьба и разразился дикий скандал.
И я сегодня, просматривая его перед занятием, обратил внимание на некоторые знаменательные вещи. Открывается этот том некрологом Фадееву. Вы знаете, кто такой был Александр Фадеев? Это был классик советской литературы, начиная с тридцатых годов, он как начал писать, так сразу и стал классиком. Написал замечательную книгу «Разгром». Талантливый прозаик. Постепенно, шаг за шагом, он стал главным функционером советского официального искусства, лауреат всех наград и генеральный секретарь Союза писателей СССР. В пятьдесят шестом году, когда вышел этот сборник, он покончил самоубийством, выстрелил себе в висок. Говорят, я точно не знаю, что на его совести много было разных нехороших дел, что он составлял списки писателей, подлежащих арестам. Пятьдесят шестой год – это начало эпохи реабилитации, стали появляться люди из лагерей. Его, видимо, дико мучила совесть. Так или иначе, начинается [том] «от редакции» некрологом по нему, отрывком из его сочинений, и с большим уважением. А он, надо сказать, странный был, противоречивый человек: заслуживал, разумеется, презрения, но в то же время и уважения иногда заслуживал. Талантливый был писатель. Интересно еще и то, что возглавляет редколлегию этого сборника поэтесса Маргарита Алигер, его фактическая жена и тоже лауреат Сталинской премии, написавшая много официальных, героических поэм, но именно она стала одной из главных деятельниц раннего сопротивления в советской литературе. Завершается этот сборник еще одним некрологом. Не очень-то приятное (смеется) у него обрамление. Это некролог Марку Щеглову. Марк Щеглов был один из самых подающих надежды молодых критиков, в пятьдесят шестом году он умер в возрасте тридцати лет. Это был критик направления «Нового мира», прогрессивного направления – я несколько слов скажу о его маленькой статье. Если мы посмотрим список подписавших, то поймем, что под этим некрологом консолидировалась группа писателей, имеющих целью идти в другом направлении, чем официальная литература, изменить что-то: Твардовский в этом списке, Эренбург, Казакевич, Алигер, Чуковский, Паустовский, Катаев, Некрасов, Пастернак, Дудинцев, Тендряков, Бек, Каверин. Есть и другие люди, но преобладают такие: Крон, Сельвинский, Зорин, Слуцкий, Саппак, Турков, Паперный, Озерова (Озеров?) и так далее, кончая даже моей очень доброй знакомой, ныне проживающей в городе Бостон, Саррой Эммануиловной Бабёнышевой. Этот список очень красноречив, он показывает, как консолидировались они. Я в то время еще не был участником событий, я был студентом медицинского института и только следил, с большим интересом, правда, мы все с жутким интересом следили за тем, что происходило в искусстве и в литературе. Это было такое время, когда выставка картин вызывала настоящий мордобой. Там так схватывались люди! Я помню, как первый раз в Эрмитаже выставили из подвалов Пикассо. И первый раз люди увидели запрещенное раньше модернистское искусство, большинство возмущалось, как можно так извращать натуру? Говорили, что Пикассо – это спекулянт, а молодежь отстаивала, и начались такие споры, что были без всяких преувеличений настоящие драки, я сам участвовал в них. Так вот, это очень важная, по-моему, мысль: это новое движение, новая оттепель была начата старыми людьми. Не новым поколением, а людьми, пришедшими из сталинского времени. Одна из первых волн нового движения – статья Владимира Померанцева, критика, «Об искренности в литературе». Она вышла в пятьдесят четвертом[4] году и прозвучала действительно как взрыв, потому что впервые впрямую было сказано, что нельзя врать, нельзя обманывать самих себя, обманывать читателя, что настоящая литература невозможна без искренности. Ну, господи, априорные вещи, и звучат они сейчас как дважды два – четыре, но тогда они для нас были настоящим благовестом, это было что-то совершенно невероятное для молодого поколения после сталинского времени и для всей литературы. Я хорошо знал этого человека, Владимира Померанцева, лет через десять он скончался – или даже нет, побольше, лет через двенадцать-пятнадцать[5], и это был первый настоящий писатель, которому я юношей принес свои рассказы, как это водится, папочку рассказов, он их прочел, одобрил и сказал: «Иди теперь в журнал «Юность». О журнале «Юность» мы будем говорить попозже, очень серьезная тоже тема. В это время всё как-то сдвигалось в обществе и появились трещины в этом железном занавесе, впервые стали появляться иностранные гастролеры, артисты в Москве и в Ленинграде. Вот сейчас в Нью-Йорке выступает Ив Монтан, уже старый, и я помню, когда он первый раз приехал в Ленинград в пятьдесят пятом году, это была такая сенсация для нас, это было, действительно, открытие мира, когда мы услышали песенки Парижа. Когда я учился в школе, мы даже не думали, что когда-нибудь увидим иностранное существо, понимаете? Иностранец для нас казался равным инопланетянину. Это все равно что поездка за границу – сложнее психологически, чем полет в космос. И это всё начало ломаться, стали появляться первые реабилитанты, то есть люди, освобожденные из сталинских концлагерей, стали приходить, приезжать, рассказывать ужасные вещи, рассказывать свои судьбы, как им удалось спастись, входить в общество. В то время, пятьдесят пятый – пятьдесят шестой год, престраннейшая погода царила, метеорологическая, очень мягкая. Зимы были очень мягкими, масса снега, были бурные весны, масса воды, нежаркое лето; какая-то очень непривычная мягкость воцарилась не только в обществе, но и в природе на территории России и, я бы сказал, непривычная для России вежливость (смеется). Все были немножко простуженные, почихивали, кашляли. Во всяком случае, так было на Петроградской стороне в Ленинграде, где я в то время жил. И, может быть, в связи с этими мягкими погодами Эренбургу и пришла в голову идея назвать свою книгу «Оттепель». Это все как-то одно соответствовало другому, он так здорово нашел это слово, и оно так легло в общество, как будто попало прямо в десятку, в цель точно, и стало сразу символом эпохи. Хотя книжечка, я ее вчера освежил в памяти, прямо скажем, ерундовая, но любопытно было бы вам ее все-таки прочесть.
Что такое вообще Эренбург? Надо о нем несколько слов сказать. Это человек исключительно интересный, я его встречал много раз, и мы даже стали друзьями. Не то что друзьями, но довольно близкими литературными… партнерами. Он был человек-легенда, о нем ходило множество разных сплетен, говорили, что он правая рука Сталина, «умный еврей для Сталина». Сталин вот такой сидит, громила и дурак, а рядом с ним весь такой умница, который подает советы, – это все неправда. Эренбург сделал много не очень-то приятных дел в своей жизни, но он никого не предавал, как мне кажется. Он никого не спас, он увиливал много раз и не делал смелых вещей, но активных подлостей не совершал. Он был настоящим сталинским пропагандистом на выезд. Они его сохранили, они его, по идее, должны были расстрелять. Он был совершенно законченный кандидат на расстрел. Ну как было не расстрелять Эренбурга, когда таких, как Эренбург, расстреливали в первый же момент! Это человек, как Мандельштам говорил, без прививки от расстрела (смеется). У него в «Четвертой прозе» есть замечательное место: герой мечется по Москве, очень суетится, стараясь сделать себе прививку от расстрела. Вот Эренбург был не привит, и почему его не расстреляли, это, в общем-то, странно. Я помню, когда мы первый раз к нему приехали, он жил под Москвой, в местечке, называющемся Новый Иерусалим, по-моему, за одно название надо было расстреливать всех сразу (смех). Тем не менее такой существовал. Он жил в двухэтажном французском доме, с замечательной собакой русско-французских кровей, весь окруженный замечательным уютом, курил он только «Житан» и больше ничего никогда, и «Житан», видимо, бесперебойно к нему поступал в Новый Иерусалим, вокруг были шкуры какие-то, ковры, пили замечательный кофе, который нигде в Москве не достанешь. Это был странный уголок – ну, усадьба в Нормандии где-то, вот так это выглядело. Мы приехали к нему с Юрием Казаковым, известный, наверное, вам, очень хороший писатель, Толей Гладилиным – мой старый товарищ, и Эдуардом Шимом – четверо молодых тогда писателей приехали к нему, чтобы поговорить, как русские говорят, за жизнь. И просидели у него целый вечер, пили водку, разговаривали на разные темы, и то ли Гладилин, самый из нас тактичный, спросил его: «Илья Григорьич, скажите, пожалуйста, а почему же вас не расстреляли?» (Смеется.) И Илья Григорьич развел руками и сказал: «Представьте себе, я сам не понимаю, почему меня не расстреляли». Он ведь жил во Франции, был настоящий авангардист в двадцатые годы, написал авангардные талантливые произведения – «Хулио Хуренито» или, как это, «Лазик Розеншванц», «Приключения портного Лазика Розеншванца»[6]. Он писал авангардные, сюрреалистические, импрессионистические стихи, любил Париж и не мог скрыть своей любви даже в период борьбы с космополитизмом. Да, он был в различные периоды жизни очень несоветским, я бы сказал даже, порой и антисоветским человеком. От него пахло бульваром Сен-Жермен, там его образ и возник, собственно говоря, на этом бульваре. Он был в Испании, освещал испанские события как корреспондент. Почти всех, кто тогда был в Испании, ну по крайней мере две трети, уничтожили после войны, Сталин уничтожил. Он уцелел. Это было такое время, когда очень модно было раскаиваться и выворачивать себя наизнанку, и я думаю, что в этот момент он бы нам рассказал всё, если бы у него было что-то на совести. И он нам рассказал всё, что было: «Я не сделал ничего специального для того, чтобы меня не расстреляли. Меня не расстреляли по каким-то непонятным соображениям». Его использовали как пропагандиста. В самые глухие годы, когда никто никуда не ездил, он вдруг отправлялся бороться за мир куда-нибудь в Лондон или в Монреаль, выступал с речами и производил впечатление на западных левых интеллигентов очень приятное: вот посмотрите, что там болтают, что в Советском Союзе интеллигенция задушена, посмотрите – настоящий парижский интеллигент говорит и борется за мир, и он правильно говорит. В общем, такой человек. Если бы у меня спросили: «Как ты оцениваешь роль Эренбурга в это время, под каким знаком: минус или плюс?», я бы сказал: «Если его приложить к этому времени, я бы ему поставил плюс, а не минус». Потому что в то ужасное, поистине ужасное время, это был маленький мостик, соединяющий нас с миром, соединяющий нас с двадцатыми годами, с Серебряным веком русской культуры. Казалось бы, всё уже порвано, а он еще оставался, и он писал свои ужасные романы, у него ужасный был роман «Буря» о борьбе коммунистов Франции, такой примитивный, плохой роман, но он давал нам какую-то информацию о том, как живет планета, как живет остальное человечество. Он каким-то образом нас соединял [с прошлым], и, когда только появилась первая возможность, стал активно работать по восстановлению этой нарушенной связи. Из его мемуаров «Люди, годы, жизнь» мы узнавали имена совсем забытых, выброшенных из жизни людей. Он писал о Мандельштаме, о Бабеле, он писал о Хемингуэе, обо всех людях, о которых при Сталине не полагалось говорить вообще. И вот он оказался человеком, у которого были такие чуткие ноздри, что он придумал [для названия] слово «оттепель». Он почувствовал запах этой гнили. Я вспоминал эту книжку, когда у меня еще ее не было, и думал: что я из нее помню? А ведь мы ее зачитывали, она переходила в студенческих аудиториях из рук в руки, нужно было драться, чтобы ее получить, а не осталось в памяти ничего, только два персонажа этой книги, художник Пухов и художник Сабуров. Всё остальное – абсолютнейшая мура, типичный советский роман: какой-то завод, что-то там происходит, какие-то заводские дела, какие-то невразумительные любовные истории совершенно бесполых существ, неизвестно, как они занимаются любовью, невозможно себе предположить. И, как всегда у Эренбурга, масса персонажей, всё время путается всё. А когда я прочел [перечитал книгу], еще один любопытный появился момент: некий инженер Соколовский – у которого дочь в Бельгии, выросла там, она приезжает в Москву – с ней встречается. И что, господа американцы, в этом особенного, скажите, пожалуйста? (Смеется.) Мне кажется, ничего в этом особенного, но для нас тогда, я вспомнил, это была тоже неслыханная дерзость. Это был прорыв плотины: писать прямо в советской книге, что к человеку приезжает из Бельгии дочь! И не сволочь, не шпионка, и не раскаивается в своей жизни при капитализме, а просто приехала с мужем и в театры ходит, понимаете? Это было действительно какое-то чудо. Почему же запомнились эти два художника: художников я помнил всегда. Очень примитивное противопоставление. Один из художников, Володя Пухов, ему тридцать девять лет, Эренбург его называет «молодой человек», и там все время его любовные истории описываются. Помню, что, когда читал в пятьдесят шестом году, думал: как это он описывает любовную историю тридцатидевятилетнего человека? Тридцать девять лет! Мне тогда казалось, пора уже завязывать со всем этим делом (смех). Как можно в таком возрасте еще какими-то любовями заниматься, понимаете? Он такой приспособленец, рисует в рамках социалистического реализма то, что от него требуют, скажем, портрет рабочего Андреева, портрет доярки Ивановой, вечер в колхозе. Он циник, он все это не любит, терпеть не может. Там есть хорошая, довольно забавная сцена: ему надо нарисовать вечер в колхозе, он нашел где-то в журнале снимки коров, срисовал, и всё – получились хорошие коровы. Но когда он стал думать, что же еще сделать – кур, надо нарисовать кур, а он нигде не может найти снимки кур, и ему руководство Союза художников говорит: «Ты должен поехать в колхоз, и там ты осуществишь смычку с колхозниками, с крестьянством и напишешь, значит, настоящих кур». И он в ярости говорит: «За восемьдесят километров по грязи ехать, чтобы рисовать противных кур?» Он в ярости! Но он получает хорошие деньги за это, и у него автомобиль, тогда вообще ни у кого автомобиля не было, а у него автомобиль, он на этом автомобиле ездит в мрачном настроении. Мрачен он, потому что встретил своего друга Сабурова, тоже художника, который отвергает соблазны социалистического реализма и честно пишет свои пейзажи. Сабуров любит живопись. Все говорили в Москве, что изображен под видом Сабурова художник Фальк, вероятно, так оно и было. Фалька потом атаковал Никита Сергеевич Хрущев, когда громил молодое искусство в Манеже, об этом мы будем еще говорить. И Фальк, то есть Сабуров, живет в нищете, жена у него такая некрасивая, хромоножка, есть почти нечего, но он верен своему искусству, трудится, рисует деревья, рисует луну, облака – замечательный художник, талант, Пухов ему завидует, Сабуров занимается своим делом, чувствует себя гением. Вот такой конфликт между конформизмом и антиконформизмом, очень поверхностный, очень лобовой, как вы сами видите, ничего тут особо объяснять не нужно, и в конце концов Пухов вдруг начинает рисовать дерево, которое он видит на берегу пруда, ему надо рисовать тракторы, а его почему-то тянет к этому дереву, и он каждый вечер приходит, ставит там свой этюдник и рисует это дерево, и оно у него не получается, он его рисует снова и снова, а в это время тучи идут, снег тает, начинается оттепель (смеется). Понимаете? Вот такая история, и оттепель. Действительно, ничего нет в этой книжке. Но любопытно будет просто ее, как мне кажется, вам посмотреть, хотя бы увидеть, как тогда люди жили и что они принимали за открытия, откровения для себя. Поразительные вещи. Тут [в романе «Оттепель» действие] начинается с дискуссии о каком-то романе, и как говорит [один из героев, инженер Коротеев, у автора чувствуются] какие-то, значит, буржуазные влияния, и все спорят, есть ли у него действительно буржуазные влияния или нет у него буржуазных влияний.
Господа, теперь вопрос такой: будем мы делать перерыв или не будем? Это зависит от вас. Сюда приходил какой-то супервизор и сказал, курить здесь нельзя. В аудитории нельзя, да. Ну так что, делаем перерыв или нет? Делаем.
Дудинцев. «Литературная Москва»
Господа, есть вопросы по тому, что я сейчас говорю? Или позже к этому перейдем?
Вторая книга, которая стала бомбой того времени, которую мне не удалось найти, – это книга Владимира Дудинцева «Не хлебом единым». Я буду писать на доске имена писателей (пишет). Дудинцев. И я был даже доволен, что не достал эту книгу, потому что, как я уже сказал, она довольно скучновата, но тогда была действительно каким-то взрывом, потому что впервые в ней появились портреты – и довольно резкими красками написанные – советских партийных бюрократов. И именно поэтому они, узнав там себя, начали яростную кампанию против Дудинцева, размаха, пожалуй, антипастернаковской кампании. Это была первая широкая кампания по всей стране, когда трудящиеся включаются и выражают свое возмущение. Мы о кампании такого рода будем говорить, когда я коснусь Пастернака, «Доктора Живаго», когда появляются в газетах письма ткачей, металлургов, которые никогда не читали книгу, но тем не менее ее громят. Я сам был однажды жертвой такой кампании, но не такой массированной. У меня был маленький рассказ о таксисте-жулике в Крыму: довольно привычная фигура – таксист, который немножко жулик, ничего особенного. И однажды я шел по Москве вечером и вдруг вижу – на здании газеты «Известия» есть световая газета, там идут буквы новостей: среди новостей типа «Король Иордании Хусейн сделал резкий протест американскому правительству», или еще что-то, – письмо ялтинских таксистов писателю Аксенову. Увидел своими глазами! (Смеется.) Они протестовали против того, что я оклеветал честных ялтинских таксистов. Потом выяснилось, что никто из них не читал, конечно, этого рассказа, а просто в «Известиях» какой-то журналист пишет, затем звонит в этот таксомоторный парк и говорит: «Нам нужно две-три фамилии ваших хороших рабочих, передовых, для подписи». Ему называют фамилии, и так появляется новость.
У Дудинцева история такая: изобретатель Лопатин придумал какую-то штуку, которая будет очень полезна народному хозяйству, но бюрократы и сталинские держиморды не дают ему продвинуть свое изобретение в жизнь. Он человек одержимый, герой, он борется с бюрократической машиной, едет в Москву, старается добиться справедливости, в общем, это история его борьбы. Его антипод – типичный сталинский волевой директор, фамилия его, кажется, Дроздов. Он относится к другому слою советского общества. В книге есть яркая сцена, она больше всех мне запомнилась, когда этот Дроздов возвращается из Москвы в свой городок зимой, его встретила жена, они едут в лимузине, яркий солнечный день, и он говорит шоферу: «Останови, дальше мы пойдем пешком». И они идут с двумя пакетами апельсинов и едят апельсины. Солнце вокруг, снег сверкает, они чистят апельсины и бросают кожуру на снег, а местные мальчики совершенно не понимают, что такое происходит: они никогда не видели апельсинов, понимаете? Они, потрясенные, смотрят на сверкающие апельсиновые корки на снегу. Может быть, это даже и меня вдохновило, потом, в шестьдесят третьем году, я написал «Апельсины из Марокко». И атака партии была неадекватно тяжелой на этого несчастного Володю Дудинцева. Я тогда был студентом и помню, что во всех институтах были обсуждения, но эти обсуждения уже не удавалось проводить [по принципу] «дави, бей его», потому что люди выходили и начинали говорить: «Что вы его бьете, он правду сказал», – уже так стали выступать. В Союзе писателей было обсуждение, где Дудинцеву угрожали очень серьезными санкциями, если он не покается. Мне рассказывал об этом Гладилин, который тогда был совсем молодым писателем, ему было лет двадцать, ему удалось пробраться на обсуждение романа через котельную или через крышу. Володя Дудинцев стоял на трибуне бледный как полотно и отбивался от криков: «Вы предатель нашей Родины!» и тому подобного, говорил: «Я не предатель нашей Родины, я люблю свою страну, но, когда я вспоминаю, как немцы громили нашу армию в начале войны, я не хочу, чтобы это когда-нибудь повторилось, вот почему я против бюрократии». То есть он выступал с позиции крайнего советского патриотизма. Несмотря на это, его били и лупили со страшной силой.
(Вопрос из зала: Это было уже после двадцатого съезда?)
Да, да, конечно. Я об этом еще скажу. И чем еще интересна антидудинцевская кампания: впервые она стала широко освещаться мировой печатью. Эту кампанию не удалось провести внутри страны, она вдруг вышла на мировую аудиторию, широко освещалась журналистами, книга была переведена, издана во всем мире и стала просто бестселлером, только благодаря этой шумихе. Впервые советская литература оказалась на мировой сцене и под очень плотным наблюдением мировой прессы. Может быть, поэтому его тогда и не выгнали из Союза писателей. Что касается реакции партии, то она была очень жестокой, но в то же время Хрущев высказывался об этой книге очень противоречиво. Он попал в довольно дурацкое положение в пятьдесят шестом и далее годах. Он вроде бы начал антисталинское возрождение, но в то же время был типичный сталинский бюрократ, и он не мог не бить писателей, это была его прямая функция. Но в то же время иногда до него доходило: ведь мы же вроде бы одно дело делаем с такими Дудинцевыми? Помню его выступление по книге Дудинцева, когда он говорил, что да, книга, конечно, вредная, но интересная, и я ее читал, товарищи, без иголочки. Что это означало? Он не колол себя иголочкой, не боялся заснуть, то есть обычно, видимо, вождь засыпал над книжками, а тут ему не нужно было подкалывать себя иголочкой. И все тогда говорили: да, книжечка без иголочки.
И вот в конце пятьдесят шестого года возник альманах «[Литературная] Москва», первая попытка суммировать новые явления литературной сцены, суммировать и собрать эти новые голоса. Я уже сказал о Маргарите Алигер, Маргарита Алигер была к тому времени лауреатом Сталинской премии, автором поэмы «Зоя», которую учили в школе, – о партизанке, которую немцы замучили, это вроде советская Жанна д’Арк такая… Маргарита Алигер (пишет). Она была членом партии и очень правоверным человеком. Я вам прочту ее стихи «Зимняя ночь», о каком-то председателе колхоза, который выходит ночью и слышит, как тают снега, опять снега тают, весна, оттепель идет.
- Он глубоко и жадно дышит,
- Как будто в жатву воду пьет,
- Он зимней ночью ясно слышит —
- Весна идет, весна идет,
- Как там ни снежно и ни вьюжно,
- Вот-вот сугробы стронет с места, вот-вот она возьмется дружно,
- Весна двадцатого партсъезда.
С таких партийных позиций они начинали борьбу за обновление в литературе. Уж более партийных позиций даже и не придумаешь, это действительно борьба за коммунизм с человеческим лицом, то, что потом пытались в Чехословакии сделать все эти Дубчеки. И ей [Алигер] потом эта ее партийность обернется боком. Или вот стихотворение в этой же подборке, называется «С кремлевской трибуны». Большой ученый слушает и говорит, что надо очистить землю от сорняков: «Помните, земля чиста от века, целина не знает сорняков, нипочем не прорастет пыреем поднятая нами целина». То есть это идея очищения, чистоты: идея коммунизма сама по себе чиста – ее запятнали сталинисты, Сталин запятнал, нам нужно очистить ее, и она снова пойдет покорять сердца и умы человечества. И большинство поэтических выступлений в сборнике «Москва» – такого рода манифестации. Я думаю, что именно под влиянием этого сборника начался ранний Евтушенко с его манифестациями – он именно и начал все эти манифестации, – каждый его стих, даже о любви, о девушках, о природе, всегда кончался строчкой, которая манифестировала новое отношение к жизни, борьбу за чистоту революционной идеи. Среди авторов этого сборника много было людей опальных, так сказать. Во втором сборнике появился даже один бывший заключенный, то есть уничтоженный писатель, Иван Катаев, его начали печатать. Среди них была и Ахматова, и Заболоцкий вот тоже сидел. Поэт Леонид Мартынов (куда я его дел? а, вот он, здесь), который не сидел, но все сталинские годы не имел возможности печататься, был в немилости, в настоящей опале, и потом появился на страницах этого альманаха. Его манифестации более сложный характер носят… они в политическом смысле на порядок выше. Мне даже запомнился тогда маленький его стишок под названием «Богатый нищий». Это яркий вызов, протест; против чего – я бы даже сейчас определенно не сказал, я не могу расшифровать этого стихотворения. Но ярость там тем не менее основательная.