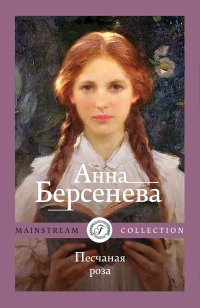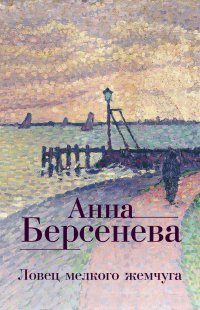Читать онлайн Кристалл Авроры бесплатно
- Все книги автора: Анна Берсенева
© Сотникова Т., 2018
© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018
* * *
Часть I
Глава 1
«Ну и вид у меня… Картина Эль Греко!»
Собственное лицо – осунувшееся, с устало поблескивающими длинными глазами – так смутило Нэлу, что она вглядывалась в него до тех пор, пока девчонка с розовыми волосами довольно бесцеремонно не отодвинула ее от зеркала, и, вздрогнув от этого, она не вспомнила, что туалет берлинского аэропорта не лучшее место для созерцательных размышлений.
Многие ругали аэропорт Тегель, а Нэла его любила. По той же причине, по какой любила и Берлин – потому что все живое и необычное так или иначе оказывалось здесь хотя бы ненадолго. И потому что это был город ее молодости.
К молодости своей она сюда и приезжала, собственно; дружба с Марион была главным, что осталось от студенческих лет.
В приглашении, которое Нэла получила еще зимой, было сказано, что если друзья окажутся в Берлине в июне, то Марион и Пауль будут рады видеть их на своей свадьбе, что праздновать будут у озера Ванзее, гости могут снять номер рядом в отеле за собственный счет, а если кто-то хочет сделать подарок молодоженам, то пусть переведет деньги благотворительному фонду, помогающему интеграции беженцев. Нэла улыбнулась, прочитав этот текст; вся Марион с ее сердечностью и прагматизмом была в нем. Она ответила, что приедет обязательно, перевела беженцам сумму, равную стоимости чайного сервиза, а номер бронировать не стала: дорого выходило у озера, обошлась съемной комнатой неподалеку от Александерплатц.
Приехав в Берлин, она тем же вечером пошла к Шпрее, долго сидела на парапете, глядя на рябь городских огней, скользящих по поверхности воды, на темные стремительные струи в глубине, и думала, важные или неважные вещи происходили с нею вот здесь, у этой самой реки, на этом самом месте.
Гостей оказалось человек двести. Их количество сильно удивило Нэлу: ироничность была присуща Марион в высшей степени, а между тем устройство такой свадьбы явно требовало не только не иронического, но даже слишком серьезного подхода к делу. То есть Марион, конечно, умела подходить к делам серьезно, и это еще мало сказать умела, но Нэла полагала, что свадебное торжество не относится в глазах ее подруги к числу таких дел. Но вот ошиблась, значит, хотя и была уверена, что разбирается в тонкостях немецкой жизни. В общем, она очень удивилась, увидев накрытые белоснежными скатертями длинные столы, сияющие мельхиоровые приборы, цветочные гирлянды, украшающие веранду ресторана, и струнный ансамбль на лужайке.
Жених с невестой после венчания приехали из церкви на велосипедах, Марион прихрамывала – оказалось, месяц назад лопнуло ахиллесово сухожилие, когда она играла в теннис, – лицо у нее светилось любопытством, которое Нэла так любила в ней и все любили, платье цвета синьки с молоком шло к ее глазам, и выглядела она в нем молодо без малейшего старания казаться моложе.
И весь праздник получился такой какой-то трепетный и человечный – со сменяющимися мелодиями скрипок и виолончелей, с солнечными пятнами на траве под старыми липами, с серебрящимся озером, со старинным отелем, над башенками которого графически кружились птицы, и с далеко разносящимся вечерним колокольным звоном, – что Нэла чуть не заплакала, хотя сентиментальность была последним качеством, которое она могла в себе предполагать.
– Ты ведь еще не уезжаешь завтра и придешь к нам вечером? – спросила Марион, когда, натанцевавшись и наговорившись, гости начали разъезжаться. – Ах, Нэла, мы так давно не виделись с тобой!
– Сама удивляюсь, как это вышло, что мы так долго не виделись, – ответила она. – Конечно, приду.
Марион с Паулем жили в Моабите. Они встретили Нэлу у метро и по дороге к своему дому – шли через старинный рынок под сводами, к вечеру уже почти пустой, – рассказывали, как два года назад долго искали квартиру, которая понравилась бы им обоим сразу, безоговорочно, и вот эта оказалась именно такая, и они ее сразу же сняли.
Дом был похож на тот, в котором Нэла с Марион снимали квартиру, когда учились в университете – многоэтажный, со внутренним двором-колодцем, со светлыми просторными подъездами и длинными лестничными пролетами. Если бы Нэлу попросили показать типичный дом старого Берлина, она отвела бы интересующихся прямо сюда.
– Ты, получается, и на улицу не выходила, пока у тебя нога в гипсе была? – спросила она, когда поднимались на пятый этаж; лифта в доме не было. – Фу-ух, даже я устала, так высоко!
– Но как я могла не выходить? – пожала плечами Марион. – Я ведь работала. Правда, от поездок в Бонн на некоторое время пришлось отказаться, но здесь, в Берлине, я все делала как обычно.
– На одной ножке, что ли, вниз прыгала?
– Ну да. А Пауль нес за мной табуретку, и я отдыхала на каждой второй площадке. А когда вверх, то просто на каждой, – с обычной своей обстоятельностью объяснила Марион.
– Ты феноменальная! – засмеялась Нэла. – Я вот даже не представляю, что могло бы меня заставить прыгать на одной ножке с пятого этажа.
– Вот именно, что не представляешь, – улыбнулась Марион. – Когда у тебя появится что-нибудь такое, ты запрыгаешь даже с десятого, я уверена.
«Что-нибудь такое» для Марион это, понятно, работа, и всегда так было. Еще в студенческие годы Нэла поражалась ее работоспособности, ей самой такая и не снилась, да что ей – таких, как Марион, она даже среди немцев не знала, или, может, они учились не истории искусств.
При первом же взгляде на квартиру становилось понятно, почему она могла понравиться сразу и безоговорочно: неординарность чувствовалась в самих ее очертаниях. Все комнаты соединены между собой странным, но удобным образом, просторно, и потолки такие высокие, что кажется, вверху стоит светлая дымка, как под куполом собора, а множество светлых же книжных полок усиливают впечатление осмысленного и одухотворенного пространства.
Стол был накрыт на балконе.
– Ты цветы выращиваешь? – удивилась, выйдя туда, Нэла. – Когда успеваешь только!
Длинные горшки с летними цветами – синими, белыми, алыми, желтыми – окаймляли весь широкий балкон, а в отдельных больших вазонах росли фиолетовая гортензия и японский клен.
– Я вырастила гортензию и клен, – объяснила Марион. – Но в общем-то они растут сами, мне приходится вносить удобрения и на зиму убирать их с балкона в подъезд. Остальные цветы я просто покупаю каждую весну заново и сажаю в эти горшки. А потом только поливаю все лето. Или Пауль поливает, когда меня нет.
Марион руководила фондом, который занимался развитием прессы Германии и отчасти даже всей Европы; она объясняла подробно, но Нэла не очень поняла. Зато поняла, что, когда снесли Берлинскую стену, половина этого фонда переехала в новую столицу, а половина осталась в старой, и поэтому Марион с понедельника до среды работает в Берлине, а с утра четверга до вечера пятницы – в Бонне, что в среду после работы она летит туда самолетом, а потом самолетом же возвращается в Берлин на выходные, чтобы утром в понедельник начать здесь очередную свою рабочую неделю.
Как Пауль относится к такому ее рабочему графику, можно было не спрашивать: раз живут вместе уже два года и решили пожениться, значит, его все устраивает. Но вот как женщина сорока лет может вести такую жизнь постоянно, не понимала даже легкая на подъем Нэла. Впрочем, она понимала, что в Марион очень не напоказ и очень естественно соединяются такие черты характера и линии поведения, которые многим кажутся несоединимыми, а самой Марион – вполне органичными. Среди этих черт Нэла давно уже научилась отличать те, которые присущи именно ее выдающейся подруге, от тех, которые вообще естественны для европейцев. Скептичность в отношении любых взглядов и приимчивость в восприятии любого образа жизни, даже самого странного, отсутствие догм и наличие принципов, религиозность и насмешливость с трудом совмещались в стороннем сознании. А между тем в Марион все это соединялось самым ясным образом, и такое сочетание не было ее личным, а как раз и было Европой, которую Нэла любила, в которой чувствовала себя как рыба в воде, но не как дерево в лесу.
После ужина Пауль ушел к себе в кабинет – он преподавал оптическую физику в Университете Гумбольдта и готовил новый лекционный курс, – оставив жену с подругой предаваться воспоминаниям.
Балкон выходил во двор, в котором росли старые липы, их запах был таким сильным, каким он бывает только в июньском Берлине, и лишь запах росшей на балконе ночной фиалки стал сильнее его, когда сгустились сумерки.
– Ты надолго едешь в Москву? – спросила Марион. – Как ты думаешь, что там происходит?
Второй вопрос позволял не отвечать на первый, и это было хорошо, потому что ответа на первый вопрос Нэла не знала. На второй, впрочем, тоже, но второй и не был для нее личным и значимым.
– Заморозки происходят. – Она пожала плечами. – Как при Николае Первом.
– Я не так хорошо знаю русскую историю, – заметила Марион. – Что было при Николае Первом? Но все это так странно! Мне казалось, после того, что ваши люди узнали о репрессиях, и ведь они сами жили в советские годы так тяжело – эти страшные расстрелы невиновных, запреты всего, эти очереди, недостаток лекарств, просто еды… Я думала, они отшатнутся от этого навсегда. И вот теперь кажется, что все возвращается снова, а они только радуются. Как это может быть?
– Ну, сами-то они при репрессиях не жили, – усмехнулась Нэла. – А про очереди уже не помнят. Они считают, тогда все было как сейчас, только бесплатно и всем поровну.
– Я не верю, что взрослые люди могут так считать, – покачала головой Марион. – Ведь у них есть логика и память.
– А кто тебе сказал, что они взрослые? Инфантильность пожизненная. А логика и память как у аквариумных рыбок.
– Но ведь ты сама не такая.
– Но большинство таких.
– Но откуда ты знаешь?
Когда Марион хотела что-то прояснить для себя, от нее было не отделаться.
– Ну, откуда! – вздохнула Нэла. – Что-то чувствую, что-то… Просто знаю, и всё.
Она вспомнила, как прошлой зимой оформляла в Москве доверенность для мамы на всяческие действия от своего имени, и нотариус, молодая элегантная женщина с такой стрижкой, каких Нэла и в Париже не видела, сказала, бросив взгляд в заиндевевшее окно:
– Какая зима в этом году холодная! Потому что американцы климатическое оружие изобрели и специально с Аляски погоду нам портят.
И вот попробуй объясни, что в этой стильно подстриженной головке творится. Да и зачем это объяснять? Просто прими к сведению и держись подальше.
– Мне очень грустно, Нэла. – В голосе Марион действительно послышалась грусть; в ней вообще не было ни капли неискренности, и она не понимала даже, зачем неискренность может быть нужна человеку. – У нас было много контактов с Россией, я часто бывала в Москве, ездила по всей стране, появились друзья… А теперь нам отказывают в совместных проектах, а в регионах нас даже боятся, как будто мы враги. Как это могло случиться, почему? Я успела всё у вас полюбить… Главное, так много талантливых людей! Почему же всё… так?
– Не знаю, – улыбнулась Нэла.
«Я и почему у меня всё так не знаю, – подумала она при этом. – Что уж мне про других думать».
– Мне очень, очень грустно, – повторила Марион. – Зачем ты говоришь, что это аквариумные рыбки? Я мало где встречала таких образованных, таких креативных людей, как в России, с таким быстрым и ярким умом. И не только в Москве – это вся страна очень талантливых людей. Ты сама знаешь, какое у вас искусство.
– Достоевский и Чайковский уже умерли. Причем давно.
– Но есть и сейчас!.. Я слушала оперу в Новосибирске, это мировой уровень.
– То-то директора оттуда выгнали вместе с режиссером.
– Это и есть то, чего я не понимаю, – вздохнула Марион. – Как могли их уволить, почему?
– Да Христа на афише авангардно нарисовали, вот и уволили.
– Ты меня троллишь?
– Будем считать, что да. – Нэла снова улыбнулась. – Маришка, я не хочу больше об этом думать. У меня одна жизнь, и я не могу ее посвящать размышлениям о том, что и почему делают ущербные люди.
Она разлила по бокалам оставшееся вино – рейнвейн, который Марион привезла из Бонна к своей свадьбе.
– Я видела твой альбом о виллах Палладио, – сказала Марион. – И знаешь, когда его читала, то жалела, что не пишу об искусстве.
Альбом о палладианских виллах был несложной, приятной и отлично оплаченной работой. Оплачено было также путешествие по окрестностям Падуи и Вероны, где эти виллы в основном располагались, и по Бренте, вдоль берегов которой Палладио тоже немало их построил. Текст Нэла писала в городке Аркуа и каждый вечер, гуляя после работы по тихим улицам и холмистым окрестностям, приходила на могилу Петрарки, смотрела на его выбитый на камне портрет, смешную голову в каком-то платочке, и в голове ее звенели его строки, но почему-то не по-итальянски, а по-русски, да еще в переводе Мандельштама, который их почти что сам выдумал: «Чую, горю, рвусь, плачу – и не слышит, в неудержимой близости все та же…»
Нэла знала, что сделала свою работу хорошо, но при том прекрасно понимала: в ней нет ничего, что должно заставлять такого состоявшегося человека, как Марион, жалеть, что эту работу сделала не она.
Вся Нэлина жизнь состояла из таких вот случайных работ, и не только из работ – ее жизнь в целом давно уже представляла собою произвольное смешение случайностей.
Воплощенная случайность и смотрела на нее теперь из зеркала в берлинском аэропорту, она сообщила ее чертам резкость Эль Греко и заставила устало мерцать глаза.
Надо что-то делать со своей жизнью, только сейчас она это поняла. Но чувствовала, наверное, и раньше, иначе не ответила бы на письмо Антона и не летела бы этим июньским днем в Москву.
Глава 2
В Берлине стоял запах цветущих лип, а в Москве – жасмина.
То есть не по всей Москве, а на Соколе. Такси свернуло на улицу Сурикова, Нэла опустила оконное стекло, и этот запах влился в нее, во все ее молекулы, и когда она шла к калитке родительского дома, он усиливался с каждым ее шагом.
Жасминовые кусты росли, правда, не у родителей, а у соседей, у Левертовых. После смерти Евгении Вениаминовны левертовский сад зарос репейником и лопухами и жасминовые кусты в нем засохли; заглядывая в свои редкие приезды за соседский забор, Нэла каждый раз вспоминала библейскую мерзость запустения. Но потом в левертовский дом вернулась Таня и привела все в порядок за первую же весну – летом жасмин уже цвел в саду снова. Нэла всегда считала, что Таня Алифанова – типичное явление разума, притом именно женского разума, созидающего и практичного. Только вот таких типичных женщин почему-то было мало, а вернее сказать, и вовсе не было. Во всяком случае, Нэла таких, кроме Тани да покойной Евгении Вениаминовны, не встречала.
Она успела подумать об этом, идя через двор к родительскому дому. В прошлом году его отремонтировали, но выглядел он после этого так же, как выглядел всю Нэлину жизнь, и не только Нэлину – точно таким дом был на фотографиях 1927 года, которые висели у Гербольдов в гостиной: высокий русский терем, сложенный из огромных бревен, только Ивана Царевича на Сером Волке не хватает да царевны Несмеяны в окошке.
Дома никого не было, Нэла открыла дверь своим ключом. В ее сознании не находилось слов, которые правильно обозначали бы то, что происходило с нею каждый раз, когда она входила сюда. Это не было ни счастьем, ни покоем, ни унынием, ни восторгом – просто она становилась собой настолько, что переставала себя осознавать. Знания, мысли, сомнения, чувства – все выветривалось из нее; Нэла входила в дом и в ту же минуту была уже его частью, как статуя Венеры Милосской, которая стояла возле лестницы, ведущей на второй этаж.
Эту статую сделали по папиному заказу в Германии, она была точной гипсовой копией луврской. Когда тринадцатилетняя Таня Алифанова впервые пришла в гости к Нэле и Ваньке, то очень удивилась, что Венера со всех сторон разная, ну точно как живой человек, и лицо у нее разное, то печальное, а то и беспечное. Тане это было тогда в новинку, потому она и заметила, а они с Ванькой всегда про свою Венеру это знали.
Родители были не в отъезде, просто ушли куда-то – Нэла поняла это по тому, что в доме царил живой разор, который она тоже знала с детства. Все лежало не на своих местах, вернее, просто ничто не имело постоянных мест, а оказывалось там, где было удобно хозяевам в каждую минуту их жизни. У непривычного человека, наверное, голова должна была кругом пойти от водоворота вещей и вещичек, картин и скульптур, вышитых золотой нитью подушек и разноцветных шалей, наброшенных на резные спинки кресел – от всего, из чего складывалась жизнь гербольдовского дома.
Глубокое блюдце из нойзильбера, в которое мама складывала свои украшения, было полно, и поверх колец в нем лежало ожерелье из больших серебряных бусин, покрытых арабской вязью. Мама купила его в старой лавке в Иерусалиме и, если бы уехала куда-нибудь, то наверняка взяла бы с собой: она надевала украшения под свое прихотливое настроение, а это ожерелье совпадало с ним часто.
Нэла оставила чемодан в прихожей, прошла через гостиную в сад и села на низкую скамеечку под цветущей яблоней. Она уехала из родительского дома так давно, что он связывался в ее сознании только с детством, а к детскому состоянию следовало привыкнуть.
– А предупредить нельзя было? Я бы тебя встретил.
Брат стоял у забора с левертовской стороны, но забор был и не забор, а просто невысокий штакетник, поэтому Нэла могла сразу обнять его, что и сделала.
– Зачем меня встречать? – Она встала на скамеечку и, перегнувшись через штакетник, чмокнула Ваню в щеку. – Я до Белорусской на аэроэкспрессе доехала, и на такси десять минут потом. А ты бы целый день потерял.
Ей совсем не хотелось, чтобы он терял не то что день, но даже час своей нынешней жизни на такое бессмысленное занятие, как стоянье в пробках. Слишком тяжело складывалась жизнь ее брата, пока в ней не появилась Таня, и пусть он тратит теперь время только на счастье.
К Ваньке ей и привыкать было не надо, хотя она рассталась с ним тогда же, когда и с домом на Соколе, и жизни их шли с тех пор настолько по-разному, что в них не осталось, кажется, ни единого схожего элемента. Но близнечная связь не выдумка мистиков, а чистая правда, Нэла по себе и Ваньке это знала, при том что они и не близнецы даже, а просто двойняшки.
– Хоть позвонила бы. – Он быстро провел ладонью по ее голове. – Таня с Алькой дома бы остались, а так они на экскурсию поехали. В Суздаль.
– Еще бы не хватало, чтобы они из-за меня не поехали. И к тому же я не знала, приеду ли.
От брата скрывать было нечего, и Нэла говорила чистую правду: когда сидела вечером на берегу Шпрее и смотрела на темную воду, то еще не знала, полетит ли в Москву, и билет купила с айфона перед самым выездом в аэропорт.
– У тебя что-нибудь случилось? – спросил Ваня.
Никто бы этого про Нэлу не почувствовал, но у него чутье на любое человеческое состояние было обостренное. И от природы – он всегда был такой – и из-за сына, конечно: у того был аутизм, огромную часть своей жизни Ваня провел, занимаясь только им, и это сказалось таким вот образом – он видел людей насквозь и понимал их желания прежде, чем они сами о них догадывались.
– Нет, ничего, – ответила Нэла. – Антон предложил приехать. Я подумала и приехала.
– И долго думала? – поинтересовался брат.
– Не очень! – засмеялась она.
Прав Ванька, не в ее привычках взвешивать «за» и «против», которые заранее все равно не предусмотришь и не взвесишь. Она лучше сначала сделает, а потом оценит последствия, и тоже всегда такая была, с детства, и жизнь свою построила так, чтобы к сорока годам у нее не было никаких причин меняться.
– Пойдем, – сказал Ваня. – Пообедаешь у нас.
Он раздвинул штакетины, и Нэла пролезла в левертовский сад. Все соколянские дети являлись к соседям через заборы, не по улицам же обходить.
Этот дом изменился так же мало, как и родительский. Разумный дух Евгении Вениаминовны веял в нем, не зря Нэла видела между нею и Таней сходство, хотя его вряд ли замечал кто-то кроме нее.
Что в доме живет мальчишка, тоже было заметно – по новенькому турнику в саду, по грязному футбольному мячу, по каким-то напоминающим латы приспособлениям, которые висели на стене в прихожей, и по множеству других мелочей, которые сопровождают жизнь подростка.
Подросток этот, Алик, появился в левертовском доме год назад и таким образом, который даже Нэле казался нетривиальным. Он был внуком Евгении Вениаминовны, но отец его, Вениамин Александрович Левертов, узнал о существовании этого ребенка так поздно, что успел только оформить усыновление, а забрать к себе не успел – умер. Забрала Алика из детдома Таня Алифанова, никакого родства с ним не имевшая, и объяснить это можно было только всей ее природой, потому что любые другие объяснения – что она жила в этом доме девочкой, что в те годы даже влюблена была в Левертова, – такой ее поступок объясняли лишь приблизительно.
Впрочем, Нэла считала, что все это не имеет теперь значения. Теперь есть ее брат и есть Таня, важно только это, и вряд ли Ваня воспринимает как трудность, что у Тани есть мальчик Алик, будь тот хоть сорвиголова, хоть ангелочек с рождественской открытки.
– Ты борщ ешь? – спросил брат из кухни.
– Я все ем.
– А я уже не все. – Он появился в дверях гостиной с половником в руке. – Кто б мне раньше сказал! Всегда был поджарый, как собака, над Лилей смеялся, что она на диетах сидит, а теперь самого от бутерброда с колбасой разносит мгновенно.
Лилей звали его жену, их сын Вадик и был аутистом, им Ваня и занимался четырнадцать лет, бросив работу и весь внешний мир оставив побоку. Это приводило в отчаяние родителей и даже Нэлу, но сделать с этим нельзя было ничего: внешний мир не приспособлен был для того, чтобы в нем мог сколько-нибудь самостоятельно существовать такой ребенок.
Год назад выяснилось, что вообще-то мир прекрасно к этому приспособлен. Лиля влюбилась в учителя, который приезжал в Москву из Америки по программе социализации аутистов, и уехала вместе с ребенком к нему в Техас. Нэла, правда, не знала, любовь это с Лилиной стороны была или расчет – скорее всего, то и другое поровну, – но зато знала, что жизнь ее брата это просто обрушило. Все, что со стороны выглядело грузом, давно уже стало опорой его жизни, и когда оказалось вдруг, что этой опоры – необходимости заботиться о ребенке, о котором кроме него не мог позаботиться никто, – больше нет, Ванина жизнь просто развалилась, и обломки ее придавили его так, что вряд ли он сумел бы из-под них выбраться.
Если бы не Таня.
– Это тебя Таня борщами раскормила! – засмеялась Нэла.
– Ну в общем да, раскормила, – кивнул брат. – Только не борщами.
– А чем?
Он не ответил – ушел в кухню, где что-то забренчало; наверное, крышка на кастрюле с борщом. Но Нэла и без слов услышала его ответ, вернее, он и без слов был ей понятен.
Покоем Таня его раскормила. Не тем покоем, который дается равнодушием, а тем, который дается любовью.
Ну и, конечно, метаболизм от нервов ускоряется, а прекрати нервничать, и сразу начнешь от куска хлеба толстеть, это любая женщина знает.
Ваня принес борщ в супнице, которую Нэла тут же вспомнила – в ней Евгения Вениаминовна часто приносила соседям попробовать какие-то невероятные яства, которые она готовила в качестве повседневной пищи, а мама даже в качестве праздничной вообразить себе не могла.
Они ели борщ, в самом деле вкусный, и разговаривали – о Тане, об Алике, у которого обнаружились большие способности к математике, о конструкторском бюро, куда Ваню взяли несмотря на огромный перерыв в работе…
– Ты-то как живешь, почему не рассказываешь?
Брат спросил это мимолетным тоном, но Нэла знала, что спросил не из вежливости.
– Просто нечего, Вань, – сказала она. – Живу не скучно, но рассказывать нечего.
– Так бывает?
– Вышло, что да.
– Вот прямо само собой взяло и вышло? – усмехнулся он и, не дождавшись ее ответа, спросил: – Ты поэтому к Антону приехала?
– Не знаю. Не понимаю, почему я приехала, а главное, зачем.
У кого другого такой ответ вызвал бы, может, раздражение, но Ваня умел спрямлять запутанные линии, и в конечном пункте их запутанности выходило, что суть в общем понятна и без того, чтобы разбираться, каким образом она выявилась.
– Ты лучше про Алика вашего расскажи, – сказала Нэла. – Какой он?
И опять – другой сказал бы, что этого в двух словах не объяснишь, но Ваня ответил:
– Умный, но не разумный. Сердечный, но безответственный. С пяти лет в детдоме, а это, знаешь, не та жизнь, которая дает опоры будущему.
Когда-то в детстве они с братом читали одни и те же книжки и думали обо всем одинаково, потом он стал читать другое и думать иначе – проявился аналитический, системный склад его ума, совсем с Нэлиным не схожий, и профессия его инженерная этому соответствовала. А потом, когда круг его жизни вдруг замкнулся непроницаемой чертой и оказалось, что профессии больше нет и только внутри этого замкнутого круга ему приходится существовать, – все переменилось в нем, и он стал видеть людей не аналитически, а более тонким образом, чем видела их даже Нэла, которой тоже проницательности было не занимать.
– Ничего, Вань, – сказала она. – Он же левертовский мальчик. У него в собственной крови опор достаточно.
– Это да, – кивнул брат.
То, что она сказала, было ему понятно, а кроме него, пожалуй, больше никто ее слов не понял бы.
– Как он вас с Таней называет? – спросила Нэла.
– Таню по имени. Меня Иваном Николаевичем звал, а сейчас никак. По-моему, хочет папой называть, но не решается.
– А ты его не торопишь.
– Конечно.
Она хотела спросить, как дела у Вадьки в Америке, но не стала спрашивать. Можно и у родителей потом выяснить, а для Вани едва ли за год стало безболезненным, когда задевают эту струну.
И все-таки он счастлив, он слегка ошалел от неожиданности своего счастья, это так заметно, что и проницательности никакой не нужно. Глаза у него всегда были внимательные, а сейчас внимание не просто ощутимо в них – оно подсвечено счастьем, как сильным и ясным огнем, и надо не иметь ни сердца, ни ума, чтобы своей внутренней смутой мешать этому огню разгораться все сильнее.
– А родители где? – спросила Нэла. – Я им с дороги звонила, но у них телефоны выключены почему-то.
– Они в американском посольстве, потому и выключены. За визой пошли, – ответил брат. – Папу в Нью-Йорк пригласили на год, в Колумбийском университете преподавать.
– Скоро уезжают?
– Через три дня. Если визу дадут. Сейчас же с этим сложности, под лупой каждого разглядывают. – Он сердито крутнул головой. – И как мы в такое превратились? На весь мир стыдобище.
Ваня принес фаянсовую миску с длинными темно-синими ягодами жимолости. В детстве Нэла любила ягоды из левертовского сада – Евгения Вениаминовна всегда угощала ими, потому что у Гербольдов росла только смородина, и ту все ленились собирать.
Они ели и разговаривали. Вернее, Ваня рассказывал о своей новой жизни – действительно совершенно новой, как будто он вышел преображенным из кипятка своего долгого горя.
Он рассказывал об Алике, о своей командировке на Урал, где делали для самолетов детали, которые он конструировал, о Тане… О Тане он говорил словно бы между делом, но, глядя на него, Нэла понимала, что это самое главное в его жизни и есть – Таня. Что это счастье его и есть.
И так же ясно она понимала, что брат отделен от нее своим счастьем, как прежде был отделен горем. Прежнее печалило ее, нынешнее радовало, но было в том и другом общее, и это общее было – ее от него отдельность. Она его любила, она знала в нем все, но при этом так же не могла приблизиться к нему, как не могла бы приблизиться к любому случайному, лишь краем проходящему по ее жизни человеку, и дело было, значит, совсем не в нем.
В ней было дело, только в ней, но почему – ускользало от ее понимания.
Глава 3
Впервые она смотрела на Москву глазами приезжего.
Если ты уехал из дому сразу после школы, то следует, наверное, удивляться, что это произошло только теперь, двадцать лет спустя. Но Нэла удивилась тому, что это вообще произошло – как только вышла из метро на Пушкинской, ощущение чужого города стало таким острым, что она даже растерялась.
Впрочем, растерянность у нее никогда не длилась долго, а сейчас причины растерянности были так очевидны, что Нэла выдернула себя из нее одним движением, как морковку из грядки.
Тверская улица преобразилась совершенно. Нэла давно и тщательно устроила свою жизнь таким образом, чтобы у нее перед глазами не появлялись уродливые предметы – ни в квартирах, ни в городах, где она жила. Квартиры и города менялись, но это условие оставалось неизменным, за этим она следила.
И странно было бы, если бы она не заметила, что Тверская теперь представляет собою какую-то диковатую смесь детсадовского утренника с престижным кладбищем. Вдоль всей улицы, Тверского бульвара и в Новопушкинском сквере высились пластиковые цветы и какие-то фигуры в человеческий рост – приглядевшись, Нэла опознала в них зайцев и расписные яйца. Памятник Пушкину был отгорожен от улицы арками, увитыми искусственными гирляндами, от ядовитого цвета которых она почувствовала на зубах оскомину. Уличные скамейки были гранитными, как и тротуары, и в гранитных же монументальных вазонах торчали какие-то чахлые растения.
Конечно, она и читала, и слышала, каким образом перестраивается Москва, но то ли забыла об этом, то ли читать и даже разглядывать на фотографиях это одно, а увидеть собственными, да еще отвыкшими от безвкусицы глазами, совсем другое. Как бы там ни было, но преображенная Тверская оказалась для нее неожиданным зрелищем.
– Знаешь ли, Нэлка, все эти причитания по поводу знакомых с детства переулочков, по-моему, признак старости и больше ничего, – говорила одноклассница Наташка Парфенова. – Жизнь не стоит на месте, у людей потребности растут, им нужно новое, и это нормально.
С Наташкой случайно встретились весной на набережной Ниццы, и именно в ее смартфоне Нэла рассматривала фотографии московских улиц, пока пили кофе в «Негреско».
Они не виделись лет десять, но в первые же десять минут Наташка сообщила о себе все – что они с мужем всегда приезжают в Ниццу в начале апреля, пока толпы нет, что муж ее работает в московской мэрии, что море уже теплое, да хоть бы и холодное, Витасик у нее морж и окунается в крещенскую купель, что Москву теперь не узнать, такая она стала шикарная и современная. Нэла не собиралась воспитывать у Наташки вкус, поэтому не стала высказывать, что думает о новом московском шике и о том, нужны или не нужны знакомые с детства переулочки. Вся Ницца, да и вся Франция была вообще-то одним сплошным на это ответом, но Наташка была не из тех, кто способен такой ответ услышать.
И вот теперь Нэла шла по Большой Бронной к Патриаршим и не то что не узнавала улицу – гротескно расширенные тротуары все-таки не до такой степени изменили Большую Бронную, чтобы ее нельзя было узнать, – но ни разум ее, ни сердце не отзывались тому, что она видела. И догадка, что дело совсем не в новоявленном урбанизме, а только в ней самой, тревожила ее.
Антон сидел на открытой ресторанной веранде у пруда и читал что-то в айпаде. Неизвестно, изменился ли он за те годы, что они не виделись, но затылок у него не изменился точно. В затылке было упрямство; Нэла не объяснила бы, каким образом оно выражается именно в затылке, но видела его отчетливо.
В вихре надо лбом лихое его упрямство было тоже. Когда Нэла обошла столик и села напротив Антона, а он поднял взгляд, она сразу это увидела.
– Привет, – сказала Нэла. – Ты не изменился.
– Ты тоже, – ответил он. – Нет чтоб сначала поболтать о том о сем, разговор завязать. Привет, Нэлка.
Неизвестно, правда или нет, что человек полностью меняется каждые семь лет своей жизни, но даже если это так, все равно никогда не покажется тебе посторонним тот, с кем ты был близок в юности. Это только что подтвердилось при встрече с Марион и сейчас подтверждалось снова: Нэла обрадовалась, увидев бывшего мужа. Правда, она обрадовалась и увидев в Ницце одноклассницу Наташку – просто потому, что сразу вспомнилось, как в пятом классе сбежали с уроков играть в казаки-разбойники и они с Наташкой спрятались в беседке на Звездочке, а мальчишки не могли их найти.
С Антоном она в казаки-разбойники не играла, но, выражаясь высоким стилем, делила пищу и кров в те годы, когда складываются житейские привычки, так что вряд ли он когда-нибудь покажется ей постороним.
И точно так же это ничего не означает, как и мгновенная радость от встречи с бывшей одноклассницей.
Но все-таки она обрадовалась, увидев его.
– Что тебе заказать? – спросил Антон.
– Макиато.
– А пообедать? – удивился он. – Я специально этот ресторан выбрал, здесь эклектическая кухня, и вкусно. После Италии трудно удивить, я понимаю. Но в Москве теперь не хуже кормят, чем в Европе, любой тебе скажет.
– Ну давай пообедаем, – пожала плечами Нэла.
И тут же с удивлением поняла, что действительно проголодалась, хотя пять минут назад никакого голода не испытывала. И тут же вспомнила про Антонову способность убеждать не логикой, а каким-то другим, неуловимым и мгновенным способом. Это привлекло ее в нем когда-то. Впрочем, не только это.
Сейчас он немного рисовался перед нею – заказывал еду с такой непринужденностью, которая, Нэла знала, не была присуща ему сама собою, а значит, тщательно им в себе взращивалась.
«Ресторанных критиков читает, наверное», – весело подумала она.
Антон всегда умел тронуть всяческой ерундой, и это не изменилось тоже.
– Пить что будешь? – спросил он.
– Что закажешь, – еле сдерживая смех, ответила она.
Он поймал ее взгляд, засмеялся и заказал шампанское.
В общем, они оба были рады встрече и не считали нужным скрывать это друг от друга.
– Долго в Москве пробудешь? – спросил Антон.
Нэла вспомнила, что он не предложил ей приехать, но лишь спросил, не будет ли она в Москве в июне, а когда она ответила, что будет, то поинтересовался, могут ли они встретиться. И получается таким образом, что встреча их хоть и не совсем случайна, однако назначена словно бы мимоходом, а потому надо делать вид, что эта встреча не имеет для нее значения.
Но играть в такие игры с человеком, которого знаешь как себя, Нэла считала излишним.
– Ты зачем меня позвал, Антон? – спросила она.
– Работу хочу предложить, – ответил он.
Что ж, значит, и он ничего про нее не забыл. Во всяком случае помнит, что с ней лучше говорить без обиняков.
– И какую же? – усмехнулась Нэла. – В Госдуме?
– Что вспомнила! Я там сто лет уже не работаю.
– А где работаешь?
– У меня архитектурное бюро.
Если бы он сказал, что выступает в цирке, она удивилась бы меньше. Или по крайней мере так же.
Ее удивление понравилось ему, это было заметно. Только неправильно он ее удивление понял.
– Ты-то при чем к архитектуре? – поинтересовалась Нэла.
– При том, что здание не только нарисовать надо, но и построить. – Он обиделся на ее вопрос, хоть и постарался не подать виду. – А это, знаешь ли, не так-то просто. Особенно в Москве.
– Так ты строишь, что ли? – снова удивилась она.
Может, зря удивилась: образования, которое позволяло бы что-либо рисовать или строить, у него нет, но ведь к сорока годам человек может приобрести самые разнообразные навыки. В Госдуме Антон работал помощником депутата, но мало ли чем занимался после этого. Они не виделись, не перезванивались, не переписывались – Нэла ничего не знала о нем. И если бы он вдруг не объявился в одном из ее мессенджеров, то и не узнала бы, а если бы не узнала перед поездкой в Берлин, то и не думала бы о нем, глядя в темную воду Шпрее, а если бы не думала о нем в тот вечер, то и не поехала бы в Москву и не встретилась бы с ним сегодня.
– Я не строю, – сказал Антон. – Я добиваюсь, чтобы было построено. Это еще на стадии замысла надо предусматривать.
– Не слишком заноситься?
– Или наоборот.
– Будьте реалистами – требуйте невозможного? – засмеялась она.
– У меня чаще так, – кивнул он. – Во всяком случае, я стараюсь максимально это обеспечить.
– Что за шрам у тебя? – спросила она.
– Где? – Антон быстро коснулся ладонью скулы. – А!.. Это давно уже. Столкновение с действительностью.
Нэла видела: он обрадовался, что она спросила о шраме. Он хочет быть ей небезразличен, это она поняла и по трогательной небрежности, с которой он заказывал для нее обед, и по вот этой его броской фразочке о столкновении с действительностью.
И это вызвало легкий душевный трепет, который обрадовал ее. Надоела собственная неприкаянность; только сейчас Нэла нашла точное обозначение для снедавшего ее беспокойства.
– У меня нормальный бизнес, не бойся, – сказал Антон.
Нэла рассмеялась и сказала:
– Не боюсь. Но удивляюсь.
– Чему?
– Не помню, чтобы ты когда-нибудь интересовался архитектурой.
Она не только этого не помнила, но помнила как раз обратное: он ненавидел праздные прогулки по городу – по любым городам – и не понимал, что интересного в том, чтобы глазеть на дома. Город был для него местом, в котором он мог или не мог осуществлять какую-нибудь деятельность, и любое здание, да и вообще любой предмет внешней среды он воспринимал только с той точки зрения, мешает этот предмет его деятельности или помогает. Кёльнский собор или Гранд-опера не мешали и не помогали, а следовательно, не существовали для него вовсе – он не обращал на них внимания так же, как на пятиэтажку в Чертанове. Как Нэла ни старалась когда-то, его прагматизм был неистребим, ничего с ним нельзя было поделать. Потому она и удивилась, что в его жизни возникла именно архитектура. Уж скорее и правда в цирке стал бы выступать – летать под куполом или шпаги глотать.
– Я ею и не интересовался, – кивнул Антон. – Работал в мэрии, а…
– Что-то вы все в мэрии работаете, – заметила Нэла. – В крещенскую купель не окунаешься?
– При чем тут купель? – не понял Антон. – А что в мэрии… Ну а где еще работать?
– Интересный подход, – усмехнулась она. – Есть и другие места, я думаю.
– Нет других мест. – Его глаза, синева которых поразила ее когда-то и не выцвела до сих пор, мгновенно стали ледяными. – Про все эти штуки, когда на хорошем деле можно было подняться, ты забудь. Теперь – только с бюджетом грамотно работать, все серьезные деньги так или иначе оттуда. Мэрия наиболее приемлемый вариант. И денежно, и… Приемлемо, в общем, – повторил он.
– Ты меня звал, чтобы это сообщить? – пожала плечами Нэла. – Спасибо. Меня это не интересует. Что дальше?
– Нэлка, ты что? – Он взъерошил вихор, проведя по нему пятерней, это всегда было у него признаком волнения. – Я совсем не то хотел сказать. Черт, сама же меня не туда завела! Вечно ты к какой-нибудь ерунде прицепишься. С мэрией я уже три года как расстался, не о чем вообще… Но когда еще работал, стал высматривать, чем бы таким заняться… Перспективным. Ну и нашел этих ребят, сотрудников своих теперешних. Они как раз Архитектурный закончили, свое бюро собирались открывать. Но потом на мое предложение согласились.
– Почему согласились? – быстро спросила Нэла.
– Я их не шантажировал и вокруг пальца не обводил, – догадливо ответил Антон. – Просто ребята толковые. Сообразили, что на одном таланте далеко не уедут. Связи нужны, возможности. Деньги, кредиты. Я им все это предложил – они согласились. С троих началось, а теперь пятьдесят человек у меня работают. И заказов, скажу тебе, хватает. Архитектурный рынок растет, что естественно. Москва – это пространства. Мировая столица.
– Эту часть можешь пропустить, – сказала Нэла. – Я тебе зачем?
Он не ответил. Но в его глазах она читала по-прежнему, и тот ответ, который прочитала сейчас, был ей приятен.
– Ты же во всем разбираешься, – наконец произнес он. – Я-то… Ну, про меня ты знаешь. Но и ребятам моим, хоть в архитектуре они как надо рубят, широты образования все-таки не хватает. Молодые они.
– Это был мне комплимент? – Нэла рассмеялась так, что даже слезы выступили. – Не меняешься ты, Антон!
– Нэлка! – воскликнул он; синева из глаз так и брызнула. – Ну что ты переворачиваешь! Я же совсем не про то… Учат сейчас плохо, вот я про что. Или учат хорошо, да они учиться не умеют, молодые потому что. Но знаний у них мало, это мне уже понятно.
– А мне не понятно, – пожала плечами Нэла. – Ты меня, что ли, приглашаешь их культурный уровень повышать?
– Не мучай ты меня, – сказал он почти жалобно. – Придумаем, как твою работу назвать. Ты мне нужна, Нэлка, – вдруг, совсем без перехода, выпалил он. – Так нужна, что аж зубы сводит.
Одно дело взгляд, неясная материя, и совсем другое – слова, смысл которых предельно ясен. Таких прямых слов она все-таки от него не ожидала. И вряд ли хотела. Что на них ответить?
К счастью, официант принес тарелки с закусками.
– Видишь, и обслуживают здесь быстро, – сказал Антон.
Что быстро, это точно. Какие-нибудь десять минут ему понадобилось, чтобы решиться на признание в любви. Или это не было признанием в любви? Да, может, и не было. Во всяком случае, теперь вид у него уже вполне спокойный. Обычный сорокалетний мужчина, обедающий со старой знакомой. Неплохо, надо признать, выглядящий мужчина. Не располнел, не заматерел, не опустился. Живость сохранил в общении. Следит за собой. Одет со вкусом.
То, что она оценивает его с отвлеченной приметливостью, нисколько Нэлу не смущало. Она ехала на встречу с ним, чтобы проверить, не получится ли у них возобновить отношения. Как выяснилось, он тоже имел в виду именно это. Значит, стоит все объективно взвесить, потому что им не восемнадцать лет, чтобы строить отношения на такой зыбкой почве, как мгновенно вспыхнувшая страсть. Тем более что и в восемнадцать лет это ничем толковым не закончилось. Да и нет сейчас никакой страсти, во всяком случае, у Нэлы. Так что оценить его стоит, и именно беспристрастно, раз уж она собирается попробовать с ним что-то – что именно, пока неясно – снова.
За кофе Антон рассказал о своем архитектурном бюро подробнее – что назвал он его «Дайнхаус» в память о своей немецкой юности, что рентабельность процентов тридцать, что с первыми ребятами из тех, которые у него теперь работают, он познакомился четыре года назад…
– Сразу понял, что они такое, – сказал Антон. – Я, может, словами и не назову, в чем тут дело, но где талант, а где понты, не перепутаю. Они мне загородный дом построили, – добавил он. – Сама увидишь.
Последнее он высказал словно бы между прочим и как само собой разумеющееся, но Нэла расслышала в его голосе вопросительный оттенок. Отвечать на этот полувопрос она не стала.
– Тебе у меня понравится, – сказал Антон. И поспешно пояснил: – Работать, в смысле. – Нэла еле сдержала улыбку, так трогательно он старался соблюдать дистанцию; она-то знала, как мало ему это свойственно. – В работе моей, понимаешь, общение – огромное дело.
– Почему? – машинально спросила Нэла.
На самом деле она не слишком вникала в смысл его слов. Антон знает, что она может, что нет, и раз предлагает работу, значит, она с ней справится.
Она не слушала его слов, но вслушивалась в интонации, всматривалась в лицо и жесты. Ей надо было понять, изменилось ли в нем то, что заставило их расстаться, и если изменилось, то как – ослабело, исчезло совсем или, наоборот, усилилось? Это было решающе важно, но пока оставалось ей непонятным.
– Потому что без общения заказов не получишь, – ответил Антон. – Отчасти, конечно, старые мои связи работают, но чтобы на закрытые тендеры приглашали, надо действовать сегодня, а не жить вчерашним днем. На открытых конкурсах проекты не больно-то ищут, – пояснил он. – Там заявок море и всякая шушера вьется. Серьезные заказчики отбирают несколько архитектурных бюро, организуют для них закрытый конкурс и на нем проекты рассматривают. Чтобы нам из этого пула не выпасть, что надо?
– Ну что? – улыбнулась Нэла.
Загорается по-прежнему. Интереса к жизни не утратил. Это хорошо. Беспрестанно тормошить вялого мужчину и знать, что без твоих усилий он немедленно превратится в бесформенный ком… Нелегкая это работа, из болота тащить бегемота, и ей это совершенно не нужно.
– Постоянно на виду надо быть, вот что, – ответил Антон. – Во всяком случае, от тебя я ожидаю именно этого. Быть на виду, производить впечатление, быстро реагировать. Оценивать, что хочет заказчик, внушать ему, что хочешь ты, и так внушать, чтобы он был уверен, что сам этого захотел. Ты это умеешь.
– Думаешь, умею?
– Не думаю, а знаю.
«Что-то не припомню, чтобы мне удалось тебе внушить, чего ты сам не хотел, – подумала Нэла. – Даже наоборот».
Но высказывать это Антону она не стала. С чистого листа – значит, с чистого. Кто старое помянет, тому глаз вон. Правда, кто забудет, тому оба долой, но сейчас стоит ограничиться первой частью народной мудрости.
Нэла допила кофе, Антон расплатился, и, сойдя с ресторанной веранды, они пошли по аллее вдоль пруда.
Многое здесь переменилось, но Патриаршие, видимо, были из числа таких мест, которые трудно изменить до неузнаваемости – слишком сильна их собственная энергия, слишком глубоко уходит в прошлое. По всему периметру пруда тянулись рестораны, из них доносилась музыка, множество людей сидели на открытых верандах и лавочках или фланировали по дорожкам, но ощущение покоя, ясного и трепетного, как воздух над водой, было точно таким же, как тридцать лет назад, когда Нэла и Ванька приезжали в гости к тете Зое, папиной старшей сестре, и, пока родители сидели за чаем и скучными взрослыми разговорами у нее дома – вон в том доме с фигурами львов у входа – убегали играть на детскую площадку возле памятника Крылову. В Нэлу тогда влюбился мальчик из Ермолаевского переулка, в нее всегда кто-нибудь влюблялся – Ванька говорил, это потому, что она как спичка, она всегда думала, что брат имеет в виду ее телосложение, и лишь недавно он объяснил, что имел в виду ее способность поджигать своим задором.
Только Антона поджигать не требовалось. Может, поэтому у них ничего и не вышло когда-то.
– Подожди здесь, я минут через десять за тобой подъеду, – сказал он, когда дошли до угла. – Места поблизости не было, машину черт знает где пришлось оставить.
– Комфортная среда? – усмехнулась Нэла.
– Ну а что, лучше было, когда в три ряда на газонах парковались? – пожал плечами Антон. – У нас тут теперь как в Европе.
Насчет газонов он был прав, но она рассердилась. Была какая-то неточность в его словах, но в чем она состоит, объяснить Нэла не могла, это и злило.
– Не подъезжай, – сказала она. – Я в метро.
Он, конечно, сразу заметил, что она рассердилась, но не расстроился, а замкнулся – глаза стали холодные. Ну и ладно. Было бы не только глупо, но и просто нечестно с ее стороны пытаться произвести на него впечатление получше. Он ведь тоже, наверное, оценивает, изменилась ли она, чтобы понять, стоит ли затевать с ней отношения заново. Вот и пусть оценивает объективно.
Дома стоял кавардак, обычный для гербольдовского дома вообще, а перед долгим путешествием особенно.
Папы, правда, не было: он терпеть не мог сборов и никогда в них не участвовал, полностью передоверяя это маме. Что мама способна на какое-либо системное действие, должно было казаться странным любому, кто ее знал, но только тому любому, кто знал ее поверхностно. Знавшие же ее близко, может, и удивлялись, как эта способность сочетается в ней с созерцательностью, безалаберностью, фантазиями и прочими подобными чертами, но знали также и то, что устраивать быт она умеет, хотя и с причудливым своеобразием.
Посередине гостиной, у ног Венеры Милосской, стояли два открытых чемодана, а по стульям, креслам, табуреткам и перилам ведущей наверх лестницы мама вчера вечером и сегодня утром раскладывала вещи, вынимая их из шкафов и ящиков. Вещей набралось много, и теперь она обходила комнату по периметру, собирала их, как грибы, и слоями складывала в чемоданы, свой и папин, или откладывала в сторону.
За этим занятием застала ее Нэла.
– Помочь? – на всякий случай спросила она.
– Зачем? – пожала плечами мама. – Через полчаса я закончу, чаю выпьем. Обеда, правда, нет.
– Я в городе пообедала.
– Посмотри пока фотографии. – Мама кивнула на лежащий на столе альбом. – Случайно в комоде нашла. Знаешь, в том, прадедушкином, который в мастерскую вынесли.
Случайно в доме могло найтись что угодно – и вследствие характера его обитателей, и просто потому, что это вообще естественно для дома, в котором почти сто лет живет одна и та же семья, притом насыщенно живет каждым своим поколением. Альбомов и с фотографиями, и с графическими или пастельными портретами даже без вновь найденного было такое количество, что Нэла различала большинство запечатленных родственников не по лицам, а по одежде; пригодился курс истории моды, который она брала в университете.
Альбом лежал на ломберном столике, неизвестно откуда взявшемся когда-то в гостиной; дом был построен в те времена, когда в такие игры уже не должны были бы играть. А может, все-таки играли, ведь поселок Сокол строился при нэпе, когда казалось, что нормальная жизнь возвращается.
Нэла открыла альбом, перевернула несколько страниц, переложенных пожелтевшей папиросной бумагой. Прадеда узнала сразу – видела его фотографии раньше, да и Ваня был на него похож, он вообще удался в отцовскую линию. Линия эта, надо сказать, выглядела эффектно, во всяком случае, в мужском ее проявлении: все Гербольды-мужчины были высоки ростом, широки в плечах, и даже при полном несходстве характеров лица их имели одинаково правильные черты, а серые глаза – внимательное выражение. Хотя если Ваньке, например, в самом деле было присуще внимание к окружающим, то папа всегда был внимателен к одному лишь себе, и непонятно было, является такое его свойство признаком эгоизма или таланта. Как бы там ни было, о мужчинах своего семейства Нэла считала правильным судить по брату, а о женщинах если и хотела бы судить по себе, то едва ли это было бы правильно: внешностью и характером она непонятно, в кого удалась – может, в какую-нибудь прабабушку из понтийских греков; была в мамином роду и такая кровь.
Она рассеянно долистала альбом до конца. Студенческая вечеринка, и студенты выглядят гораздо взрослее, чем сейчас. Пикник сотрудников Наркомстроя, и сотрудники эти тоже кажутся старше, чем нынешние главы международных корпораций – Нэла подумала, что Илон Маск в свои сорок пять лет по сравнению с ее прадедом в том же возрасте смотрится просто мальчишкой. Женщины одеты так тщательно, как сейчас и одеваться-то неприлично… Большинство женских фотографий были не вставлены в прорези на страницах, а просто сложены стопкой в конце альбома. Интересно, что это значит – что прадед был ходок и сосчитать не мог своих женщин? Нэла перебрала снимки – все как на подбор красотки, так что ее версия о прадедовом любвеобилии, может быть, правильная.
А может быть, и нет. И никакого значения не имеет ни то ни другое, потому что всего через сто лет никто уже не помнит ни женщин этих, ни мужчин, и, разглядывая фотографии, она замечает не столько лица их, сколько шляпки.
Ей стало не по себе от этой мысли. Хорошо, что одна из шляпок оказалась эффектная, это отвлекло. Нэла видела точно такую в маленьком берлинском магазине, она называлась ягодная чалма. Надо же, в Москве тоже такие были, оказывается. Или, может, прадед из Берлина как раз и привез эту шляпку любимой женщине, или эта женщина была для него не любимой, а случайной…
Нэла поняла, что почти заставляет себя думать о каких-то старинных историях, которые сама же и придумывает, хотя по горло сыта стариной, особенно после недавнего своего погружения в палладианский мир, – а на самом деле прошлое волнует ее сейчас только до той черты, на которой она встретилась с Антоном в юности и за которую теперь пытается зацепиться, потому что не видит в своей жизни никаких других зацепок, несмотря на этот старый дом, и на эти снимки, и на разумный прадедов взгляд, снимками этими остановленный.
Глава 4
Всем родительским знакомым Нэлино решение казалось глупым. Родителям, впрочем, тоже, а вернее, они просто считали его не решением, а очередным безалаберным порывом, из которых состояла вся жизнь их семнадцатилетней дочери.
Одно дело уехать за границу в советские времена, тут и спрашивать не стоит почему, и так понятно. Но почему, а главное, зачем уезжать сейчас, когда жизнь в Москве кипит, и какая жизнь! Свободная, яркая, с миллионом всяческих возможностей.
– Если бы мне кто-нибудь в твоем возрасте предоставил тысячную долю того, что есть у тебя, я ничего другого не хотела бы, – сказала мама. – Объясни мне, пожалуйста, что ты надеешься найти в Германии такого, чего не сможешь получить в Москве?
Она не ответила, да вряд ли мама и ожидала от нее ответа. Все в семье давно смирились с тем, что Нэла и рациональность – две вещи несовместные. И зря, кстати – рациональность в ее нынешнем решении есть, и очень даже понятная.
Сколько угодно родители могут говорить про миллион открытых перед ней возможностей, но нет в этих возможностях главного – непредсказуемости. Нет и быть не может. Поступит она в МГУ, в Полиграф или в иняз, разница невелика, то есть настоящая, жизненная разница. Все равно она будет уходить утром на лекции, как раньше уходила в школу, сидеть в аудитории, а потом где-нибудь в кафе с однокурсниками, которые будут ей понятны так же, как понятны были одноклассники, потому что они точно такие же, как она сама, выросли в точно таких же семьях, читали те же книжки, занимались в том же самом художественном кружке при Музее изобразительных искусств имени Пушкина, и после занятий она будет точно так же, как всю свою прежнюю жизнь, возвращаться домой, где ее ожидает обед, если приходила Валентина, или не ожидает, если в этот день хозяйство было предоставлено маме, и в том будет единственное различие дней ее жизни – в обеде!
При одной мысли об этом у Нэлы скулы сводило от скуки. И она была на все готова, чтобы выскочить из колеи, проложенной множеством ее заботливых предков за сто лет до ее рождения, если еще не раньше. Но в Москве это точно было невозможно, значит, надо было уехать из Москвы.
Рисовала Нэла посредственно, слух у нее был не абсолютный, а самый обыкновенный, но способность к языкам феноменальная. Это выяснилось. когда ей было пять лет. В доме был граммофон, к нему пластинки, одна из них с дореволюционными детскими песенками на разных языках. Нэла прослушала ее раз двадцать подряд, после чего пересказала содержание всех песенок по-русски. Среди гостей, перед которыми она это проделала, нашлись знавшие английский, немецкий, французский, итальянский и даже португальский, так что точность перевода была подтверждена. Потрясенные родители немедленно взяли для нее учителей – с португальским решили погодить, а английским, немецким, французским и итальянским она к окончанию школы владела свободно.
И что же могло остановить ее в стремлении вырваться из расчисленной московской жизни? Да абсолютно ничего!
Больше всего Нэле, пожалуй, хотелось в Италию, но никакой программы, по которой туда можно было бы попасть сразу после школы, она не нашла. А ей нужно было именно сразу – она сгорала от нетерпения и догадывалась, что каждый следующий год таит в себе опасность того, что ее пыл угаснет. Или нет такой опасности? Как бы там ни было, проверять это Нэла не собиралась, поэтому решила ехать в Бонн, где обнаружились подготовительные курсы, после которых можно было учиться в любом университете Германии.
В Бонн она и плыла теперь по Балтийскому морю.
То есть корабль шел, конечно, не в Бонн, а в Гамбург, дальше Нэле предстояло добираться посуху, и она чувствовала себя как вольный птицелов из любимого маминого стихотворения – вот сейчас сойдет на берег и отправится вдоль по рейнским берегам. Энергия била в ней через край, и с удовольствием она пошла бы к месту назначения пешком!
Но до этого должно было пройти еще немало времени, потому что корабль не просто доставлял пассажиров из Петербурга в Гамбург – он назывался «Культурная миссия» и по дороге должен был заходить в разные порты, чтобы эту миссию выполнять. Собственно, потому родители и пристроили на него Нэлу, решив, что девочке будет полезно оказаться среди интересных людей, занятых интересным делом.
Но выйдя в первый же вечер из своей каюты, Нэла подумала, что родители чего-то не поняли.
Первым, кто ей встретился на палубе, была женщина лет пятидесяти в длинном лазоревом сарафане, расшитом по подолу алыми цветами. К ее волосам была прикреплена длинная коса соломенного цвета, именно прикреплена, прямо заколкой пришпилена и для верности прижата кокошником. Нэла подумала, что это артистка, которая будет участвовать в концерте, но оказалось, что женщина идет в таком странном наряде на ужин. По дороге она сообщила Нэле, что повар здесь настоящий француз, поэтому кормить будут изысканными блюдами. Она сидела за соседним столом, и Нэле было видно, как узорчатая кайма на ее широких рукавах окунается в тарелку с консомэ, когда она тянется за очередным куском хлеба; ела она его так много, как будто пережила голод. Или, может, в самом деле пережила? Нэла не удивилась бы, очень уж необычно выглядела эта дама с помятым лицом и в одежде Василисы Прекрасной.
Правда, присмотревшись, Нэла поняла, что и остальные ее спутники выглядят ничуть не лучше. Или не хуже? Определить это она не могла, но разглядывать их было ужасно интересно.
По палубе ходили мужчины в шароварах и в фуражках, назывались они казачьим хором и вечером после ужина действительно принялись громко петь про есаула, мамку да ветлу.
На противоположной от хора стороне палубы какая-то женщина с лицом то ли алкоголички, то ли уголовницы, стоя рядом с телеоператором, брала интервью у другой женщины, похожей на нее как родная сестра.
– СПИД и онкологию по фотографиям тоже лечу, – говорила та. – Использую только полароидные снимки, они энергетику личности сохраняют.
На шее у нее висела большая дощечка с портретом старухи в цветочном венке, и она время от времени к этой дощечке прикасалась, будто в доказательство своих слов.
Из репродуктора доносился голос:
– Граждане миссионеры, первая смена питания закончилась, приглашается вторая! Те из вас, кто желают креститься, то есть стать христианами, могут прийти в корабельную церковь к двадцати одному часу.
«Сумасшедший корабль», – подумала Нэла.
Дома было много журналов, и в одном из них, совсем старом, довоенном, она прочитала роман с таким названием. Но в романе так называли Дом искусств на берегу Мойки, жили в нем после революции художники и поэты. А здесь она увидела самых настоящих сумасшедших, собравшихся на самом настоящем корабле.
Если бы Нэла оказалась в такой компании дома на Соколе, то посмеивалась бы, наблюдая за происходящим. Вообще-то она в ней и оказывалась – не в такой, конечно, яркой, но в похожей, потому что папа хоть и работал в реалистической манере, но художники среди его знакомых были разные, и Нэла с детства знала, какими странными бывают талантливые люди. Но одно дело смотреть на странных людей со стороны и знать, что на твою жизнь они никак не подействуют, и совсем другое – с головой окунуться в их жизнь, стать ее частью.
Может быть, ощущение погруженности в чужую жизнь усиливалось от того, что кругом было море со стального цвета волнами до горизонта, но все-таки Нэла смутно понимала: дело не в море, а в чем-то другом… От неясных размышлений ей становилось не по себе и даже почти что страшно, хотя она была не робкого десятка.
И в таком вот необычном для себя состоянии проводила она время на этом странном корабле.
Правда, на нем постоянно что-нибудь происходило, и это отвлекало от смутной тревоги.
Назавтра после отплытия у десяти человек пропали из кают чемоданы. Поднялся переполох, пропажу искали, но понятно было, что чемоданы вряд ли обнаружатся – скорее всего, их выпотрошили и выбросили в море. Целительница, лечащая СПИД по фотографиям, сняла с шеи дощечку с нарисованной женщиной и, усевшись на корточки посреди палубы, принялась ей молиться. Слова молитвы были непонятны, но к вечеру она объявила, что содержимое чемодана, хоть и не полностью, ей подбросили к порогу каюты, а это означает, что ее молитва услышана, потому что больше никому ничего не вернули.
Тем же вечером Нэла увидела на палубе неподвижно стоящего мужчину, который, как пленный партизан, держал в руках картонку с надписью «Я хочу на Родину».
– Ты к нему близко лучше не подходи, – сказала ей буфетчица в столовой. – Мало ли что человеку в голову придет, от душевного-то переживания.
Нэла засмеялась, но вообще-то ей было тоскливо и хотелось домой уже, пожалуй, не меньше, чем человеку с картонкой.
Мир был огромен, как море, и так же, как море, безразличен к ее существованию. Наверное, это и всегда было так, но никогда она этого не сознавала и никогда не чувствовала себя в огромном этом мире такой одинокой. Это было настоящее одиночество – не когда сидишь одна в своей комнате и слушаешь, как дождь стучит по крыше, разглядываешь картины в альбоме, мечтаешь о чем-нибудь таком же прекрасном, таком же неуловимом, как прикосновения кисти, от которых появляются на холсте виноградники Арля или осенние стога Плеса, – а когда знаешь, что ни одному человеку из тех, до которых ты можешь вот прямо сейчас дотронуться рукой, нет до тебя никакого дела, и от этого не верится уже, что хоть кому-нибудь есть до тебя дело вообще, и добрый, любящий тебя мир кажется призрачным, не существующим…
Солнечный круг коснулся воды, золотые и алые дорожки побежали по волнам. Не отводя взгляда от играющего света, Нэла шла вдоль борта. Сейчас, на закате, одиночество особенно тяготило ее, и она обрадовалась, услышав голоса.
Среди всех странностей этого корабля была еще и та, что Нэла, всегда чрезвычайно общительная и легко сходившаяся с людьми, никак не могла подружиться ни с кем из его обитателей. Почти все они держались кучками и изнутри этих своих кучек смотрели настороженно и враждебно; она не понимала, почему. А те, которые, наоборот, были открыты любому, не вызывали у нее ни малейшего желания узнать их поближе. Целительница, например, была как раз из таких – в первом же разговоре она доверительно сообщила, что до Нэлиного возраста была самым обыкновенным человеком, а потом ее забрали на астероид и вернули через пять лет уже с теми способностями, которые имеются у нее теперь. После того первого разговора Нэла обходила ее за версту, чтобы как-нибудь не нарваться на второй.
Но сейчас из-за поворота палубы доносился явно не голос целительницы. А когда Нэла миновала этот поворот, то увидела двоих казаков. Один сидел на скрученном канате, другой на каком-то брусе, между ними было расстелено полотенце, на полотенце лежали крошечные пирожки, которые давали сегодня к ужину, стояла начатая бутылка водки и два уже наполненных стакана. Казаки сняли фуражки, в которых ходили постоянно, и стало понятно, что оба они лишь чуть старше Нэлы.
– О! – увидев ее, обрадовался тот, что был фигурой пошире. – Водку пьешь?
– Не-а, – ответила Нэла.
От вида этих крепких парней, даже от вида их водки, в которой поблескивали закатные искорки, ей почему-то стало веселее.
– Зря, – заметил второй, фигурой подлиннее и поуже. – Нехорошо трезвому с пьяными.
– Дак мы рази напиваться собираемся? – хохотнул первый. – Посидим для настроения, святое дело. Садись, не стесняйся, – кивнул он на место рядом с собой. – Тебя как звать?
Он произнес эти «дак» и «рази» без всякой нарочитости. И уходить совсем не хотелось, и одиночество как-то сразу перестало пугать…
– Нэла, – ответила она, садясь рядом с ним на брус.
– Ишь ты! – хмыкнул второй. – Еврейка, что ли?
– Почему? – удивилась Нэла.
– Имя нерусское. А евреев тут полно же, – объяснил он. – Поездка бесплатная, конечно, набежали. Любят они на дармовщинку.
– Ладно тебе, Петро, – укоризненно произнес широкий. – Жалко, что ли? Пускай плывут, ежели хотят. Батюшка говорит, апостол Павел тоже еврей был.
Нэла сразу пожалела, что присела к этому полотенцу. Она никогда не слышала, чтобы кто-нибудь рассуждал о людях вот так, отдельно от себя, будто о каких-нибудь экзотических насекомых.
– Имя у меня ничье, – зачем-то сказала она. – Родители его просто выдумали.
Она вспомнила, как папа рассказывал, что мама хотела, чтобы родился сын и можно было дать ему какое-нибудь простое русское имя, а он, наоборот, ждал дочку и хотел дать ей имя необыкновенное; почему-то всех мужчин их семьи привлекали необычные женские имена. Они долго из-за этого спорили, а потом у них родились двойняшки, и они назвали сына Ваней, а для дочки в самом деле придумали имя, какого никогда и не слышали… Это воспоминание так ударило Нэле в сердце, что она чуть не заплакала. Оно совсем не соединялось с тем, что так неожиданно оказалось жизнью. Взрослой жизнью.
«Я не хочу! – вздрогнув, подумала она. – Я… Зачем я из дому уехала?!»
Взрослая жизнь расстилалась вокруг, как стремительно темнеющее море, и люди, встречающие Нэлу в этой жизни, не вызывали ни малейшей приязни.
Она поднялась, чтобы уйти, но длинный быстро схватил ее за руку, усадил обратно и сказал:
– Ну чё ты? Брезгуешь?
– Нет, – машинально ответила Нэла.
«Я совсем не умею вести себя с людьми, – подумала она. – Как же так?»
И это тоже было с ней впервые – даже слов таких, «вести себя с людьми», не бывало прежде в ее мыслях. Она просто жила, и ей было легко, и ничего не надо было рассчитывать, потому что от людей, которые ее окружали, или просто встречались ей, или могли встретиться, невозможно было ожидать зла.
А теперь и это изменилось, и, может быть, изменилось навсегда.
Широкий взглянул на Нэлу – ей показалось, что он прочитал ее мысли, хотя это вряд ли могло быть так, он не производил впечатления проницательного человека – и протянул ей стакан с водкой, сказав:
– Давай одним духом. Я после тебя. А то посуды больше нету.
Водочный запах оказался таким едким, что, когда Нэла поднесла стакан ко рту – а зачем поднесла, пить собралась, что ли? – у нее защипало глаза. Она покачала головой и вернула стакан широкому.
– Брезгует, – усмехнулся второй, Петро. – А вот зря…
Он произнес это таким зловещим тоном, что Нэле показалось, он хочет ее ударить. Конечно, этого не могло быть, с какой стати он стал бы этого хотеть? И все-таки в его голосе, в его взгляде исподлобья она увидела ненависть, необъяснимую ненависть к ней, к совершенно незнакомому человеку, к девчонке. Да, Нэла вдруг перестала чувствовать себя взрослой, как это было всегда, сколько она себя помнила, а поняла, что она просто беспомощная девчонка, которая непонятно почему оказалась в каком-то дальнем и укромном углу корабля наедине с пьяными – только теперь она заметила, что за скрученным канатом лежит еще одна водочная бутылка, уже пустая, – и что им, пьяным, в голову взбредет, во что выльется их непонятная к ней ненависть, предвидеть невозможно.
Нэла снова попыталась встать, но Петро держал ее за руку крепко. Свободной рукой он опрокинул в рот водку, поставил пустой стакан на полотенце, взял пирожок и, морщась, сказал с необъяснимой своей ненавистью:
– Налепили французики хрен знает чего! У нас пельмени больше, чем ихние пироги.
– Ну, вы тут отдыхайте, – сказал широкий, поднимаясь со скрученного каната. – Я пойду отолью, а то аж из ушей прет. Зря пива надулся перед водкой.
Он произнес это примирительным тоном, и именно тон особенно рассердил Нэлу. Зачем ей знать подробности физиологии этого парня, похожего то ли на сома, то ли на дыню «колхозница»?
Широкий ушел, а Петро разлил по стаканам очередную порцию водки. Для этого ему пришлось выпустить Нэлину руку из своей, и Нэла сразу же вскочила. При этом она опрокинула один из стаканов, водка вылилась ей на босоножки, а Петро громко выматерился. Не обращая на него больше внимания, Нэла перепрыгнула через брус, на котором он сидел, и бросилась бежать.
Но оказалось, напрасно она думала, что он только и способен гудеть непонятное, как камыш.
Петро не вскочил даже, а взвился в воздух и Нэлу догнал в два шага.
– К-куда?.. – прорычал он, хватая ее за плечи.
– Пусти! – Она расслышала в своем голосе слезы. – Что тебе надо от меня?
Как же глупо было воображать, что все понимаешь в жизни, потому что в десять лет прочитала «Анну Каренину» и знаешь, чем Сезанн отличается от Гогена! Собственная чудовищная глупость стала для Нэлы очевидной так мгновенно, как если бы ее ударило молнией.
– А чё ты выделываешься вообще? – Петро развернул ее лицом к себе и дохнул прямо в лицо густым водочным духом. – Типа ты вся такая, а я типа быдло?
Он сжал ее плечи так, что она вскрикнула. И наконец испугалась по-настоящему. До сих пор ей было только противно – от его хваткой руки, от мата, от того, что у него воняет изо рта, – а теперь она поняла, что он разъярен и в припадке ярости может сделать с ней что угодно, потому что чужая жизнь ничего для него не значит. Изнасиловать может и за борт бросить… И когда ее хватятся, и что толку, если потом разберутся, если его изобличат? Она-то уже акул будет на дне кормить, или какие в Балтийском море бывают ужасные рыбы!
Нэла рванулась, уже не чувствуя даже боли от того, что он стиснул ее плечи. Но с таким же успехом она могла рваться из железных оков. Петро не выглядел сильным, но пальцы у него были именно железные.
Она судорожно вдохнула побольше воздуха – поняла, что единственно правильное сейчас это заорать во весь голос. Но он тоже сообразил, что она собирается делать, и, отпустив одно ее плечо, мгновенно зажал ей рот освободившейся рукой. Притом так зажал, чтобы она не могла его укусить; как-то очень ловко и опытно он это сделал. А чтобы она не вырвалась, прижал ее спиной к металлической лесенке. Лесенка спускалась сверху, с какого-то сооружения вроде рубки.
Ступеньки впились Нэле в позвоночник так, что, казалось, вот-вот его переломят, она не могла кричать, она задыхалась, ей было страшно… Но сильнее удушья и страха все-таки было другое – унижение. Никто никогда не унижал ее, тем более вот так, физически, она даже представить не могла, что это возможно, и не на войне где-нибудь, а просто на пустом месте, и чтобы так вел себя не ярый враг, а человек, о существовании которого она всего полчаса назад даже понятия не имела!
Она все-таки закричала «пусти», но вместо крика из-под ладони Петра вырвалось только мычание.
– Чего-чего? – ухмыльнулся он. – Скажи лучше: дядя, прости маленькую засранку. Поняла? Ну!
Слезы брызнули у Нэлы из глаз, она забилась, уже не чувствуя даже боли от вдавившихся в спину ступенек…
И вдруг услышала:
– Петька, ты чего? А ну пусти ее!
Голос донесся сверху, раскатом, как глас с небес. Но шел он, конечно, не с небес, и грохот, который его сопровождал, был не громом небесным.
Загрохотали ступеньки, нависла сверху тень, мелькнула над Нэлиной головой подошва ботинка – и Петро грохнулся на спину с таким звуком, как будто был набит булыжниками, а Нэла упала на него.
Сразу же, как кошка, она вскочила на ноги, отпрыгнула в сторону и увидела, что, лежа на палубе, Петро держится обеими руками за лоб и воет, а по звонкой лесенке спускается очередной неизвестный ей парень.
Никаких незнакомцев она видеть больше не хотела, поэтому, конечно, убежала бы, если бы не странность, которая с ней произошла. Странность заключалась в том, что она не могла сделать ни шагу. Впервые в жизни Нэла поняла, что слова «ноги к земле приросли» не сомнительное преувеличение, а чистая правда. Ноги у нее не подогнулись в коленях, не ослабели, а наоборот, сделались тяжелыми, как чугунные болванки, и всех ее сил было недостаточно, чтобы сдвинуть их с места.
Пока она стояла, застыв в этом неожиданном положении, события разворачивались перед ней стремительно.
Петро отнял руки ото лба, оперся о палубу и поднялся на ноги. Длинный, костистый, он был похож на весеннего медведя, голодного после спячки и потому особенно опасного. И звук, вырвавшийся из его горла, тоже напоминал медвежий рык.
– Убью-у-у! – угрожающе взревел он.
Нэла вздрогнула, хотя понятно было, что угроза относится не к ней. Угроза, ярость, ненависть – все это предназначалось теперь тому самому незнакомцу, который ударил Петра ногой в лоб и стоял перед ним, как будто ожидая, что будет происходить дальше.
На его месте Нэла ожидать ничего не стала бы, а бросилась бы бежать куда глаза глядят, потому что Петро был на голову выше и его плечи хоть и состояли, кажется, из одних только костей, но были какие-то длинные, как и руки, будто шарнирами к плечам приделанные. Руки эти вращались, как лопасти мельниц, а незнакомец подныривал под них, чтобы они не снесли ему голову.
Да, на его месте Нэла, может, и убежала бы, но на своем… Невозможно же убежать, когда на человека, который тебя спас – непонятно от чего, но от чего-то ужасного точно, – надвигается, выкрикивая нечленораздельные угрозы, осатаневший Петро.
И не только он, как тут же выяснилось.
– Э!.. – раздалось от того места, где узкий палубный проход сворачивал за рубку, или как все-таки называлось сооружение, за которое Петро с приятелем зашли, чтобы выпить, а Нэла неизвестно зачем. – Чё у вас тут за базар?!
Широкий приятель Петра показался из-за поворота, и вид у него был теперь не дынно-рыбий, а угрожающий. Он явно настроен был не разбираться, кто прав, кто виноват и что вообще случилось, а размазать противника по палубе.
Непонятно, как Нэла это сообразила – никогда в жизни ей не приходилось оценивать намерения дерущихся людей, – однако сейчас она понимала эти намерения так ясно, будто каждый из участников драки высказал их вслух.
Но что было толку от ее понимания? Ничего она не могла сделать и даже крикнуть не могла: не только ноги у нее стали чугунными, но и губы онемели.
Теперь уже двое надвигались на Нэлиного спасителя, и справиться с обоими он точно не смог бы.
Она смотрела на всех троих сбоку. То есть на Петра и широкого она вообще не смотрела, а вот их противника видела в последних закатных лучах ясно, как на картине.
Сначала она видела только его профиль – он был очерчен лихо, как будто прорисовала его, не отрываясь, талантливая рука. Потом он повернул голову и Нэла увидела глаза – синие, как море, только не это море, темное, стальное, а Средиземное море у греческих островов. Нэла подумала именно так, потому что морская синева возле острова Санторини – она была там с родителями и братом год назад – произвела на нее очень сильное впечатление, и такое же сильное впечатление производил сейчас этот человек.
Стоило ей обо всем этом подумать – несколько секунд заняли ее мысли, их и мыслями невозможно было назвать, так, порывы чувств, – как он словно перехватил их в ее взгляде. Подмигнул ей ярким глазом, тут же наклонился, схватил стакан, стоящий на полотенце у его ног, и мгновенным движением плеснул водку из этого стакана прямо в лицо широкому Петрову приятелю. Тот взвыл, принялся тереть глаза – ему явно стало не до драки.
– А вот теперь давай, Петька, баш на баш! – весело крикнул парень и, в очередной раз поднырнув под длинную руку своего противника, резко ударил его кулаком под подбородок.
Клацнули зубы, раздался крик, но Нэла уже не вглядывалась в происходящее. Она схватила своего спасителя за руку и потащила за собой – прочь, прочь от места этой дурацкой битвы!
– Подожди, ты чего? – Кажется, он последовал за Нэлой только потому, что не ожидал от нее такого решительного действия. – Да ничего они тебе не сделают, не бойся!
Но она больше не собиралась это проверять. Сделают они что-то или нет, опасно оставаться рядом с ними или безопасно, что вообще произойдет дальше, – все это должно остаться в прошлом, отделиться хотя бы несколькими минутами от настоящего, и эти несколько минут надо использовать для того, чтобы убежать отсюда подальше.
Они пробежали по проходу вдоль сооружения, назначение которого Нэла так и не поняла, и выскочили на широкую часть палубы.
Здесь все выглядело так, что собственный недавний страх показался ей глупостью несусветной. Струнный ансамбль играл Шуберта, и музыка летала над волнами, как птица, люди прогуливались, девицы в кокошниках водили хоровод, пророчица с дощечкой на шее рассказывала что-то пятерым женщинам, которые рядком сидели перед ней на стульях…
– Чего ты? – удивленно повторил Нэлин спутник. – Он тебя ударил, что ли?
Она отпустила его руку, и теперь они стояли друг против друга, удивленно друг друга разглядывая. Вернее, удивлялась Нэла, у него же в глазах был только живейший интерес к происходящему.
– Не ударил, – сказала она, улыбаясь от того, каким открытым был этот его интерес. – Но испугал.
– Петька-то? – хмыкнул он. Но сразу же кивнул: – Вообще-то да, он, как выпьет, дурной становится. Потом проспится – сам не верит, что творил. А зачем ты с ними выпивать пошла?
– Еще не хватало с ними выпивать! – фыркнула Нэла.
Вот пожалуйста, сразу же попреки начались! Сейчас еще скажет, что не надо было такую короткую юбку надевать.
Он в самом деле перевел взгляд на ее алую юбочку, сильно не достававшую до колен, но сделал это не с укоризной, а с тем же живым интересом. И вместо того чтобы произнести какие-нибудь обиженные слова, она расхохоталась. Ее смех привел его в смущение – Нэла поняла это по тому, как он быстро провел пятерней по вихру надо лбом.
Вид у него был довольно неотесаный – такой, что Нэла должна была бы чувствовать его совершенно отдельным от себя, противоположным себе. А обстоятельства знакомства с ним и вовсе должны были бы заставить ее бояться этого вихрастого человека.
Но она не чувствовала его противоположным себе и не боялась, а совсем наоборот – такой у нее вспыхнул к нему интерес, какого не вызывал ни один парень из всех, которые обращали на нее внимание или даже признавались ей в любви; и первых, и вторых было немало.
И неожиданный этот интерес удивил Нэлу так, что она смотрела на него не отрываясь, словно было в нем что-то необыкновенное. Хотя, если судить объективно, ничего такого в нем не было. Никакой особенной красоты, не высокий, а коренастый, ей такое сложение никогда не нравилось, черты лица тоже незатейливые, только глаза, конечно…
– Я Антон, – сказал обладатель этих феерически синих глаз. – А тебя как звать?
– Нэла.
– Ого!
– Что – ого?
– Красивое имя. Я такого и не слышал. Ты не беспокойся, правда. Серега с Петькой тебя теперь за километр обходить будут.
– Тебя, что ли, побоятся? – фыркнула она.
– Не, есаула. Побоятся, ты ему скажешь, что они водку пили. У них насчет этого строго.
– У кого это у них?
– У казаков. Для них тут сухой закон, им даже пива не продают.
– А где же они тогда водку взяли? – спросила Нэла. – И пиво этот Серега тоже пил, – вспомнила она.
– Попросили кого-нибудь, им и купили. Да ладно, забудь! Пошли лучше тоже чего-нибудь купим, – предложил он.
– Водки? – хмыкнула она.
– Поесть. У меня кузьминки еще остались.
Кузьминками – в честь руководителя Культурной миссии, фамилия которого была Кузьмин, – назывались бумажки, которые здесь считались деньгами, ими можно было расплачиваться в двух корабельных магазинах. В одном магазине продавалась всякая ерунда вроде фонариков, тапок, шампуня и прочего подобного, а в другом еда. Кузьминки всем выдали при посадке, у Нэлы они тоже были, но она ничего на них не покупала.
– Поесть? – удивилась она. – А ты разве не ужинал?
– Так когда это было! Проголодался уже.
В Нэлином представлении ужин был совсем недавно, и нисколько она, конечно, не проголодалась. Но раз человек хочет…
– Пойдем, – кивнула она. – Купим поесть.
По дороге к продуктовому магазину Нэла забежала в свою каюту за кузьминками и обнаружила, что их у нее много. Это оказалось кстати: тех, что были у Антона, хватило только на один сэндвич с сыром, а она купила два, с ветчиной и с рыбой, и колбасу еще, и литр ряженки. Все это Нэла отдала Антону, уверив его, что совсем не голодная, и она в самом деле была не голодная, но это ее не удивляло, потому что она и дома ела как птичка, а вот то, что ей нравится смотреть, с каким аппетитом ест он, удивляло очень, потому что никогда прежде она даже внимания не обращала, кто как ест и ест ли вообще.
– А ты на корабле что делаешь? – спросил Антон, доев сэндвичи и распечатывая пакет с ряженкой. – Танцуешь?
– Не-а! – засмеялась Нэла. – Почему ты решил?
– Ну, такая потому что… Похожа на танцорку.
Она сказала бы, что он произнес это с оттенком смущения, если бы по всему его лихому облику можно было предположить, что он способен смущаться.
– Меня сюда родители пристроили, – сказала Нэла. – Они думали, что здесь будут какие-то необыкновенные люди.
– А здесь обыкновенные?
Вчера или даже час назад она ответила бы, что самые обыкновенные. Потому что дощечка с нарисованной женщиной и шаровары с лампасами совсем не казались ей чем-то выдающимся, и даже наоборот, она догадывалась, что такие вещи привлекают как раз тех, кто испытывает необходимость скрыть за ними собственную заурядность.
Да, час назад она так и сказала бы Антону. Но теперь назвать всех обитателей корабля обыкновенными было бы с ее стороны неправдой. Как раз он и оказался для нее человеком невиданным, потому что никто никогда не защищал ее от опасности, да еще с такой удалью.
Но не скажешь же ему такое! Нэла смутилась. К счастью, Антон не догадался о настоящей причине ее смущения.
– Стесняешься, что родители пристроили? – спросил он. – Да ну, брось! Меня тоже дядька сюда пристроил, что такого.
– А кто твой дядька? – обрадовавшись, что разговор таким естественным образом переключился с нее на него, спросила Нэла.
– Тоже вроде казака. – Антон улыбнулся. – Ты не думай, он нормальный, без штанов. В смысле, в штанах нормальных.
– А как это, что он вроде казака?
– Ну, он из Романова, город такой в Липецкой области. Их казаками вроде не считают. Но если разобраться, они казаки и есть.
– Ты из Липецкой области?
– Я из Нефтеюганска. Отец был из Романова, дядька и сейчас там живет. А я вообще не бывал.
– Тебя тоже людей посмотреть сюда пристроили?
– Нет. Мне в Гамбург надо. А тут бесплатно вышло добраться.
– А зачем тебе в Гамбург? – с интересом спросила Нэла.
Все-таки необычная вокруг него образовывалась география: Нефтеюганск, Романов какой-то, теперь вот Гамбург еще.
– Учиться, – ответил он. – Там университет есть, на экономику пойду.
– Тебе экономика нравится? – удивилась Нэла.
В ее представлении экономика была если не совсем скучной наукой – хотя ей самой вообще-то казалось, что совсем, – то все-таки не слишком подходящей для такого человека, как Антон. Хотя какого – такого? Ведь она его совсем не знает.
– Сейчас не до того, чтобы нравилось, – усмехнулся он.
– А до чего?
– Надо деньги учиться делать.
Такое назначение учебы показалось Нэле странным, но возражать она не стала, а спросила:
– Ты немецкий знаешь?
– Не, – помотал головой Антон.
– Ну да! – поразилась она. – Как же ты в Германии учиться собираешься?
– На месте разберусь.
Он и правда был необыкновенный, это ей не показалось. И бесстрашие, похоже, предназначалась у него не только для драки – он умел не думать о последстивиях, вот что в нем было. Ни на секунду не задумался ведь о том, что ему придется много дней жить бок о бок с человеком, которого он так лихо побил, и как этот человек себя поведет, вдруг мстить станет? И о том, как будет жить, да еще и учиться в Германии, не зная языка, не думает тоже, а вернее, не боится ничего с этим связанного. Никогда Нэла таких не видела, никого такого не знала!
А вообще-то она не знала ведь ни одного своего ровесника, который был бы не из Москвы или Петербурга. Была немного знакома с Таней Алифановой, та приехала из городка Болхова Орловской области и случайно оказалась в левертовском доме, немного – со школьниками из Лилля и из Лондона, с которыми практиковалась во французском и английском, когда те приезжали по школьному обмену в Москву. Но чтобы близко…
«А с ним я разве близко?» – подумала Нэла.
И сразу же сама себе ответила: «Да!»
И сразу ей стало радостно, и сразу она смутилась так, что даже в носу защекотало.
Она чувствовала близким себе человека, с которым у нее не было и быть не могло ничего общего. Ей нравилось смотреть, как он ест. Ей хотелось расспрашивать его, что за город этот Романов и почему он живет в Нефтеюганске. Ей совсем не хотелось с ним расставаться, хотя уже наступила ночь и море, на которое они смотрели, стоя у борта, расстилалось перед ними пугающей темной бездной. Впрочем, морская бездна не казалась ей пугающей, и корабль больше не выглядел сумасшедшим.
Читая книжки про любовь, Нэла всегда думала: а как их герои догадываются, что влюбились? Именно книжки вызывали у нее такую мысль, потому что когда про свою влюбленность говорили подружки, Нэла считала, они просто выдумывают, чтобы поинтересничать друг перед другом. А в книгах огромной гербольдовской библиотеки было про настоящую любовь, это она понимала. Но вот как настоящую любовь распознают, понять не могла даже из самых лучших книг.
И вдруг это стало ей понятно само собой, без единого слова, и в ту минуту, когда она этого совсем не ожидала, и по отношению к человеку, с которым ей даже в голову не пришло бы это связать. Какие неожиданные штуки вытворяет жизнь!
Глава 5
Неизвестно, начал ли ее бывший муж разбираться в архитектуре, но место для своего бюро он выбрал со вкусом. Или не красотой здания руководствовался при выборе, а только стоимостью аренды, или еще какой-нибудь причиной, ко вкусу не имеющей отношения? Впрочем, вкус к жизни у него был всегда, и даже слишком ярко выраженный.
Как бы там ни было, огороженная территория, которая называлась бизнес-парком, очень Нэле понравилось. О русской промышленной архитектуре эпохи модерна она делала когда-то сюжет для телеканала «Арте», поэтому красота зданий из каленого красного кирпича, гармоничных лужаек перед ними и высоких металлических лестниц, которые их опоясывали, была понятна не только взгляду ее, но и разуму.
– Что здесь раньше было? – спросила она, стоя у окна в Антоновом кабинете.
Из него была видна река и Лужнецкая набережная, и смотреть в окно было поэтому приятно.
– Да завод какой-то, – ответил он. – Если хочешь, узнаю.
– Я и сама узнаю, – улыбнулась Нэла.
Нет, не произошло в нем перемен. Работать в красивейшем месте Москвы, каждый день входить в здание, которое построено сто лет назад, даже не поинтересоваться, что за здание такое, потому что это не имеет отношения к делу, и руководить при том архитектурным бюро, – все это было очень в его духе.
Радоваться его неизменности или печалиться, было Нэле пока непонятно.
Кабинет Антона всем своим видом свидетельствовал о том, что профессия у хозяина современная и респектабельная. Это ощущение не возникало из-за невнятной дороговизны, а складывалось из множества выразительных деталей.
На маленьком высоком столике стоял деревянный многогранник – из дубового дерева, как Нэла на взгляд определила, – на нем деревянная же вазочка, из которой торчали острые зеленые травинки. В ту минуту как Нэла взглянула на нее, вазочка вдруг оторвалась от многогранника и стала медленно крутиться в нескольких сантиметрах над ним.
– Завораживает, да? – сказал Антон, заметив, что эта загадочная левитация привлекла Нэлино внимание. – Электромагнит включается, полюса отталкиваются – и пожалуйста. Травка эта тоже странная, не из земли питание берет, а из воздуха.
– Как из воздуха? – удивилась Нэла.
– Да черт ее знает. Корней, во всяком случае, у нее нет, земля ей не нужна. Даже воду наливать не надо, иногда опрыскивать только.
Впрочем, и это не свидетельствовало о том, что Антон переменился. Ему всегда было интересно необычное, так что левитирующая трава скорее была подтверждением такого интереса, чем неожиданной потребности в стильном интерьере. Да и вряд ли он сам интерьером своего кабинета занимался, наверняка специально обученные люди.
– Хорошо у тебя, – сказала Нэла.
– Правда? – обрадовался Антон. И неожиданно добавил: – Я, знаешь… Когда офис искал, то все время думал, понравится тебе или нет. Можешь не верить, но так.
Не было причин ему не верить. Но что ответить на его слова, Нэла так пока и не понимала.
– Чем же твое бюро занимается? – спросила она. – Чем заказчиков привлекаешь?
– Правильно мыслишь. – Антон посмотрел на нее с удивленным уважением. – Уникальное предложение требуется, да. Мы советские здания реконструируем, довоенные. А их же полна Москва, так что без работы не сидим. Первый наш проект. – Он кивнул на большую фотографию, висящую над его столом. – Фабрика-кухня была. Я когда впервые ее увидел, чуть не заплакал, ей-богу.
– Почему? – улыбнулась Нэла.
– Родину вспомнил.
– В Нефтеюганске такие дома были? – разглядывая здание на фотографии, спросила она. – Странно.
– Не было, конечно. Для Нефтеюганска и такое роскошь. Но все равно – стены желтые были, облупленные, сбоку лестница, такая, знаешь, вот-вот развалится… Родина, короче, без слез не взглянешь. А мы из нее вон что сделали.
Здание на фотографии действительно не вызывало слез. Оно смотрело на мир огромными, ритмично расположенными окнами со стальной окантовкой, стены были выкрашены в благородный зеленоватый цвет, наружная лестница вовсе не собиралась разваливаться, а наоборот, придавала его очертаниям ту мощную и гармоничную прагматику, которая составляла самую суть конструктивизма.
– Нравится? – спросил Антон.
– Да, – кивнула Нэла. – У тебя и правда талантливые люди работают.
– А я тебе вообще не… вру.
Она догадалась, что он хотел сказать, и поняла, почему не сказал. Хотел сказать «я тебе никогда не врал», но сказал «не вру», потому что как раз врал ей, а теперь думает, что это осталось в прошлом, но так это или нет, никому не известно, в том числе и ему самому, просто он всегда был подвержен иллюзии, будто то, что он чувствует сейчас, останется неизменным вечно.
А для нее эта иллюзия закончилась вместе с юностью, и поэтому она не может ответить ему так, как он, наверное, ожидает.
Нэла пришла к Антону, когда рабочий день, даже долгий, уже должен был закончиться. Ей не хотелось влиять на его планы и ни с кем в его бюро не хотелось пока знакомиться. Как он станет ее представлять? Он любит торопить события, а сейчас это совсем не нужно.
И теперь, глядя в окно, как вечер – июньский, ясный – окутывает город, золотом пронизывает реку, Нэла поймала себя на том, что через этот вечерний вид пытается воспроизвести чувство, которым была охвачена в тот вечер, когда они стояли у борта корабля, идущего по Балтике, Антон допивал ряженку, а она смотрела то на море, открыто, то на него, украдкой, и понимала, что влюбилась с первого взгляда, как Джульетта, хотя и непонятно, Ромео ли перед ней, и что это чувство действительно ни с каким другим не перепутаешь.
Но можно ли повторить его в себе после того как оно ушло, и надо ли его повторять или лучше понять, что и без него можно обходиться, в повседневной жизни уж точно? Она не знала.
– Я в офисе не каждый день бываю, так что работать можешь прямо в этом кабинете, – сказал Антон.
– Я еще не… – начала было Нэла.
– Сначала, конечно, в курс войти надо, – быстро перебил он. – Что мы делаем, что собираемся делать.
Он хотел, чтобы решение уже было ею принято. Он так этого хотел, что даже не считал нужным скрывать. И это было так странно, что Нэла не находила ответных слов, потому что не понимала причину неожиданного его к ней порыва. Как будто не было времени, когда они не виделись, как будто расстались друзьями и поддерживали добрые отношения, а не отшатнулись друг от друга, как будто нынешний ее приезд к нему был чем-то само собой разумеющимся…
Но ведь так не бывает, чтобы воспоминания о чувствах стали самими чувствами по одному только желанию, к тому же не обоюдному.
– Прямо сейчас в курс входить? – усмешкой скрывая свое недоумение, поинтересовалась она.
– Можешь и сейчас, – кивнул Антон. – Но вообще-то не к спеху. Сейчас можно и поужинать.
Опять в ресторан! Опять будет демонстрировать непринужденность, говорить о пустяках и налаживать отношения, как по учебнику прикладной психологии. Зачем это ей, зачем ему?
– Я к еде равнодушна, ты прекрасно знаешь, – резко проговорила Нэла. – Это не изменилось.
И сразу же ей стало его жалко. Он не столько расстроился, сколько растерялся, потому что не знал, что еще ей предложить. Да и кто бы знал? В ресторан же большей частью для того мужчина и зовет женщину, чтобы был повод провести вместе несколько часов, и не дети же они, чтобы Антон стал ее звать для этого на качели в Парк Горького!
«Мы ходим какими-то бессмысленными кругами, – подумала Нэла. – Примериваемся друг к другу, присматриваемся, переменились ли, взвешиваем слова, рассчитываем будущее… И ни к чему все это не ведет, только в тупик заводит. Сама виновата. Неприкаянности своей не выдержала – и пожалуйста, попала в бессмысленную, патовую ситуацию. Дура!»
Солнце ушло за край окна, кабинет погружался в сумрак, и глаза Антона стали в этом сумраке как глубина морская.
«Оказалась я между дьяволом и глубоким синим морем», – мелькнуло у Нэлы в голове.
Совершенно не к смыслу мелькнуло: английский фразеологизм – «между двух зол» называлось это по-русски – описывал безвыходную ситуацию, а в нынешней ситуации ничего безвыходного не было. Надо было просто признаться себе, что не вышло толку из ее умозрительных планов, проститься и уйти.
– Нэл, – сказал Антон, – поедем ко мне, а? Ну что нам кругами ходить?
И прежде чем она что-то сказала – а что хотела ему сказать? забыла! – он обошел столик с левитирующей травой и взял Нэлу за плечи. Руки у него были такие горячие, что она почувствовала это сквозь батист блузки, а лицо – бледное, как от холода.
– Пойдем, – повторил он. – Прости меня.
Он всегда умел отдаваться своей искренности безоглядно, с полной силой. И всегда это Нэлу поражало, и сейчас, глядя на его бледное лицо с потемневшими глазами, она поняла, что власть, которую его искренность имела над ними обоими, не ослабела с годами.
Она быстро коснулась виском его виска и, не высвобождаясь из его рук, сделала шаг к дверям, едва ощутимый, но он почувствовал ее движение, конечно, и радость осветила его лицо.
Уже в дверях Нэла оглянулась. Прекрасный вечерний свет падал на фотографию, совершенное здание смотрело с нее всеми огромными окнами, и живая сила этого взгляда поразила ее.
Глава 6
– Я не думала, что ты здесь поселишься, – сказала Нэла.
– А я думал.
Машина въехала во двор, опустился за ней шлагбаум. Высокий, этажей в двадцать, узкий дом торчал посреди просторного двора, как клык какого-то гигантского существа, но не вымершего, а наоборот, набирающего силу.
Въехали в подземный гараж, свернули, повернули, остановились, вышли из машины, вошли в лифт, поднялись на какой-то высокий этаж. В металлической коробочке лифта волнение Антона чувствовалось как электричество в предгрозовом воздухе, и так же, как грозовое электричество, тревожило и будоражило Нэлу.
Вошли в квартиру, из прихожей – в большую комнату с карамельными стенами.
– Ну вот, – сказал Антон. – Здесь живу.
Нэла молчала. Цвет у стен ужасный, но это не важно. Что еще есть в этой комнате, кроме стен – мебель, лампы – она не видела. Или просто не могла на них сосредоточиться.
Надо взять себя в руки, направить внимание на что-нибудь выразительное, это всегда помогало.
Окно было большое, на всю стену. Нэла подошла к нему. Антон молча стоял посередине комнаты.
Панорама, открывающаяся из окна, захватывала поселок Сокол – его сады, зеленую толпу деревьев, среди которых виднелись покатые крыши невысоких домов.
– Я не думала, что ты поселишься здесь, – повторила Нэла.
– А я именно здесь и хотел.
Антон шагнул неслышно, но она почувствовала, что он уже стоит совсем близко у нее за спиной.
– Почему? – не оборачиваясь, спросила она.
– Объяснение глупое.
– А то ты все от большого ума всегда делал!
«Да и я тоже».
– Думал: если ты в Москву приедешь, в это окно тебя увижу.
– Врешь.
– Ну, немного. В смысле, не то чтобы думал, а так… мелькнуло.
Он положил руки ей на плечи. Жар в них не угас. Она повернулась к нему. Или сам он повернул ее к себе? Это уже не имело значения. Они смотрели друг другу в глаза, и Нэла чувстовала, что ее глаза блестят тем же волнением, которое она видит прямо перед собою. Но ей не пришлось долго вглядываться в блеск его глаз – Антон поцеловал ее.
«Не изменилось и это», – успела она подумать за те секунды, пока сильный разряд разлетался по всему ее телу, от губ до макушки и пяток.
Наверное, далее должно было бы следовать полное исчезновение мыслей в волнах страсти, но вместо этого последовал смех – Нэла не смогла его сдержать.
– Я и сама до кровати дойду! – Она попыталась снова встать на пол. – Незачем надрываться, Антон!
– Да с чего тут надрываться, ты ж как спичка. Какая была, такая и осталась.
– Ты тоже. Не можешь без спецэффектов. Не удивлюсь, если в ванну налито шампанское.
– Не налито. – Он все-таки смутился от Нэлиных слов – или рассердился, может? – и поставил ее на пол. – Но могу налить.
– Не надо. – Она быстро поцеловала его в нахмуренный лоб. – Пойдем.
В спальне стены были уже чистым кошмаром – цвета раздавленной земляники, чуть приглушенного лишь потому, что шторы почти не пропускали вечернего света. Но вот тут уже все Нэлины мысли действительно исчезли – превратились в дыхание. И в прерывистом этом дыхании она успевала только отвечать на Антоновы поцелуи.
Кровать занимала полкомнаты – он сбросил покрывало на пол и так же быстро стал бросать на пол одежду, которую снимал с себя. Нэла не отводила от него взгляда и поняла, что сама в это время раздевалась тоже, только когда Антон лег на кровать. Он смотрел на нее, не произнося ни слова – похоже, до сих пор не верил, что она ляжет с ним. Нэла завороженно смотрела, как поблескивают его глаза в сумраке. Очертания его тела завораживали ее не меньше, чем этот блеск.
Когда-то она теряла разум не то что от его прикосновения – от одного вида его голых плеч. Потом обида это перекрыла, потом и обида прошла – все растворилось в обыденном течении жизни. Как будет теперь, Нэла не знала. Но как бы ни было, понять это можно только… Она легла рядом с Антоном, перевернулась на живот, оперлась подбородком на руки, чтобы видеть его прямо перед собою. Он взял ее под мышки, притянул, положил на себя. Нэла почувствовала, что одновременно соприкасаются и пальцы их ног, и губы, и вся она соприкасается поэтому с ним, каждой клеткой кожи.
– Хорошо, что мы с тобой одного роста, – прямо в его губы сказала она.
– Да, удобно.
Он произнес это ровно, почти с усмешкой, но тут же, почувствовав, как раздвигаются ее ноги, вздрогнул и вскрикнул, как от боли. Она испугалась бы даже, если бы не знала и дрожи этой, и вскрика.
Нэла обняла его – плечи, ноги, всего его обняла всем своим телом – и сразу поняла, что он даже не вспомнил ее тело, а соединился с ним так, как соединяются части замысловатой головоломки: крутит-вертит ее кто-то неумелый, ничего у него не получается, и вдруг делает верное движение, и беспорядочные выступы и вырезы совпадают, и непонятно, как же сразу не получилось, ведь это так просто, ведь единственно возможное…
Долго же крутил-вертел ее тот неумелый кто-то! А зачем? Неизвестно.
Но известно, что мужчина, с которым жизнь свела ее снова – ну или сама она подтолкнула к нему свою жизнь, – подходит ко всем впадинам и выступам ее тела так, как не подходит никто. Что уж там дальше будет, это опять-таки неизвестно, но сейчас, на волнующейся под ними, как море, кровати, в сумраке, который все больше скрывает все внешнее, делает невидимым и цвет стен, и морщинки у ее губ, – сейчас они слились и сплелись в том самозабвении, в котором верно каждое движение, и каждый поцелуй, и каждая отрывистая, не имеющая ни начала, ни конца фраза.
– Побудь… так побудь… милая…
– Да… да!
Антон приподнял Нэлу и, касаясь ее груди то легко, то почти грубо, помогал ее движениям, потом вдруг вскинулся, обнял ее так, что кости хрустнули, перевернулся – и соединение их, общее их движение продолжалось уже по-другому, но с прежней сладостью, не с той сладостью, которую чувствуешь рецепторами, как конфету, а с той, которую Суламифь как песнь чувствовала с царем Соломоном.
Не были похожи на песнь их голоса в ту минуту, когда невозможно уже стало длить все это дольше. И все-таки путь от той давней песни к происходящему с ними сейчас был прямой.
В комнате стало уже совсем темно. Потолок с миражными пульсирующими пятнами плыл перед Нэлиными глазами, потому что у нее кружилась голова. Голова лежала на сгибе Антонова локтя, и если бы Нэла не чувствовала затылком этот сгиб, то, пожалуй, и сознание потеряла бы.
– Нэлка, как же я рад, что ты ко мне вернулась.
Голос у него был хриплый, будто он сорвал его. А и сорвал, может. Ни собою он не управлял всего пять минут назад, ни тем более своим голосом.
Нэла не знала, что сказать на его слова. Тело ее вернулось к нему точно, в этом она убедилась, только ведь жизнь больше, чем тело…
Но говорить об этом вслух было бы такой же невыносимой пошлостью, как рассуждать о том, что такое любовь. Ей было неловко уже от того, что мелькнула в голове Песнь песней; это было явным преувеличением для секса. Поэтому она молчала. Да и он ведь о любви не заговаривал – только о практической плоскости отношений: хорошо, что вернулась. Что ему было хорошо, не вызывало сомнений: пот поблескивал на его груди, на плечах крупными каплями, и во всем теле чувствовалась блаженная усталость.
Пятна у Нэлы перед глазами погасли, голова наконец перестала кружиться. Осталось круженье в каждой клетке тела, но это было приятно. Скосив взгляд, Нэла посмотрела на Антона. Лицо его было где-то над ней, но тело она видела ясно. И видела таким же, каким только что почувствовала в себе – не изменившимся.
Когда он впервые разделся перед ней, ее поразило, что она не знает его даже внешне. В одежде он выглядел крепким и коренастым, ей не нравилось такое сложение, но без одежды вдруг оказалось, что оно точно как у юного Давида. Нэла поняла это потому, что как раз перед той встречей с Антоном съездила в Рим и увидела настоящего Давида, микеланджеловского, а не гигантскую копию в Итальянском дворике Пушкинского музея. «Если бы Давида одеть в джинсы и футболку, он был бы точно такой, как ты», – сказала она той ночью, а Антон не понял даже, о ком это она, но им обоим это было той ночью неважно.
– Ужасные у тебя здесь стены, – сказала она. – Чувствуешь себя мухой в банке с вареньем. И зачем тебе столько кресел в гостиной? Кинотеатр какой-то.
Глубокие кожаные кресла, приставленные друг к другу, образовывали что-то вроде длинного дивана, он стоял в соседней комнате вдоль стены перед огромным телевизором; Нэла вспомнила это только теперь. Она была приметлива, но когда вошла с Антоном в его квартиру, все словно выключилось в ней, и приметливость тоже. А теперь вот всплыло в памяти то, что полчаса назад безотчетно в ней отпечаталось.
– Да, та еще обстановочка. – Антон кивнул, это движение отдалось в его руке и сразу же – во всем Нэлином теле, напомнило о том, чего ее тело теперь, отдыхая, уже хотело снова. – Но я же эту квартиру только что купил, с мебелью, даже с чашками-ложками.
– Ой, а я к этому так и не привыкла!
– К чему?
– К чужим вещам, к посуде, которой чужие люди пользовались. Постоянно ведь квартиры меняю, всегда они с мебелью, бывает, что и с посудой тоже, но как-то мне…
Она хотела сказать, что ей от этого до сих пор как-то не по себе, что это нагоняет на нее уныние… Но не сказала. Незачем ему знать, как тяжела ей стала неприкаянность.
– Нет, здесь все новое было, – сказал Антон. – Чистое, вообще не тронутое.
– Разве в Москве посуду вместе с квартирами продают? – не поняла Нэла.
Все-таки она бывала в Москве хоть и часто, но коротко, да и не интересовалась такими вещами.
– А эту не собирались продавать. Для себя обставлялись. Сейчас под Москвой целые поселки такие стоят, – сказал Антон. – Я на сайте продаж включал просмотры – аж жутковато. То ли заколдованное царство, то ли нейтронная бомба упала.
– Почему?
Он не ответил. Но она уже и сама догадалась: люди строили дома, готовились в них жить, а потом поняли, что надо уезжать.
– Так что квартира мне недорого досталась, – словно догадавшись о ее мыслях, сказал Антон. И, помолчав, неожиданно добавил: – Знаешь, как я понял, что хочу с тобой встретиться?
– Ну, как?
Нэла повернулась на бок, чтобы видеть его лицо. Оно было отчасти довольное, отчасти усталое, отчасти непонятное, и только теперь, вглядываясь в это сложное соединение чувств на его лице, она поняла, что изменилось в нем за те годы, когда они не виделись: простоватость, которая так явственна была в молодости, исчезла совсем, и оказалось, что она не была неотъемлемоей приметой его внешности, а скорее искажала его черты. Что-то, что Нэла назвала бы печалью, высветило их теперь, прояснило.
– Сидел в лобби возле бара, вдруг вижу, женщина входит, – сказал Антон. – Через стеклянную дверь крутящуюся, медленно, можно разглядеть. И точно – ты. Меня аж в пот шибануло, руки затряслись, чуть рюмку не выронил.
– Красивая женщина?
Нэла еле сдержала улыбку.
– Обыкновенная.
Тут уж она сдержаться не могла, затряслась от смеха. Что лучше бы ответить «красивая», раз уж назвал женщину похожей на нее – нет, о таком ему не догадаться!
– Она тоже к бару подошла, взяла коктейль. – Наверное, Антон волновался; во всяком случае, на Нэлин смех внимания не обратил. – Я на нее пялился как последний идиот. Или как шпион перед вербовкой – изучал. Все твое, глаза такие точно, до висков… Прическа даже. Не такая, как сейчас, а как на корабле тогда – хвост вверх, как у морковки. Я к ней подошел.
– Кто бы сомневался!
– Подошел, поговорил. Так, о ерунде какой-то, просто чтобы голос услышать. Это не ты была, конечно, – уточнил он.
– Я догадалась.
– И вообще… В общем, совсем не ты. Поболтали, и она к себе в номер ушла.
– А ты взял еще коньяка.
– Не помню, что взял. Но тогда и понял…
Он тоже повернулся на бок и посмотрел на Нэлу уже не искоса, а в упор, с тем же тревожным блеском, который был в его глазах, когда он звал ее пойти с ним сюда, и который, ей казалось, исчез, когда они лежали рядом, отдыхая. Но нет, не исчезло его волнение, даже усилилось.
– Что ты понял, Тоник? – тихо проговорила Нэла.
Она сама придумала так его называть, его сердило это прозвище, а она считала, очень даже подходит – от слова тонизировать.
– Что ты мне не безразлична, скажем так. Хотя тебя, если честно, у меня даже в мыслях до того момента не было. А после того я о тебе начал думать. Ну и… Это на Карибах было, – оборвал он себя. – На яхте ходил между островами.
– Я была на Карибах, – сказала Нэла. – Там франжипани растет. Маленькое такое деревце, запах нежный, бело-золотые цветы. Его еще плюмерия называют. Или лилавади.
– Сама ты лилавади! – Он согнул руку, и, мгновенно притянувшись от этого к нему, Нэла ткнулась носом в его губы. – Что у тебя в голове, Нэлка, один черт знает!
Они принялись целоваться, и желание охватило их снова.
– Неужели ты к той женщине в номер не поднялся? – зачем-то стараясь одолеть свое желание, спросила Нэла. – Не верю.
– Да ничего же она не значит, Нэл.
– А что – значит?
– Я об нее запнулся просто, и о тебе поэтому начал думать, и… Все после того вернулось, вот что.
Глава 7
Когда Нэла вошла в дом, родители уже были одеты в дорогу и мама укладывала последние мелочи в сумку, предназначенную для ручной клади.
– Дочь, ну нельзя же так! – укоризненно воскликнул папа. – Где ты ходишь на ночь глядя? На год ведь уезжаем. Уже подумали, что и не простимся с тобой.
Нэла только теперь сообразила, что надо было позвонить, предупредить родителей, что она придет их проводить. Правда, еще полчаса назад она не была уверена, что придет, вернее, только чудом вспомнила, что ночью они улетают. Как-то чересчур ее тонизировал секс с бывшим мужем, все в голове перевернулось.
– Я вообще подумала, что ты и сама уже обратно улетела, может быть, – сказала мама.
– Я не улетела, – ответила Нэла. – Я здесь пока поживу… наверное. Мне работу интересную предлагают, – поспешно добавила она.
– Ты увиделась с Антоном, – то ли спрашивая, то ли утверждая и не отрываясь при этом от возни с заевшей молнией на сумке, сказала мама.
– Ну… да. Как ты догадалась?
– По твоему смятенному виду.
– Это плохо, что увиделась? – почти жалобно спросила Нэла.
– Я считала бы это нейтральным событием. Просто фактом действительности. Во всяком случае, пока это не начало корежить твою жизнь.