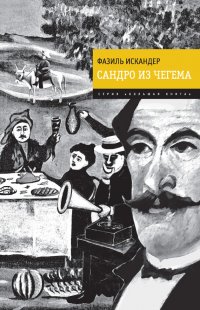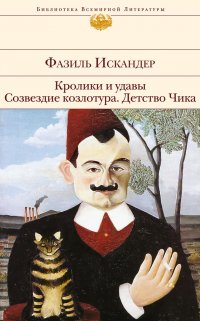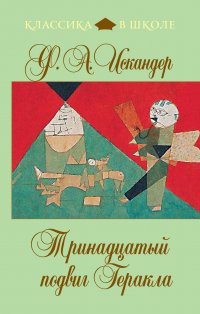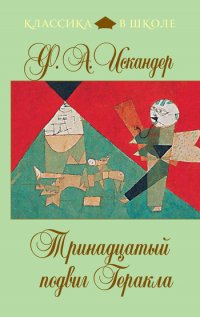
Читать онлайн Тринадцатый подвиг Геракла (сборник) бесплатно
- Все книги автора: Фазиль Искандер
Тринадцатый подвиг Геракла
Все математики, с которыми мне приходилось встречаться в школе и после школы, были людьми неряшливыми, слабохарактерными и довольно гениальными. Так что утверждение насчет того, что пифагоровы штаны якобы во все стороны равны, навряд ли абсолютно точно.
Возможно, у самого Пифагора так оно и было, но его последователи, наверно, об этом забыли и мало обращали внимания на свою внешность.
И все-таки был один математик в нашей школе, который отличался от всех других. Его нельзя было назвать слабохарактерным, ни тем более неряшливым. Не знаю, был ли он гениален, – сейчас это трудно установить. Я думаю, скорее всего был.
Звали его Харлампий Диогенович. Как и Пифагор, он был по происхождению грек. Появился он в нашем классе с нового учебного года. До этого мы о нем не слышали и даже не знали, что такие математики могут быть.
Он сразу же установил в нашем классе образцовую тишину. Тишина стояла такая жуткая, что иногда директор испуганно распахивал дверь, потому что не мог понять, на месте мы или сбежали на стадион.
Стадион находился рядом со школьным двором и постоянно, особенно во время больших состязаний, мешал педагогическому процессу. Директор даже писал куда-то, чтобы его перенесли в другое место. Он говорил, что стадион нервирует школьников. На самом деле нас нервировал не стадион, а комендант стадиона дядя Вася, который безошибочно нас узнавал, даже если мы были без книжек, и гнал нас оттуда со злостью, не угасающей с годами.
К счастью, нашего директора не послушались и стадион оставили на месте, только деревянный забор заменили каменным. Так что теперь приходилось перелезать и тем, которые раньше смотрели на стадион через щели в деревянной ограде.
Все же директор наш напрасно боялся, что мы можем сбежать с урока математики. Это было немыслимо. Это было все равно что подойти к директору на перемене и молча скинуть с него шляпу, хотя она всем порядочно надоела. Он всегда, и зимой и летом, ходил в одной шляпе, вечнозеленой, как магнолия. И всегда чего-нибудь боялся.
Со стороны могло показаться, что он больше всего боялся комиссии из гороно, на самом деле он больше всего боялся нашего завуча. Это была демоническая женщина. Когда-нибудь я напишу о ней поэму в байроновском духе, но сейчас я рассказываю о другом.
Конечно, мы никак не могли сбежать с урока математики. Если мы вообще когда-нибудь и сбегали с урока, то это был, как правило, урок пения.
Бывало, только входит наш Харлампий Диогенович в класс, сразу все затихают, и так до самого конца урока. Правда, иногда он нас заставлял смеяться, но это был не стихийный смех, а веселье, организованное сверху самим же учителем. Оно не нарушало дисциплины, а служило ей, как в геометрии доказательство от обратного.
Происходило это примерно так. Скажем, иной ученик чуть припоздает на урок, ну примерно на полсекунды после звонка, а Харлампий Диогенович уже входит в дверь. Бедный ученик готов провалиться сквозь пол. Может, и провалился бы, если б прямо под нашим классом не находилась учительская.
Иной учитель на такой пустяк не обратит внимания, другой сгоряча выругает, но только не Харлампий Диогенович. В таких случаях он останавливался в дверях, перекладывал журнал из руки в руку и жестом, исполненным уважения к личности ученика, указывал на проход.
Ученик мнется, его растерянная физиономия выражает желание как-нибудь понезаметней проскользнуть в дверь после учителя. Зато лицо Харлампия Диогеновича выражает радостное гостеприимство, сдержанное приличием и пониманием необычности этой минуты. Он дает знать, что само появление такого ученика – редчайший праздник для нашего класса и лично для него, Харлампия Диогеновича, что его никто не ожидал, и раз уж он пришел, никто не посмеет его упрекнуть в этом маленьком опозданьице, тем более он, скромный учитель, который, конечно же, пройдет в класс после такого замечательного ученика и сам закроет за ним дверь в знак того, что дорогого гостя не скоро отпустят.
Все это длится несколько секунд, и в конце концов ученик, неловко протиснувшись в дверь, спотыкающейся походкой идет на свое место.
Харлампий Диогенович смотрит ему вслед и говорит что-нибудь великолепное. Например:
– Принц Уэльский.
Класс хохочет. И хотя мы не знаем, кто такой принц Уэльский, мы понимаем, что в нашем классе он никак не может появиться. Ему просто здесь нечего делать, потому что принцы в основном занимаются охотой на оленей. И если уж ему надоест охотиться за своими оленями и он захочет посетить какую-нибудь школу, то его обязательно поведут в первую школу, что возле электростанции. Потому что она образцовая. В крайнем случае, если б ему вздумалось прийти именно к нам, нас бы давно предупредили и подготовили класс к его приходу.
Потому-то мы и смеялись, понимая, что наш ученик никак не может быть принцем, тем более каким-то Уэльским.
Но вот Харлампий Диогенович садится на место. Класс мгновенно смолкает. Начинается урок.
Большеголовый, маленького роста, аккуратно одетый, тщательно выбритый, он властно и спокойно держал класс в руках. Кроме журнала, у него был блокнотик, куда он что-то вписывал после опроса. Я не помню, чтобы он на кого-нибудь кричал, или уговаривал заниматься, или грозил вызвать родителей в школу. Все эти штучки были ему ни к чему.
Во время контрольных работ он и не думал бегать между рядами, заглядывать в парты или там бдительно вскидывать голову при всяком шорохе, как это делали другие. Нет, он спокойно читал себе что-нибудь или перебирал четки с бусами, желтыми, как кошачьи глаза.
Списывать у него было почти бесполезно, потому что он сразу узнавал списанную работу и начинал высмеивать ее. Так что списывали мы только в самом крайнем случае, если уж никакого выхода не было.
Бывало, во время контрольной работы оторвется от своих четок или книги и говорит:
– Сахаров, пересядьте, пожалуйста, к Авдеенко.
Сахаров встает и смотрит на Харлампия Диогеновича вопросительно. Он не понимает, зачем ему, отличнику, пересаживаться к Авдеенко, который плохо учится.
– Пожалейте Авдеенко, он может сломать шею.
Авдеенко тупо смотрит на Харлампия Диогеновича, как бы не понимая, а может быть, и в самом деле не понимая, почему он может сломать шею.
– Авдеенко думает, что он лебедь, – поясняет Харлампий Диогенович. – Черный лебедь, – добавляет он через мгновение, намекая на загорелое, угрюмое лицо Авдеенко. – Сахаров, можете продолжать, – говорит Харлампий Диогенович.
Сахаров садится.
– И вы тоже, – обращается он к Авдеенко, но что-то в голосе его едва заметно сдвинулось. В него влилась точно дозированная порция насмешки. – …Если, конечно, не сломаете шею… черный лебедь! – твердо заключает он, как бы выражая мужественную надежду, что Александр Авдеенко найдет в себе силы работать самостоятельно.
Шурик Авдеенко сидит, яростно наклонившись над тетрадью, показывая мощные усилия ума и воли, брошенные на решение задачи.
Главное оружие Харлампия Диогеновича – это делать человека смешным. Ученик, отступающий от школьных правил, – не лентяй, не лоботряс, не хулиган, просто смешной человек. Вернее, не просто смешной, на это, пожалуй, многие согласились бы, но какой-то обидно смешной. Смешной, не понимающий, что он смешной, или догадывающийся об этом последним.
И когда учитель выставляет тебя смешным, сразу же распадается круговая порука учеников, и весь класс над тобой смеется. Все смеются против одного. Если над тобой смеется один человек, ты можешь еще как-нибудь с этим справиться. Но невозможно пересмеять весь класс. И если уж ты оказался смешным, хотелось во что бы то ни стало доказать, что ты хоть и смешной, но не такой уж окончательно смехотворный.
Надо сказать, что Харлампий Диогенович не давал никому привилегии. Смешным мог оказаться каждый. Разумеется, я тоже не избежал общей участи.
В тот день я не решил задачу, заданную на дом. Там было что-то про артиллерийский снаряд, который куда-то летит с какой-то скоростью и за какое-то время. Надо было узнать, сколько километров пролетел бы он, если бы летел с другой скоростью и чуть ли не в другом направлении.
В общем, задача была какая-то запутанная и глупая. У меня решение никак не сходилось с ответом. А между прочим, в задачниках тех лет, наверное, из-за вредителей, ответы иногда бывали неверные. Правда, очень редко, потому что их к тому времени почти всех переловили. Но, видно, кое-кто еще орудовал на воле.
Но некоторые сомнения у меня все-таки оставались. Вредители вредителями, но, как говорится, и сам не плошай.
Поэтому на следующий день я пришел в школу за час до занятий. Мы учились во вторую смену. Самые заядлые футболисты были уже на месте. Я спросил у одного из них насчет задачи, оказалось, что и он ее не решил. Совесть моя окончательно успокоилась. Мы разделились на две команды и играли до самого звонка.
И вот входим в класс. Еле отдышавшись, на всякий случай спрашиваю у отличника Сахарова:
– Ну, как задача?
– Ничего, – говорит он, – решил.
При этом он коротко и значительно кивнул головой в том смысле, что трудности были, но мы их одолели.
– Как решил, ведь ответ неправильный?
– Правильный, – кивает он мне головой с такой противной уверенностью на умном добросовестном лице, что я его в ту же минуту возненавидел за благополучие, хотя и заслуженное, но тем более неприятное. Я еще хотел посомневаться, но он отвернулся, отняв у меня последнее утешение падающих: хвататься руками за воздух.
Оказывается, в это время в дверях появился Харлампий Диогенович, но я его не заметил и продолжал жестикулировать, хотя он стоял почти рядом со мной. Наконец я догадался, в чем дело, испуганно захлопнул задачник и замер.
Харлампий Диогенович прошел на место.
Я испугался и ругал себя за то, что сначала согласился с футболистом, что задача неправильная, а потом не согласился с отличником, что она правильная. А теперь Харлампий Диогенович, наверное, заметил мое волнение и первым меня вызовет.
Рядом со мной сидел тихий и скромный ученик. Звали его Адольф Комаров. Теперь он себя называл Аликом и даже на тетради писал «Алик», потому что началась война и он не хотел, чтобы его дразнили Гитлером. Все равно все помнили, как его звали раньше, и при случае напоминали ему об этом.
Я любил разговаривать, а он любил сидеть тихо. Нас посадили вместе, чтобы мы влияли друг на друга, но, по-моему, из этого ничего не получилось. Каждый оставался таким, каким был.
Сейчас я заметил, что даже он решил задачу. Он сидел над своей раскрытой тетрадью, опрятный, худой и тихий, и оттого, что руки его лежали на промокашке, он казался еще тише. У него была такая дурацкая привычка – держать руки на промокашке, от чего я его никак не мог отучить.
– Гитлер капут, – шепнул я в его сторону. Он, конечно, ничего не ответил, но хоть руки убрал с промокашки, и то стало легче.
Между тем Харлампий Диогенович поздоровался с классом и уселся на стул. Он слегка вздернул рукава пиджака, медленно протер нос и рот носовым платком, почему-то посмотрел после этого в платок и сунул его в карман. Потом он снял часы и начал листать журнал. Казалось, приготовления палача пошли быстрей.
Но вот он отметил отсутствующих и стал оглядывать класс, выбирая жертву. Я затаил дыхание.
– Кто дежурный? – неожиданно спросил он. Я вздохнул, благодарный ему за передышку.
Дежурного не оказалось, и Харлампий Диогенович заставил самого старосту стирать с доски. Пока он стирал, Харлампий Диогенович внушал ему, что должен делать староста, когда нет дежурного. Я надеялся, что он расскажет по этому поводу какую-нибудь притчу из школьной жизни, или басню Эзопа, или что-нибудь из греческой мифологии. Но он ничего не стал рассказывать, потому что скрип сухой тряпки о доску был неприятен и он ждал, чтобы староста скорей кончил свое нудное протирание. Наконец староста сел.
Класс замер. Но в это мгновение раскрылась дверь и в дверях появились доктор с медсестрой.
– Извините, это пятый «А»? – спросила доктор.
– Нет, – сказал Харлампий Диогенович с вежливой враждебностью, чувствуя, что какое-то санитарное мероприятие может сорвать ему урок. Хотя наш класс был почти пятый «А», потому что он был пятый «Б», он так решительно сказал «нет», как будто между нами ничего общего не было и не могло быть.
– Извините, – сказала доктор еще раз и, почему-то нерешительно помешкав, закрыла дверь.
Я знал, что они собираются делать уколы против тифа. В некоторых классах уже делали. Об уколах заранее никогда не объявляли, чтобы никто не мог улизнуть или, притворившись больным, остаться дома.
Уколов я не боялся, потому что мне делали массу уколов от малярии, а это самые противные из всех существующих уколов.
И вот внезапная надежда, своим белоснежным халатом озарившая наш класс, исчезла. Я этого не мог так оставить.
– Можно, я им покажу, где пятый «А»? – сказал я, обнаглев от страха.
Два обстоятельства в какой-то мере оправдывали мою дерзость. Я сидел против двери, и меня часто посылали в учительскую за мелом или еще за чем-нибудь. А потом пятый «А» был в одном из флигелей при школьном дворе, и докторша в самом деле могла запутаться, потому что она у нас бывала редко, постоянно она работала в первой школе.
– Покажите, – сказал Харлампий Диогенович и слегка приподнял брови.
Стараясь сдерживаться и не выдавать своей радости, я выскочил из класса.
Я догнал докторшу и медсестру еще в коридоре нашего этажа и пошел с ними.
– Я покажу вам, где пятый «А», – сказал я. Докторша улыбнулась так, как будто она не уколы делала, а раздавала конфеты.
– А нам что, не будете делать? – спросил я.
– Вам на следующем уроке, – сказала докторша, все так же улыбаясь.
– А мы уходим в музей на следующий урок, – сказал я несколько неожиданно даже для себя.
Вообще-то у нас шли разговоры о том, чтобы организованно пойти в краеведческий музей и осмотреть там следы стоянки первобытного человека. Но учительница истории все время откладывала наш поход, потому что директор боялся, что мы не сумеем пойти туда организованно.
Дело в том, что в прошлом году один мальчик из нашей школы стащил оттуда кинжал абхазского феодала, чтобы сбежать с ним на фронт. По этому поводу был большой шум, и директор решил, что все получилось так потому, что класс пошел в музей не в шеренгу по два, а гурьбой.
На самом деле этот мальчик все заранее рассчитал. Он не сразу взял кинжал, а сначала сунул его в солому, которой была покрыта Хижина Дореволюционного Бедняка. А потом, через несколько месяцев, когда все успокоилось, он пришел туда в пальто с прорезанной подкладкой и окончательно унес кинжал.
– А мы вас не пустим, – сказала докторша шутливо.
– Что вы, – сказал я, начиная волноваться, – мы собираемся во дворе и организованно пойдем в музей.
– Значит, организованно?
– Да, организованно, – повторил я серьезно, боясь, что она, как и директор, не поверит в нашу способность организованно сходить в музей.
– А что, Галочка, пойдем в пятый «Б», а то и в самом деле уйдут, – сказала она и остановилась. Мне всегда нравились такие чистенькие докторши в беленьких чепчиках и в беленьких халатах.
– Но ведь нам сказали сначала в пятый «А», – заупрямилась эта Галочка и строго посмотрела на меня. Видно было, что она всеми силами корчит из себя взрослую.
Я даже не посмотрел в ее сторону, показывая, что никто и не думает считать ее взрослой.
– Какая разница, – сказала докторша и решительно повернулась.
– Мальчику не терпится испытать мужество, да?
– Я малярик, – сказал я, отстраняя личную заинтересованность, – мне уколы делали тыщу раз.
– Ну, малярик, веди нас, – сказала докторша, и мы пошли.
Убедившись, что они не передумают, я побежал вперед, чтобы устранить связь между собой и их приходом.
Когда я вошел в класс, у доски стоял Шурик Авдеенко, и, хотя решение задачи в трех действиях было написано на доске его красивым почерком, объяснить решение он не мог. Вот он и стоял у доски с яростным и угрюмым лицом, как будто раньше знал, а теперь никак не мог припомнить ход своей мысли.
«Не бойся, Шурик, – думал я, – ты ничего не знаешь, а я тебя уже спас». Хотелось быть ласковым и добрым.
– Молодец, Алик, – сказал я тихо Комарову, – такую трудную задачу решил.
Алик у нас считался способным троечником. Его редко ругали, зато еще реже хвалили. Кончики ушей у него благодарно порозовели. Он опять наклонился над своей тетрадью и аккуратно положил руки на промокашку. Такая уж у него была привычка.
Но вот распахнулась дверь, и докторша вместе с этой Галочкой вошли в класс. Докторша сказала, что так, мол, и так, надо ребятам делать уколы.
– Если это необходимо именно сейчас, – сказал Харлампий Диогенович, мельком взглянув на меня, – я не могу возражать. Авдеенко, на место, – кивнул он Шурику.
Шурик положил мел и пошел на место, продолжая делать вид, что вспоминает решение задачи.
Класс заволновался, но Харлампий Диогенович приподнял брови, и все притихли. Он положил в карман свой блокнотик, закрыл журнал и уступил место докторше. Сам он присел рядом за парту. Он казался грустным и немного обиженным.
Доктор и девчонка раскрыли свои чемоданчики и стали раскладывать на столе баночки, бутылочки и враждебно сверкающие инструменты.
– Ну, кто из вас самый смелый? – сказала докторша, хищно высосав лекарство иглой и теперь держа эту иглу острием кверху, чтобы лекарство не вылилось.
Она это сказала весело, но никто не улыбнулся, все смотрели на иглу.
– Будем вызывать по списку, – сказал Харлампий Диогенович, – потому что здесь сплошные герои.
Он раскрыл журнал.
– Авдеенко, – сказал Харлампий Диогенович и поднял голову.
Класс нервно засмеялся. Докторша тоже улыбнулась, хотя и не понимала, почему мы смеемся.
Авдеенко подошел к столу, длинный, нескладный, и по лицу его было видно, что он так и не решил, что лучше, получить двойку или идти первым на укол.
Он заголил рубаху и теперь стоял спиной к докторше, все такой же нескладный и не решивший, что же лучше. И потом, когда укол сделали, он не обрадовался, хотя теперь весь класс ему завидовал.
Алик Комаров все больше и больше бледнел. Подходила его очередь. И хотя он продолжал держать свои руки на промокашке, видно, это ему не помогало.
Я старался как-нибудь его расхрабрить, но ничего не получалось. С каждой минутой он делался все строже и бледней. Он не отрываясь смотрел на докторскую иглу.
– Отвернись и не смотри, – говорил я ему.
– Я не могу отвернуться, – отвечал он затравленным шепотом.
– Сначала будет не так больно. Главная боль, когда будут впускать лекарство, – подготавливал я его.
– Я худой, – шептал он мне в ответ, едва шевеля белыми губами, – мне будет очень больно.
– Ничего, – отвечал я, – лишь бы в кость не попала иголка.
– У меня одни кости, – отчаянно шептал он, – обязательно попадут.
– А ты расслабься, – говорил я ему, похлопывая его по спине, – тогда не попадут.
Спина его от напряжения была твердая, как доска.
– Я и так слабый, – отвечал он, ничего не понимая, – я малокровный.
– Худые не бывают малокровными, – строго возразил я ему. – Малокровными бывают малярики, потому что малярия сосет кровь.
У меня была хроническая малярия, и, сколько доктора ни лечили, ничего не могли поделать с ней. Я немного гордился своей неизлечимой малярией.
К тому времени, как Алика вызвали, он был совсем готов. Я думаю, он даже не соображал, куда идет и зачем.
Теперь он стоял спиной к докторше, бледный, с остекленевшими глазами, и когда ему сделали укол, он внезапно побелел, как смерть, хотя, казалось, дальше бледнеть некуда. Он так побледнел, что на лице его выступили веснушки, как будто откуда-то выпрыгнули. Раньше никто и не думал, что он веснушчатый. На всякий случай я решил запомнить, что у него есть скрытые веснушки. Это могло пригодиться, хотя я и не знал пока, для чего.
После укола он чуть не свалился, но докторша его удержала и посадила на стул. Глаза у него закатились, мы все испугались, что он умирает.
– «Скорую помощь»! – закричал я. – Побегу позвоню!
Харлампий Диогенович гневно посмотрел на меня, а докторша ловко подсунула ему под нос флакончик. Конечно, не Харлампию Диогеновичу, а Алику.
Он сначала не открывал глаза, а потом вдруг вскочил и деловито пошел на свое место, как будто не он только что умирал.
– Даже не почувствовал, – сказал я, когда мне сделали укол, хотя прекрасно все почувствовал.
– Молодец, малярик, – сказала докторша.
Помощница ее быстро и небрежно протерла мне спину после укола. Видно было, что она все еще злится на меня за то, что я их не пустил в пятый «А».
– Еще потрите, – сказал я, – надо, чтобы лекарство разошлось.
Она с ненавистью дотерла мне спину. Холодное прикосновение проспиртованной ваты было приятно, а то, что она злится на меня и все-таки вынуждена протирать мне спину, было еще приятней.
Наконец все кончилось. Докторша со своей Галочкой собрали чемоданчики и ушли. После них в классе остался приятный запах спирта и неприятный – лекарства. Ученики сидели, поеживаясь, осторожно пробуя лопатками место укола и переговариваясь на правах пострадавших.
– Откройте окно, – сказал Харлампий Диогенович, занимая свое место. Он хотел, чтобы с запахом лекарства из класса вышел дух больничной свободы.
Он вынул четки и задумчиво перебирал желтые бусины. До конца урока оставалось немного времени. В такие промежутки он обычно рассказывал нам что-нибудь поучительное и древнегреческое.
– Как известно из древнегреческой мифологии, Геракл совершил двенадцать подвигов, – сказал он и остановился. Щелк, щелк – перебрал он две бусины справа налево. – Один молодой человек захотел исправить греческую мифологию, – добавил он и опять остановился. Щелк, щелк.
«Смотри, чего захотел», – подумал я про этого молодого человека, понимая, что греческую мифологию исправлять никому не разрешается. Какую-нибудь другую, завалящую мифологию, может быть, и можно подправлять, но только не греческую, потому что там уже давно все исправлено и никаких ошибок быть не может.
– Он решил совершить тринадцатый подвиг Геракла, – продолжал Харлампий Диогенович, – и это ему отчасти удалось.
Мы сразу по его голосу поняли, до чего это был фальшивый и никудышный подвиг, потому что, если бы Гераклу понадобилось совершить тринадцать подвигов, он бы сам их совершил, а раз он остановился на двенадцати, значит, так оно и надо было и нечего было лезть со своими поправками.
– Геракл совершал свои подвиги как храбрец. А этот молодой человек совершил свой подвиг из трусости… – Харлампий Диогенович задумался и прибавил: – Мы сейчас узнаем, во имя чего он совершил свой подвиг…
Щелк. На этот раз только одна бусина упала с правой стороны на левую. Он ее резко подтолкнул пальцем. Она как-то нехорошо упала. Лучше бы упали две, как раньше, чем одна такая.
Я почувствовал, что в воздухе запахло какой-то опасностью. Как будто не бусина щелкнула, а захлопнулся маленький капканчик в руках Харлампия Диогеновича.
– …Мне кажется, я догадываюсь, – проговорил он и посмотрел на меня.
Я почувствовал, как от его взгляда сердце мое с размаху влепилось в спину.
– Прошу вас, – сказал он и жестом пригласил меня к доске.
– Меня? – переспросил я, чувствуя, что голос мой подымается прямо из живота.
– Да, именно вас, бесстрашный малярик, – сказал он.
Я поплелся к доске.
– Расскажите, как вы решили задачу, – спросил он спокойно, и – щелк, щелк – две бусины перекатились с правой стороны на левую. Я был в его руках.
Класс смотрел на меня и ждал. Он ждал, что я буду проваливаться, и хотел, чтобы я проваливался как можно медленней и интересней.
Я смотрел краем глаза на доску, пытаясь по записанным действиям восстановить причину этих действий. Но мне это не удалось. Тогда я стал сердито стирать с доски, как будто написанное Шуриком путало меня и мешало сосредоточиться. Я еще надеялся, что вот-вот прозвенит звонок и казнь придется отменить. Но звонок не звенел, а бесконечно стирать с доски было невозможно. Я положил тряпку, чтобы раньше времени не делаться смешным.
– Мы вас слушаем, – сказал Харлампий Диогенович, не глядя на меня.
– Артиллерийский снаряд, – сказал я бодро в ликующей тишине класса и замолк.
– Дальше, – проговорил Харлампий Диогенович, вежливо выждав.
– Артиллерийский снаряд, – повторил я упрямо, надеясь по инерции этих слов пробиться к другим таким же правильным словам. Но что-то крепко держало меня на привязи, которая натягивалась, как только я произносил эти слова. Я сосредоточился изо всех сил, пытаясь представить ход задачи, и еще раз рванулся, чтобы оборвать эту невидимую привязь.
– Артиллерийский снаряд, – повторил я, содрогаясь от ужаса и отвращения.
В классе раздались сдержанные хихиканья. Я почувствовал, что наступил критический момент, и решил ни за что не делаться смешным, лучше просто получить двойку.
– Вы что, проглотили артиллерийский снаряд? – спросил Харлампий Диогенович с доброжелательным любопытством.
Он это спросил так просто, как будто справлялся, не проглотил ли я сливовую косточку.
– Да, – быстро сказал я, почувствовав ловушку и решив неожиданным ответом спутать его расчеты.
– Тогда попросите военрука, чтобы он вас разминировал, – сказал Харлампий Диогенович, но класс уже и так смеялся.
Смеялся Сахаров, стараясь во время смеха не переставать быть отличником. Смеялся даже Шурик Авдеенко, самый мрачный человек нашего класса, которого я же спас от неминуемой двойки. Смеялся Комаров, который хоть и зовется теперь Аликом, а как был, так и остался Адольфом.
Глядя на него, я подумал, что если бы у нас в классе не было настоящего рыжего, он сошел бы за него, потому что волосы у него светлые, а веснушки, которые он скрывал так же, как свое настоящее имя, обнаружились во время укола. Но у нас был настоящий рыжий, и рыжеватость Комарова никто не замечал. И еще я подумал, что, если бы мы на днях не содрали с наших дверей табличку с обозначением класса, может быть, докторша к нам не зашла и ничего бы не случилось. Я смутно начинал догадываться о связи, которая существует между вещами и событиями.
Звонок, как погребальный колокол, продрался сквозь хохот класса. Харлампий Диогенович поставил мне отметку в журнал и еще что-то записал в свой блокнотик.
С тех пор я стал серьезней относиться к домашним заданиям и с нерешенными задачами никогда не совался к футболистам. Каждому свое.
Позже я заметил, что почти все люди боятся показаться смешными. Особенно боятся показаться смешными женщины и поэты. Пожалуй, они слишком боятся и поэтому иногда выглядят смешными. Зато никто не может так ловко выставить человека смешным, как хороший поэт или хорошая женщина.
Конечно, слишком бояться выглядеть смешным не очень умно, но куда хуже совсем не бояться этого.
Мне кажется, что Древний Рим погиб оттого, что его императоры в своей бронзовой спеси перестали замечать, что они смешны. Обзаведись они вовремя шутами (надо хотя бы от дурака слышать правду), может быть, им удалось бы продержаться еще некоторое время. А так они надеялись, что в случае чего гуси спасут Рим. Но нагрянули варвары и уничтожили Древний Рим вместе с его императорами и гусями.
Я, понятно, об этом нисколько не жалею, но мне хочется благодарно возвысить метод Харлампия Диогеновича. Смехом он, безусловно, закалял наши лукавые детские души и приучал нас относиться к собственной персоне с достаточным чувством юмора. По-моему, это вполне здоровое чувство, и любую попытку ставить его под сомнение я отвергаю решительно и навсегда.
Любимый дядя
Из всех дядей моих самым любимым был дядя Риза. Он-то и подарил мне когда-то мои первые книги – «Гадкий утенок» и «Рассказы о мировой войне».
Небольшого роста, ладный, красивый. Во всей фигуре какая-то невзрослая легкость, стремительность, глаза насмешливые и зоркие-презоркие. Именно эти стремительность, живость, добродушная зоркость на все смешное и казались мне тогда красотой. Но он и в самом деле был хорош.
Дядя часто водил меня на стадион. Проходили без билетов, потому что он был еще недавно сам известным футболистом и его все знали.
Было по-праздничному радостно идти с ним за руку, подходить к гудящему стадиону, протискиваться к входу. Я нарочно старался пройти мимо контролерши с независимым видом.
– Мальчик, куда? – спохватывалась она, уже пропустив меня.
Но тут я оборачивался, а дядя, улыбаясь, говорил:
– Он со мной…
Мы усаживались возле раздевалки, откуда доносились голоса футболистов. В окошечко было видно, как они примеряют бутсы, туго натягивают гамаши, разминаются. Дядю встречали друзья, такие же крепкие, франтоватые, возбужденные. Разумеется, все болели за нашу местную команду, но она почти всегда проигрывала.
– Дыхания не хватает, – говорили одни.
– Судья зажимает, судью на мыло! – кричали другие, хотя неизвестно было, зачем судье, местному человеку, зажимать своих.
Мне тогда почему-то казалось, что возглас «Судью на мыло!» связан не только с качеством судейства, но и с нехваткой мыла в магазинах в те времена. Но вот и теперь, когда мыла в магазинах полным-полно, кричат то же самое.
Если во время игры кого-нибудь из наших сшибали с ног, стадион приходил в неистовство.
– Пеналь! Пеналь! – громыхали болельщики. Если же падал кто-нибудь из противников: – Симулянт! С поля! – безжалостно гудел стадион.
Главным врагом нашей местной команды была команда тбилисского «Динамо».
Все болельщики Мухуса жили одной мыслью, одной надеждой, одним пламенным желанием увидеть поражение этой команды от нашей. Поистине это была любовь-ненависть, потому что, когда тбилисское «Динамо» играло с какой-нибудь другой коман-дой, все наши болельщики болели за нее. Если наша команда проигрывала какой-нибудь другой команде, это было неприятно, но более или менее терпимо.
Но проигрыш тбилисскому «Динамо» каждый раз воспринимался как чудовищная несправедливость, как результат катастрофического невезения. Надо сказать, что наша команда с величайшим ожесточением играла с тбилисским «Динамо», и нередко первый тайм кончался вничью или даже в нашу пользу, но потом, во втором тайме, они все равно выигрывали.
Бывало, если первый тайм кончался вничью, стадион охватывало предвкушение счастья. И каждый, предвосхищая победу, старался с суеверным страхом сдерживать радостные прогнозы друзей, хотя тут же забывался и сам давал такие же прогнозы. Так что во время перерыва весь стадион сам себя успокаивал, чтобы не сглазить победу.
Иногда кто-нибудь с верхней трибуны, отвечая на вопрос прохожего, говорил:
– Пока ничья… Но (тьфу, тьфу, не сглазить) наши сидят у них на воротах.
Но тут зрители суеверно оборачивались на этого болельщика, потерявшего сдержанность, и с презрительным шиканьем водворяли его на место.
– Если без него жить не можешь, иди и там с ним разговаривай, – стыдили они его. Но некоторые болельщики все равно никак не могли сдержать провидческого зуда.
– Чтоб ты меня похоронил, если три – один не будет!
– Два – один тоже неплохо.
– Чтоб ты меня похоронил, если три – один не будет!
– Чтоб я тебя похоронил, – неожиданно вмешивается совершенно посторонний болельщик, – не надо заранее говорить, сколько раз можно предупреждать!
– Но я просто так, – миролюбиво гаснет, оборачиваясь на него, любитель счета «три – один», – я просто так, вообще говорю…
– Вообще тоже не надо, – безжалостно отрезает нервный болельщик.
Среди наших футболистов особенно выделялись двое – один из нападающих и защитник.
Черноголовый нападающий был очень быстрым и ловким игроком, но, пожалуй, бестолковым. Как только ему попадал мяч, он прорывался к воротам. Но тут его перехватывали защитники. Он извивался, пританцовывал, делал финты и в конце концов так запутывался, что бил в двух шагах от ворот мимо или неожиданно с какой-то оскорбительной легкостью у него отбирали мяч. Партнер, который все это время прямо-таки вымаливал у него подачу, останавливался как вкопанный, как бы призывая весь стадион в свидетели. Судорожно вытянув руки, он показывал на то место, где стоял и откуда он якобы обязательно забил бы гол.
Нападающий делал вид, что только что его заметил, и, покаянно опустив голову, покрытую черными глянцевитыми волосами, удалялся к центру. Но как только ему попадал мяч, он мгновенно забывал свое покаяние, и все повторялось сначала. Зато какой грохот стоял над стадионом, когда ему удавалось забить мяч! Овеваемый гулом обожания, не глядя ни на кого, ровной рысцой, как цирковая лошадка, он бежал к середине поля.
Про длинного, всегда невозмутимого защитника пацаны рассказывали легенды. Он был левша, но говорили, что правой ногой ему запретили бить после того, как он ударом мяча убил голкипера. Еще говорили, что он однажды с такой силой выбил мяч из вратарской площадки, что тот влетел в ворота противника. Он и в самом деле сильно бил. Бывало, выбежит навстречу мячу и как саданет! А потом лениво возвращается на место, уверенный, что после его удара мяч не так-то скоро прилетит обратно.
Иногда мяч влетал на трибуну, и, когда кто-нибудь его оттуда выбивал, почему-то все начинали смеяться.
После первого тайма потные, усталые футболисты, тяжело передвигая могучие ноги, возвращались в раздевалку. Некоторые усаживались возле раздевалки на трибунах. К ним подходили знакомые, пожимали руки, разговаривали.
Если игра складывалась плохо, особенно желчные болельщики вступали с нашими футболистами в спор и даже иногда рвались в драку, но их тут же оттаскивали окружающие.
Иногда на трибунах усаживались и представители тбилисского «Динамо». Среди них почти всегда было два-три наших бывших игрока. К ним тоже подходили знакомые и разговаривали, с одной стороны, стараясь показать, что они близко знают знаменитых игроков, с другой стороны, независимым видом и сдержанностью показывая, что они не собираются подхалимничать перед ними.
Эту мирную, сдержанную беседу иногда прерывал какой-нибудь не в меру патриотичный болельщик. Подойдя близко к футболисту и беседующим с ним землякам, он враждебно прислушивался к тому, что они говорят, стараясь извлечь пищу для своего гнева из самого содержания их разговора. При этом он, не скрывая презрения, поглядывал на наших людей, которые не стыдятся разговаривать с человеком, покинувшим родную команду.
В конце концов он вмешивался в разговор и начинал спорить с ним, иногда совершенно не имея для этого никакого повода.
– А ты, продажный изменник, молчи! – в конце концов обращался он к бывшему нашему футболисту и уходил с видом человека, исполнившего свой гражданский долг. Иногда такого рода патриоты поступали несколько хитрее. Они нанимали за порцию мороженого какого-нибудь мальчика, чтобы тот крикнул бывшему нашему футболисту то же самое и убежал.
Обычно футболист после этого уходил в раздевалку, а те, что до этого с ним разговаривали, выражали неодобрение на эти оскорбительные выпады.
– Это тоже неправильно, – говорили они, – человек растет, ему надо выдвигаться!
– Мы не против, – говорили другие, – но, пока молодой, мог еще два-три года поиграть, отплатить добром своей команде, которая научила тебя играть…
– Пожалуйста, уходи! – вдруг вмешивался человек, как бы озаренный совершенно новым взглядом на эту старую проблему. – Но только при одном условии…
– Каком условии? – с большим любопытством начинали спрашивать остальные, придвигаясь к этому человеку и окружая его кольцом.
– В родном поле не играй! – с огромной силой произносил этот человек и оглядывал окружающих с некоторой патриотической агрессивностью.
– Тоже правильно! – соглашались окружающие, хотя и ясно было, что они ожидали чего-то более оригинального. Но сама эта патриотическая агрессивность, как бы вызванная непомерной любовью к своему городу, мешала им высказать свой взгляд на недостатки этого предложения.
Некоторые футболисты сразу же после перерыва подбегали к ларьку, прилепившемуся к ограде. Ларек одним окошечком открывался внутрь стадиона.
Жаркие, запрокинув голову, не отрывая бутылки ото рта, они пили, прислушиваясь к собственному удовольствию, высасывали маленький водоворот прохлады, словно трубили в трубу какую-то вкусную беззвучную мелодию утоления.
Обычно они брали сразу по две бутылки и, допивая одну, уже вторую держали наготове и даже слегка приподымали руку со второй бутылкой, как бы успокаивая свою жажду: мол, не бойся, еще есть.
Насмотревшись на футболистов, пьющих лимонад, я подходил к дощатой изгороди стадиона. Сколько томительных часов провел я здесь, только по ту сторону, когда дядя бывал в командировках, а мне не удавалось пройти зайцем!
В таких случаях вместе с остальными неудачниками мы следили за игрой, прильнув к щелям в заборе. Правда, лучшие щели всегда забирали ребята постарше нас, так что и среди неудачников не было равенства, но все же и на нас хватало.
Теперь я подходил к изгороди по-хозяйски изнутри. Десятки ребячьих глаз жадно глядели на меня. Многие из пацанов были мне знакомы. Я несколько покровительственно рассказывал им кое-какие подробности матча. Они завистливо слушали меня, иногда спрашивали:
– Как проканал?
– Я с дядей, – отвечал я.
– А-а, – вздыхали они.
Возле забора похаживал милиционер. Когда он отходил подальше или отворачивался, я давал им знак, они перелезали через забор и быстро ныряли в толпу. Я возвращался на место, испытывая двойную радость и от собственной добропорядочности, и оттого, что удалось провести милиционера.
Иногда мы с дядей приходили на стадион помыться в душевой. Это тоже было привилегией для своего человека. Дядя быстро раздевался, аккуратно складывал одежду и пускал воду. Я становился под крепкую толкающую струю, пыхтел и отфыркивался, делая вид, что смываю с себя грязь, хотя был уверен, что никакой грязи на мне нет. Дядя мылся с удовольствием. Его мускулистое тело все время двигалось, под мышкой трепыхалась смешная родинка, похожая на маленькую матрешку. Потом он обтирался скрипящим махровым полотенцем, подмигивал мне, посмеиваясь над моей неловкостью.
После купания тело делалось легким и сильным. Мы шли домой. Я вышагивал рядом с ним, с обожанием глядя на его лицо, на блестящие волосы, причесанные на косой пробор, на его улыбающийся рот. Я чувствовал, что моя персона сама по себе доставляет ему какое-то насмешливое удовольствие, и это почему-то радовало, окрыляло. Мы любили друг друга. Это было точно.
Между прочим, я не помню, чтобы он меня когда-нибудь целовал. Может быть, это бывало, но, видимо, так редко, что я не запомнил. В нашей огромной родне и вообще в кругу наших знакомых на детей, и в том числе на меня, обрушивалось неимоверное число поцелуев. Господи, как я ненавидел эти поцелуи! Жестко-небритые, винно-водочные, чмокающие, скребущие, сосущие. Особенно женские, противно пахнущие помадой, особенно же среди особенных поцелуи женщин с неудавшимися судьбами, я их сразу отличал по какой-то свойственной им тупиковой силе удара. От поцелуев было трудно увернуться, приходилось терпеть, чтобы не обидеть взрослых.
Дядя был высшим авторитетом не только у нас в семье, но и во дворе, многолюдном, многоязычном и по-южному шумном. Женщины нашего двора, постоянно переругивавшиеся, стараясь перекричать собственные примуса, смолкали, когда он входил во двор, прихорашивались, вспоминали, что они женщины.
Работал он экономистом в каком-то заготовительном учреждении, а тогда я думал, что он занят сказочной работой, смысл которой – делать людей умелыми, веселыми, легкими. В сущности, так оно и было.
По воскресеньям дядя выводил из дому велосипед, и мы ездили купаться на море.
Помню ослепительный день. Дядя в белоснежном костюме, какой-то особенно свежий, бодрый. Сверкают быстро мелькающие спицы, руль, звонок на руле, даже камни мостовой, по которой мы едем. Велосипед дребезжит, вибрирует на туго накачанных шинах. Сидеть на подпрыгивающей раме больно, ноги приходится неудобно подтягивать, чтобы не мешать дяде педалить. Он то и дело просит меня, чтобы я держал руль посвободней, но какой-то страх заставляет меня сжимать его изо всех сил.
Встречный ветер надувает рубаху, режет глаза, но я каждым нервом и мускулом впиваю счастье езды, нашей с ним дружбы, близости моря. Я замечаю, как встречные мужчины и женщины улыбаются нам, кивают дяде, некоторые успевают спросить:
– Сын?
– Племянник, – бросает дядя, и я чувствую в голосе его улыбку.
«Племянник», – повторял я про себя вкусное, веселое слово, похожее на пряник. Мне казалось, что именно этому сходству слов улыбается он.
Дядя в те времена, когда я его стал помнить, жил с матерью и сестрой в нашем доме. До этого он был женат и жил где-то в другом месте, но я этого времени не застал.
После работы в летнее время он обычно отдыхал в своей кровати под марлевым балдахином от комаров и мух.
Я часто приходил к нему в комнату, садился за письменный стол и листал книги или рисовал, валяясь на старой рогатой шкуре тура, распластанной перед кроватью. Под колониальным балдахином таинственно шелестели страницы Мопассана и Стефана Цвейга.
Приходя к нему, я каждый раз просил листик бумаги, чтобы изобразить очередную баталию с фашистами. Однажды он мне сказал, что у него не осталось ни одного листика.
– Ну, тогда дай веточку, – неизвестно зачем сказал я. Ответ ему так понравился, что он, смеясь, потом часто рассказывал об этом своим друзьям.
Дядя часто мне что-нибудь приносил с работы. Бывало, разденется, позовет меня и говорит, улыбаясь и заранее наслаждаясь моей радостью:
– А ну-ка, посмотри, что у меня там в кармане?
Я бегу к вешалке, роюсь в карманах, в сладкой лихорадке, стараясь догадаться, что бы это могло быть.
И вот однажды исполнилась великая мечта – дядя купил мне настоящий двухколесный велосипед.
Приятно пахнущий резиной и свежей краской, легкий, нарядный, чем-то похожий на самого дядю, он стоял у него в комнате, молодцевато прислоненный к подоконнику.
Что это была за радость – трогать новенький руль, еще туго поворачивающийся, бесконечно звонить в звоночек на руле, понюхать кожаное седло, треугольную сумочку, висящую на раме и чем-то грозно похожую на кобуру пистолета, гладить клейкие шины, как живое тело, чувствуя ладонью их шершавую, рубчатую поверхность!
Теперь каждую свободную минуту я возился возле велосипеда. Выводить его во двор мне еще не разрешали, я был слишком мал, а рос, как назло, медленно. Что было делать! Я влезал на неподвижный велосипед, усаживался на седло и представлял, как лечу по улицам города, звоню, притормаживаю, учусь ездить без рук, иногда даю сделать круг знакомым пацанам. Только один круг, и то не всем, а на выбор, самым лучшим.
Потом я научился ездить по комнате, стоя на одной педали. Я был влюблен в своего нового друга, особенно, помнится, нравился мне малиновый фонарик на заднем крыле, волшебно блестевший в уютном сумраке комнаты: летом ставни были почти всегда прикрыты от жары.
Шли дни томительного и счастливого ожидания, но я так и не вывел ни разу свой велосипед, потому что случилось страшное.
Однажды дядя не пришел с работы, а потом тетя где-то узнала, что его «взяли». Я еще не знал значения, которое придавали этому слову, но чувствовал какую-то жестокую безличную силу, заключенную в нем.
Печальная таинственность окружила нашу семью. Приходили соседи, сочувственно вздыхали, качали головой. Говорили с оглядкой, полушепотом. Чувствовалось, что люди живут напряженно, в ожидании грозного, как бы стихийного бедствия.
Арест дяди скрывали от бабушки. Но она чуяла что-то недоброе и, страшась правды, делала вид, что верит в его неожиданную командировку. Однажды я увидел, как она перебирает вещи в дядином чемодане и тихо причитает над ними, как над покойником. Мне стало не по себе, я понял, что она все знает.
Приходили дядины друзья, все такие же стройные, нарядные, но притихшие. Они без конца курили, грустно шутили, что лучших забирают, и как-то утешающе рассказывали, что «взяли» еще такого-то и такого-то.
Тетушка с неприятной услужливостью подставляла им пепельницу, угощала чаем, сама пила его с каждым из них и рассказывала, рассказывала. Как она ходила к каким-то начальникам, как ее культурно принимали и обещали все выяснить. Я чувствовал, что они ей не очень верят, но им приятно то, что они не побоялись прийти, и то, что сами они все-таки на свободе и могут вот так удобно сидеть на кушетке и слушать тетушку, чувствовать уют человеческой близости перед неумолимой бедой.
В первые дни они заходили часто. Потом все реже и реже. Один, помню, держался дольше других. Но и он вскоре перестал приходить. По слухам, многих из них постигла дядина участь.
Через полгода мы узнали, что дядю перевели в Тбилиси. Тогда-то тетушка продала мой новенький, так и не обкатанный велосипед, чтобы поехать туда. Купил его Богатый Портной.
– Все равно как остался, – сказал он, намекая на то, что велосипед не ушел из дому. После этого он бесшумно укатил его к себе в квартиру. Надо сказать, что тогда я не почувствовал особой обиды на Богатого Портного: слишком велико было горе, которое обрушилось на нашу семью. Вернее, я почувствовал некоторую обиду на тетушку. Мне казалось, что она могла бы достать деньги на поездку каким-нибудь другим способом. Но я понимал, что сейчас говорить об этом и даже думать стыдно.
И только позже, когда Оник впервые вытащил велосипед на улицу и отец его, одной рукой придерживая руль, а другой держась за седло, прогуливал по улице, я почувствовал нестерпимую ревность. Почему-то особенно постыдным, невыносимым казалось обнаружить, что я к нему неравнодушен. Как назло, ко мне подходили пацаны с нашей улицы и, ничего не понимая, расспрашивали:
– Правда, что Оникин пахан купил твой велосипед?
– Ну и что, – отвечал я как можно суше, – правда.
– А зачем продала твоя тетка?
– Значит, надо было, – отвечал я, сдерживаясь.
– А тебе не жалко?
– Нет, – говорил я, – я буду на дядином кататься…
Тетушка в это время выглядывала из окна на улицу и курила. Соседи, иносказательно переговариваясь с нею, жалели меня. Я чувствовал, что главное сейчас не показать виду, что я думаю о нем. Я был рад, что они переговариваются иносказательно, можно было притворяться, что я ничего не понимаю. Но, видно, тетушке, по ее склонности к мелодраме, нужно было, чтобы я, сидя на лужайке перед домом, поник головой или каким-нибудь другим способом показал, что безропотно переношу великую несправедливость.
– Вот так разбивается счастье, – сказала она, как бы продолжая говорить иносказательно и в то же время ожидая от меня каких-нибудь более явных признаков тайного горя. Я изо всех сил держался и спокойно смотрел, как Богатый Портной прогуливает Оника. Этого тетушка не могла простить. Как человек исключительно артистичный, она любила, чтобы ей подыгрывали.
– Но, с другой стороны, черствый, – добавила она через некоторое время, как бы иносказательно, уточняя слова о разбитом счастье. Соседка, с которой она разговаривала, ничего ей не ответила, и тетушка добавила:
– Но он не виноват, у них материнская линия такая, – продолжала она, теперь иносказательно перекладывая часть ответственности на маму. Тетушка и мама всю жизнь не любили друг друга.
Через несколько дней Оник уже сам ездил на велосипеде. Он вообще был очень способен к таким вещам. Ребята с нашего двора и улицы быстро забыли, кому принадлежал когда-то велосипед с малиновым фонариком, и это намного облегчило мою задачу скрывать, что я этого не забыл. И я вместе с другими брал у него велосипед сделать круг по нашему кварталу, чтобы никому в голову не приходило, что я все помню.
Вернее, я даже сам надеялся, что это пройдет, но почему-то какая-то заноза в душе навсегда осталась. И позже, через год или два, когда я ездил на дядином велосипеде, сначала под рамой, а потом стоя или садясь на седло после разгона, все равно я не забывал ничего.
Тетушка поехала в Тбилиси и через неделю вернулась. Опять говорила о том, как ее принимало большое начальство, как ее вежливо усаживали, внимательно выслушивали и даже якобы возмущались несправедливостью местных властей, которые, по ее словам, все выскочки, а настоящие люди только там.
Ей удалось передать одежду и деньги, она даже рассказывала, что видела дядю на вокзале, когда их куда-то отправляли эшелоном. Она сказала, что выглядел он прекрасно, только голову ему некрасиво побрили, что он даже улыбнулся ей и крикнул, что скоро увидимся.
Все это было похоже на фантазию, но и время было фантастическое. Газеты были переполнены сообщениями о злодеяниях врагов народа, повсюду искали вредителей.
Достаточно было в городе кому-нибудь отравиться несвежей рыбой, как выползали слухи, что на консервной фабрике засели вредители. Исчезали самые неожиданные люди. Бывало, еще вчера человек на митинге или по радио призывал к беспощадной классовой борьбе с врагом, а сегодня сам, как бы не договорив речь, летел в пропасть.
Даже мы, школьники первых классов, тоже были вовлечены в эту борьбу. На книжных иллюстрациях, на обложках тетрадей мы находили каббалистические знаки, зловещие письмена тех вредителей. Еще вчера напечатанные в учебниках портреты руководителей государства и маршалов сегодня вычеркивались.
Вот одно из забавных наблюдений тех лет. Я заметил, что в те времена на лицах взрослых, главным образом городских людей, появилось что-то новое и очень смешное. Теперь, вспоминая эти лица, самые различные и в самых различных положениях, повторяющие одну и ту же гримасу, я могу сформулировать свое наблюдение так: на лицах людей появилось выражение политической настороженности.
Иногда, казалось бы, у человека совсем другое выражение на лице, но какой-то миг, какая-то быстрая перемена во внешней обстановке, которую он не сумел осознать и дать ей оценку, – и это выражение настороженности выпархивает на лицо. Точнее сказать, не успев осознать быструю перемену во внешней обстановке, он ее осознает как враждебную вылазку, даже если эта перемена вызвана явлением природы.
Неожиданный порыв ветра попытался сдуть с головы человека шляпу, он хватается за шляпу и всей позой выражает готовность догнать и наказать нарушителя. Неожиданно тронулся поезд или неумело затормозил – вскидывается голова: «Что еще там?» Знакомый сзади хлопнул по плечу, какнула пролетающая птичка на рукав, рука на мгновение застывает в воздухе – сохранить улики преступления! Гаснет в комнате свет и не успел еще погаснуть (быстрее света, что ли?), как появляется на лице выражение настороженности, всеобщей мобилизации бдительности.
Тот, кто устроил все это, хорошо понимал одну важную сторону человеческой психологии. Он знал, что человеку свойственно жгучее любопытство к потустороннему. Человеку доставляет особую усладу мысль, что рядом с обычной, нормальной жизнью идет тайная жизнь, чертовщина. Человек не хочет смириться с мыслью, что мир сиротливо материален. Он как бы говорит судьбе: если уж ты меня лишила Бога, то, по крайней мере, не лишай дьявола.
Без этой могучей встречной волны, без желания гипнотизируемых быть загипнотизированными предприятие не имело бы такого грандиозного успеха.
Разумеется, наряду с этой тайной склонностью природа человека, его разум обладают могучим свойством разоблачать демонов ночи, и одно из испытанных проявлений этого свойства – смех. Больше петушиного крика дьявол боится смеха.
Звук смеха – как сноп света. Может быть, смех – это озвученный свет?
Улыбка – струение света.
Держу пари, если бы у обыкновенного гипнотизера спросить, что ему больше всего мешает во время массовых сеансов, он ответит: смех в зале.
<…>
Защита Чика
Чик сидел на вершине груши, росшей у них в огороде. Он сидел на своем любимом месте. Здесь несколько виноградных плетей, вытянутых между двумя ветками груши, образовывали пружинистое ложе, на котором можно было сидеть или возлежать в зависимости от того, что тебе сейчас охота. Охота сидеть – сиди и поклевывай виноградины, охота лежать – лежи и только вытягивай руки, чтобы срывать виноградные кисти или груши.
Чик очень любил это место. Оно было во всех отношениях удобное и приятное. Во-первых, оно было хорошим, потому что прямо с этого места можно было рвать виноград, груши и даже инжир. Он рос в соседнем дворе, и между огородом, где росла груша, и инжировым деревом высилась стена. Но одна ветка инжира вытянулась в сторону груши и прямо упиралась в нее. Так что при желании инжир можно было достать отсюда. Инжир был особенно вкусным именно потому, что дерево было чужим. Чик об этом сам догадался. Поедая чужие плоды, он удивленно думал над этой загадкой природы. Инжир, который рос в их огороде, был того же сорта, но плоды чужого инжира были гораздо вкусней.
Кроме всего прочего, это место Чику нравилось и тем, что он отсюда всех видел, а его никто не видел. Вообще Чику взрослые не разрешали лазить по деревьям не потому, что жалели фрукты, а потому, что боялись, что он упадет с дерева. Но самое смешное заключалось в том, что, когда дома у него или у тетушки нужны были фрукты, ему давали корзину и просили нарвать винограду, груш или инжира.
– Только смотри, Чик, не упади, – предупреждали они.
– Да не бойтесь, не упаду, – отвечал Чик и с корзинкой проходил в огород.
По мнению взрослых, получалось, что раз они предупредили его, чтобы он не падал, значит, он будет крепче держаться за ветки. По этому же нелепому мнению взрослых получалось, что если он сам залез на дерево, то он обязательно будет проявлять стремление падать с него. Это было тем более глупо, что как раз с корзиной перелезать на дереве с ветки на ветку гораздо трудней и опасней, чем лазить по деревьям без всякой корзины.
Да, Чик любил это место. Кроме всего, это место имело еще одно достоинство, которое заключалось в том, что Чик здесь мог от всех отъединиться. Можно точно сказать: Чик любил людей. Но иногда они ему здорово надоедали. И тогда Чик замечал, что люди сами же мешают себя любить. Ему надоедала тетушка со своими вечными рассказами о своей якобы изумительной молодости, надоедала бабушка, надоедали друзья. Даже сумасшедший дядюшка и то надоедал.
И когда они ему все надоедали, ему негде было от них укрыться, кроме как на вершине этой груши. И он потихоньку залезал на грушу и сидел там до тех пор, пока люди ему не переставали надоедать. Бывало, час сидит на груше или два сидит на груше, а потом слезает и сам чувствует, что люди ему больше не надоедают. И он посвежевшими глазами смотрит на них, разговаривает, играет, слушает их рассказы.
Но сегодня Чика не радовало ни его любимое место, ни ласковое солнце, которое просвечивало сквозь листья груши и винограда. Дело в том, что в школе у Чика случилась ужасная неприятность. Учитель русского языка, Акакий Македонович, или, как его называли, Закидонович, сказал ему, чтобы он на следующий день пришел в школу с кем-нибудь из родителей.
И это было ужасно. Чик хорошо учился, и все домашние гордились его учебой. Мало того, что они гордились его учебой, они постоянно ставили его в пример старшему брату, который плохо учился и плохо вел себя в школе. Родителей постоянно вызывали в школу из-за его старшего брата. Иногда учителя сами приходили домой жаловаться на него. И вдруг Чик, гордость тетушки, сделал такое, что его родителей вызывают в школу! Чик понимал, какой это будет для тетушки невероятный удар. Вернее, какой это будет великолепный повод сыграть невероятный удар, который нанес ей Чик исподтишка.
В последние годы тетушка, как бы махнув рукой на старшего брата Чика, перестала говорить, что он загубил своей дурной учебой и плохим поведением ее лучшие, золотые годы. Она стала придерживаться версии, что старший брат Чика получился таким, потому что не она его воспитывала, а мать Чика. А Чик получился таким хорошим в учебе и поведении потому, что его воспитанием занималась она.
Чик с содроганием представлял, что будет говорить его тетушка. Она начнет с того, что бросила персидского консула, с которым жила как сыр в масле, ради своих инвалидов. Имелась в виду бабушка, которая была вполне здорова, и дядюшка, который не был инвалидом, хотя и был сумасшедшим. Она будет снова говорить, что загубила молодость на брата Чика, хотя из него ничего не получилось. Но у нее оставалась последняя надежда на Чика, и вот, оказывается, именно Чик нанес ей последний, смертельный удар, от которого она навряд ли выживет.
Нет, нет, Чик никак не мог сказать дома, что в школу вызывают родителей. Но, с другой стороны, прийти в школу без кого-нибудь из взрослых нельзя было, потому что Акакий Македонович никогда ничего не забывал. Он бы его просто не допустил до уроков.
«Что же делать?» – с отчаянием думал Чик и ничего не мог придумать. Хорошо бы вообще остаться на дереве и никогда с него не слезать. В тайном убежище Чика можно было даже спать без особого риска, а от голода спасали бы груши, виноград и соседский инжир.
Чик снова и снова вспоминал случившееся в школе. Был урок русского языка, который проводил Акакий Македонович. У него была привычка в стихотворной форме писать правила русской грамматики на доске, а потом эти стихотворные правила ученики должны были переписать в свои тетради и заучить наизусть. Эти правила в стихах Акакий Македонович сам придумывал и тихо гордился этой своей способностью. Другим учителям и в голову не приходило арифметические или физические законы представлять в стихотворной форме. Это умел только Акакий Македонович. И он этим тихо гордился, хотя ученики часто посмеивались над его грамматическими стихами. Но они никогда не смеялись при нем, обычно на перемене. А тут Чик не утерпел. Сегодня Акакий Македонович своим красивым наклонным почерком написал на доске стихи на тему «Как пишется частица «не» с наречиями».
- Как писать частицу «не»
- В нашей солнечной стране?
- То ли вместе, то ли врозь?!
- Не надеясь на авось,
- Вы поймете из примера,
- Нужного для пионера.
- НЕКРАСИВО жить без цели,
- Это так, но в самом деле
- НЕ КРАСИВО, а ужасно
- Жить без цели, жить напрасно.
- И теперь любому ясно,
- Как писать частицу «не»
- В нашей солнечной стране.
Это были обычные для Акакия Македоновича гладкие стихи, ласково всовывающие в головы учеников правила русской грамматики. Якобы всовывающие. Все равно ученики запоминали правила грамматики по учебнику, а стихи приходилось заучивать наизусть в угоду Акакию Македоновичу.
Чика всегда раздражали и смешили эти стихи. Они раздражали и смешили его своей вкрадчивой и наивной хитростью. Они как бы говорили: «А теперь, ребята, соберемся в кружок и поиграем в стихотворение. Это будет и приятно и полезно».
На самом деле Чик ничего в них ни приятного, ни полезного не находил. И другие ученики тоже не находили. Но всем приходилось смиряться и учить наизусть эти стихи.
На этот раз Чику особенно смешными показались строчки про солнечную страну. Чик, конечно, понимал, что, когда говорят так, имеют в виду не выпадение осадков в их республике, а то, что в солнечной Абхазии люди живут хорошо. И Чик был согласен, когда его страну называли солнечной. Но он никак не понимал, какое это отношение имеет к грамматическому правилу.
И потому эта дважды повторенная строка про солнечную страну показалась Чику особенно смешной. Он переглянулся с учеником Севастьяновым, и они закивали друг другу и заулыбались. Севастьянов вместе с Чиком всегда первым чувствовал что-нибудь смешное или нелепое, происходящее в классе. И они всегда в таких случаях переглядывались и начинали улыбаться или смеяться. И им было приятно, что они так хорошо друг друга понимают, и от того им становилось еще веселее.
Чик почувствовал, что Акакий Македонович заметил его улыбку и понял, что эта улыбка относится к стихотворению. Но Чик не придал этому значения, он тогда еще не знал, что на свете существует авторское самомнение.
– А теперь, ребята, – сказал Акакий Македонович, – хором прочтем стихи. Читайте с выражением и следите за моими руками.
- Как писать частицу «не»
- В нашей солнечной стране?! —
грянул класс тридцатью глотками.
Высокий, со смиренно-покатыми плечами, с детским чубчиком на лбу, Акакий Македонович стоял у стола. Выражением лица, а также дирижерскими движениями рук он подсказывал ребятам правильную интонацию и скорость, с которой надо читать стихи. Когда ребята читали строчку:
- То ли вместе, то ли врозь? —
Акакий Македонович развел руками, и лицо его выразило полное недоумение по поводу этого страшно запутанного вопроса. Зато потом, когда ребята прочитали строчки:
- Вы поймете из примера,
- Нужного для пионера… —
лицо Акакия Македоновича просветлело, оно выразило надежду, что смекалистые пионеры во главе с опытным Акакием Македоновичем выберутся из этого дремучего леса, куда заводит детей коварная частица.
- Некрасиво жить без цели… —
читали ребята, и Акакий Македонович, удрученно склонив голову со своим детским чубчиком на лбу, как бы упрекал живущих без цели: «Некрасиво, нехорошо».
- Не красиво, а ужасно
- Жить без цели, жить напрасно.
Тут лицо Акакия Македоновича выразило высшую степень отвращения к такому образу жизни. Зато после этой строчки уже до самого конца стихотворения лицо его светлело и светлело, показывая, как он радуется тому, что теперь все пионеры знают, как писать с наречиями эту хитрую частицу.
- И теперь любому ясно,
- Как писать частицу «не»
- В нашей солнечной стране.
Все это время Чик переглядывался с Севастьяновым, и они тряслись от сдержанного смеха в самых забавных местах внешнего поведения Акакия Македоновича. Но, оказывается, все это время, изображая на лице то блаженство, то ужас, Акакий Македонович потихоньку следил за Чиком. А Чик этого не знал.
Когда стихотворение было прочитано, Акакий Македонович, сложив ладони и смиренно прижав их к груди, сказал:
– Мы сейчас с вами, ребята, хором прочитали стихотворение, чтобы лучше усвоить новое правило. А что делал все это время Чик? Чик все это время смеялся. Давайте, ребята, всем классом попросим Чика рассказать, над чем он смеялся, и, если это действительно смешно, посмеемся вместе с Чиком. Встань, Чик, и расскажи нам, над чем ты смеялся.
Чик встал. Ему совсем не хотелось говорить, что он смеялся над стихотворением. Тем более ему не хотелось говорить, что он смеялся и над поведением самого Акакия Македоновича.
– Я смеялся просто так, – сказал Чик.
– Нет, Чик, ты скромничаешь, – сказал Акакий Македонович, – по-моему, ты нашел что-то смешное в нашем стихотворении. Может быть, мы все ошибаемся, так поправь нас, Чик.
Все это он сказал очень спокойным, доброжелательным голосом, но хотя Чику и не нравилась его поза со смиренно сложенными у подбородка ладонями, он как-то поверил его голосу. Чик тогда не имел представления о существовании авторского самолюбия. Также не вполне исключено, что Чику захотелось покрасоваться перед всем классом, показать перед всеми, что он нашел ошибку у Акакия Македоновича. И он решил сказать свое мнение про строчку о солнечной стране.
– По-моему, – сказал Чик, – одна строчка неправильная.
– Очень интересно, – заметил Акакий Македонович, продолжая держать руки у подбородка сложенными ладонями, и, как бы кланяясь, слегка нагнулся вперед, – какая строчка?
– У вас сказано, – бодро начал Чик, —
- Как писать частицу «не»
- В нашей солнечной стране?
– Удивительно, как ты это заметил, – сказал Акакий Македонович.
– Но ведь получается, – пояснил Чик, – что правильно это только для нашей солнечной страны, а для дождливой страны не годится?
Класс засмеялся. Чик с некоторой тревогой заметил, что Акакий Македонович слегка побледнел.
– Глупый смех, – сказал Акакий Македонович, – нелепое замечание. Мы живем в солнечной стране, и, естественно, правила нашей грамматики рассчитаны на нашу страну.
– А если кто-то пишет частицу «не» в другой стране, – продолжал Чик, не давая себя сбить, – разве правило для него не годится?
Но тут прозвенел звонок, и Акакий Македонович решил, что Чика надо крепко наказать. Может быть, если бы не прозвенел звонок, он постарался бы доказать, что Чик не прав. Но теперь у него для этого не было времени, и он решил Чика наказать.
– Мы всегда за критику, – сказал Акакий Македонович, – но мы против критиканства. Завтра придешь с кем-нибудь из родителей, придется с ними серьезно поговорить…
И класс снова рассмеялся. На этот раз он рассмеялся неожиданному повороту в судьбе Чика. Чику хотелось крикнуть Акакию Македоновичу, что это несправедливо, что ему никак нельзя приводить родителей в школу, но Акакий Македонович взял в руки журнал и со свойственной ему фальшивой смиренностью удалился из класса.
И вот теперь Чик сидит на вершине груши на пружинистом ложе из плетей виноградной лозы и думает, что же ему завтра делать.
- Как писать частицу «не»
- В нашей солнечной стране…
«Проклятые стихи! Зачем, зачем, – думал Чик, – я ввязался в этот дурацкий спор! Все равно Закидонович не прав! Страна тут ни при чем! И никакого значения не имеет, солнечная она или дождливая! Но как быть завтра? Ведь без родителей не пустят в школу».
Чик дотронулся до небольшой виноградной кисти, сорвал ее и стал машинально есть виноград, сплевывая шкурки, которые падали вниз, иногда шлепаясь на листья груши. Чик был в таком тоскливом состоянии, что виноград ему казался не сладким, а каким-то пресным, водянистым.
Он оглядел двор. Сонька и Ника играли в «классики». Лёсик покачивал в коляске своих братьев-двойняшек. Оника во дворе не было. Чик знал, что он пошел на стадион. Белочка, любимая собака Чика, лежала посреди двора и, наверное, скучала по Чику, не зная, куда он делся. На верхней лестничной площадке второго этажа сидела бабушка и грелась на солнце, перебирая в руках четки. Рядом стоял сумасшедший дядюшка Чика и напевал себе бессмысленные песенки собственного сочинения. Изредка он поглядывал вниз на кухонную пристройку, где возилась Сонькина мать, тетя Фаина. Он ее любил с незапамятных времен безответной, упорной любовью. Об этом все знали. «Хорошо ему живется, – подумал Чик, – поет себе песенки, ни о чем не думает, никто его родителей не вызывает в школу».
Чик оглядел крышу флигеля, в котором жил Лёсик. В желобе, ведущем к водосточной трубе, все еще лежал теннисный мяч. Уже целых два года Чик ожидал, когда струя дождевой воды загонит его в водосточную трубу и он вывалится в бочку, стоящую под ней. Но уже несколько месяцев, как мяч остановился в двух метрах от трубы и не хотел двигаться дальше. Видно, там его что-то сильно задерживало. Но Чик упрямо надеялся, что пойдет сильный ливень и поток в конце концов загонит мяч в трубу.
В распахнутых окнах веранды второго этажа была видна тетушка Чика в своей классической позе со стаканом крепкого чая в руке и с папиросой, дымящейся в пепельнице. Она что-то оживленно рассказывала невидимой собеседнице, и Чик совершенно не исключал, что она хвастается его учебой. Подумав об этом, Чик вспомнил о завтрашнем дне и затосковал с новой силой.
Вдруг в воздухе грохнул восторженный вопль толпы. За два квартала отсюда был расположен стадион. Там сегодня местная команда играла с городом Армавиром. Судя по взрыву восторга, наша команда забила мяч. Обычно, если мяч забивала приезжая команда, на стадионе устанавливалась обидчивая тишина.
Чик знал, что сегодня на стадионе игра, но из-за своего плохого настроения туда не пошел. Что за охота идти на стадион, когда у тебя на душе скребут кошки? Несколько мужчин, сидя на крыше соседского дома, издали наблюдали за игрой. Чик не любил таких крохоборов. Когда мальчишки смотрят с крыши или с дерева, это понятно: значит, у них нет денег, а пройти зайцем они не решаются. Но когда взрослые, жалея деньги, следят за игрой с крыши своего дома – это как-то противно.
– Костя! – крикнул один из мужчин, обернувшись в колодец своего двора.
– Костя спит, – ответил ему женский голос.
– Разбуди его, Тамара, разбуди!
– Зачем его будить? – ответила женщина.
– Интерес имею что-то сказать ему! – крикнул мужчина.
– Он ругаться будет, – ответила женщина.
– Не будет, клянусь детьми! – крикнул мужчина. – Я ему скажу такое, что он радоваться будет, а не ругаться!
– Чего тебе? – раздался через минуту сиплый мужской голос. Видно, женщина разбудила мужа.
– Костя, – восторженно закричал человек с крыши, – наши хамают их, как пончик! Уже два мяча забили!
– Зачем разбудила, – раздраженно сказал мужчина, – я еще полчаса поспал бы…
– Он поклялся детьми, – визгливо сказала женщина, – я думала, что-то по работе!
– Ладно, – сказал мужчина, – арбуз под кран поставила?
– Поставила, – ответила женщина.
– Тогда принеси, – сказал мужчина, – хоть арбуз покушаем, раз ты меня разбудила.
Некоторое время во дворе было тихо, а на крыше следили за тем, что происходит на стадионе.
– Слушай, в игре забили или со штрафного? – крикнул мужчина со двора, и Чик почувствовал, что голос его посвежел от первого ломтя арбуза.
– Клянусь детьми, оба мяча забили в игре, Костя! – восторженно крикнул мужчина с крыши.
– Ладно, – примирительно сказал тот, что кушал арбуз, – если что-нибудь будет интересное – крикнешь!
– Обязательно, Костя! – крикнул человек с крыши и снова повернулся в сторону стадиона. Во дворе было тихо, и Чик подумал, что разбуженный сейчас ест второй ломоть арбуза.
Вообще Чик любил бывать на стадионе. Недавно дядя Чика, разумеется, не сумасшедший, а, наоборот, самый умный дядя Риза водил его на стадион. И надо было, чтобы так повезло. Наша местная команда обыграла тбилисское «Динамо». Единственный раз в жизни Чик видел, что наша местная команда обыграла тбилисское «Динамо». Все болельщики города вместе с Чиком мечтали о таком дне. И вот этот день наступил, и восторгам болельщиков не было конца. Они беспрерывно рукоплескали финтам наших нападающих, с преувеличенным весельем хохотали над каждой неудачной подачей мяча противником и взрывом восторга встречали каждый гол, забитый нашей командой.
Правда, Чик от дяди знал, что на этот раз тбилисцы прислали молодежный состав команды и потому она играла слабее, чем обычно. И Чик чувствовал, что радость его по поводу победной игры нашей команды от этого несколько ущемлена. Но он также чувствовал, что радость болельщиков от этого никак не уменьшается. Главное, что тбилисцы проигрывали, а остальное никого совершенно не трогало. Чик чувствовал в глубине души некоторую зависть к такому упрощенному восприятию радостей жизни. Он понимал, что он сам на это не способен.
А самое интересное, что после каждой удачной обводки нашим игроком их игрока или после каждого неудачного паса их игроков, а уж тем более после каждого забитого гола нашими игроками весь стадион оборачивался и смотрел куда-то, а куда они все смотрят, Чик никак не мог понять.
– Куда они смотрят, дядя? – спросил Чик.
– Они считают, что на стадионе есть один болельщик из Тбилиси, вот они все и пытаются его разглядеть.
– Они его знают? – удивленно спросил Чик.
– Не больше, чем нас с тобой, – ответил дядя.
– Куда же они все смотрят? – спросил Чик, удивляясь, как это можно на переполненных трибунах разглядеть одного человека.
– Им кажется, – сказал дядя, – что они его могут разглядеть. Может, они меня принимают за него или еще кого-нибудь…
Чика тогда очень удивило это безумие толпы. Ну как можно на трибунах огромного стадиона разглядеть одного человека, даже если он и в самом деле здесь? Каждый раз после удачи наших футболистов или неудачи их футболистов сотни людей оборачивались, многие вскакивали с мест и старались разглядеть этого невидимого тбилисца, чтобы насладиться выражением растерянности, подавленности на его лице. Чик тогда хорошо почувствовал многостороннюю, как бы уходящую в бесконечность глупость толпы.
Ну до чего же смешные эти люди! Во-первых, явно не зная, где именно сидит этот неведомый тбилисец, они все-таки все смотрели куда-то наверх и в сторону центральной трибуны. Можно было подумать, что этот тбилисец заранее дал всем слово сидеть на таком месте, где его легче всего будет разглядеть. Но, разумеется, он никому никакого слова не давал, если он вообще был на стадионе. Просто всем удобнее было таращиться наверх, и они его искали там, куда им удобней было смотреть.
И еще смешно было, что все, вскакивая с мест и уставившись вдаль с торжествующей улыбкой и явно никого не разглядев и нисколько этим не разочаровавшись, через минуту успокаивались и начинали следить за игрой, словно они достигли своей цели. Их успокаивающие лица с выражением дурацкого торжества как бы говорили: «Ну, может быть, я его на этот раз и не разглядел, но уж он-то никак не мог не разглядеть моей торжествующей улыбки, а это – главное». И еще смешно было, что толпа, десятки раз вскакивая, чтобы разглядеть удрученного тбилисца, совершенно забывала опыт своих предыдущих бесцельных вскакиваний, и на лицах вскакивающих и оборачивающихся людей не было ни малейшего следа мысли о возможности повторения неудачи. Каждый раз они верили, что именно на этот раз они увидят злосчастного тбилисца.
– Чик, кинь кисточку винограда, – услышал он чей-то голос.
Чик оглянулся. Из окна дома, высящегося рядом с грушей, торчала голова толстого мальчика. Он учился с Чиком в одной школе, только был из другого класса. Он жил на третьем этаже, и окно его находилось на одном уровне с Чиком. Сейчас он вынес на подоконник тетрадь, задачник, чернильницу и ручку. Вообще этот мальчик считался маменькиным сыночком и невысоко ценился Чиком и другими ребятами.
Тем не менее Чик сорвал большую гроздь винограда и небрежно швырнул ее в окно. Толстый мальчик поймал кисть на грудь и стал есть виноград. Он быстро прикончил гроздь и снова попросил Чика:
– Чик, кинь теперь мне грушу!
Чик неохотно потянулся за грушей.
– Не ту, Чик, во-о-он ту! – сказал мальчик и, вытянув из окна толстую руку, показал на грушу, висевшую на конце ветки далеко от Чика.
– Бери, пока дают! – сказал Чик и, сорвав грушу, висевшую близко от него, кинул ее в окно.
Мальчик опять на грудь поймал грушу и стал уплетать ее. Он ел ее, так сочно вонзая зубы в плод, что Чику самому захотелось, и он, сорвав грушу, стал ее есть.
– Чик, отчего ты все время на дереве сидишь? – спросил мальчик, шумно жуя и причмокивая.
Чик сразу все вспомнил, и кусок груши, который он жевал, сделался водянистым и невкусным.
– Чтобы бросать тебе груши и виноград! – ответил Чик сердито.
– Нет, правда, Чик, – сказал мальчик, доедая свою грушу, – я уже давно заметил, что ты сидишь на дереве… Кинь теперь виноград!
– На твое пузо не напасешься, – сказал Чик, но сорвал еще одну кисточку и бросил ее в окно.
Хотя этот мальчик его рассердил, Чик чувствовал, что не может не бросить ему кисть винограда. Он подумал, что, когда человеку уже сделал что-то хорошее, трудно не сделать ему еще раз что-то хорошее. Это потому так получается, думал Чик, что если ты ему откажешься делать что-то хорошее, то пропадет то хорошее, что ты ему сделал раньше. А тебе не хочется, чтобы оно пропадало.
– Кроме шуток, Чик, – снова спросил мальчик, – почему ты так давно на дереве сидишь?
– Я теперь отсюда никогда не слезу, – сказал Чик.
– Мама, – обернулся мальчик в комнату, – Чик говорит, что он никогда с дерева не слезет.
Мать ему что-то ответила, но Чик не расслышал ее голоса.
– Чик, но ты же умрешь с голоду, – сказал мальчик, явно повторяя слова матери.
– Нет, – сказал Чик, – я буду есть груши, виноград, инжир, а хлеб ты мне будешь из окна кидать.
– Мама, – обернулся мальчик в комнату, – Чик говорит, что он будет кушать фрукты, а хлеб я ему из окна буду кидать.
Мать ему что-то ответила.
– Чик, – сказал мальчик, явно повторяя слова матери, – но ведь хлеб нельзя из окна кидать?
– Значит, груши и виноград в окно можно кидать, – язвительно проговорил Чик, – а хлеб из окна нельзя?!
Приоткрыв рот, мальчик задумался на несколько секунд. По-видимому, он почувствовал в словах Чика какую-то справедливость. Не в силах сам разрешить этого противоречия, он обратился к матери.
– Мама, – сказал он, – а Чик говорит: почему груши и виноград в окно можно кидать, а хлеб из окна нельзя?
Чик с большим интересом ожидал, что ему скажет его мама. Но она ничего не ответила сыну, а подойдя к окну, выглянула в него и сказала Чику:
– Чик, ты его отвлекаешь от уроков.
– Он сам первый начал, – ответил Чик.
Мать мальчика закрыла окно и ушла в глубину комнаты. Мальчик некоторое время с недоумением глядел на Чика из-за стекла, по-видимому стараясь осмыслить его слова, и, скорее всего, так и не осмыслив их, занялся своими уроками. Время от времени, подымая голову над задачником, он снова глядел на Чика, явно вспоминая его слова, но Чик уже на него не смотрел. Он смотрел во двор.
Девочки продолжали играть в «классики». Лёсик, сидя возле коляски со своими двойняшками, читал книгу. Тетушка продолжала пить чай на веранде. Бабушка, сидевшая на верхней лестничной площадке, ушла оттуда на веранду, а сумасшедший дядюшка Чика, воспользовавшись тем, что бабушка за ним не следила, спустился вниз и сейчас, сосредоточенно склонившись к стене кухонной пристройки, подглядывал за тетей Фаиной. Одна сторона кухонной пристройки была обращена к огороду, и дядя как раз стоял с этой стороны, потому что здесь его со двора никто не видел. Но Чик с груши хорошо видел его склоненную спину и голову, прильнувшую к фанерной стене.
Чик знал, что дядя Коля любит тетю Фаину, но он никак не мог понять, какое таинственное удовольствие доставляет ему следить за тем, как грязнуха тетя Фаина возится в своей захламленной кухоньке. Эта кухонная стена пестрела кожаными латками, при помощи которых муж тети Фаины, по профессии сапожник, латал дырочки в кухонной стене. Эти дырочки в стене довольно умело пробуравливал гвоздиком дядя Коля, чтобы следить за тетей Фаиной. Кстати, вдосталь насладившись зрелищем тети Фаины, дядя вставлял в дырочку маленький колышек, специально соструганный им, чтобы дырочку не было заметно со стороны. Об этом знали все, и все смеялись над наивной хитростью дяди Коли. Но Чик в отличие от всех догадался (во всяком случае, он так думал) еще об одном предназначении этого колышка. Чик решил, что этим колышком дядя не только скрывает дырочку от постороннего глаза, но как бы пресекает возможность для других подглядывать за тетей Фаиной.
Кстати, дырочку эту все равно рано или поздно обнаруживала тетя Фаина или ее муж, и во дворе подымался небольшой скандал. Дядя Коля в результате получал от бабушки несколько подзатыльников, которые он, как виновный, переносил с безропотной застенчивостью, а тетушка в зависимости от настроения ругала или дядю Колю, или тетю Фаину, доказывая, что она нарочно совращает дядюшку.
Муж тети Фаины, ворча, что его жена – честная женщина, ставил на стене кухни очередную латку, и дядя Коля несколько дней воздерживался от подглядываний за тетей Фаиной. Но потом он или забывал о случившемся, или под влиянием своей неутихающей страсти снова просверливал дырочку в стене и снова сосредоточенно замирал над щелочкой, подглядывая за тетей Фаиной, готовившей обед.
Чик с дерева следил за дядей Колей, как вдруг из кухни выскочила тетя Фаина, обогнула ее и очутилась за спиной дяди Коли, продолжавшего смотреть в щелочку.
Она хлопнула его по спине, дядя Коля разогнулся и, страшно сконфуженный, развел руками, видимо, показывая, что страсть, владеющая им, сильнее его воли.