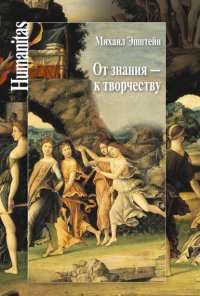Читать онлайн Первопонятия. Ключи к культурному коду бесплатно
- Все книги автора: Михаил Эпштейн
© Михаил Эпштейн, 2022
© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022
Издательство КоЛибри®
* * *
Как так получается, что есть слова, о которых все знают, что они означают, но никто не может их объяснить? Любовь, дружба?..
(Вопрос девятилетнего мальчика)
Мы с легкостью рассуждаем о праве, расах, собственности. Но что есть право, раса, собственность? Мы знаем это и в то же время совершенно не знаем! Таким образом, первостепенные понятия, абстрактные и вместе с тем жизненно важные, которые так настойчиво и прочно завладевают нами; все термины, порождающие в умах народов и государственных мужей мысли, проекты, заключения, решения, от которых зависят судьбы, благоденствие или бедствия, жизнь или смерть, – все это, если хорошенько вдуматься, всего-навсего расплывчатые и недостойные нашего ума символы… Но тем не менее, когда в разговорах люди оперируют такими размытыми категориями, они прекрасно понимают друг друга. Значит, в целом эти понятия ясны и достаточны для общения, но отдельному сознанию кажутся туманными и противоречивыми.
Поль Валери. Заметки о величии и упадке Европы
Введение
Что такое культурный код? Это система знаков и понятий, определяющих наше бытие в культуре. Среди них есть особенно значимые, составляющие систему жизненных координат: «жизнь», «смерть», «судьба», «человек», «душа», «любовь», «ум», «совесть»… Мы часто пользуемся этими понятиями, как будто они самоочевидны и позволяют все объяснить. Парадокс в том, что сами они с трудом поддаются объяснению, даже в рамках тех наук, которые призваны их изучать.
Например, психология – это, по определению, «наука о душе», но собственно душою она давно уже не занимается и считает это понятие донаучным или вненаучным. Точно так же обстоит дело и с мудростью, которая мало интересует современную философию, хотя само название этой дисциплины буквально означает «любовь к мудрости». Филология и лингвистика испытывают трудности с определением такого базисного понятия, как «слово». Биология предпочитает не давать никаких определений понятию «жизнь», даже если ограничиваться ее органической природой, а ведь живыми бывают не только растения и животные, но и мысли, произведения, характеры, разговоры…[1] Понятия, наиболее насущные, оказываются наименее доступны для понимания, самое известное – самым таинственным.
Об этом есть замечательная притча у американского писателя Дэвида Уоллеса (1962–2008):
Плывут как-то две юные рыбки, а навстречу им рыбка постарше, кивает и говорит: «Привет, ребятки, ну, как вода?» Рыбешки плывут дальше, а через некоторое время одна спрашивает у другой: «Что еще за „вода“?» <…>…Самые очевидные и важные стороны реальности зачастую сложнее всего увидеть и выразить словами[2].
Вот так и в стихии мышления важнейшие понятия часто остаются неосмысленными. Эта книга – приглашение к тому, чтобы «увидеть воду»: вдуматься в них и заново осмыслить. Необходимо критическое рассмотрение, казалось бы, привычных понятий, опыт их трудного, вопрошающего понимания, – чтобы они ожили в нашем сознании и вновь приобрели энергию мысли и жизненной ориентации.
Как ни парадоксально, чем больше мы думаем об этих общеизвестных понятиях, тем меньше их понимаем. Так, св. Августин перестал постигать, что такое время, как только задумался о нем. «О чем, однако, упоминаем мы в разговоре как о совсем привычном и знакомом, как не о времени? И когда мы говорим о нем, мы, конечно, понимаем, что это такое, и когда о нем говорит кто-то другой, мы тоже понимаем его слова. Что же такое время? Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю, что такое время; если бы я захотел объяснить спрашивающему – нет, не знаю»[3]. И только в силу этого недоумения перед ранее понятным св. Августин приходит к тому новому пониманию, которое и заложило основу европейской философии времени.
То же самое можно сказать о жизни и смерти, о любви и уме, о душе и обаянии. Чем больше мы стараемся их определить, тем больше их сущность ускользает от нас, а вникая глубже, мы приходим к чему-то неожиданному. Эти понятия вмещают собственную противоположность. Например, при анализе понятия судьба мы приходим к выводу, что оно заключает в себе не только понятие необходимости, но и, как первичное, понятие свободы. Парадокс веры в том, что она обращена к чему-то маловероятному или даже невероятному. Обаяние не только отличается от красоты, но и противоположно ей. Почему всем нам знакомая эмоция, удивление, считается источником познания и причиной зарождения всех наук, а корень этого слова тот же, что в словах deus, theos (бог)? Или вот, казалось бы, самоочевидное – вещь. Чем она отличается от предмета? Почему из того же корня происходят слова «вещать», «весть», «вещий»? Хорошо ли в нравственном смысле любить и собирать вещи, не унижает ли это достоинство и свободу человека? Почему овеществление и вещизм – это плохо, а сказать о чем-то: «Это вещь!» – похвала?
Что такое первопонятие?
Первопонятия представляют собой древние, универсальные мыслеобразования, более или менее общие для всего человечества. В отличие от юнгианских «архетипов», они принадлежат сфере коллективного сознания, а не бессознательного. Это своего рода антропологические универсалии, первоэлементы общечеловеческого опыта, преломленные через национальные языки и культуры. Вместе с тем обобщенность этих понятий не носит абстрактного характера, присущего метафизическим или логическим категориям, таким как «сущность», «количество», «качество», «тождество», «различие», «единство», «множество» и пр. Первопонятия гораздо более конкретны по значению и выступают не как результат логического анализа, а как наиболее насущные, общезначимые элементы жизненного мира. Вместе с тем первопонятия отличаются и от таких научных понятий, как «квант» или «галактика», «ген» или «организм», многие из которых – международные термины, пришедшие из греческого или латыни. Первопонятия, напротив, чаще всего выражены исконными корнями, поскольку принадлежат сознанию всего народа. Они приняты всем языковым сообществом не в результате терминологизации, то есть усечения до однозначности, но именно в силу их многозначности и широчайшего использования во всех стилях. Они первые по своей значимости в сознании людей, в их понимании ценностей и целей существования. Они принадлежат не к сфере логики и не к материальной сфере (в отличие от предметных понятий типа «стол», «чашка», «дерево»), но к сфере смыслополагания, духовных энергий, жизненных ориентаций.
Первопонятия – это строительные блоки мышления, причем они лежат в самом его фундаменте и имеют решающее значение для таких когнитивных и психологических процессов, как категоризация, умозаключение, память, обучение, принятие решений, целеполагание. Как правило, первопонятие выражается в отдельном слове, которое приобретает особый ценностный статус, а иногда пишется с большой буквы («Бог», «Дух», «Жизнь», «Судьба», «Разум», «Любовь»). Например, все относящееся к жизни как процессу самоорганизации биологических систем и развития организмов объединяется понятием «жизнь», а все относящееся к естественному или искусственному завершению этого процесса – понятием «смерть». Само наличие слова, символического тела, указывает на бытие первопонятия в его целостности, тогда как более дробные понятия выражаются сочетаниями слов (ср. «муки совести», «ирония судьбы», «воля народа»). Первопонятие близко тому, что в древнегреческой мысли понималось под логосом: это одновременно слово, понятие и смысл, то есть понятие, материально оформленное в слове и обладающее энергией смыслополагания.
То, что в этой книге называется «первопонятием», в известном «Русском идеографическом словаре» под редакцией Н. Ю. Шведовой выступает как «ключевой концепт», или «великий концепт», и определяется как «отлившееся в слово… им материализованное, в него вмещенное понятие… Концепт всегда означен словом – либо многозначным, либо готовым расширить, углубить свою семантическую структуру… <…>…Суммируя, можно сказать, что концепт есть исторически сложившаяся, словесно выраженная понятийно-языковая целостность, определенно относящаяся к одной из основополагающих сфер существования человека, средствами языка всесторонне осмысленная…»[4].
Говоря об общеизвестных понятиях, я предпочитаю использовать столь же общеизвестное слово «понятие», а не специальный термин «концепт», в последние тридцать лет все более употребительный в российских исследованиях по лингвистике и когнитологии. «Концепт» – это единица ментального лексикона, предмет историко-структурного анализа того, что и в житейском обиходе, и в литературной и философской традиции называется «понятием». Слово «понятие» принадлежит всему языку и имеет гораздо более широкий круг ассоциативных значений и сочетаемости в разных смысловых контекстах. Да и само различие «понятия» и «концепта» достаточно условно, поскольку возникло недавно – и только в российском словоупотреблении. В английском и французском языках «понятие» и «концепт» обозначаются одним и тем же словом «concept». Суть в том, что латинское conceptus вошло в русский язык дважды, сначала в виде его буквального перевода (кальки) «понятие», а затем, уже в конце ХХ века, в виде прямого заимствования из английского «concept» (также пришедшего из латыни). Поэтому различение «понятия» и «концепта» – это чисто российское нововведение, обусловленное наличием двух лексем, в разное время усвоенных из иноязычных источников; для наших целей это различие, теоретически еще не вполне четкое и не общепринятое, не имеет значения[5].
Основные свойства первопонятий
Среди известных российских исследователей «понятия понятия» или «концепта концепта» следует назвать С. Аскольдова, Д. Лихачева, Ю. Степанова, Е. Кубрякову[6]. При всей разности существующих определений, можно выделить такие общие свойства первопонятий:
1) универсальность: первопонятие объединяет всех представителей данного языкового сообщества (нации) и служит средством передачи самых общих мировоззренческих и жизнестроительных смыслов;
2) константность: устойчивость, преемственность на протяжении всего существования цивилизации или длительной эпохи; подчас укорененность в древних, мифологических представлениях;
3) интегративность: первопонятие сочетает в себе интеллектуальные, эмоциональные, моральные, коммуникативные аспекты в их неразрывном единстве;
4) системность: первопонятие вписано в систему культурного кода и соотносится с другими понятиями в смысловых иерархиях, где оно занимает одну из высших ступеней;
5) аксиоматичность: первопонятие выступает как самоочевидное, самообоснованное, признанное в культуре как точка отсчета для других понятий и способ их определения;
6) дискуссионность: первопонятия вызывают множество споров, разногласий; за право их использовать и привлекать на свою сторону борются разные мировоззрения, идеологии, методологии;
7) потенциальность: первопонятие обладает открытой структурой, допускающей множество интерпретаций и, оставаясь константным, непрестанно расширяет свой смысл, предоставляет возможности для домысливания и переосмысления, играет активнейшую роль в смене культурных парадигм[7].
Далее следует указать несколько главных черт первопонятий с точки зрения разных дисциплин, их изучающих:
1) эпистемология: обобщенность понятийного содержания, стяжение многих элементов общечеловеческого опыта в одно смысловое целое;
2) культурология: характерность для данной культуры в разных ее национальных, социальных, стилевых, идеологических измерениях; определяющая роль в построении культурного кода;
3) история: эволюция первопонятий в разные эпохи при сохранении их смыслового ядра, что позволяет проследить на их фоне изменение исторических контекстов;
4) аксиология: сверхценность, духовная сверхзначимость, определяющая роль в формировании картины мира и в системе жизненных ориентаций;
5) лингвистика: воплощенность в одном слове, которое часто наделяется не только информативной, но и нормативной и перформативной функцией, содержит наставление, призыв, установку на определенное действие или отношение.
Помимо всего перечисленного, первопонятия обладают еще и своеобразной харизмой, на что указывает историк Ричард Уортман в своей книге «Власть языка и риторики в российской политической истории: Харизматические слова от XVIII до XXI века». Рассматривая такие первопонятия, как радость, любовь, умиление, восторг, личность, правда, целость, Уортман замечает:
Такие харизматические слова могут оказывать эмоциональное воздействие и функционируют как доминантные символы, часто независимо от своего специфического референтного значения. <…>…Такие слова могут возбуждать страх, экзальтацию, увлеченность, экстаз, отвлекая индивида от обыденности… <…> Харизматические слова имеют неясные границы, их значение часто варьируется в соответствии с идеологическим настроем эпохи и ускользает от точных дефиниций. Эта черта отличает их от понятий – идей с определенными границами, предписанными властями либо в форме декретов, либо в сочинениях философов, властителей дум своей эпохи. Хотя такие слова могут вырастать из специфических понятий культуры, гражданства, личности и справедливости, они сами вызывает чувство восхищения и даже трансценденции. Они представляют значения, которые преобладают в данный момент среди образованных русских, находятся ли они на имперской службе или принадлежат субкультуре, посвящающей свою жизнь идеям, – интеллигенции[8].
Итак, первопонятие – это единица мышления, объединяющая самые общие и устойчивые признаки множества явлений для воплощения в одном слове как наименьшей самозначимой единице языка. Особенность первопонятия – его смысловая энергия: наибольшее выражено в наименьшем. Минимальный знак (одно-единственное слово) заключает в себе максимум мыслительного содержания. Максимум плана содержания – в минимуме плана выражения. Эти предельно емкие по смыслу и предельно сжатые по выражению единицы мышления обладают властью над общественным сознанием и формируют знаковый код, определяют бытие человека в культуре.
Разные подходы к понятиям
В изучении и описании понятий – концептологии и концептографии – есть различные методы, традиции, дисциплины. В общественных науках выделяется мощное движение «история понятий», представленное немецкой школой Begriffsgeschichte (Р. Козеллек) и англосаксонской History of Concepts (К. Скиннер). Исследуется происхождение и формирование понятий прежде всего в социально-политической сфере, таких как «общество», «государство», «республика», «либерализм», «революция», «класс» и пр.
Широко распространен лингвистический подход к концептам в формате идеографических и семантических словарей, где описывается бытование данного понятия в лексико-семантической системе языка на основе большого массива примеров из авторов разных эпох. Самый удачный образец такого подхода – вышеупомянутый «Русский идеографический словарь» под редакцией Н. Шведовой[9]. Лингвисты, которые занимаются изучением «ключевых слов» как элементов языковой картины мира, ориентируются на классические работы Анны Вежбицкой, такие как «Толкование эмоциональных концептов» и «Концептуальные основы психологии культуры». На базе этого системно-семантического подхода возникли значительные труды Алексея Шмелева, Анны Зализняк и Ирины Левонтиной[10].
Возможны разные комбинации лингвистического, исторического и культурологического подходов. В России самый удачный и ранний по времени образец такого синтеза – книга Юрия Степанова «Константы. Словарь русской культуры» (1997), продолженная в его труде «Концепты. Тонкая пленка цивилизации» (2007). Начиная каждую словарную статью с этимологии понятия и структуры лексического значения, автор движется через его историю в европейской и русской культурах вплоть до нашего времени, обильно черпая из источников, строя компендиум философских, литературных, публицистических цитат, подтверждающих значение концепта, выявляющих его смысловое ядро.
Таким образом, возникла особая дисциплина на границах лингвистики и культурологии – концептология, которая занимается системным описанием концептов исходя из их бытования в языке и в контексте национальной культуры[11]. Концептология – это своего рода алгебра мышления, которая имеет дело с наиболее общими понятиями, но, в отличие от логики, рассматривает их семантику, а не формальный синтаксис.
Концепты описываются также более традиционным образом в толковых, энциклопедических и терминологических словарях, охватывающих понятийную систему той или иной области, дисциплины, например в философских и психологических энциклопедиях. Замечательный образец – книга Сергея Аверинцева «Логос-София. Словарь», составленная из его статей для разных энциклопедических изданий.
Концептивный и проблемный подход
Данная книга не относится ни к одному из вышеназванных типов. Это не идеографический и не энциклопедический словарь, не историческое или лингвистическое исследование понятий. Мой подход к концептам – собственно концептивный, имея в виду, что само понятие «концепт» образовано от латинского «concipere» – «зачинать, замышлять», а conceptus употреблялось чаще всего как причастие со значением «зачатый». Концепт – это в сущности зародыш, зачаток мысли[12]. Русское «понятие» этимологически и семантически родственно древнерусскому «поятие», соотносимому с браком («поять жену»). Когда говорят о концепте или концепции чего-то, предполагается акт зачатия, творческого образования данного мыслительного объекта.
Существующая концептология рассматривает понятия «уже готовыми», сформированными в языке, в истории, в культуре, – это описательно-аналитический подход. Напротив, концептивистика (как я предлагаю назвать это направление) рассматривает понятия как зачинательные единицы мышления, как своего рода семена, из которых образуются тела мысли. Первопонятия близки тому, что стоики, в частности Посидоний, понимали под «семенным логосом», «Logoi Spermatikoi», – семенные смыслы, огненные мыслящие зародыши всех вещей. «… Как в поросли содержится семя, так и бог, сеятельный разум мира… приспособляет к себе вещество для следующего становления…» (Диоген Лаэртский; кн. 7, 136)[13].
Первопонятия в данной книге – это именно семена «сеятельного разума», зачинательные акты мысли. Они рассматриваются не как итог, а как предпосылка процесса мышления. Если концептология завершает путь понятия его описанием, дефиницией, то цель этой книги – вывести понятие из равенства себе, проблематизировать его, подключить энергию его смысла к пересмотру картины мира. Для меня первопонятие – это не точка прибытия, а точка отправления, завязка интеллектуального сюжета, который развертывается из первопонятия как перводвигателя мышления. В этом смысле оно и «перво-».
В «Антологии концептов» концепт определяется как «квант структурированного знания»[14]. Но что такое квант? Это элементарный импульс энергии. Точно так же концепт не существует вне энергии мышления, вне динамики умственного процесса. Как правило, в концептографиях и концептологиях, в словарях и антологиях концепты рассматриваются в момент остановки. Но каждое понятие вызвано к жизни импульсом мысли – вопросом, и, в свою очередь, вызывает дальнейший вопрос. Задача этой книги – продемонстрировать игру каждого понятия, богатство его смыслов, его ментальный горизонт, многообразие тех контекстов, куда оно может быть вписано, приобретая все новый смысл.
Это также контекстуальный подход: концепты рассматривают внутри концепций, мыслительных построений, подобно тому как смысл кирпичей становится ясен лишь внутри зданий, которые из них можно построить. Девиз данного исследования: нет первопонятия без проблемы, призывающей к новому его осмыслению. Это не исторический, не лингвистический, не эмпирический подход к понятиям, но именно проблемный. Цель – не дескрипция и классификация, а проблематизация понятий в характерных для них смысловых контекстах. Meня интересует не история понятия, а его насущность для мышления, его мыслеемкость, способность «взрывать» сознание, обозначать ростковые точки современной культуры. Понятия рассматриваются как конструктивные единицы мышления, внутри тех проблем, которые ими ставятся и решаются. Понятие без проблемы – это как рабочий инструмент без предмета и цели применения.
Жанр книги
Жанр данной работы можно определить как «книгу понятий». Из важных для меня прецедентов упомяну два известных понятийных компендиума. Книга Олдоса Хаксли «Вечная философия» (1945) – это компендиум религиозной и мистической мудрости. В ней 27 глав: «Бог в мире», «Истина», «Самопознание», «Добро и зло», «Благодать и свободная воля», «Время и вечность», «Молчание», «Молитва», «Страдание»… Каждая глава включает в себя, наряду с суждениями самого Хаксли, много цитат и выдержек из духовных первоисточников – своего рода синтез трактата и хрестоматии.
Книга «Ключевые понятия. Словарь культуры и общества» (1976) британского теоретика культуры, неомарксиста Реймонда Уильямса (1921–1988) отразила методологию политически ориентированных «культурных исследований» (cultural studies), одним из зачинателей которых был сам Уильямс. Круг понятий здесь значительно шире, около 130, и среди них преобладают социокультурные и идеологические: Анархизм, Бюрократия, Коллектив, Демократия, Элита, Эволюция, Семья, Труд, Отчуждение, Идеология, Миф, Работа, Секс, Насилие… Здесь господствует исторический подход к понятиям: прослеживается их этимология, эволюция их значения в разные эпохи и в разных мировоззрениях, приводятся их определения у влиятельных мыслителей.
Книга Хаксли – путеводитель в мир высших смыслов и духовных медитаций, книга Уильямса – инструмент критического исследования современной культуры. Моя цель иная, не спиритуально-поучительная и не историко-аналитическая. Меня интересуют понятия как инструменты интеллектуального творчества: какие проблемы они ставят перед мышлением, какие парадоксы в них заключены и какие идеи, концепции, гипотезы из них вырастают. Поэтому я отбираю понятия не по темам, не по их тяготению к мистике или политике, к спиритуальности или социальности, а по степени их интеллектуальной «взрывчатости» и значимости для культуры вообще. Если «Первопонятия» и можно назвать «словарем», то это словарь конструктивных возможностей ключевых понятий – во всей их проблемности и парадоксальности[15].
Еще одна жанрово-стилевая особенность данной книги – установка на общепонятность, обусловленная самим ее предметом: первопонятиями. Я стараюсь избегать сложной терминологии и теоретического жаргона, обращая эту книгу не к специалистам в области концептологии, когнитивистики, лингвистики, эпистемологии, хотя, надеюсь, и для них книга может представлять интерес. Но целевая аудитория видится мне гораздо более широкой: все, для кого ключевые понятия – не звук пустой, но основа осмысленного бытия в культуре и кто хочет подвергнуть их критической рефлексии в контексте исторических традиций и современных интеллектуальных исканий.
Структура книги
Каждая статья в этой книге, как правило, исходит из достаточно традиционных определений данного понятия. Это точка отправления – а далее начинаются приключения мысли, движение в одном или нескольких направлениях, в кругу тех проблем, которые возникают в связи с данным понятием и делают проблемным его само. Почти все статьи делятся на главки, где данное первопонятие сопоставляется с другими, вводится в характерный для него контекст. Например, судьба рассматривается в связи с понятиями свободы, фатализма и детерминизма; совесть – в связи с мудростью и цинизмом; обаяние – с красотой и игрой; жуткое – со странным и сверхъестественным.
Понятия, которые используются для определения первопонятий, то есть второпонятия, тоже играют важную роль в этой книге – как своего рода задний ряд в мыслительной панораме, придающий ей объемность. Они включены в предметный указатель. Причем функции первопонятий и второпонятий могут меняться, например понятие «ум», которому посвящена отдельная статья, выступает как одно из второпонятий в статье о мудрости, а «мудрость» как второпонятие – в статье о совести. Одна из задач этой книги – раскрыть многомерность и внутреннюю связность концептосферы, все элементы которой соотносятся и взаимодействуют друг с другом.
Если словари и энциклопедии стремятся унифицировать понятия в самом способе их подачи, привести их к общему знаменателю, то в этой книге, напротив, мне хотелось выстроить вокруг каждого понятия свойственную только ему атмосферу, ауру, ассоциативную систему. Поэтому статьи различаются по объему и структуре. Каждое понятие – это личность, уникум: оно достойно того, чтобы выйти из словарной шеренги и стать центром своей собственной маленькой ноосферы, мысле-вселенной.
Выбор алфавитного порядка объясняется тем, что многие первопонятия могут быть поставлены в самые разные тематические ряды. Например, любовь соотносится с желанием и бессмертием; чудо – с верой и удивлением; творчество – с гением и мышлением… Загонять каждое понятие только в одну тематическую ячейку означало бы сужение его проблемного поля и к тому же создавало бы иллюзию линейного развития мысли, свойственную трактатам и философским системам, каковой эта книга не является. Первопонятия не выводятся одно из другого, но образуют мыслительную среду, концептосферу, континуум, ландшафт, где каждое здание стоит на собственном основании, – и вместе с тем они сочетаются и дополняют друг друга как элементы ментально-архитектурной среды.
В конце каждой статьи, после знака , приводятся другие понятия, которые тесно соотносимы с данным и указывают возможные пути дальнейшего чтения. Иначе говоря, наряду с формальным, алфавитным порядком прослеживаются содержательные, проблемные ряды понятий. Общий содержательный план книги приводится ниже: шестьдесят статей, которые можно было бы распределить по семи тематическим разделам.
1. ЖИЗНЬ
Жизнь
Судьба
Событие
Новое
Будущее
Возраст
Смерть
Бессмертие
Вечность
2. РЕАЛЬНОСТЬ
Реальность
Возможное
Чудо
Глубина
Оболочка
Малое
Вещь
Дом
Пустота
Ничто
3. ЧЕЛОВЕК
Человек
Душа
Совесть
Вина
Тело
Чистота
Легкость
Обаяние
Пошлость
Жуткое
4. ЧУВСТВО
Чувство
Любовь
Желание
Ревность
Настроение
Грусть
Тоска
Обида
Удивление
Умиление
Вера
5. УМ
Ум
Безумие
Сознание
Мышление
Мудрость
6. ВЛАСТЬ
Власть
Народ
Интеллигенция
Родина
7. ТВОРЧЕСТВО
Творчество
Гений
Интересное
Поэтическое
Игра
Образ
Слово
Молчание
Письмо
Чтение
Книга
Разумеется, в этой книге очерчена только часть концептосферы – первопонятия, которые мне представляются наиболее интересными, проблемными, харизматичными. Ю. С. Степанов в предисловии к своему словарю концептов замечает, что «количество их невелико, четыре-пять десятков, а между тем сама духовная культура всякого общества состоит в значительной мере в операциях с этими концептами»[16]. Вполне соглашаясь с этим заключением, я бы определил гипотетически объем концептосферы, точнее, ее смыслового ядра, числом 120–150 единиц[17]. По сути, вся умственная жизнь человека в культуре – это расширение личного словаря понятий и постепенное их переосмысление, поиск того предельно емкого языка, на котором можно говорить о главном с самим собой и с другими (самосознание и взаимопонимание).
Эта книга писалась на протяжении более сорока лет, и некоторые ее фрагменты ранее публиковались в других изданиях, в составе отдельных статей и эссе. Для данного издания все они существенно переработаны[18].
Я глубоко признателен моей жене, филологу и переводчику Марианне Таймановой, за внимательное чтение и правку этой книги на разных фазах ее написания и за множество идей и советов, которые в значительной степени повлияли на процесс моей работы.
Первопонятия
Безумиe
Хоть это и безумие, в нем есть свой метод.
Уильям Шекспир. Гамлет
Безумие обычно определяется как душевная болезнь, искаженное восприятие реальности, сопряженное с аномалиями поведения. Безумие – отчуждение от собственного и общественного разума, неспособность считаться с требованиями здравого смысла и общепринятого распорядка, разрушение логических и коммуникативных связей, ведущее к изоляции личности в мире собственных иллюзий, галлюцинаций, навязчивых идей и иррациональных переживаний.
Безумие как оборотная сторона ума
Прежде всего важно подчеркнуть, что безумие – это не отсутствие ума, а его утрата. Только существо, наделенное умом, может сойти с ума, подобно тому как только существо, наделенное даром речи, способно молчать (см. Молчание). Как говорил Э. Гуссерль, сознание есть всегда «сознание-о». Безумие тоже форма сознания, способ его артикуляции, и занимает свое место в ряду других форм: «думать о…», «говорить о…», «писать о…», «молчать о…», «безумствовать о…». О чем можно говорить, о том можно и молчать. О чем можно мыслить, о том можно и безумствовать.
Особенно это относится к тем безумцам и молчальникам, которые когда-то блистали мыслью и словом. О них уместно спросить: о чем они молчат, о чем безумствуют? Они уже вошли в то смысловое поле, из которого нет исхода. Здесь все разрывы, паузы, зияния полнятся значениями, как речь полнится паузами и пробелами, сосредотачивая в них свой иначе невыразимый смысл.
Этот вопрос: о чем? – витает над безумием Ницше, сама философия которого оправдывала безумие вообще и тем самым предвосхищала его собственную болезнь. «Почти повсюду именно безумие прокладывает путь новой мысли»[19]. Не означало ли это, в случае Ницше, что и обратное верно: новая мысль проложила путь безумию?
Здесь безумие рассматривается не как медицинский факт, а как культурный символ: не клиника, а поэтика и метафизика безумия, поскольку оно неотделимо от наклонностей творческого ума. О безумии можно размышлять в рамках разных дисциплин: психологии, психиатрии, социологии, криминологии… С культурологической точки зрения можно выделить два вида безумия: поэтическое и философское, или экстатическое и доктринальное.
Безумие поэтическое
Нам Музы дорого таланты продают!
Константин Батюшков
Словно в небесное рабство продан я…
Фридрих Гёльдерлин
Есть две жертвы, или два героя, поэтического безумия, которые своим разительным сходством позволяют резче выделить общую закономерность: связь безумия с поэтической устремленностью самого ума.
Фридрих Гёльдерлин (1770–1843) и Константин Батюшков (1787–1855) – почти современники. Оба принадлежат эпохе романтизма. Оба великие – но в тени еще более великих: Гёте, Пушкина. И какие схожие судьбы!
Оба прожили в свете сознания, в благосклонности муз ровно половину своего земного срока. Батюшков жил шестьдесят восемь лет: последние тридцать четыре – с помутненным рассудком. И у Гёльдерлина жизнь разбита так же надвое и так же поровну, словно есть в ней чей-то беспощадно строгий расчет: прожил семьдесят два года, первую половину (тридцать шесть лет) – мечтателем, странником, влюбленным, вторую (тоже тридцать шесть) – домоседом, кротчайшим из душевнобольных. Сравнимы также периферийная Вологда и провинциальный Тюбинген, где провели они остаток дней (в остатке – половина жизни). Как страшно возвращаться в глухую отчизну предков из блеска культурных столиц, унося только помраченный разум!
Задумываясь, отчего Гёльдерлину и Батюшкову уготована такая кара, видишь, что не одним лишь безумием сходны они, но и наклонностями своего поэтического ума. Оба они любили Грецию и Италию и все живое в себе отдавали тем, отжившим временам. Среди поэтов Нового времени, кажется, не было столь неистовых и самоотверженных в любви к полуденным краям и их языческим красотам:
- Дай, судьба, в земле Анакреона
- Горестному сердцу моему
- Меж святых героев Марафона
- В тесном успокоиться дому!
- Будь, мой стих, последнею слезою
- На пути к святому рубежу!
- Присылайте, парки, смерть за мною, —
- Царству мертвых я принадлежу.
Гёльдерлин никогда не бывал в Греции, но витал там, вдали от родины, всем духом своей поэзии. Не опасна ли такая разлука с собой, не означает ли она смерть при жизни? «Царству мертвых я принадлежу». Душа, долго порывавшаяся за эллинскими призраками, и впрямь отлетела без возврата. Кто из немецких поэтов не стремился «туда, туда» (dahin! dahin!) – в край миндальных рощ и священных дубов?! Но пожалуй, только Гёльдерлин решил там остаться, и безумие его – не следствие ли тайно принятого решения?
Правда, в последние годы перед болезнью он неустанно славит Германию – словно предчувствуя наступающий мрак и гибель души и торопясь облегчить свой грех запоздалым слиянием с живой родиной:
- Нельзя душой в минувшее бежать
- Назад, к вам, слишком дорогие мне.
- Прекрасный лик ваш созерцать, как прежде,
- Сегодня я страшусь. Погибель в этом.
- И не дозволено будить умерших.
Зная дальнейшую судьбу поэта, нельзя не содрогнуться при чтении этих строк: в них последняя попытка стряхнуть созерцательное оцепенение – предсмертный трепет души, почувствовавшей слишком поздно свой плен у чуждого, запертость в своем храме, как в темнице. Как иначе истолковать этот суеверный ужас поэта при созерцании эллинских богов – «умерших», пробуждая которых он сам цепенеет? Не есть ли безумие кара за измену своему, настоящему, за восторг, исторгающий душу из ее земных корней? Собственно, даже не кара, а сам этот восторг – застывший, остановленный, продолженный в беспредельность?
- И у Батюшкова тот же порыв:
- Друг милый, ангел мой! сокроемся туда,
- Где волны кроткие Тавриду омывают
- И Фебовы лучи с любовью озаряют
- Им древней Греции священные места.
- Мы там, отверженные роком,
- Равны несчастием, любовию равны,
- Под небом сладостным полуденной страны
- Забудем слезы лить о жребии жестоком…
В итоге средиземноморские мечтатели проводят свои последние десятилетия обывателями российской и немецкой глуши. Судьба как бы тычет пальцем: вот твое законное место, не пожелал сродниться душой – останешься здесь бездушным телом. Впечатление М. П. Погодина, навестившего Батюшкова в 1830 году: «Лежит почти неподвижный. Дикие взгляды. Взмахнет иногда рукой, мнет воск. Боже мой! Где ум и чувство! Одно тело чуть живое»[21].
Каков главный признак безумия? Сошлюсь на определение О. Мандельштама: «Скажите, что в безумце производит на вас наиболее грозное впечатление безумия? Расширенные зрачки – потому что они невидящие, ни на что в частности не устремленные, пустые. Безумные речи – потому что, обращаясь к вам, безумный не считается с вами, с вашим существованием, как бы не желает его признавать, абсолютно не интересуется вами. Мы боимся в сумасшедшем главным образом того жуткого абсолютного безразличия, которое он выказывает нам»[22].
«Расширенные зрачки» обоих поэтов были устремлены на Античность и Средиземноморье; невидящими глазами глядели они на окружающее. «…Именно утрата диалогического контакта отмечает поведение больного Гёльдерлина в Тюбингене. Затруднительным для него было и спрашивать, и выслушивать вопрос; даже старые знакомые… находили беседы с ним „слишком жуткими…“ <…> Позднейшие поэтические монологи Гёльдерлина исключают всякий намек на сам акт речи и его момент, на действительных участников общения», – замечает Роман Якобсон, посвятивший обстоятельное исследование поэзии Гёльдерлина периода безумия[23].
О том же сообщает лечивший Батюшкова доктор Антон Дитрих. В состоянии помешательства Батюшков «говорил по-итальянски и вызывал в своем воображении некоторые прекрасные эпизоды „Освобожденного Иерусалима“ Тассо, о которых он громко и вслух рассуждал сам с собой… <…> С ним было невозможно вступить в беседу, завести разговор… <…> Больной… отделился от мира, поскольку жизнь в мире предполагает общение»[24]. Безумие Батюшкова есть застывшее состояние его поэтического ума, как бы окончательно порвавшего связь с окружающей реальностью. Собственно, к такому выводу приходит и сам доктор: «…суть душевной болезни Батюшкова состоит в неограниченном господстве силы воображения (imaginatio) над прочими силами его души. В результате все они затормаживаются и подавляются, так что разум не в состоянии осознать абсурдность и безосновательность тех представлений и образов, которые проходят перед ним непрерывной пестрой чередой… Он живет только мечтами, это грезы наяву»[25].
Как видим, безумие, по оценке Дитриха, неотделимо от силы воображения его пациента. Здесь вспоминаются строки из пушкинского «Не дай мне бог сойти с ума…»:
- Я пел бы в пламенном бреду,
- Я забывался бы в чаду
- Нестройных, чудных грез.
Кстати, Пушкин посещал больного Батюшкова в 1830 году, и, возможно, эти впечатления, а также рассказы доктора Дитриха, который входил в круг пушкинских знакомых, послужили толчком для этого стихотворения, написанного в 1833 году. Сказанное не означает, что избыток воображения и поэтическая «иноземность» были причиной душевной болезни Батюшкова или Гёльдерлина. Возможно, напротив, что именно прогрессирующая болезнь задавала такую направленность их лирике.
Вообще отношение безумия и творчества вряд ли строится на причинности, скорее на причастности-несовместности. По мысли Аристотеля, не бывало ни одного великого ума без примеси безумия. Творчество невозможно без некоего безумия и вместе с тем несовместимо с полным безумием. «Болящий дух врачует песнопенье» (Е. Баратынский). Но там, где болезнь торжествует, не остается места и песнопению. Рассматривая безумие Ф. Ницше, В. Ван Гога и А. Арто, М. Фуко заключает, что «безумие есть абсолютный обрыв творчества». Ван Гогу «было прекрасно известно, что его творчество несовместимо с безумием». «Творчество Арто испытывает в безумии собственное отсутствие…», «…где есть творчество, там нет места безумию…»[26]. Молчание безумных поэтов полнится смыслом по отношению к их прежним речам, но само по себе выдает душераздирающую пустоту.
Безумие философское
С XVII века безумие считается психической болезнью и, как правило, проходит по ведомству медиков и психиатров. Но так было не всегда. Начиная с Платона безумие рассматривалось как высочайшая способность человеческой души, восходящей над ограниченностью разума. «…Величайшие для нас блага возникают из неистовства (mania), правда, когда оно уделяется нам как божий дар…»[27]
Платон выделяет три вида безумия: пророческое, молитвенное и поэтическое. О последнем он пишет:
Третий вид одержимости и неистовства – от Муз, он охватывает нежную и непорочную душу, пробуждает ее, заставляет выражать вакхический восторг в песнопениях и других видах творчества и, украшая несчетное множество деяний предков, воспитывает потомков. Кто же без неистовства, посланного Музами, подходит к порогу творчества в уверенности, что он благодаря одному лишь искусству станет изрядным поэтом, тот еще далек от совершенства: творения здравомыслящих затмятся творениями неистовых[28].
Безумие в платоническом смысле – это не утрата разума, а скорее освобождение из его плена. Именно к этой традиции поэтического безумия примыкает Гёльдерлин, причем вполне сознательно. По мысли Гёльдерлина, которая трагически исполнилась в его судьбе, «священное безумие – высшее проявление человеческого»[29]. Точно так же M. Хайдеггер впоследствии признал умопомрачение Гёльдерлина следствием его поэтических озарений. «Чрезмерная яркость завела поэта во мрак»[30].
Безумие, впервые описанное Платоном, хорошо исследовано в истории культуры, да и само выражение «поэтическое безумие» стало ходовым термином: это неистовство, экстаз, свободное излияние самых диких образов.
Но бывает и безумие другого рода, которое как бы не воспаряет над разумом, а мерно чеканит шаг ему вослед. Есть бред иррациональности, и есть бред гиперрациональности. Приставка «гипер» в данном случае означает не просто сильную, а чрезмерную степень рациональности (ср. «гипертония», «гипертрофия», «гиперинфляция», «гипербола»…). Гиперрациональность, или сверхрациональность, – это одержимость правилами, принципами, законами разума, которая переходит в свою противоположность – безумие.
Иными словами, безумие может быть отклонением от разума, а может быть и проявлением его безграничной амбиции и гордыни. Полоний, как известно, заключает о Гамлете: «Хоть это и безумие, в нем есть свой метод» («Гамлет», акт 2, сцена 2). Верно было бы и обратное: не только у безумия есть свой метод, но абсолютная преданность методу есть черта безумия. Можно перефразировать Полония: «Хоть это и метод, в нем есть свое безумие».
Как заметил Паскаль, «ничто так не согласно с разумом, как его недоверие к себе»[31]. Разум, всецело себе доверяющий, тиранически властвующий над личностью, – это уже безумие. Как известно, обществу в равной мере грозят анархия и тирания – распад государственной власти или, напротив, абсолютизация власти и ее репрессивного аппарата.
Точно так же и разум, как система основных понятий и функций мышления, может быть поражен болезнью анархии – экстатического безумия или болезнью тоталитарности – доктринального безумия. Связность и подвижность – два дополнительных свойства живых систем, в том числе разума. Когда одно из этих свойств утрачено, разум впадает в безумие либо бессвязности, либо неподвижности. Зацикленность разума, сосредоточенность в одной неподвижной точке (idée fixe) не менее чреваты безумием, чем развинченность разума, блуждающего без руля. Что безумнее: хаотическая пляска образов, оргия воображения – или «органчик» разума, застрявший на какой-то сверхценной идее?[32]
Этот второй тип безумия можно назвать философским, если исходить из того противопоставления поэзии и философии, которое проводил сам Платон. Поэзия – мир опьяняющих, призрачных образов; философия – мир вечных, самотождественных идей. Если поэтическое безумие подрывает устои строгой морали, за что поэты и подлежат изгнанию из государства, то безумие философов правит самим государством, это безумие не анархии, а идеократии. Ноостаз – так можно назвать эту форму безумия – противоположен экстазу[33].
Если Платон был философом – открывателем поэтического безумия, то художником – открывателем философского безумия можно считать Джонатана Свифта. Я приведу описание этого недуга из его «Сказки бочки» (1704), из раздела девятого, который так и называется – «Отступление касательно происхождения, пользы и успехов безумия в человеческом обществе»:
Рассмотрим теперь великих создателей новых философских систем и будем искать, пока не найдем, из какого душевного свойства рождается у смертного наклонность с таким горячим рвением предлагать новые системы относительно вещей, которые, по общему признанию, непознаваемы… Ведь несомненно, что виднейшие из них, как в древности, так и в новое время, большей частью принимались их противниками, да, пожалуй, и всеми, исключая своих приверженцев, за людей свихнувшихся, находящихся не в своем уме, поскольку в повседневных своих речах и поступках они совсем не считались с пошлыми предписаниями непросвещенного разума и во всем были похожи на теперешних общепризнанных последователей своих из Академии нового Бедлама… Такими были Эпикур, Диоген, Аполлоний, Лукреций, Парацельс, Декарт и другие; если бы они сейчас были на свете, то оказались бы крепко связанными, разлученными со своими последователями и подвергались бы в наш неразборчивый век явной опасности кровопускания, плетей, цепей, темниц и соломенной подстилки[34].
Далее Свифт язвительно излагает системы Эпикура и Декарта «в виде теорий, для которых бедность нашего родного языка не придумала еще иных названий, кроме безумия или умопомешательства». И заключает: «…Это безумие породило все великие перевороты в государственном строе, философии и религии»[35]. Для Свифта нет особой разницы между философской системой, государственной диктатурой и военной агрессией, поскольку в их основе лежит некое «бешенство» мысли, которое производится, согласно фантастической физиологии Свифта, избыточным давлением и омрачающим действием мозговых паров. «Этот отстой паров, который свет называет бешенством, действует так сильно, что без его помощи мир… лишился бы двух великих благодеяний: философских систем и насильственных захватов…»[36] Иными словами, Свифт как бы переворачивает мысль шекспировского Полония, находя безумие в «изобретателях новых систем» именно в силу безусловной и безоглядной методичности их мышления.
Ученые, исследователи, мыслители, философы, политики, идеологи, преобразователи общества более, чем поэты, музыканты и художники, склонны к этому методическому виду безумия, поскольку поиск и обоснование метода входит в существо их профессии. Собственно, любой идеологический или философский «изм» – это маленькое безумие, а некоторые «измы», вроде тех, которыми вдохновлялись идеократии ХХ века (включая советскую), – это большое безумие, которому удавалось сводить с ума целые народы на протяжении долгих эпох. Ноостаз узнается по навязчивому стремлению свести все многообразие явлений к одной всеобъясняющей причине. Если Платон обозначает поэтическое безумие словом «мания», то философское, которому и сам Платон, как дальше выяснится, не был чужд, особенно в своих поздних «Законах», можно обозначить как «мономания».
Безумие как прием
Если в безумии можно искать следы утраченного ума, то в уме чересчур властном и упорном («упертом») – потенциальные признаки безумия. С этой точки зрения у каждого философского ума есть свой проект, своя подлежащая пересозданию вселенная, свой Метод и Абсолют, а значит, и своя возможность безумия. Платон сошел бы с ума иначе, чем Аристотель, Гегель – иначе, чем Кант… Один из методов прочтения великих текстов – угадывание тех зачатков безумия, которые могли бы развиться за пределом этих текстов в собственную систему. Безумие методичнее здравомыслия, постоянно готового на логические послабления и увертки. Сумасшедший знает наверняка и действует напролом. Та ошибка, которую мы часто допускаем, когда пишем «сумашествие», пропуская букву «с», по-своему закономерна: сумасшедший шествует со всей торжественной прямолинейностью, какая подобает этому виду движения, тогда как здравый ум петляет, топчется, ищет обходных путей.
Один из самых острых критиков начала ХХ века – Корней Чуковский толковал в «свифтовской» манере писателей-современников: Мережковского, Горького, Андреева, Сологуба – именно как таких умствующих безумцев, носителей идефикс. Кто излишествует умом, тот часто ума и лишается. Например, Мережковский был помешан на парности вещей, на идее двух бездн, верхней и нижней:
Для Мережковского все вещи, должно быть, заколдованы, ибо всегда, на протяжении этих сотен и сотен страниц, они совершенно волшебным образом движутся перед нами в таком [антитетическом] порядке, выполняя собою незамысловатую формулу Мережковского… Так велик фетишизм этого писателя[37].
Про Леонида Андреева:
Всегда он видит в мире только какой-нибудь клочок, одну лишь пылинку, пушинку, хотя эта пылинка и становится для него Араратом, заслоняя собою и небо, и землю, и весь горизонт… Эта психология охваченности, одержимости до того присуща Андрееву, что ею он наделяет всех. Его герои чаще всего – мономаны… Например, в рассказе «Проклятие зверя» герой как начал твердить: «О город!.. лживый город… проклятый город… Мое последнее проклятие: город!» – да так и протвердил из страницы в страницу. Ни разу не заговорил о другом. Ясно: это маньяк. Человек, охваченный, гонимый одним только образом, одной только мыслью, слепой и глухой ко всему остальному[38].
Чтобы понять писателя, Чуковскому надо его обезумить, так сказать, гипотетически свести с ума. Безумие выступает у Чуковского как критический прием, как гипербола истолкования. Точнее, такой прием имеет своим основанием одновременно и гиперболу, и гипотезу – сочетание «гипер» и «гипо», преувеличение и преуменьшение. Некие навязчивые идеи и мотивы истолковываются как черты безумия, но сама модальность такого высказывания является не утвердительной, а скорее предположительной. Такой метод чтения можно назвать «обезУмливание» – сгущение образа писателя в зеркале его возможного безумия. Пантеон тогдашних божеств, властителей дум, Чуковский превращает в паноптикум интеллектуальных маньяков, фанатиков одного приема или идеи.
Безумие как критический прием можно применять не только к отдельным писателям, но и к целым идеологиям, к идеологическому сознанию как таковому. Особенно приложим такой метод к тоталитарным идеологиям, где внутренняя последовательность и всеохватность одной идеи достигается ценой ее полного концептуального отрыва от реальности и практического ее разрушения. Идеология – это философское безумие, которое овладевает массами и становится материальной силой.
Тема идеомании – идеологии как помешательства – господствует в книге философа и сатирика Александра Зиновьева «Желтый дом» (1980). Младшему научному сотруднику Московского института философии АН СССР Зиновьеву вменялось в обязанность работать с чересчур идейно рьяными гражданами, чьи рукописи КГБ посылал в институт на профессиональную экспертизу. Авторы делились на две категории: убежденные марксисты и убежденные антимарксисты. Здесь важно отметить три момента: 1) КГБ предполагал, что психические отклонения возникают на философской почве, сопряжены с метафизическими заблуждениями; 2) служба безопасности держала такие случаи философского помешательства под своим контролем; 3) Институту философии АН СССР поручено было диагностировать эти помешательства и решать, относятся ли они к разряду чисто медицинских или идеологически вредных. Обращение КГБ к философской экспертизе обнаруживает важную особенность идеократического государства: убежденность, что отклонения от психических норм так или иначе проистекают из философских ошибок – либо сознательного, идеологически опасного отступления от марксизма, либо его невольного, психически болезненного искажения. Такое переплетение философии и психиатрии характерно для идеократического общества. Философии доверена экспертиза умственного здоровья граждан, потому что сама норма жизни данного общества определяется философией.
Самокритика разума
Метод обезумливания полезно приложить к самому себе, особенно если твоя профессия – мыслить методически, создавать метод для собственной работы. «Обезумливать себя» – это вразумлять от противного. Ум, который осознает опасность своего безумия, отчасти уже избавляется от него.
Платон, заложивший теорию поэтического безумия и не чуждый доктринальному безумию в своих поздних трактатах, сам же подает и пример такой самокритики. Вот в «Законах» он вносит жесткие штрихи в проект своей идеократии:
…Надо разбить страну на двенадцать частей… Всех наделов устанавливается пять тысяч сорок… Граждан также надо разделить на двенадцать частей. Для этого надо произвести учет их имущества, а затем поделить его на двенадцать по возможности равноценных частей. Вслед за тем эти двенадцать наделов надо поделить между двенадцатью богами и каждую определенную жребием часть посвятить тому или иному богу, назвав ее его именем[39].
И вдруг в этот беспощадно рассудительный план мироустроения привходит какая-то щемящая нота – Платон отрывается от великого дела своего ума и видит сторонним взглядом всю тщету этого законотворчества как сновидчества:
Но мы должны вообще иметь в виду еще вот что: всему указанному сейчас вряд ли когда-нибудь выпадет удобный случай для осуществления, так, чтобы все случилось по нашему слову. Вряд ли найдутся люди, которые будут довольны подобным устройством общества… К тому же это срединное положение страны и города, это кругообразное расположение жилищ! Все это точно рассказ о сновидении или искусная лепка государства и граждан из воска![40]
Невольно вспоминается безумный Батюшков: «Взмахнет иногда рукой, мнет воск». Воск – самый подходящий материал для замыслов столь деятельного и возвышенного безумия. Та критика идеологий-идеоманий, которую проводили сатирическим пером Свифт и Зиновьев, уже заложена в драгоценном признании Платона-законотворца как самокритика философского разума. Платон не говорит прямо о своем безумии, но разве не безумие – утверждать образы своих сновидений как высшие законы государства?
Примем на вооружение эту оговорку Платона. Нужно задать себе вопрос: какoe безумие потенциально содержится в моем методе? Для каждого интеллектуала, интеллигента, производителя или распределителя идей полезна самокритика чистого разума, способность опознавать кривизну своей модели мира раньше, чем она скрутится до полного умопомрачения.
* * *
Для ума, воспитанного в русской культуре, проще всего соотнести себя с той перспективой безумия, которая мерещилась Пушкину. В стихотворении «Не дай мне бог сойти с ума…» выразились два сильнейших порыва творческого разума. С одной стороны, ему тесно в собственных пределах, он ищет безумия как праздника освобождения:
- Не то чтоб разумом моим
- Я дорожил, не то чтоб с ним
- Расстаться был не рад.
С другой стороны, разум страшится безумия как пущей неволи:
- Да вот беда: сойдешь с ума
- И страшен будешь, как чума,
- Как раз тебя запрут…
Расстаться с разумом – но расстаться не навсегда, сходить с ума в пределах самого разума, отпускать его далеко – но держать на привязи: таков спасительный исход, предлагаемый пушкинской «диалектикой» творческого безумия.
Разум должен знать свое иное, но не должен отождествляться с ним. Это иное разума, которое тем не менее остается под его присмотром, можно назвать иноумием[41]. Между разумом и безумием есть место для экстатических уходов и иронических возвратов, для всей той «межеумочной» зоны, где разум бежит от себя и возвращается к себе. Иноумие – это управляемое безумие, как бывает управляемый взрыв – не такой, который отрывает руки самому «взрывнику», как неоднократно случалось в истории обезумевших гениев.
Тем, которым Бог «не дал сойти с ума», – среди них Платону и Пушкину – свойственно именно иноумие: способность переступать границы здравого смысла, в то же время осторожно обходя пропасти смыслоутраты. Иноумие раздвигает пространство мышления, но не подрывает саму способность мысли. Иноумие – это незаменимое орудие разума, его самоотчуждение как высшая ступень самообладания. Если поэтическая заумь есть способ остранения языка, то философское иноумие есть способ остранения мысли, одновременного ее подстегивания и обуздания. Это искусство мыслить опасно, игра разума на границе с безумием, игра, в которой самому мыслителю не всегда дано отличать поражение от победы.
✓ Игра, Молчание, Мудрость, Мышление, Сознание, Ум
Бессмертие
Бессмертие – преодоление границы физического существования во времени, нескончаемость жизни как таковой или отдельного существа.
Следует разделять два понятия: бессмертие (immortality) и посмертие (afterlife). Бессмертие – это отрицание смерти, представление о том, что жизнь будет продолжаться вечно. Посмертие – более конкретное понятие: что ждет нас после смерти. Это не весь бесконечный путь, а следующая остановка, точнее, вход в первую из обителей на этом пути. Уместно рассмотреть эти два взаимосвязанных понятия именно в таком порядке: от общего к частному.
Есть много способов подойти к понятию бессмертия: из древних мифологий, из религиозных откровений и мистико-оккультных учений, из биологических и медицинских гипотез, из показаний тех, кто пережил клиническую смерть, побывал на том свете и оттуда вернулся. Мы будем исходить из опыта «здешнего» бытия, в частности из бытия человека в культуре.
Культура и доказательства бессмертия
«Жизнь кратковременна, искусство долговечно» – это изречение Гиппократа, один из первых образцов афористического жанра, обычно рассматривается как антитеза краткой жизни и долгого искусства. Но нет ли между ними и причинно-следственной связи? Именно потому, что жизнь коротка, она столь торопится создать нечто, что ее переживет, – искусство в широком смысле слова. Если бы жизнь длилась бесконечно, она не нуждалась бы в искусстве. Но раз я смертен, то пусть нечто, сделанное мною, переживет меня. Жизнь кратковременна, вот почему искусство долговечно.
У человека нет ни одной потребности, для которой не было бы источника удовлетворения в окружающем мире. Само наличие какой-либо потребности говорит о возможности ее удовлетворения, хотя превращение этой возможности в действительность обычно не обходится без труда и борьбы. Человек испытывает жажду – и находит воду. Так же обстоит дело с голодом, вожделением, потребностью сна и т. д. По словам И. В. Гёте, «наши желания – предчувствия способностей, в нас заложенных, предвестники того, что́ мы сумеем совершить. То, на что мы способны, и то, чего мы хотим, представляется нашему воображению как бы вне нас, в отдаленном будущем: мы испытываем тоску по тому, чем в тиши уже обладаем»[42].
Если все, что желанно, то в принципе и возможно, почему должно быть иначе с желанием бессмертия? Ведь это сильнейшая из всех потребностей. Откуда бы она взялась, если бы ничему не соответствовала? Другое дело, что борьба за бессмертие может оказаться отчаянно-непосильной для данной личности – не всякий, испытывающий жажду в пустыне, имеет силы дойти до источника. Но если бы в природе не было воды, то не было бы и жажды.
Почему мы получаем удовлетворение от культуры? Рисовать, писать, петь, играть, перевоплощаться – что в этом такого занимательного, почему этого просит душа? Культура есть черновой набросок бессмертия, его условная, символическая форма, подражание бессмертию – как жизнь христианина мыслится подражанием Христу (Фома Кемпийский). Иначе как объяснить, что мы хлопочем часами над какой-то поэтической строкой или живописным мазком? Да пропади оно пропадом, если все равно умрем!
По Фрейду, вся культура создается тем же природным инстинктом, что ведет к производству потомства. Потому и противопоставлены у него Эрос и Танатос («По ту сторону принципа удовольствия»), что инстинкту смерти может равномощно противостоять только инстинкт бессмертия. Но отсюда следует, что либидо – лишь разновидность этого более мощного, всеохватывающего инстинкта. Можно назвать его и Эросом, но тогда половой инстинкт – лишь одно из проявлений инстинкта бессмертия.
Однако лишь с большой натяжкой можно объяснять тягу к культуре скрытым удовлетворением полового инстинкта в виде сублимации, то есть вынужденной или добровольной отсрочкой полового акта, в которую вписываются все сновидения, искусства, религии… Собственно, в рамках данной теории, по объяснению самого Фрейда, культура и не приносит настоящего удовлетворения, а, напротив, причиняет неудобство и страдание, поскольку подавляет, ограничивает, запрещает удовлетворение полового инстинкта и в лучшем случае дает его иллюзорное удовлетворение, «сублимацию» (Фрейд, «Неудовлетворенность культурой»). Получается, что культура – это отброс либидо, свалка неутоленных желаний. Но мы-то знаем, что культура приносит истинное удовлетворение – не половому инстинкту, столь узко и «антикультурно» понятому, а инстинкту бессмертия, разновидностью которого является половой (увековечить себя в своем смертном подобии, в потомстве). Другую форму того же инстинкта, владеющего самыми творческими людьми, можно назвать «тоской по культуре». То, что О. Мандельштам в своей воронежской ссылке, уже на краю гибели, назвал «тоской по мировой культуре», было тоской по бессмертию, выживанию в строчках или полотнах, коль скоро не дано выжить их создателю.
Культура есть величайший аргумент в пользу бессмертия, быть может более убедительный, чем все пять метафизических доказательств бытия Бога. Города, башни, музеи, поэмы, романы, трактаты – это образы вечной жизни, хотя в них спасения (и то временного) удостоен еще не сам человек, а только его создания. Можно сравнить удовлетворение от культуры с желанием Фомы вложить персты в раны Воскресшего, чтобы удостовериться, что плоть может пережить смерть – и что это та же самая, не поддельная плоть, все еще осязаемая, хотя и пронизанная уже сиянием и нетлением. Культура – это педагогика бессмертия для смертных существ.
Но если есть в человеке тоска по культуре, то есть и тоска внутри самой культуры, чувство ее недостаточности для человека. Не потому, что она подавляет его «эрос», а потому, что недостаточно выполняет его волю к бессмертию и напоминает о смертности самого человека среди его более долговечных созданий. Культура усиливает нашу смертную тоску, являя в творениях их превосходство над творцами. Об этой «неудаче культуры» много писал Н. Бердяев, сетуя на чисто символический характер ее вневременных ценностей – и призывая к эсхатологическому прыжку поверх барьеров культуры, «вверх тормашками», в подлинную вечность. «В культуре есть вечная, мучительная неудовлетворенность… <…> Неудача и неудовлетворенность культуры связаны с тем, что культура во всем закрепляет плохую бесконечность, никогда не достигает вечности»[43].
Вероятно, художественную (или другую творческую) профессию выбирают именно те, кто особенно страшится смерти и хочет каждый день работать над ее преодолением, символически ее побеждать. Правда, к середине жизни некоторые испытывают разочарование и отказываются от искусства в пользу более верных, буквальных средств спасения. Эту неудовлетворенность культурой остро переживали Н. Гоголь и Л. Толстой, отказываясь от своих же художественных творений ради религиозного спасения. Но если культура – черновик бессмертия, то дальнейшая работа должна вести не к сжиганию черновика, а к его отбелке. Путь к бессмертию лежит не в обход культуры, а через ее усиление, продление, оживотворение, через вечностное в ней. Культура, возносящая человека над природой, не может не вознести его и дальше, за предел природного бытия.
Именно об этом говорит И. В. Гёте в свои последние годы:
Уверенность в том, что мы продолжаем существовать вечно, вытекает у меня из самого понятия деятельности. Ибо если я, не зная устали, буду деятелен до самого конца, то природа, когда теперешняя форма уже не сможет выдержать тяжести моего духа, обязана будет указать мне новую форму существования. Пусть же вечно живой не откажет нам в новых видах деятельности, аналогичных тем, в которых мы уже испытали себя[44].
Э-лизиум, или Цифровое бессмертие
Культура – это только середина пути от смертности в природе к бессмертию в духе. Цивилизация еще отчасти природна и смертна, и хотя она переживает смерть индивидов, но и сама постепенно ветшает, прошлое уходит в забвение, да и память не сравнится по качеству «записи» с тем, что переживается здесь и сейчас. Инстинкт бессмертия проецирует для себя третий уровень бытия, после природы и цивилизации, – назовем его Элизий. Согласно греческому мифу о царстве блаженных и бессмертных, там, в царстве вечной весны, каждый встретится со своей прошлой жизнью, с любимыми и друзьями, войдет в прежний свой дом и в круг знакомых вещей. Нынешний уровень развития информационных технологий вплотную подводит нас к возможности Элизиума как голографического или квантово-электронного континуума, где жизнь человека, протекавшая во времени, повторяется заново уже в пространстве, точнее, во вневременной и внепространственной развертке цифрового бессмертия. Электронный Элизиум, E-lysium.
Можно предположить, что в человека встроено какое-то устройство, «антивремя», которое записывает все, что с ним происходит на протяжении всей жизни, вплоть до мельчайших деталей. Иначе ход времени не вызывал бы у нас такого упорного сопротивления, вплоть до тоски и скорби по каждому проходящему мгновению. Что-то отчаянно цепляется в нас за уходящее, словно действует противовес падению в небытие.
У Дилана Томаса есть стихотворение «Do not go gentle into that good night»:
- Не уходи покорно в сумрак смерти,
- Не следуй мирно в даль, где света нет,
- Пусть гневом встретит старость свой конец.
- Бунтуй, бунтуй, когда слабеет свет[45].
Вот этот бунт против угасания жизни, не только перед лицом смерти, но и на исходе каждого дня, каждого уходящего мига, присущ каждой душе, пусть и неосознанно. Какая сила противится времени, если не это таинственное антивремя внутри нас? И это не просто бессильный протест. Днем и ночью неслышно жужжит невидимая камера, записывая нашу жизнь, все то, что отпечатывается у нас в мозгу, все мыслимое, видимое, слышимое, осязаемое… По вычислениям ученых, объем такой записи, охватывающей весь срок человеческого существования, составляет от нескольких десятков до нескольких сот терабайтов, что уже доступно современным хранилищам электронной информации. Так же как мы сейчас можем зафиксировать каждый свой шаг на видеокамеру, так возможно, в принципе, и записать все происходящее в нашем мозгу, все сигналы, которыми обмениваются нейроны, – многоканальная и многомедийная, полнообъемная запись всего содержания жизни.
Речь не только о будущем. Развитие современной техники подсказывает, что такая запись могла бы вестись в прошлом, что она ведется испокон веков, встроенная в нас той же самой природной биоинженерией, что создала и наши гены. Новейшие информационные технологии обнаруживают практическую возможность «элизации бытия», то есть параллельной записи и увековечения того, что было, есть и будет. Этому не противоречит и та все более популярная гипотеза, что сама реальность, нас окружающая, есть компьютерная симуляция, производимая из иного мира, на порядок более реального, чем наш (хотя и сам он может быть симуляцией в неизвестной степени). Тогда тем более вероятно, что «запись идет», включается по умолчанию с рождением каждого человека, как включается автоматически запись виртуальных классов и конференций.
Наше бытие протекает во времени и вместе с тем вне времени, создавая неуничтожимый образ самого себя. И когда человек умирает, то заново вступает в свою жизнь, след в след, лицом к лицу со своим прошлым, но уже в ином, сверхвременном измерении.
- …В тот Элизий, где все тает
- Чувством неги и любви,
- Где любовник воскресает
- С новым пламенем в крови,
- Где, любуясь пляской граций,
- Нимф, сплетенных в хоровод,
- С Делией своей Гораций
- Гимны радости поет.
- …Элизий в памяти моей
- И не кропим водой забвенья.
- В нем мир цветущий старины
- Умерших тени населяют,
- Привычки жизни сохраняют
- И чувств ее не лишены.
- Там жив ты, Дельвиг!..
А вот свидетельство культуролога, семиотика Юрия Лотмана, который оставался человеком трезвейшего ума и тогда, когда оказался на больничной койке:
В практическом быту я прекрасно понимал, что такое время, но одновременно жил в мире, в котором я сам и все люди, которые когда-либо пересекались с моей жизнью… существовали одновременно и вне времени, как бы высвечиваемы в разных частях одного пространства. Например, отец был одновременно во всех возрастах и существовал сейчас. То же – и о всех других людях… В этом мире ничто не исчезало, а только уходило в область неясного зрения и вновь выходило из нее[46].
Обязательно ли ждать болезни и смерти, чтобы войти в Элизиум? Нельзя ли встроить его в жизнь? Если Э-лизиум, мыслетворный и рукотворный, окажется возможным, то он станет третьей ступенью развития человечества, после природы и цивилизации. При этом последующая ступень не упраздняет предыдущую, но вбирает ее. В цивилизации человек не утрачивает свое физическое тело, точно так же и в Э-лизиум он отправится во всеоружии всех средств цивилизации, всей новейшей техники «иммортализации». Но как цивилизация несводима к природе, так и Э-лизиум несводим к цивилизации, а образует новый мир «технического потусторонья», «цветущей старины», где, возможно, нам предстоит встретиться с предками, а нашим потомкам – с нами[47].
Личное посмертие
Заглянем в краткую историю вечности – в то, как меняются образы потустороннего. Поначалу – сумеречный, печальный, призрачный мир загробья в Древней Иудее, в античной Греции[48]. Одно пространство для всех, где нет ни блаженства, ни страданий, нет настоящей жизни – мир теней, призраков. Потом – дуалистичный христианский образ посмертия, разделенного на ад и рай, с прибавлением чистилища у католиков. Там все переживания и интенсивность бытия, напротив, неимоверно усилены по сравнению с нашим земным бытием, которое скорее воспринимается как тусклое, полупризрачное, – а красочная реальность и полнота чувств переносится туда. Там страдают – на вечном огне, блаженствуют – в лучезарном свете божественной славы. Но при этом сохраняется эпическая картина загробного мира как общего пространства для всех его населяющих, поделенного на две или три огромные территории: для праведников, грешных и проходящих срединный путь очищения.
Однако возможна и другая картина – личных посмертий, которые подготовляются душами за время их земной жизни. Представим, что мы ничего не знаем о рае и аде, о христианской эсхатологии, о карме в индуизме. Можно ли мыслить о том, что происходит с душой после смерти, на основе своего жизненного опыта, без трансцендентных допущений? У каждого мыслящего существа есть своя интуиция посмертия, так же как есть интуиция ближайшего будущего у каждого человека, имеющего некий жизненный опыт. Послежизние – как послевкусие, оно начинается в преклонном возрасте как цельное ощущение от проживаемой и почти уже прожитой жизни – и потом переходит в посмертие. Граница между ними – биологически четкая, дискретная (смерть), а психологически размытая: каким ты уходишь отсюда – таким приходишь туда. Когда тело умирает, душа образует вокруг человека ту действительность, которая и есть его внутренний мир, ставший внешним. Сам внешний, физический мир исчезает, поскольку нет больше органов для его восприятия, остается только одинокое «я» и беспредельное «все». Лаконичнее всего об этом написал А. Эйнштейн: «Странно в старении то, что постепенно утрачиваешь способность отождествлять себя со здесь и сейчас. Кажется, будто тебя в одиночестве переместили в бесконечность»[49]. Такова формула посмертия: все, что тебя окружало, уходит вместе с телом; исчезает все близкое, теплое, зримое, осязаемое, все эти промежуточные слои бытия между мною и бесконечностью. Теперь эти пределы: одинокое «я» и бесконечность – соприкасаются напрямую.
То, что мы знаем о своей душе, достаточно для того, чтобы рассматривать ее будущее безотносительно к внешним условиям ее бытия, нам пока неизвестным. Это своего рода эсхатологическая редукция, близкая феноменологической: за скобки выносятся «физические» условия загробной жизни. Важно то, что́ душа представляет сама для себя и чем она будет являться в любом из миров. Посмертное бытие каждой души столь же личностно, как и она сама. Это посмертие в первом лице: не что вообще бывает с душой после смерти, а что моя душа знает или предчувствует о своем послебытии. Такой персоналистический и даже лирический образ посмертия: «обитать в теле своей души» – более сообразен с миропониманием современного человека.
О том, что ждет душу, завершившую свой земной путь, размышляет Александр Мень:
Посмертие невозможно представить себе пустым бездействием, томительной и однообразной «прогулкой в райских садах»… <…>…Посмертие тесно связано со всей земной жизнью, подобно тому как наследственность и условия существования в теле матери влияют на рождение и жизнь человека. <…> Каждый несет в посмертие то, что он уготовил сам себе здесь[50].
Куда уходит человек после смерти? Он уходит в себя, в свое «я», которое само становится миром его обитания. Предназначение человека – создать внутри себя ту «ноосферу», или «информационное поле», ту систему смыслов, в которой продолжится его жизнь после смерти тела. Сколько душ, столько и посмертий. Никаких коммунальных пространств! Душа, оставшаяся наедине сама с собой, становится средой собственного обитания, ткет свой новый мир из воспоминаний и фантазий, из образов и идей, ей уникально присущих, – как организм, который, согласно представлениям современной биологии, своей жизнедеятельностью создает себе среду. Никаких поощрений или наказаний, никаких костров, бурь, кипящих озер или лучистых озарений, никакой внешней силы, приложенной к тебе. Ты сам и есть тот грядущий мир, который себе повседневно готовишь.
Посмертие – это своего рода шлюз для перехода с одного уровня бытия на другой. Смертью закрываются ворота в прежний, физический мир – и открываются ворота в новый, духовный. Оттуда прибывает вода – дух, воздух, чтобы постепенно поднять душу до уровня того предстоящего мира, куда она должна войти. Этот переход часто сравнивают с путешествием по темному туннелю, впереди которого брезжит свет, но сравнение со шлюзом тоже уместно, поскольку речь идет о повышении уровня бытия, о постепенном его духовном наполнении.
Наша будущая жизнь будет больше похожа на полет воображения, на стихотворение, эссе или манифест, чем на протокол ежедневных и ежеминутных событий. У будущей жизни не будет устойчивого фундамента в виде пространства, времени, материи, внешних условий существования. Она будет ровно тем, что каждый есть для себя.
Один из важнейших показателей «предрасположенности» к бессмертию – дальность целеполагания. Известный психологический эксперимент, проводимый с одним и тем же контингентом сначала детей, потом взрослых на протяжении сорока лет, выяснял модель «отсроченного удовлетворения» и его воздействие на жизненные успехи. Этот «эксперимент с зефиром» был проведен Уолтером Мишелем в 1960-х и 1970-х годах в Стэнфордском университете для понимания стратегий, которые дошкольники использовали, чтобы противостоять искушению. Они подарили четырехлетним детям зефир и сказали, что у них есть два варианта: позвонить в любой момент, чтобы вызвать экспериментатора и съесть зефир, или дождаться возвращения экспериментатора через пятнадцать минут и получить еще один зефир. Или маленькая награда сейчас, или большая награда позже. Некоторые дети не выдержали и съели зефир, в то время как другие смогли отсрочить удовлетворение и заработать два желанных зефира. Дети, которые ждали дольше, уже во взрослом возрасте продемонстрировали поразительное множество преимуществ перед своими сверстниками. Они лучше сдавали экзамены, имели более высокую социальную компетентность, самооценку, уверенность в себе, и их родители оценивали их как более зрелых, способных справляться со стрессом, планировать будущее. У них было меньше шансов страдать от расстройства поведения или повышенного уровня импульсивности, агрессивности и гиперактивности. У них было меньше проблем с наркотиками и с избыточным весом, они реже разводились. На каждую минуту задержки в получении удовольствия через тридцать лет приходилось снижение индекса массы тела на 0,2 %.
Не действует ли тот же принцип в отношении и более долгой отсрочки, которая растягивается вплоть до смерти, – в надежде, что многократно умноженная награда придет впоследствии, в жизни иной? Те, кто умеренно потребляет земные блага, не переусердствует в погоне за удовольствиями, – те сознательно (верующие) или бессознательно (неверующие) придерживаются принципа, что отсрочка радости несет некое ее накопление во времени и особенно значительное – при переходе через порог смерти. По сути, об этом и знаменитое пари Паскаля: о том, что верующий, лишая себя конечных благ, может приобрести бесконечные, и даже если шанс их приобретения мал, сама их бесконечность делает ставку на Бога более выгодной, чем на его отсутствие. «Да, разумеется, для вас будут заказаны низменные наслаждения – слава, сладострастие, – но разве вы ничего не получите взамен? Говорю вам, вы много выиграете даже в этой жизни, и с каждым шагом по избранному пути все несомненнее будет для вас выигрыш и все ничтожнее то, против чего вы поставили на несомненное и бесконечное…»[51]
Духовная эволюция и сверхъестественный отбор
Хотя исторически эволюционизм выступил как сильнейший противник религиозного мировоззрения, креационизма, можно использовать законы эволюции, открытые Ламарком и Дарвином, для объяснения эсхатологического процесса – прохождения душ через условия земной жизни для выживания в жизни иной. Все процессы протекают естественно, но через них-то и совершается то, что можно было бы назвать «сверхъестественным» отбором. Есть невидимая духовная сфера (пневмосфера), окружающая человека: условно говоря, мир Платоновых идей, вечных форм и смыслов. Человек адaптируется к ней по ходу всей своей жизни и переходит в нее целиком после смерти. Не у всех индивидов адаптация проходит успешно: духовно выживают только сильнейшие. Человек сталкивается со множеством обстоятельств этого мира, столь же случайных, как и те мутации, что способствуют изменчивости живых существ в природной среде. Если в биологической эволюции те признаки, которые отобраны средой, наследуются потомками, то в духовной эволюции постоянно рождается сам человек – и в своем посмертном бытии наследует признаки, отобранные его земной жизнью. Выживает и «оставляет потомство», то есть удостаивается посмертия, только та душа, которая способна подчинить себе обстоятельства и адаптироваться к миру идей, архетипов, универсалий, которые ожидают ее за границей природного бытия. Некоторые души рано угасают, задолго до смерти тел; другие оказываются повреждены – идет борьба души за выживание в иных мирах. Именно такой, какой душа стала в этом мире, она и переходит в другой, точнее, сама душа после смерти и становится миром для себя. Будет ли она «испепеляема адским огнем» или «купаться в небесной лазури» – в ней самой заключены условия ее посмертного бытия. Если естественный отбор касается особей, лучше всего приспособленных к природной среде, то «сверхъестественный» отбор – тех душ, которые оказались наиболее стойкими, жизнеспособными в подготовке к жизни иной.
При этом «благоприобретенные» качества души, стяжаемые ее трудом и усилием, упражнением внутренних органов, тоже «наследуются», то есть переходят в бытие после смерти. Точка расхождения между дарвинизмом и ламаркизмом – наследование индивидуально приобретенных признаков. Дарвин полагал, что такие признаки не наследуются, эволюция происходит путем естественного отбора, а не целенаправленного усилия – то есть выживают и оставляют потомство только наиболее приспособленные особи. Но, как известно, с развитием эпигенетики[52] и неоламаркизма биология больше не отвергает наследование приобретенных признаков: эмоциональных, волевых, поведенческих, – даже признавая возможность их передачи следующим поколениям. Эсхатологический отбор как раз предполагает усилие к спасению, упражнение духовных органов, поскольку душа выживает не в «потомках», а в самой себе, производит, питает и жизнетворит саму себя. Здесь происходит аккумуляция признаков, приобретенных личностью в результате всех жизненных опытов, усилий, взаимодействий с естественной средой. Сверхъестественный отбор для души – это и значит отбор по признаку личного усилия, а не готовых, унаследованных качеств.
При этом многообразие индивидуальностей, переходящих в иную жизнь, не только не теряется, но возрастает по мере их земного испытания и прохождения в духовную сферу, так же как естественный отбор способствует умножению биологического многообразия. Философ и богослов Ориген писал:
…При конце этого мира будет великое разнообразие и различие, и это разнообразие, полагаемое нами в конце этого мира, послужит причиною и поводом новых различий в другом мире, имеющем быть после этого мира[53].
Рождение в иную жизнь
Такова естественная теория потустороннего: жизнь после смерти – это продолжение той жизни, которую мы ведем до смерти, и судить об одной можно по некоторым признакам другой, нам хорошо знакомой. Например, о процессах вживания в иную жизнь, о ее освоении нашей душой можно судить по тому, как осваиваются в этой жизни новорожденные, как они постепенно приспосабливаются к условиям нашего мира. На многих иконах Богородица после Успения изображается как спеленутый младенец на руках у своего сына. Это аллегория усопшей души, предназначенной для рождения в жизнь иную: новое детство души, входящей в простор незнакомого мира и свою собственную непривычную плоть, подобно детям, – с такой же робостью, неловкостью, удивлением. Из дряхлых, изможденных мы вновь становимся младенцами иного мира – столь же трогательно-нелепыми для его старожилов. Это «впадение в детство» может оказаться начальным событием новой жизни в любых мирах.
Глядя на младенца, трудно усомниться в том, что именно так новорожденная жизнь осваивает неведомый для нее мир – прикосновениями, взглядами, лепетом, которые поначалу лишены четкой цели, но выражают одушевленность и волю к взаимодействию. Ребенок полутора-двух лет – вихрь, который беспорядочно проносится по всей квартире. Открывает и закрывает все ящики, одну игрушку тащит в рот, другую отшвыривает, укладывает спать куклу и тут же подбрасывает ее в воздух, зажигает и выключает свет, передвигает стул, залезает на диван, слезает с дивана… Никакой плавности, логики, последовательности. Так посредством случайных проб, рывков, тыков, сдвигов ребенок осваивает незнакомый ему мир, измеряет расстояние между вещами, их тяжесть, упругость, податливость, силу сопротивления.
Наблюдая за поведением ребенка, взрослому легче понять, что происходит с его собственной душой: почему мысль все время скачет, переносится с предмета на предмет, с прошлого на будущее, выхватывает из памяти образ и соединяет его с поэтической строчкой или с мотивом из песни, почему она перебегает со страницы философской книги на фантазии о морском путешествии? Откуда такой беспорядок и произвол ассоциаций? Душа – ребенок, которая осваивает незнакомый ей мир. Она повзрослеет, когда меня здесь уже не будет. Окажется, что все эти разбросанные образы, между которыми мысль сейчас бестолково мечется, связаны в каком-то ином измерении. Так же как в нашем мире связаны в определенном порядке все вещи, между которыми в спешке разрозненных ощущений перебегает ребенок. Душа – дитя по отношению к умопостигаемому миру, который она ощупывает гадательно. В материальном мире тело, наученное опытом детства, постепенно учится держать себя под контролем, знает, к чему прислониться, где вход и выход. А мысль – это существо нового поколения, она резвится и порхает по-детски, потому что еще только наугад, торопливо осваивает ту среду, в которой ей предстоит обитать. Потом она войдет уверенно в этот умопостигаемый мир, где окажется связанным все то, что отсюда кажется бессвязным.
✓ Вечность, Душа, Жизнь, Любовь, Ничто, Смерть
Будущее
Будущее – самое загадочное, гипотетическое из трех основных времен (в сопоставлении с прошлым и настоящим) и вместе с тем психологически и интеллектуально наиболее насыщенное. «Сердце в будущем живет…» (А. Пушкин). «Жить можно только будущим» (А. Блок). Именно потому, что будущего еще нет, человек переносит в него свои главные цели и устремления. За будущее ведется борьба всех идеологий, утопий, религиозных откровений и общественно-политических программ.
Новое открытие будущего
Одержимость будущим – одно из обольщений и проклятий XX века, унаследованное от оптимизма и прогрессизма XIX века. Долгие десятилетия коммунизм представлялся неотвратимым будущим всего человечества, и на его алтарь приносились неисчислимые жертвы. В постсоветское время считалось неприличным, чуть ли не постыдным говорить о будущем – оно якобы запятнало себя сотрудничеством с «оккупантами будущего», утопистами и тоталитаристами, которые во имя будущего учиняли насилие над настоящим.
Но будущее обмануло всех, кто пытался им овладеть. Оно оказалось не тем кровожадным божеством, за которое его выдавали жрецы-революционеры. Напротив, будущее – ниспровергатель всех божеств и идолов, даже тех, что воздвигаются в его честь. То, что «коммунистическое будущее» осталось в прошлом, означает, что будущее очистилось еще от одного призрака, и такое очищение, или демифологизация времени, есть особая функция будущего. Теперь оно опять надвигается на человечество, уже не с восклицательным знаком, но со знаком вопроса.
Эпоха «после смерти будущего» не просто отменяет будущее, но заново открывает его чистоту. После всех утопий и антиутопий нам дано почувствовать всю глубину и обманчивость этой чистоты. Это не tabula rasa, чистая доска, на которой можно написать все, что угодно, воплотить любой грандиозный проект. Скорее, чистота будущего – это его способность стирать с доски четкие линии любого проекта, превращать любые предначертания в размытое пятно – тускнеющий остаток испарившейся утопии. После конца утопий открывается образ будущего как великой иронии, которая никогда не позволяет себя опредметить, предсказать, подчинить прогнозу.
В сущности, единственный непревзойденный субъект иронии – это будущее. М. Бахтин писал о невозможности завершить историю изнутри самой истории и о будущем как смеховом разоблачении всяких попыток остановить неостановимое:
…Ничего окончательного в мире еще не произошло, последнее слово мира и о мире еще не сказано, мир открыт и свободен, все еще впереди и всегда будет впереди. Но ведь таков и очищающий смысл амбивалентного смеха[54].
Можно добавить, что таков и очищающий, идолоборческий смысл будущего как открытости бытия, в которой исчезают все его завершенные формы. Знаменательно, что «будущее» в русском языке – того же корня, что «бытие», тогда как прошлое и настоящее образованы от других языковых представлений: «проходить» и «стоять». Самое таинственное в бытии – это его будущность, неостановимость и неустанность, инаковость и вненаходимость по отношению ко всему сущему.
Любовь к открытому, непредрешенному будущему – это не та любовь, которую завещал Н. Чернышевский в романе «Что делать?»: «Любите будущее. Переносите из него в настоящее столько, сколько можете перенести». Будущее здесь представлено как склад готовых атрибутов счастья, которые только и ждут, чтобы их перенесли в настоящее. Но только то будущее и достойно любви, из которого ничего нельзя перенести в настоящее, поскольку оно само уносится вперед с той же скоростью, с какой настоящее уносится назад, в прошлое. Вопреки тому, что обычно говорят о будущем, оно не только наступает, но и с каждым мигом отступает туда, где мы не можем его настичь.
Отчасти сам язык виноват в том, что будущее предстает наезжающим на нас, подминающим под свои колеса. Мы говорим: «будущее наступает», как если бы речь шла о войске. Кстати, в английском языке эта ассоциация не задействована, там будущее «приходит», «прибывает» (arrives), как поезд на станцию, откуда отправится дальше, из настоящего в прошлое.
Два свойства будущего. Будущности
Точнее было бы сказать, что у будущего есть два взаимоисключающих свойства, два раздвигающихся предела: будущее предстоящего события – и предстояние самого будущего. Известно, что по мере продвижения вперед дальнее становится ближе, но сама даль отодвигается. Что же такое будущее: приближающийся предмет или вспять бегущая даль? В том-то и дело, что будущее всегда раздвоено, как ироническое высказывание, где «да» означает «нет». Будущее – как пушка: выстреливает в нас событием, а само откатывается назад. Одно будущее стремительно наступает, к нему взывают утописты всех времен, требуя его скорейшего пришествия. Другое будущее отступает от нас с той же скоростью, с какой первое наступает.
Именно о таком всегда отступающем будущем писал философ Семен Франк в своей книге «Непостижимое»: «Мы не знаем о будущем решительно ничего. Будущее есть всегда великое Х нашей жизни – неведомая, непроницаемая тайна»[55]. Тем самым предполагается скорее алгебраический, чем арифметический подход к будущему – не как к определенной величине, но как к неизвестному.
Отсюда потребность в неизвестном будущем, которое скорее стирает определенность наших проектов, чем способствует их воплощению. Будущее вбирает в себя область возможного – все, что может быть. При этом возможность никогда не возникает одна, а только в виде раздваивающихся, множащихся, несовпадающих и не исключающих друг друга возможностей. Пока мы говорим о будущем в единственном числе, оно предполагается обязательным и неотвратимым, а значит, вписывается в форму повелительного наклонения. Будущее в сослагательном наклонении – это раскрытый веер будущностей.
Вспомним, что слово «культура» вплоть до ХХ века употреблялось только в единственном числе, в значении нормы и образца; понимание множественности культур возникало постепенно. Не произойдет ли сходная метаморфоза с понятием «будущего», которое из нормативно-обязательного единственного числа – то, что непременно «будет», – перейдет во множественное число: многообразие того, что «может быть»? В русском языке это понятие уже имеет потенциально исчисляемую форму «будущность». Дискредитированное утопическими идеологиями и тоталитарными режимами, понятие «будущего» может быть оправдано для будущего как сосуществование и взаимодействие разных будущностей.
Футурология, популярная дисциплина 1960–1970-х годов, пыталась предсказать будущее, выстроить его в линейной перспективе растущих тенденций, подлежащих экстраполяции из настоящего. Футуроскопия, напротив, обозревает разные варианты и горизонты будущего без попытки подчинить их единой логике развития. Это открытый исторический горизонт: ландшафтное видение не одного будущего, но множества веерообразно расходящихся и не заслоняющих друг друга будущностей.
Будущее и предбудущее
Будущее в широком смысле – то, что следует за настоящим, то есть после момента высказывания о нем. Если мы намечаем что-то на завтра – это будущее, и если мы воображаем то, что будет со вселенной через миллиард лет, – тоже будущее. Но было бы целесообразно выделить особую временную зону между настоящим и будущим – предстоящее, предбудущее. Это время «пред» – предчувствия, предварения, предвосхищения. Волевые акты направлены, как правило, не в будущее, а в предбудущее. Это зона самого активного времени: желаний, побуждений, стремлений, намерений – и возможности их воплощения. Это «праздник ожидания праздника» (Ф. Искандер), и первый праздник по остроте превосходит второй.
Если будущее – «то, что будет», то предбудущее – «то, чему быть» (или «не быть»). Будущее – это отдаленная перспектива, а предбудущее – порог, перед которым мы стоим. Предбудущее – то завтра, которое совершается с нами уже сегодня, причем порой гораздо более событийно, чем в том времени, когда оно уже станет настоящим. Это как бы четвертое время: не прошлое, не будущее, не настоящее, а настающее. Это область предельного напряжения всех сил и способностей.
Предбудущее имеет свою грамматику, отличную и от настоящего, и от будущего времени. Вот пять основных грамматических форм предбудущего:
1. Императив. Будь здесь завтра в восемь!
2. Инфинитив. Быть здесь всем завтра в восемь!
3. Будущее время. Буду здесь завтра в восемь.
4. Настоящее время. Еду завтра на вокзал.
5. Сослагательное наклонение. Поехать бы завтра на вокзал!
По своей протяженности предбудущее подвижно, оно может сжиматься до секунд или растягиваться на годы. Его временной объем определяется горизонтом наших ожиданий и устремлений. Для обывательского сознания предбудущее сжимается до минут (чего бы поесть/выпить?); для деятеля, пророка, созидателя растягивается на века (каким быть миру, человеку?). Для школьника, которому на следующий день предстоит экзамен, предбудущее – это завтра; а для писателя, работающего над романом, оно растягивается на несколько лет. Предбудущее – фокус волевых усилий: что делать? каким быть? Чем сильнее и целенаправленнее наша воля, тем более дальнюю перспективу она охватывает. Для таких волевых натур, как Л. Толстой или А. Солженицын, все будущее становится предбудущим, не остается безмятежной глади грядущих лет и веков, все втягивается в водоворот вплотную подступающих решений и поступков. Мера жизнеустремленности определяется тем, какая доля будущего вовлечена в предбудущее. Исчезает равнинное «будет». Останется только крутое, как обрыв, «быть или не быть» – категория предельно наполненного существования.
✓ Возможное, Новое, Событие, Судьба
Вера
Вера – признание истинным или существующим того, для чего нет наглядных свидетельств или логических доказательств. Вера – это духовная и волевая устремленность к такому бытию, которое выходит за границы знания и опыта.
Вера и невероятность
Понятие «веры» без дальнейшего определения предполагает веру в Бога, в действия высшего разума и/или сверхъестественного существа. Парадокс веры в том, что она обращена именно к чему-то маловероятному или даже невероятному. Там, где можно верить на сто процентов, вера не нужна – вполне хватает знания. Поэтому вера почти всегда включает в себя сомнение. Вера – это борьба с сомнением, но без этой борьбы нет и самой веры. Тертуллиан писал о предмете веры: «…это вполне достоверно, ибо ни с чем не сообразно… это непреложно, ибо невозможно»[56].
Иной мир, спасение, бессмертие, вечность, Бог – все это невероятно с позиции опыта, знания, разума. Именно из этой невероятности начинает прорастать вера – «может быть», рожденное из «быть не может». Она сразу увядает, как только ее пересаживают на почву «есть».
У Сёрена Кьеркегора есть глубокое размышление о том, что верить в Иисуса – значит быть его современником, когда еще не известно, что он – Христос. Когда человек убежден, что Бог, бесконечно удаленный от людей и не открывший свой лик даже Моисею, не может иметь сына и даже помыслить об этом – богохульство. Когда из этой полной невозможности вдруг раздается внутренний голос: «А может быть, это и есть Сын Божий?» Само выражение «Иисус Христос» содержит в себе, как сжатый символ веры, скрытую модальную связку: «Иисус, может быть, Христос». Это «может быть» и есть дар веры, ее растерянность, испуг, недоумение, ее первоначальное «не может быть». Здесь уместно привести слова теолога Карла Барта: «Тому, кто может сказать „Иисус Христос“, незачем говорить „Это может быть“; он может сказать „Это есть“. Но кто из нас способен из себя сказать „Иисус Христос“?»[57] Итак, чтобы поверить в Христа, нужно ясно представить себе его невозможность; чтобы поверить в спасение, надо представить себе невозможность спасения. «Кто же может спастись?» – вопрошают апостолы, и Иисус отвечает: «…невозможное человекам возможно Богу» (Лк. 18: 27).
Иисус объясняет веру через образ возможного-невозможного в притче о горе и горчичном зерне. «…Истинно говорю вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: „перейди отсюда туда“, и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас…» (Мф. 17: 20). Здесь тоже вера начинает с невозможного, которое делается возможным благодаря самой вере. Но отсюда не следует, что вера становится материальной силой, магически передвигающей горы, – это тот случай, когда буквальное толкование искажает смысл притчи. Представим себе, что апостолы по слову Христа поднатужились в вере – и гора перешла бы с одного места на другое: мы были бы поражены бессмыслицей и неевангельским духом такого события. Вера действительно может двигать горы, но вера, устремленная на передвижение горы, перестала бы быть верой и обратилась бы в суеверие, поскольку вместо Бога обрела бы материальный предмет – по сути, идола. В том-то и суть, что настоящая вера, которая может двигать горы, не движет горами, а движется дальше гор – в «горнюю» область. Вера не свершает того, что может, именно потому, что может больше того, что можно свершить, – больше передвижения горы, больше победы над сильными мира сего. Потому распинаемый и не поражает смертью избивающих и распинающих его, что сила веры не позволяет ему сделать этого, а ведет его дальше, к тому, что возможно сделать лишь Отцу, – к воскресению. Иными словами, та самая сила веры, которая может делать, она же и не делает, чтобы восходить по ступеням возможного к воле самого Бога, достигать наибольшего согласия с ней.
Вера и неверие
Обычно говорят о вере и неверии как о двух типах мировоззрения, исключающих друг друга. Но в реальности можно говорить скорее о колебании между верой и неверием, о постоянной борьбе в душе человека.
«Непостижимо, что Бог есть, непостижимо, что его нет…» – говорит Паскаль. Это постоянное колебание маятника передано комически, но не менее фундаментально в эпизодическом образе майора в «Бесах» Достоевского: «…верите ли, вскочишь ночью с постели в одних носках и давай кресты крестить пред образом, чтобы Бог веру послал, потому что я и тогда не мог быть спокойным: есть Бог или нет? До того оно мне солоно доставалось! Утром, конечно, развлечешься, и опять вера как будто пропадет, да и вообще я заметил, что днем всегда вера несколько пропадает». У каждой души есть своя ночь, когда явь физического мира отступает и приближается иная, невидимая реальность; и свой день, когда, напротив, по словам Тютчева,
- На мир таинственный духо́в,
- Над этой бездной безымянной,
- Покров наброшен златотканый
- Высокой волею богов.
Представим себе эти колебания от неверия к вере и обратно в размышлениях современного человека. Допустим, исходная точка – неверие. Откуда мы знаем, что Бог, ангелы, демоны, загробная жизнь, рай, ад, воскресение – все в самом деле так, как представляется верующим? Где и когда наблюдалось хоть что-то похожее? Для разума очевидно, что это только фантазия и предмет веры. – Именно поэтому я не верую.
Но откуда берется вера? Если она ничему не соответствует, почему так много людей ее разделяет? Человечество на протяжении всей своей истории, за исключением немногочисленных вольнодумцев и безбожников, верило в незримую жизнь, в сверхъестественных существ. И хотя разные религиозные системы описывали ее по-разному, этим не опровергается ее подлинность. Мы не видим атомов и элементарных частиц, но соглашаемся, что они существуют, поскольку регистрируются приборами. Явления духовной жизни приборами не регистрируются, но множество людей описывает их одинаково или с разницей только в деталях. Значит, у восприятия духовных явлений есть своя точность и объективность. – Да, приходится верить.
Но ведь бывают случаи массовых помешательств и галлюцинаций, которые лишены фактических оснований. Миллионам и даже миллиардам людей Ленин, Сталин, Гитлер, Мао Цзэдун и их бредовые идеи представлялись воплощением мудрости, а они были всего-навсего кровожадными и преступными властолюбцами. Почему не допустить, что и религиозные якобы откровения – это всего лишь проекции человеческих желаний, упований на бессмертие, чудо, всемогущество. – Нет, нельзя поверить.
Но откуда берется реальность церковных зданий и обрядов, откровений и песнопений? Разве вся цивилизация, все созданное человеком, да и он сам как созидатель, не имеют какого-то запредельного источника вне природы? Разве в природе есть нечто похожее на Моцарта или на Кёльнский собор? Откуда это приходит, как не из невидимой реальности? – Нельзя не верить.
И вот такая чехарда «верю – не верю» происходит в душе людей как почти верующих, так и почти неверующих. Но каждая последующая вера глубже предыдущей, вбирает в себя очередное неверие, как и последующее неверие вбирает в себя предыдущую веру. И вдруг выясняется, что это живой рост, как у дерева одно годичное кольцо замыкает в себе другое. Здесь подошло бы понятие «переверие», которое отмечается в словаре В. Даля: «Переверовать, изменять не раз веру, убеждения. Он во все переверовал…» Маятник «верую – не верую» не перестает колебаться…
Вера и религия
Когда вера обрастает институциями, догмами и традициями, она становится религией. Отсюда критическое отношение к «религии», в отличие от веры, даже со стороны некоторых теологов, таких как Карл Барт:
…Религия забывает, что она имеет право на существование только тогда, когда она постоянно отвергает самое себя. Вместо этого она радуется своему существованию и считает себя незаменимой[58].
Такая самодовольная религия, ищущая своего торжества в мире, противна существу веры, которая «не от мира сего». В конечном счете вера только тогда остается верой, когда теряет твердые рациональные и институциональные гарантии и вступает в область безграничного риска и свободного жизнетворчества.
У Мигеля де Унамуно есть повесть об одном священнике, бесконечно преданном своему служению и снискавшем любовь прихожан. По ходу действия выясняется, что он не верит в Бога и исполняет обряды только из любви к ближним, страдая от своей раздвоенности. Он искренне считает себя безбожником в лживом обличии набожности. Но, как явствует из самого названия повести «Святой Мануэль Добрый, мученик», для писателя правда состоит в том, что за безбожием дона Мануэля скрывается подлинная святость и готовность к мученичеству во имя ближних, а значит, и во имя Бога. Так происходит двойное развенчание иллюзий сознания: дон Мануэль разоблачает для себя иллюзию веры, с ужасом постигая свое неверие, и одновременно писатель разоблачает эту иллюзию неверия, открывая за ней неосознанную реальность веры.
Это двойное разоблачение – не просто литературный прием, но историческое движение европейской религиозности, которая все более утрачивает свое господство в сознании, чтобы заново обретать его в глубине бессознательного. Тезисом этого процесса была религиозность Средневековья, пронизывавшая все сознание европейского общества. В эпоху Возрождения под этой оболочкой христианской цивилизации разрастается пласт безрелигиозности, которая к XVIII веку выходит наружу, определяет идеологию французских просветителей и окончательно закрепляется в XIX веке как сознательный атеизм Фейербаха – Маркса – Ницше. Примерно столетие, от «Сущности христианства» Фейербаха (1841) до «Будущности одной иллюзии» Фрейда (1927), длилась «переоценка всех ценностей», так что Божественная Троица переосмыслялась как отображение земной семьи (Фейербах), а Бог – как взрослая проекция детской зависимости от всемогущего отца (Фрейд). Так обозначился антитезис: религиозное сознание уступает место иррелигиозному или антирелигиозному.
Но на этом движение европейской религиозности не закончилось, и постепенно она все больше воспринимается как тайный подтекст секуляризма и атеизма. Если в XIX веке было принято отыскивать социально-исторические и биопсихологические истоки происхождения религии, то к концу XX века диспозиция меняется: религиозное оказывается тем бессознательным, откуда проистекают многие иррелигиозные или антирелигиозные движения, включая либерализм, национализм, фашизм, развитие науки и техники, освоение космоса и т. д. Антихристианство Ницше переосмысляется как следование крестным путем Христа, фарсовое самораспятие во имя сверхчеловека в противовес церковному фарисейству. В коммунистическом учении Маркса и в революционном движении пролетариата, которые представлялись чистейшим образцом воинствующего атеизма, явственно проступают мессианские и эсхатологические мотивы. Как заметил Георгий Флоровский, «в религиозных движениях стараются открыть их социальную основу. Но не были ли, напротив, социалистические движения направляемы религиозным инстинктом, только слепым?!»[59] Даже зарождение капитализма теперь выводится из развития протестантизма (начиная с работы Макса Вебера «Протестантская этика и дух капитализма»). Согласно протестантскому мыслителю Д. Бонхофферу, секуляризация оказывается шифром новой религиозной зрелости человека, которому доверены самостоятельные акты творчества по образу и подобию Бога. «…Мы не должны приукрашивать безбожность мира, но представить ее в новом свете. Теперь, когда мир вошел в возраст, он более безбожен и, может быть, по этой самой причине ближе к Богу, чем когда-либо раньше»[60]. Имеется в виду, что растущая независимость человека от Бога, исчерпание его «детской» веры во всемогущего Попечителя, укрепляет в самом человеке образ и подобие Бога как источник зрелого самостояния в мире. Только когда дитя перестает «слушаться» взрослых, оно само обретает взрослость, – так и человечество XX века, перестав нуждаться в «потустороннем», вошло в зрелый возраст «христианства без религии», или веры без Бога.
Сейчас сложно предсказать, чем окажется эта эпоха веры, остающейся без религии, без институций и догматов и именно так себя осознающей. Очевидно одно: то неверие, в котором, подобно унамуновскому дону Мануэлю, в XX веке призналась себе западная цивилизация, для XXI века вдруг оказалось формой скрытой веры, для которой еще предстоит создать новую теологию.
Вера и наука
Наука и техника обычно рассматриваются как основа атеистического мировоззрения. В самом деле, если человек способен своим разумом и энергией перестраивать вселенную по своему плану, где же находится в это время Творец, почему он бездействует, в чем проявляется его воля? Активность человека, все более возрастающая в ходе истории, оставляет как будто все меньше места для действий Творца.
Но почему, собственно, успехи науки и техники должны опровергать бытие Бога, а не, напротив, доказывать возможность такого его всемогущества, которое раньше представлялось непостижимым для людей, владевших лишь примитивными орудиями труда. Как объяснить, например, пахарю или лесорубу, что Бог может читать все помыслы людей? Или что человек, умирая, может тем не менее пережить свой прах и сохранить целость своей личности, обрести бессмертие. В древности техника была примитивно-материальной: топор, плуг, молот, серп. По-настоящему интеллектуальная техника, умные машины стали возникать совсем недавно, во второй половине ХХ века. Mногим стало легче поверить в Бога, в сверхъестественный разум, после того, как они познакомились с возможностями искусственного разума, пусть еще и весьма ограниченными. Если человек может творить нечто столь похожее на него самого, то увеличивается вероятность того, что он сам сотворен.
Понятно, например, как сведения обо всех живущих могут накапливаться в маленьком электронном устройстве. По опыту общения с новейшей техникой гораздо легче представить, как Творческий Разум может общаться со мной, читать каждую мою мысль и отзываться на нее. Крестьянину с сохой, который видел только воздействие одного материального предмета на другой, неизмеримо труднее было бы представить, что все волосы на голове человека сочтены и все тайное, творящееся в его душе, может стать явным. Откуда берется такой всевидящий и всезнающий дух? Конечно, крестьянин мог просто принять это на веру без всяких объяснений и доказательств, но для наших современников такое представление о всеобъемлющем разуме уже не есть только вопрос веры, но предмет вполне достоверного знания. Мы знаем, сколь компактны средства хранения информации, как в одном зернышке вещества может помещаться не только будущее дерево, но и, если это компьютерный чип или другой электронный носитель, – миллионы книг, планы городов, информация о государствах, планетах, элементарных частицах и т. д.
Что же удивительного, что Всевышнее Существо, Верховный Разум может хранить в себе планы не только нашей, но мириад других вселенных и проникать в тайное тайных каждой личности, всех разумных существ, в их прошлое и будущее. Раньше человеку с молотком и мотыгой в это оставалось только верить, как в чудо и сказку. Техника приближает к нам сверхъестественное, делает его естественным, рационально объяснимым. Мы теперь уже можем знать то, во что древние только верили, по слову апостола Павла: «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (1Кор. 13: 12).
Если наука последнего столетия приучила нас познавать возможность и даже необходимость таких чудес, за которыми трудно было угнаться вере древнего человека, то нужно ли рассматривать достижения этой науки как аргумент против веры? Разве вера в бессмертие души – или, выражаясь современным языком, в нерушимость информационной матрицы личности при разрушении одного из ее материальных носителей, то есть тела, – не становится закономерным выводом разума из данных современной физики? А разве современная генетика, открывшая в основе органического бытия законы наследственности, управляемые языком генов, не подтверждает по-своему тот факт, что «в начале было Слово», что слово предшествует телесному бытию и определяет цвет глаз и волос, наследственные болезни и темперамент? То, что когда-то познавалось только верой, теперь познается наукой во всеоружии ее методов, открывая тем самым путь к новому синтезу разума и веры.
Новейшее знание не противоречит вере, а вбирает ее, проясняет, протирает, как тусклое стекло. Соответственно, научное развитие человечества идет не от веры к безверию, а от веры к знанию. Пора уже говорить о религиозности знания, а не только о религиозности веры. Религия знания – это не религия, которая поклоняется знанию, а религия, которая все более достоверно узнает от науки о том, что религия прошлого могла только принимать на веру. Научный тезис о Большом взрыве, который привел к сотворению вселенной из ничего, – это предмет не только физического, но и религиозного знания. Антропный принцип, подтверждающий, что вселенная была создана для обитания в ней человека, – это религиозное знание. Отделение информации от известных материальных носителей и допущение бесконечного многообразия этих носителей, передающих информацию о человеке, – это тезис религиозного знания. И так можно долго перечислять все те пути, которыми вера вступает в область современной науки и становится знанием. В XXI веке вера укрепляется не от нехватки знаний, а благодаря им; обращается не к Богу пробелов, а к Богу открытий.
✓ Бессмертие, Возможное, Душа, Удивление, Чудо
Вечность
Все происходит в первый раз, но так, чтобы это было вечно.
Хорхе Луис Борхес. Счастье
Под вечностью обычно понимается бесконечная длительность, не имеющая начала и конца, неподвластная ходу времени. Предполагается, что вечность симметрична и в равной степени простирается вперед и назад, в прошлое и в будущее.
Симметричная вечность
На этой общей предпосылке основаны два противоположных верования:
1. Вечной жизни вообще нет, душа рождается и умирает вместе с телом. Если бы душа была вечной, то у нее был бы опыт предыдущих существований и какая-то память о них. Но поскольку мы, как правило, ничего не помним о своей предыдущей жизни, то нет никаких оснований верить и в будущую жизнь.
2. Вечная жизнь есть, и она безначальна и бесконечна. Душа существовала и до ее пребывания в теле, она проходила через ряд перевоплощений – и продолжит их после смерти. Некоторые люди помнят свои прошлые воплощения, но даже отсутствие такой памяти не исключает, что душа была и будет вечно.
Из представлений о симметричной вечности, таким образом, складываются два мировоззрения, одно из которых граничит с материализмом, неверием в иную жизнь, а другое утверждает закон реинкарнации, переселения душ. Если есть вечная жизнь после, то она должна быть и до. Если ее нет до, то ее не может быть и после.
Так рассуждает Николенька Иртеньев в «Отрочестве» Л. Толстого (гл. 19):
…Стоя перед черной доской и рисуя на ней мелом разные фигуры, я вдруг был поражен мыслью: почему симметрия приятна для глаз? что такое симметрия? Это врожденное чувство, отвечал я сам себе. На чем же оно основано? Разве во всем в жизни симметрия? Напротив, вот жизнь – и я нарисовал на доске овальную фигуру. После жизни душа переходит в вечность; вот вечность – и я провел с одной стороны овальной фигуры черту до самого края доски. Отчего же с другой стороны нету такой же черты? Да и в самом деле, какая же может быть вечность с одной стороны, мы, верно, существовали прежде этой жизни, хотя и потеряли о том воспоминание[61].
Хотя Николенька, отвлекшись от этой «симметрической» мысли, уже через минуту находит ее «ужаснейшей гилью», она не лишена философской глубины. В пользу такой симметрии ясно высказывается А. Шопенгауэр:
Ибо разумный человек может мыслить себя непреходящим лишь постольку, поскольку он мыслит себя не имеющим начала, то есть вечным, вернее, безвременным. Тот же, кто считает себя происшедшим из ничто, должен думать, что он снова обратится в ничто, ибо думать, что прошла бесконечность, в течение которой нас не было, а затем начнется другая, в течение которой мы не перестанем быть, – это чудовищная мысль[62].
Асимметрия вечности. Есть начало, нет конца
Но именно эта «чудовищная мысль» и воодушевляет волю к бессмертию в религиях авраамова корня[63]. Христианство учит о вечной жизни, всегда чаемой и предстоящей, но не допускает никаких предыдущих воплощений души. Вечность – впереди, но ее нет сзади. В Послании апостола Павла говорится прямо: «…человекам положено однажды умереть, а потом суд…» (Евр. 9: 27). На Втором Константинопольском (Пятом Вселенском) соборе была осуждена идея предсуществования душ, как и смежные «переселенческие» идеи множественных перевоплощений, в том числе из ангельских в человеческие тела и наоборот. Как можно помыслить, что нечто, имеющее начало, не имеет конца? Древним грекам это представлялось невозможным. То, что имеет начало, необходимо имеет и конец[64]. Согласно Платону, «если… то, что движет само себя, есть не что иное, как душа, из этого необходимо следует, что душа непорождаема и бессмертна»[65].
На это раннехристианский мыслитель Тертуллиан отвечает в своем трактате «О душе»: «Нам, признавшим душу происходящей из дыхания Бога, следует приписать ей начало. Платон это исключает, утверждая, что душа не рождена и не сотворена. Мы же на основании утверждения о ее начале учим, что она и рождена, и сотворена»[66]. При этом, согласно Тертуллиану, она и бессмертна.
Тогда возникает вопрос – что же это за такая половинчатая вечность: только впереди, но не сзади? Ответ на этот вопрос – в тайне творения мира. Бог сотворил мир из ничего. И наша Вселенная, как показывает наука, тоже возникла в определенный момент времени, и само время возникло вместе с ней. По библейским представлениям, мир, сотворенный Богом, имеет начало, но не имеет конца.
О начале мира сказано в самом начале Библии (Быт. 1: 1). В начале сотворил Бог небо и землю.
О бесконечности мира сказано в самом конце Библии, в Откровении Иоанна Богослова:
И Ангел, которого я видел стоящим на море и на земле, поднял руку свою к небу и клялся Живущим во веки веков, Который сотворил небо и все, что на нем, землю и все, что на ней, и море и все, что в нем, что времени уже не будет… (Откр. 10: 5, 6) И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков (Откр. 11: 15).
Отсюда можно понять, что мир бесконечен, но не безначален во времени. Само выражение «времени уже не будет» глубоко парадоксально, потому что оно помещает вечность в будущее время, то есть исчезновение, исчерпание времени совершается внутри самого времени. В иудеохристианском мировоззрении вечность все полнее раскрывается во времени. Вечное асимметрично, оно прибывает с каждым актом творения.
Одно из главных направлений западной мысли ХХ века – философия и теология процесса, в истоке которых стояли Альфред Норт Уайтхед и Чарльз Хартсхорн. Главный элемент мироздания, с этой точки зрения, не материя и не идея, а событие. Теология процесса противоположна как идеалистической теологии, так и материалистическому атеизму, которые сходятся в том, что Бог есть некая идеальная, самотождественная субстанция. Идеализм признает ее существующей в основании всех вещей; материализм отрицает ее существование. Но именно против субстанциальности восстает философия процесса, которая настаивает, что становление несводимо к бытию. Вопреки традиционному представлению о вечном, неизменном и всесовершенном Боге, теология процесса говорит о становлении самого Бога, подобно тому как художник меняется с каждым своим произведением. Воплощая свой замысел, «опустошая» себя в очередном творении, Бог наполняется новой энергией, которая позволяет ему не повторять себя, но творить нечто небывалое.
И сказал Сидящий на престоле: се, творю все новое (Откр. 21: 5).
Творящий новое сам не может не обновляться. Собственно, первый теист, египетский фараон Эхнатон (XIV в. до н. э.), уже провозгласил, что Бог сам себя создает[67]. В теологии процесса креационизм получает более углубленное толкование: не только мир сотворен Богом, но и Бог творит себя непрестанно, и мы все участвуем в его самотворении. Бога нет вне событий его становления.
Соответственно меняется представление о вечности и ее соотношении со временем. Собственно, творение и означает, что все вечное имеет начало, входит в мир, где его раньше не было, и навсегда остается в нем. Творение – это постоянное расширение и пополнение бытия, отсюда и заповедь «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Это полнота не только в пространстве, но и во времени, высшая полнота которого и образует вечность. Не все, что рождается, подвластно смерти. Рождений больше, чем смертей. Родящегося больше, чем умирающего. Душ, входящих в бытие, становится все больше и больше. Бытие, каким оно создано Богом, несет в себе преизбыток, изобилие небывалого. Концепция переселения душ предполагает не акт их сотворения, а превращение, переплавку, круговорот. Напротив, концепция творения из ничего предполагает качественное прибавление нового, сотворение новых душ и личностей, которые уже никогда не умрут (если сами не изберут смерть).
Быт. 2: 7: И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою.
Быт. 2: 17: …От дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь.
Согласно Библии, у человека, созданного из праха земного, есть начало, причем даже более позднее, чем у других тварей (последний, шестой день творения). Но он не обречен смерти и может выбрать вечную жизнь. Созданное однажды создается навеки. Человек (и как род, и как индивид) приходит во времени и уходит в вечность. Таков изначальный замысел Бога: рожденному – не умирать. И через отступление и возвращение, через первочеловека Адама и Богочеловека Христа, этот замысел, пусть прерванный и отсроченный, все-таки исполняется. Таков поступательный образ вечности в иудаизме и христианстве. Не симметричный, не статичный, а возрастающий, победительный. Безначален один только Бог, но сотворенное, имея начало, может не иметь конца. «Се, творю все новое», и это новое «не прейдет». Так же сказано в Символе веры и о втором пришествии Иисуса Христа: «И паки грядущего со славою судити живым и мертвым, Его же Царствию не будет конца…» Начало Царствия отнесено к будущему, в котором у него уже не будет конца.
Вечное и временное
Владимир Набоков начинает книгу своих воспоминаний «Другие берега» с различения «вечностей» до и после времени жизни – не исключено, что это полемический отклик на размышления Николеньки Иртеньева в толстовском «Детстве»:
Колыбель качается над бездной. Заглушая шепот вдохновенных суеверий, здравый смысл говорит нам, что жизнь – только щель слабого света между двумя идеально черными вечностями. Разницы в их черноте нет никакой, но в бездну преджизненную нам свойственно вглядываться с меньшим смятением, чем в ту, к которой летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час.
Хотя рассудок, с его склонностью к симметрии, подсказывает нам, что две равно непроницаемые вечности простираются по обе стороны жизни, но что-то вопреки здравому смыслу побуждает нас относиться к вечности «после» иначе, чем к вечности «до»; больше тревожиться об исходе, а не об истоке, «куда», а не «откуда». Это и есть чувство творческой асимметрии, которая прибавляет больше, чем отнимает. Сама асимметрия времени, стрела которого направлена из прошлого в будущее, указывает, что вечность, не сводясь ко времени, вместе с тем может прирастать временем, то есть быть динамическим процессом, а не бесконечным продолжением или полной остановкой времени.