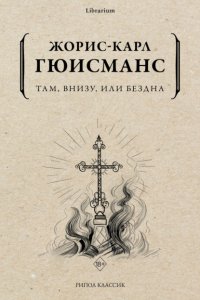Читать онлайн Наоборот бесплатно
- Все книги автора: Жорис-Карл Гюисманс
Серия «Эксклюзивная классика»
Joris-Karl Huysmans
À REBOURS
Перевод с французского М. Головкиной
© ООО «Издательство АСТ», 2022
Введение
Судя по некоторым портретам, сохранившимся в замке де Лур, род Флоресса дез Эссента в былые времена состоял из могучих рыцарей и грубых вояк. Сдавленные старыми рамами, которые распирались их богатырскими плечами, эти воины наводили страх своими неподвижными глазами, своими, как ятаганы, усами и выпуклой грудью, покрытой панцирем, как огромной раковиной.
Это были предки; от последующих же поколений не осталось портретов, и в фамильной галерее этого рода было пустое место. Только одно полотно служило связью между прошлым и настоящим: таинственная и хитрая голова с безжизненными истонченными чертами лица, со скулами, отмеченными пятнами румян, с напомаженными и украшенными жемчугом волосами, с набеленной шеей, выступающей из выреза жестких брыжей.
Уже в этом изображении одного из наиболее интимных приближенных герцога д’Эпернона и маркиза д’О обнаруживались пороки вырождающегося организма, и видно было преобладание лимфы в крови.
Падение этого древнего рода, без всякого сомнения, шло своим правильным ходом. Особенно резко была выражена склонность мужчин к женственности; и, как будто для того, чтобы довершить работу веков, дез Эссенты в продолжение двух столетий связывали браком своих детей между собой, ослабляя остаток их сил в единокровных союзах.
Из этого некогда столь многочисленного рода, занимавшего почти все территории Иль-де-Франса и Бри, остался единственный отпрыск, герцог Жан, расслабленный молодой человек, тридцати лет, анемичный и нервный, со впалыми щеками, со стальным взглядом холодных, голубых глаз, с большим, но прямым носом, с сухими и тонкими руками.
И – странное явление атавизма – последний потомок был похож на древнего предка, «фаворита»: такая же, как у него, острая, белокурая борода, такое же двойственное выражение лица, лукавое и усталое в одно и то же время.
Детство его было печально. Измученный золотухой, одолеваемый упорными лихорадками, он пережил период возмужалости только благодаря чистому воздуху и хорошему уходу; а позднее спасли его нервы: они побороли бессилие и дряблость, происходящую от малокровия, и довели до конца процесс его развития и роста.
Мать, высокая женщина, молчаливая и бледная, умерла от истощения, отец умер от какой-то неопределенной болезни; дез Эссенту было тогда семнадцать лет.
Он сохранил о своих родителях только жуткие воспоминания, без благодарности, без любви. Отца, жившего обыкновенно в Париже, он едва знал, мать он вспоминал неподвижно лежащею в темной комнате замка де Лур. Изредка муж и жена встречались, и в его памяти вставали эти дни бесцветных свиданий; отец и мать, сидящие друг против друга за круглым столиком, при одной только лампе с большим, низко опущенным абажуром, так как нервы герцогини не выносили ни света, ни шума; в тени они едва обменивались двумя-тремя словами, затем герцог равнодушно прощался и как можно скорее уезжал.
У иезуитов, куда Жан был отправлен учиться, его жизнь была спокойнее и уютнее. Отцы иезуиты обласкали ребенка, поразившего их своим умом, хотя, несмотря на все старания, они не могли добиться того, чтобы он отдался регулярным занятиям; он хватался за разные предметы, очень быстро и основательно изучил латинский язык, но зато совсем не мог связать двух слов по-гречески, не обнаруживал никаких способностей к новым языкам и оказался совершенно тупым, когда старались втолковать ему элементарные начала наук.
Его семья мало занималась им; изредка отец навещал его в пансионе. «Здравствуй, здравствуй, – говорил он, – будь умным, учись хорошенько». На каникулы, летом, его брали в замок де Лур; присутствие его не выводило мать из ее задумчивости, она едва замечала сына или смотрела на него в продолжение нескольких минут со скорбной улыбкой, затем снова погружалась в искусственную ночь, царившую в комнате благодаря плотным занавесям на окнах. Слуги были скучные и старые. Ребенок, предоставленный самому себе, в дождливые дни рылся в книгах, а в хорошую погоду бродил по полям. Большой радостью для него бывало спускаться в небольшую долину, доходить до деревни Жютиньи, расположенной у подножия холмов – маленькой кучки домиков в соломенных чепцах, усеянных пучками зеленицы и пятнами мха. Он лежал на лугу, в тени высоких стогов, слушая глухой шум водяных мельниц и вдыхая свежий воздух, струившийся с Вульси. Иногда он спускался до торфяных болот, до черной и зеленой деревушки де Лонгвилль, или же взбирался на косогоры, нанесенные ветром, откуда пространство казалось беспредельным. Там, с одной стороны, под ним, была видна ему долина Сены, убегающая в бесконечную даль, сливаясь с голубым небом; – с другой, высоко на горизонте – церкви и башни Прованса, которые, казалось, дрожали на солнце в золотистой, воздушной пыли. Он читал или грезил, оставаясь до самой ночи в полном одиночестве. Оттого, что он постоянно был занят одними и теми же думами, его ум сделался сосредоточеннее, а мысли его, еще не оформившиеся стали более зрелыми. После каждых каникул он возвращался к своим учителям более вдумчивым и более самостоятельным; перемены эти не ускользали от них – проницательные и хитрые, привыкшие, проникать в самую глубь души, они не заблуждались насчет этого живого, но непокорного ума. Они поняли, что этот ученик никогда не будет способствовать славе их учреждения, и так как его семья была богата и, видимо, не интересовалась будущностью ребенка, они перестали готовить его к выгодным поприщам, открытым для их учеников. Хотя он охотно спорил с ними о всяких теологических доктринах, привлекавших его своими тонкостями и казуистическими хитростями, отцы и не думали о том, чтобы посвятить его в орден, так как, несмотря на все их старания, вера его оставалась слабой. В конце концов, из осторожности и из боязни неизвестного, они разрешили ему изучать то, что ему нравится и пренебречь остальным, так как не хотели потерять уважение этого независимого ума из-за насмешек светских пустышек.
Так жил он, вполне счастливый, почти не чувствуя родительской власти монахов; он продолжал свои латинские и французские занятия по собственному усмотрению, и хотя теология не входила еще в программу его уроков, он пополнил свой курс этой наукой, начатой им в замке де Лур, в библиотеке, которую завещал его прадед Дом Проспер, старый приор монахов-каноников Сен-Руфа.
Но настало время, когда нужно было покинуть школу иезуитов; он достиг совершеннолетия став полноправным обладателем своего состояния; двоюродный брат его и опекун граф де Моншеврель сдал ему отчет. Прежние отношения с ним продолжались недолго, так как не было точек соприкосновения между этими двумя людьми, из которых один был стар, другой – молод. Из любопытства, от нечего делать, из вежливости дез Эссент посещал его семью и несколько раз попадал в его отеле, на улице де-ля-Шез, на томительные вечера, на которых родственницы, древние как мир, говорили о дворянских фамилиях, о геральдических причудах, о старинных церемониалах. Мужчины, сидящие за вистом, казались еще более застывшими и ничтожными существами, чем эти старухи. Потомки древних рыцарей, последние ветви феодальных родов, являлись дез Эссенту в образе полупомешанных стариков со слезящимися глазами, пережевывающих пошлые разговоры, столетние фразы. Как будто в этих старых черепах только и было, что цветок лилии, отпечатанный в их размягченных мозгах, как в обрезанном стебле папоротника. Невыразимую жалость чувствовал молодой человек к этим мумиям, погребенным в своих склепах из дерева и камня, во вкусе Помпадур, к этим противным бездельникам со взорами, постоянно устремленным на призрачный Ханаан, на воображаемую Палестину.
После нескольких посещений он, несмотря на приглашения и упреки, решил больше никогда не бывать там.
Затем он сошелся с молодыми людьми своего возраста и своего круга. Одни, получившие воспитание вместе с ним в католическом пансионе, сохранили на себе от этого воспитания особый отпечаток. Они ходили в церковь, на Пасхе причащались, часто посещали католические кружки и скрывали, как преступление, те предложения, которые они, опуская глаза, делали девицам. Это были большею частью неразвитые и лицемерные щеголи, торжествующие лентяи, утомившие терпение своих наставников, но тем не менее удовлетворившие их желание показать обществу послушных и благочестивых людей. Другие, воспитанные в светских коллегиях или в лицеях, были менее лицемерны и более свободны, но и они были так же неинтересны и так же узки. Это были кутилы, увлеченные опереткой и скачками, играющие в ландскнехт и баккара, рискующие всем своим состоянием из-за лошадей, карт и дорогих удовольствий, существующих для пустых людей.
Безграничная скука была результатом годичного пребывания в этой компании; ее удовольствия казались дез Эссенту низкопробными и дешевыми, переживаемыми ими без разбора, без увлечения, без истинного возбуждения крови и нервов.
Мало-помалу он покинул их и сошелся с литераторами, с которыми его мысль должна была найти больше общего и с которыми он должен был чувствовать себя лучше. Но это был новый обман; его возмущали их злые и жалкие суждения, их разговоры, плоские как церковная дверь, их безвкусные споры, измеряющие ценность произведения количеством изданий и прибыльностью продажи. В то же время он увидел свободных мыслителей, доктринеров буржуазии, людей, проповедывающих полную свободу, чтобы задушить мнения других, жадных и бесстыдных пуритан, которых он уважал как школу, но которые оказались ниже сапожников. Его презрение к людям возрастало; он понял наконец что мир в большей своей части состоит из наглых людей и глупцов. Решительно у него не было никакой надежды сойтись с такой душой, которая бы, как он сам, находила удовольствие в созерцательном покое, и подружиться с каким-нибудь писателем или ученым, у которого был бы такой же острый и отточенный ум, как у него. Расстроенный, недовольный, возмущенный ничтожеством мыслей, которыми ему приходилось обмениваться, он стал человеком, о которых говорил Николь, что они всюду грустят; он дошел до того, что стал царапать себе руки, страдать от патриотического и общественного вздора, передаваемого каждое утро газетами, раздражаться от восхищения, которого у всемогущей публики всегда достаточно в запасе для произведений, написанных хотя бы и без мысли, и без стиля.
Он стал мечтать об изысканной пустыне, о покойном уединении, о неподвижном уютном ковчеге, где бы он мог укрыться от бесконечного потока человеческой глупости.
Единственная страсть – женщина, могла бы еще удержать его от презрения ко всему миру, душившего его, но и она тоже была исчерпана. Он испробовал чувственные яства – с аппетитом прихотливого человека, одержимого причудами, человека, чувствующего внезапную жадность, но вкус которого быстро утомляется и притупляется. Во время общения с дворянчиками он принимал участие в тех разгульных ужинах, на которых пьяные женщины за десертом расстегиваются и падают головой на стол; бывал он также за кулисами, познал артисток и певиц и испытал на себе помимо врожденной глупости женщин еще и безумное тщеславия каботинок; потом он содержал знаменитых кокоток и способствовал обогащению тех агентств, которые доставляют за плату сомнительные удовольствия. Наконец, пресытившись и уставши от этой однообразной роскоши, от этих одинаковых ласк, он спустился до самых низов, надеясь утолить свои желания благодаря контрасту и думая пробудить свои притуплённые чувства возбуждающей грязью нищеты. Что бы он ни пробовал, безграничная скука угнетала его. Он раздражался, прибегал к опасным ласкам виртуозок, но тогда ослабевало его здоровье и обострялась нервная система; затылок становился чрезвычайно чувствительным, и руки дрожали. Они еще держались прямо, когда поднимали тяжелый предмет, но тряслись и опускались, когда держали что-нибудь легкое, например рюмку.
Доктора, с которыми он советовался, испугали его. Настало время покончить с неумеренной жизнью, отказаться от проделок, ослаблявших его силы. Некоторое время он жил спокойно; но вскоре мозжечок возбудился и призвал опять к оружию. Так же, как иные девочки-подростки, которые при созревании набрасываются на противоестественные и гнусные яства, он стал грезить, прибегать к исключительным любовным страстям и извращенным наслаждениям. Тогда настал конец; как будто удовлетворенные тем, что все исчерпано, разбитые утомлением, его чувства впали в летаргию, бессилие было близко.
Он ощутил себя разочарованным, одиноким, страшно утомленным, потерявшим последнее счастье, достичь которого помешала ему немощь его тела.
Окончательно оформились его мечты спрятаться вдали от мира, запереться в уединении, заглушить неугомонный шум неумолимой жизни так, как для больных покрывают улицу соломой. К тому же настало время решиться; подсчет, сделанный им своему состоянию, испугал его; в любовных связях и излишествах он прожил большую часть своего наследства, а остальная часть, состоящая из земель, приносила ничтожные проценты. Он решил продать замок де Лур, куда он больше не ездил и где не сохранилось для него никаких дорогих воспоминаний, никакого сожаления; он распродал также другие имения, купил государственную ренту и, таким образом, составил себе годовой доход в пятьдесят тысяч ливров; кроме того, он отложил значительную сумму, предназначенную на покупку и отделку домика, где он намеревался окунуться в абсолютный покой.
Он исследовал окрестности столицы и отыскал небольшой домик, который продавался на Фонтенэй-о-Роз, достаточно уединенный, без близких соседей, близ леса. Мечта его исполнилась: в этой местности, где редко появлялись парижане, он был уверен в своей безопасности. Трудность сообщения, которая была обеспечена смешной железной дорогой, находящейся в конце города, и маленькими трамваями, отходящими и приходящими по собственному усмотрению, успокоила его. Думая о новой жизни, которую он хотел устроить, он испытывал радость от того, что волны Парижа не будут достигать его, но близость столицы не будет удерживать его в уединении. И действительно, бывает достаточно невозможности поехать туда, куда хочется, чтобы чувствовать особенное желание туда отправиться, дез Эссент питал надежду, что, не отрезая себе возможности вернуться, он не подвергнется соблазну броситься в опостылевшее общество.
Он нанял каменщиков, а затем, внезапно, не сообщив никому о своих намерениях, развязался с старой обстановкой, отпустил слуг – и исчез, не оставив консьержу никакого адреса.
I
Прошло больше двух месяцев, прежде чем дез Эссент получил возможность погрузиться в молчаливый покой в своем доме на Фонтенэй; всевозможные покупки заставляли его бродить по Парижу, обходить город из конца в конец.
К каким только розыскам не прибегал он, каким размышлениям не предавался, прежде чем доверить свою квартиру обойщикам!
Он уже давно был знатоком чистых и неправильных тонов.
В прежнее время, принимая у себя женщин, он устроил будуар, где среди маленькой резной мебели из светлого японского камфарного дерева, под шатром из розового индийского атласа тела принимали нежную окраску от света, который смягчался, просвечиваясь сквозь материю.
Эта комната, где зеркала отдавались эхом и отражали до бесконечности ряд розовых будуаров, славилась среди кокоток, находивших удовольствие купать свою наготу в этой ванне теплого красного света, надушенного запахом мяты, исходящим от мебели.
Но и помимо благотворного действия нарумяненного воздуха, который, казалось, вливал новую кровь под поблекшую и истасканную от привычки к белилам и злоупотребления кожу, он сам забывался в этой расслабляющей обстановке особым весельем и особыми радостями, переходившими всякие границы при воспоминании о прошлых горестях и печалях.
Из ненависти и из презрения к своему детству он привесил к потолку этой комнаты маленькую серебряную клетку, в которой трещал сверчок, как в замке де Лур; когда он слышал этот треск, в беспорядке проходили перед ним все натянутые и немые вечера у его матери, вся заброшенность страдающей и придавленной молодости, – и тогда порыв женщины, которую он машинально ласкал, ее слова или смех разрушали его видения и резко сводили его к действительности, в будуар, на землю. В его душе поднималось волнение, жажда мести за пережитые печали, безумное, страстное желание загрязнить гнусностью семейные воспоминания, бешеная страсть задохнуться на подушках из тела и исчерпать до последней капли самые сильные и острые чувственные безумства.
Иногда, в дождливые осенние дни, когда его душил сплин и нападало отвращение к улице, к дому, к желто-грязному небу, к тучам, похожим на ровное шоссе, он укрывался в этом убежище, раскачивал слегка клетку и смотрел, как она до бесконечности отражалась в игре зеркал, до тех пор, пока его опьяненным глазам не казалось, что клетка уже неподвижна, а весь будуар колеблется и вертится, наполняя весь дом розовым вальсом. Затем, в то время, когда он находил удовольствие оригинальничать, он создал у себя пышно-странную обстановку, разделив свой салон на несколько уголков, различно обитых, но связанных между собой искусным соответствием, – тающим аккордом радостных и мрачных, нежных и резких тонов, сообразно характеру своих любимых латинских и французских произведений. Он усаживался тогда в том уголке, обстановка которого казалась ему наиболее подходящей к тому сочинению, которое заставлял его читать минутный каприз.
Наконец, он приказал выстроить высокий зал, предназначенный для приема поставщиков; они усаживались рядами на церковных скамьях, и дез Эссент поднимался на кафедру и произносил проповедь о дендизме, заклиная своих сапожников и портных придерживаться самым точным образом его требований в деле покроя, угрожая им денежным отлучением, если они не последуют буквально предписаниям, которые содержат в себе его обращения и буллы.
Он приобрел славу эксцентрика, которую довершил тем, что одевался в белые бархатные костюмы, в златотканые жилеты, прикалывал вместо галстука к низко вырезанному вороту сорочки букет пармских фиалок; давал литераторам производившие шум обеды, из которых один, между прочим в стиле XVIII века, он сделал траурным, чтобы отметить одну ничтожную неприятность.
В обитой черным столовой, выходившей в наскоро переделанный сад – с аллеями, усыпанными углем, с маленьким бассейном, окруженным на этот раз базальтом и купами кипарисов и сосен, – подавался обед на черной скатерти, уставленной корзинами фиалок и скабиоз, при свете светильников с зеленым пламенем и подсвечников с восковыми свечами.
Под звуки оркестра, игравшего похоронные марши, гостям прислуживали голые негритянки в туфлях и чулках из серебряной ткани, усеянной слезинками.
Ели из тарелок с черными каймами черепаховый суп, ржаной русский хлеб, турецкие маслины, икру черную паюсную, копченую франкфуртскую колбасу, дичь под соусом цвета лакрицы и ваксы, паштет из трюфелей, амбровые шоколадные кремы, пудинги, персики, виноградное варенье, тутовые ягоды и черешню; пили из темных стаканов вина Лиманьи и Руссилиона, Тенедоса, Валь-де-Пеньяса и Порто; после кофе с ореховым ликером – квас, портер и стаут.
Приглашения на этот обед, даваемый по случаю внезапного упадка сил, были написаны в стиле приглашений на похороны.
Но эти сумасбродства, которыми он некогда славился, сами собой исчезли; теперь у него появилось презрение к собственному детскому тщеславию, к необычным костюмам и причудливым украшениям комнат. Он просто хотел устроить для собственного удовольствия, а не на удивление другим, уютное, но тем не менее редкостно отделанное жилище, создать своеобразную и спокойную обстановку, приспособленную к потребностям его будущего одиночества.
Когда дом дез Эссента на Фонтенэй был готов и оформлен архитектором согласно с его желаниями и планами, когда оставалось только решить расположение мебели и характер отделки, он опять принялся обдумывать, каковы должны быть краски в его жилище.
Он искал такие цвета, которые бы не изменялись при искусственном свете ламп; ему не важно было, каковы они будут при дневном свете, безвкусные или резкие, так как он жил только ночью, думая, что так уютнее, что так он более один и что ум действительно возбуждается и сверкает только в близком соприкосновении с темнотой; дез Эссент находил также особенное наслаждение в том, чтобы быть в ярко освещенной комнате, одиноко бодрствующей среди спящих и погруженных в мрак домов – своеобразное наслаждение, в которое, может быть, входила доля тщеславия, совсем особенное удовлетворение, которое знают запоздавшие работники, когда, подняв оконные занавеси, они видят, что все вокруг них погасло, все немо, все мертво.
Медленно, один за другим он выбрал цвета. Голубой при свечах переходит в неправильно зеленый; если он темный, как кобальт и индиго, он становится черным; если он светлый, он превращается в серый; если он правильный и нежный, как бирюза, он тускнеет и леденеет. Не могло быть и вопроса в том, чтобы сделать его не только доминирующей нотой в комнате, но даже и второстепенной – в соединении с другим цветом. С другой стороны, серо-железные цвета мрачнеют и тяжелеют; серо-жемчужные теряют свою лазурь и превращаются в грязно-белый; коричневые засыпают и охлаждаются; что же касается темно-зеленых, миртовых и малахитовых – они изменяются так же, как синие, и сливаются с черным; оставались зеленые, более светлые, как цвет павлина, киновари и лака, но свет уничтожает их голубой оттенок и удерживает лишь желтый, который, в свою очередь, сохраняет фальшивый тон и мутный осадок. Нечего было думать о цветах лососевых, маисовых и розовых, женственность которых противоречила бы уединенным думам; наконец, нечего было размышлять и о лиловых цветах, которые линяют; один только красный сохраняется вечером, – но какой красный! – клейкий красный, как противный осадок вина. Впрочем, ему казалось бесполезным прибегать к этому цвету, так как при смеси, в известной дозе, с сантонином, он делается лиловым, и тогда легко изменяется.
Когда дез Эссент отверг эти цвета, у него осталось только три: красный, оранжевый, желтый.
Всем им он предпочитал оранжевый, подтверждая собственным примером ту теорию, истину которой он доказывал почти с математической точностью: он утверждал, что существует гармония между чувственной природой истинно артистического индивидуума и цветом, который его глаза воспринимают особенно остро. Презирая действительно большинство людей, грубые сетчатые оболочки которых не ощущают ни чистой игры каждого цвета, ни таинственной прелести их затухания и их оттенков; презирая также эти буржуазные глаза, нечувствительные к пышности и ликованию вибрирующих и резких тонов, едва признавая людей с утонченными зрачками, изощренными литературой и искусством, он был убежден, что глаза тех из них, которые стремятся к идеалу, которые хотят иллюзий, ищут таинственности в объятиях фантазии, большею частью любят голубой цвет и все от него происходящие, как, например, сиреневый, лиловый, жемчужно-серый, лишь бы они оставались смягченными и не переходили границ, за которыми они уже теряют свою особенность и превращаются в чисто фиолетовые и в правильно серые.
Напротив, люди полнокровные, благодушные сангвиники, волокиты, презирающие все случайное и мимолетное, в то же время теряя голову, любуются блестящим мерцанием желтых и красных цветов, ударами в цимбалы из киновари и хрома, которые их ослепляют и пьянят.
Наконец, глаза ослабевших и нервных людей, у которых чувственный аппетит ищет острых блюд, глаза чахоточных и слишком возбужденных людей почти всегда любят этот раздражающий и болезненный цвет с фальшивым блеском, с кислотной лихорадкой – оранжевый.
Выбор дез Эссента не подвергался никаким сомнениям; но бесспорно предстояли еще некоторые затруднения. Если красный и желтый великолепны при искусственном освещении, то не всегда таков оранжевый – их соединение, – который пропадает и часто переходит в красный цвет капуцинов, в огненно-красный.
Он изучил при свечах все его оттенки и нашел один, который не изменялся и отвечал всем его требованиям. Покончив с предварительными подготовлениями, он старался, по возможности, не употреблять, по крайней мере, для своего кабинета восточных материй и ковров, ставших теперь доступными любому нуворишу в дешевых магазинах.
В конце концов он решил переплести стены, как книги, сафьяном с крупными тиснениями, капской кожей, вылощенной большими стальными пластинками под тяжелым прессом. Когда стены были уже обиты, он велел покрыть багеты и верхние плинтусы лаком цвета индиго, какой употребляют для окраски карет; в середине потолка, слегка вогнутого, тоже обтянутого сафьяном, как большое круглое окно, в раме из оранжевой кожи, выглядывал небесный свод из голубого шелка с летящими серебряными серафимами, вышитыми братством кельнских ткачей для старинного церковного облачения.
Настал вечер, когда все было расставлено по местам. Все согласовалось, смягчилось, улеглось: замер синий цвет панелей, оттеняемый и как бы согреваемый оранжевым, который, в свою очередь, сохранялся, не сливаясь с ним, а, напротив, подкрепляясь и разжигаясь тяжелым дыханием синего.
Что касается мебели, дез Эссенту не нужно было прибегать к долгим розыскам; единственную роскошь этой комнаты должны были составлять книги и редкие цветы; откладывая другие украшения до будущего, он ограничился несколькими рисунками и картинами, оставив стены голыми, устроил на большей части этих стен библиотечные полки из черного дерева, покрыл паркет звериными шкурами и мехом голубого песца; около массивного стола менялы XV века поставил глубокие кресла с подголовниками, старинный церковный аналой из кованого железа, один из тех древних аналоев, на которые диаконы клали некогда книгу антифонов, а теперь на нем лежал один из тяжелых фолиантов Дюканжа «Glossarium mediae et infimae latinitatis»[1]
Окна с голубоватыми стеклами, усеянные бутылочно-зелеными донышками с золотыми каемками, преломляли вид на деревню и пропускали лишь слабый свет, и, в свою очередь, были завешены драпировками из старинных епитрахилей, потемневшее золото которых гасло в порыжевшей, почти мертвой ткани.
Наконец, на камине, тоже задрапированном роскошной материей флорентийской далматики, между двумя чашами из золоченой меди, в византийском стиле, из древнего аббатства о-Буа-де-Бьевр, – удивительное церковное зерцало, в трех отделениях, под стеклянным колпаком, заключало в себе три произведения Бодлера, написанных на настоящем пергаменте изумительным шрифтом, с великолепными рисунками в красках, – по бокам сонеты «Смерть любовников» и «Враг», в середине – поэма в прозе «Any where out of the world»: «Куда угодно прочь из мира».
II
После продажи своих имений дез Эссент оставил себе двух слуг, которые ходили еще за его матерью и исполняли в одно и то же время должность управляющих и обязанности привратников замка де Лур, остававшегося до продажи пустым и необитаемым.
Он вызвал в Фонтенэй эту прислугу, привыкшую к должности сиделок, к точности больничных служителей, минута в минуту раздающих ложки лекарств и травяных отваров, к суровому молчанию монахов, живущих без общения с внешним миром, в комнатах с закрытыми окнами и дверями.
Мужу было поручено убирать комнаты и ходить за провизией, жене – готовить кушанья. Дез Эссент предоставил им верхний этаж дома, приказал носить толстые войлочные башмаки, велел сделать двойные двери, которые были тщательно смазаны, и обить пол в их комнатах толстыми коврами, чтобы никогда не слышать над своей головой шума шагов.
Он условился также о различном значении звонков по числу их ударов, по их краткости, их продолжительности; указал на своем бюро место, куда они должны были, раз в месяц, во время его сна, класть счета. То есть постарался устроить все так, чтобы не видеть их и не говорить с ними. Но, так как служанке все-таки приходилось иногда проходить мимо дома в сарай, где лежали дрова, а он хотел, чтобы ее тень, отражаясь на стеклах окон, не была неприятна, он заказал для нее костюм из фламандского фая, с большим чепцом и глубоким черным капюшоном, какие еще носят в Генте бегинки.
В сумерках тень этого убора давала ему впечатление монастыря, напоминала молчаливые и благочестивые деревни, мертвые уголки, затаившиеся среди деятельного и живого города.
Он назначил также строго определенные часы для еды; она была, впрочем, несложна и очень легка, так как слабость желудка не позволяла ему есть разнообразные и тяжелые блюда.
В пять часов он завтракал двумя яйцами всмятку, гренками и чаем; около одиннадцати часов он обедал; ночью пил кофе, иногда чай и вино; в пять часов утра, перед тем как лечь в постель, слегка закусывал.
Он принимал эту пищу, распределение и меню которой раз навсегда устанавливалось в начале каждого сезона, на столе посредине маленькой комнаты, отделенной от его рабочего кабинета коридором, обитым войлоком; коридор был плотно затворен и не пропускал ни запаха, ни шума ни в одну из двух комнат, которые он соединял.
Эта столовая походила на каюту корабля – со сводчатым потолком, снабженным полукруглыми перекладинами, с сосновыми перегородками и сосновым полом, с маленьким окном, выходящим в панель, совсем так, как иллюминатор выходит в пушечный порт.
Как японские шкатулки, входящие одна в другую, эта комната также была включена в другую, более обширную, которая и была настоящей столовой, выстроенной архитектором.
В этой столовой было два окна; одно теперь не было видно, так как было закрыто ставней, опускающейся с помощью пружины, чтобы освежать воздух, который тогда мог циркулировать вокруг соснового ящика и проникать в него; другое было видно, так как оно находилось как раз против иллюминатора, сделанного в панели, но было заграждено; все пространство, находящееся между этим иллюминатором и окном, проделанным в настоящей стене, занимал большой аквариум.
Каюта освещалась дневным светом, проникавшим сквозь наружное окно с зеркальными стеклами, сквозь воду и, наконец, сквозь стекло иллюминатора.
В осенние дни, когда солнце совершенно исчезало, или в пасмурное утро, вода в аквариуме краснела и отражала на желтых перегородках пламенеющий отблеск углей жаровни.
Иногда, когда дез Эсеенту приходилось случайно проснуться днем и встать, он забавлялся водопроводными трубами, через которые выливалась и наливалась в аквариум чистая вода; он вливал в нее несколько капель красящей эссенции, вызывая, по собственному желанию, зеленые или розоватые, опаловые или серебристые тона, как в настоящих реках, смотря по цвету неба, по силе солнечного света, по более или менее ощутимой близости дождя, одним словом, в зависимости от времени года и состояния атмосферы.
Тогда он воображал себя стоящим на межпалубном пространстве брига, и с любопытством смотрел на чудесных механических рыб, заводящихся как часы, проплывающих перед стеклом пушечного порта и цепляющихся за искусственные травы; или же, вдыхая запах смолы, которым душили комнату перед его приходом, он рассматривал цветные изображения судов, идущих в Вальпараисо и Ла-Плату, развешанные по стенам, как в пассажирских агентствах или в компании Ллойда, и карты, на которые были нанесены маршруты Королевской почтовой службы и компании «Лопес и Валери», фрахты и стоянки Атлантических почтовых служб.
Потом, когда ему надоедало читать расписания стоянок, он отдыхал, глядя на хронометры, компасы и секстанты, бинокли и картины, разбросанные по столу, на котором лежала единственная книга, переплетенная в тюленью кожу – «Приключения Артура Гордона Пима», специально для него напечатанная на отборной бумаге с тонкими полосками, с водяными знаками в виде чайки.
Он любовно осматривал рыболовные снасти, тенёта, выкрашенные под дубильную кору, свертки рыжих парусов, маленький якорь из пробкового дерева, крашенный черной краской – все это было свалено в кучу около двери в коридор, ведущий в кухню, обитый ворсистой тканью из шелковых оческов и поглощающий так же, как другой коридор между столовой и кабинетом, все запахи и звуки. Он доставлял себе, таким образом, совершенно не двигаясь, быстрые, почти мгновенные ощущения далекого путешествия и то удовольствие передвижения, которое и на самом-то деле существует только в воспоминании, в прошлом, а не в настоящем, не в тот момент, когда оно совершается. Он упивался им вполне, спокойно, без усталости, без хлопот, в этой каюте, где искусственный беспорядок и временная обстановка вполне соответствовали его недолгому пребыванию в ней, ограниченному временем его обеда, она представляла совершенный контраст его рабочему кабинету – продуманно обустроенной комнате, где всегда царил порядок и все было приспособлено для уютной жизни домоседа.
К тому же движение он находил бесполезным, и воображение, по его мнению, легко могло заменить пошлую действительность. Ему казалось, что желания, которые трудно удовлетворить в обычной жизни, могут быть легко удовлетворены с помощью легкой уловки, подделки желаемого предмета. Так, очевидно, всякий знаток вин наслаждается теперь в ресторанах, славящихся превосходством своих погребов, хорошими подделками из дрянного уксуса, изготовленными по методе Пастера. Настоящие и поддельные, эти вина имеют одинаковый аромат, одинаковый цвет, одинаковый букет, а следовательно, удовольствие, которое испытывают, смакуя эти поддельные, искусственные напитки, тождественно удовольствиям, получаемым от настоящего чистого вина, которое нельзя найти ни за какую цену. Перенося эту обольстительную подделку, эту искусственную ложь в мир интеллекта, без сомнения, что можно так же легко, как в материальном мире, наслаждаться химерическими радостями, во всех отношениях подобными настоящим. Например, можно предаваться продолжительным исследованиям стран, сидя у своего очага, помогая, по мере надобности, упрямому или неповоротливому уму возбуждающим чтением описаний далеких путешествий; несомненно также, что можно, не трогаясь из Парижа, получить благотворное впечатление морского купанья; достаточно просто отправиться в купальню Вижье, устроенную на судне посреди Сены.
Там насыпать в ванну обычной соли и примешать, по рецепту медицинского справочника, соли глауберовой и хлористой, а также извести, вынуть из тщательно закупоренной коробки моток веревки или маленький кусочек шпагата, нарочно разысканный на одной из больших канатных фабрик, обширные магазины и подвалы которых дышат запахом морского прилива и гавани; вдыхать запах, который должна еще сохранить эта веревка или шпагат; рассматривать фотографию приморского казино или пылко читать путеводитель Жоанна, описывающего красоты того пляжа, где хочется быть; отдаваться качанию волн, поднимаемых в ванне следом, остающимся на воде от маленьких лодок, режущих понтон купальни, слушать, наконец, завывающие жалобы ветра под арками и глухой шум омнибусов, катящихся в двух шагах над вами, на Королевском мосту – и иллюзия моря будет неотразима, неотвязна и верна!
Все зависит от умения сосредоточить свой ум на одной точке, умения достаточно отвлечься, вызвать галлюцинацию и быть в состоянии заменить грезой о действительности самою действительность. Искусственность, впрочем, казалась дез Эссенту отличительным признаком человеческого гения.
Он говорил, что природа отжила свое время; она окончательно утомила противным однообразием своих пейзажей и небес внимательное терпение утонченных людей. В самом деле, какая плоскость специалиста, ограниченного в своей области, какая мелочность лавочницы, торгующей только одним товаром, какой однообразный магазин лугов и деревьев, какое банальное агентство гор и морей!
Кроме того, нет ни одного из ее изображений, считаемых такими искусными и величественными, которого бы не мог создать гений человека; любой лес можно воспроизвести в Фонтенбло, свет луны или восход солнца легко устроить в театральных декорациях с помощью электричества, водопад, низвергающийся посредством гидравлических машин, станет грандиозней настоящего, утес из папье-маше будет возвышаться даже более величественно, а цветы из тонкой бумаги и нежной тафты превзойдут натуральные.
Нет никакого сомнения в том, что природа, эта престарелая пустомеля, использовала добродушное восхищение истинных художников, и настал момент, когда дело идет о замене ее, насколько возможно, искусством.
А посмотреть хорошенько на то из ее творений, которое считается самым превосходным, на то из ее произведений, красота которого, по всеобщему признанию, считается самой оригинальной и наиболее совершенной – на женщину! Разве человек, со своей стороны, не изобрел собственными силами одушевленное и искусственное существо, которое стоит женщины, с точки зрения пластической красоты. Разве есть существо, зачатое в радостях любви и вышедшее из страданий чрева, чей первообраз был бы ослепительнее, великолепнее прототипа тех двух локомотивов, Северной железной дороги.
Одна из этих паровых машин, Крэмптон, очаровательная блондинка, с пронзительным голосом, высокая, хрупкая, закованная в сверкающий корсет из меди, с гибкими и нервными движениями кошки, нарядная и золотистая блондинка, необыкновенная грация которой пугает, когда, вытягивая свои стальные мускулы, напрягая теплые потные бока, она приводит в движение громадную розетку своего тонкого колеса и бросается, вся трепещущая, вперед.
Другая, Энгерт, большая и мрачная брюнетка с глухим и хриплым криком, с крутыми бедрами, сжатая чугунной броней, чудовищное животное с взъерошенной гривой черного дыма, с шестью низкими, соединенными попарно колесами. Какое подавляющее могущество, когда, заставляя дрожать землю, она тяжело и медленно тащит за собой неуклюжий шлейф своих вагонов!
Несомненно, среди хрупких белокурых красавиц и величественных брюнеток нет таких образцов нежного изящества и ужасающей силы: с уверенностью можно сказать, что человек создал их так же хорошо, как Бог, в которого он верует.
Эти мысли пришли к дез Эссенту, когда ветер донес до его слуха свисток детской железной дороги, между Парижем и Со, напоминавшей ему игрушечный заводной поезд; его дом находился в двадцати минутах от станции Фонтенэй, но возвышенность, на которой он был расположен, его изолированность ограждали от шума толпы, которую неизменно привлекает по воскресеньям соседство станции.
Что касается окружающей местности, он ее почти не знал. Ночью, в окне, он видел молчаливый пейзаж, спускающийся до подножия косогора, над которым возвышался Верьерский лес.
В темноте налево и направо громоздились друг над другом неясные массы, за ними вдали поднимались другие чащи, высокие откосы которых казались при лунном свете покрытыми серебром на темном небе.
Сдавленная тенями, падающими от холмов, долина выглядела напудренной крахмалом и намазанной белым кольдкремом; в теплом воздухе, колышущем полинявшие травы и разливающем резкий, пряный запах, деревья, казавшиеся от света луны будто натертыми мелом, распускали свою листву и раздваивали свои стволы, а тени их проводили черные полосы на гипсовой земле, на которой белые жерновые камни блестели как осколки тарелок.
Своей театральностью этот пейзаж нравился дез Эссенту; но с того дня, когда он отыскивал дом в деревушке Фонтенэй, он никогда днем не ходил по улицам; зелень этой местности не представляла для него никакого интереса, так как в ней не было даже той нежной и грустной прелести, которая есть в трогательной и болезненной растительности, с большим трудом распускающейся на щебне пригородов, близ оград. К тому же он увидел в тот день приезда в деревне толстых буржуа с бакенбардами и разряженных людей с усами, носящих, как святые дары, свои головы судей и военных, и после этих встреч возрос его страх перед человеческими лицами.
В последние месяцы своего пребывания в Париже, всем пресыщенный, изнуренный ипохондрией, подавленный сплином, он дошел до такой чувствительности нервов, что вид неприятного предмета или человека глубоко врезывался в его мозг, и нужно было несколько дней, чтобы хоть немного изгладить впечатление. Слегка коснуться на улице человека было для него острым мучением.
Он положительно страдал при виде некоторых физиономий, считал почти оскорблением покровительственное или суровое выражение некоторых лиц, испытывал желание дать пощечину вот этому господину, фланировавшему с ученым видом, опустив свои ресницы, другому, который покачивался, улыбаясь, перед зеркальными стеклами, наконец, третьему, который казался поглощенным миром мыслей и, сдвинув брови, пожирал в газете длинную пошлую статью и «разные события».
Дез Эссент чуял в них такую закоснелую глупость, такое отвращение даже к своим собственным мыслям, такое презрение к литературе, к искусству, ко всему, что он любил – вросшее, вбитое в эти узкие головы купцов, исключительно занятые мошенничеством и деньгами и доступные только низкому развлечению ограниченных умов – политике, что он в бешенстве возвращался к себе и запирался со своими книгами.
Наконец, он всеми силами ненавидел новое поколение, толстокожих грубых молодчиков, которые в кафе и ресторанах чувствуют потребность громко говорить и смеяться, которые толкают вас на тротуарах, не думая извиниться, которые подкатывают вам под ноги колеса детской коляски, даже не прося прощения, даже не кланяясь.
III
Часть полок на стенах его сине-оранжевого кабинета была занята исключительно латинскими произведениями из числа тех, которые лица, обученные в Сорбонне, определяют термином «декаданс».
Действительно, латинский язык, каким он был в ту эпоху, которую профессора еще упорно называют великой, не привлекал дез Эссента. Этот ограниченный язык со скупыми, почти неизменяемыми оборотами, без гибкости синтаксиса, без красок и оттенков, этот язык, ободранный по всем швам, очищенный от шероховатых, но образных выражений, для прежних веков мог в точности передать величавые банальности и смутные общие места, пережеванные риторами и поэтами; но он не вызывал любопытства и нагонял такую скуку, что нужно было в изучении лингвистики дойти до французского стиля времен Людовика XIV, чтобы встретить такую же добровольно расслабленную, такую же торжественно-утомительную и серую речь.
Среди других нежный Вергилий, которого умники называют Мантуанским лебедем, казался ему одним из самых ужасных педантов, одним из самых злосчастных болтунов, каких когда-либо производили древние века; его чистенькие и разряженные пастухи по очереди выливают вам на голову полные ушаты поучительных и холодных стихов; его Орфей, этот «соловей в слезах», его Аристей, хныкающий над пчелами, его Эней, эта слабая и нерешительная фигура, блуждающая, как китайская тень, с деревянными жестами, за косоватой ширмой поэмы – раздражали дез Эссента. Он бы стерпел скучный вздор, которым эти марионетки обменивались между собой, стерпел бы и наглые заимствования из Гомера, Феокрита, Энния, Лукреция, простое воровство, которое раскрыл Макробий во второй песне «Энеиды», указывая, что она списана слово в слово с поэмы Писандра, и, наконец, всю невыразимую пустоту этой уймы песен; но совершенно выводило его из себя построение гекзаметров, звучащих, как пустая жестяная кружка, гекзаметров, умножающих количество тяжеловесных слов по неизменному предписанию педантичной и сухой просодии. Это были стихи надутые и чопорные, погрязшие в низкопоклонстве перед метрикой, механически разрезанные непреклонной цезурой и замкнутые в конце по одному и тому же неизменному способу ударом дактиля по спондею.
Его терзало это неизменное стихосложение, формально заимствованное из чеканного стиля Катулла, без фантазии, без жалости напичканное ненужными словами, пустыми и лишними вставками, с одинаковыми и заранее предусмотренными завитками, и эта бедность беспрестанно повторяющихся гомеровских эпитетов, ничего не обозначающих, ничего не открывающих, и весь скудный язык с беззвучным и плоским колоритом.
Нужно добавить, что если почитание Вергилия было более чем умеренным, а влечение к жидким извержениям Овидия весьма сдержанным, то безграничным было отвращение дез Эссента к слонообразной грации Горация, приводившего его в отчаяние своими неискренними ужимками и старыми клоунскими трюками.
В прозе уже не восхищали его болтливый язык, многословные метафоры, бессмысленные отступления Цицерона. Не пленяли дез Эссента хвастовство его обращений, поток его патриотических банальностей, напыщенность его речи, массивная тяжесть его стиля, откормленного, мясистого, слишком жирного и лишенного мозга и костей, невыносимый шлак его наречий, начинающих фразу, неизменные формулы его жирных периодов, плохо связанных между собой союзами, и, наконец, его утомительная привычка к тавтологии; но не больше нравился ему и Цезарь, известный своими сухими лаконизмами.
Словом, он не находил себе пищи ни среди этих, ни среди тех писателей, которые, между прочим, доставляют наслаждение псевдоученым, как, например, менее других бесцветный Саллюстий, сентиментальный и высокопарный Тит Ливии, тусклый и надутый Сенека, жидкий и незрелый Светоний и Тацит, самый нервный в своей нарочитой лаконичности, самый сильный, самый мускулистый из всех них. Поэзия Ювенала, несмотря на некоторые неплохие стихи, и Персий, несмотря на таинственные намеки, оставляли его равнодушным.
Пренебрегая Тибуллом и Проперцием, Квинтилианом и Плинием, Стацием, Марциалом, даже Теренцием и Плавтом, язык которых, полный неологизмов, составных и уменьшительных слов, мог бы ему нравиться, если бы не их низменный комизм и грубоватость, дез Эссент начал интересоваться латинским языком только с Лукана, ибо его язык обогатился, стал более выразителен и менее жалок. Его пленяли и эта отделанная оправа, и стихи, покрытые эмалью, выложенные драгоценными камнями, хотя исключительная забота о форме, звучность тембра, металлический блеск не скрывали от него пустоты мысли, вздутости нарывов, покрывающих кожу «Фарсалии».
Истинно любимым автором, заставившим навсегда изгнать из круга его чтения гремящие писания Лукана, стал Петроний.
Вот это был проницательный наблюдатель, тонкий аналитик, превосходный художник; спокойно, беспристрастно, без ненависти описывал он повседневную жизнь Рима, рассказывал в живых, маленьких главах «Сатирикона» о нравах своей эпохи.
Отмечая события, констатируя их в законченной форме, он раскрывал мелочную жизнь народа, его истории, его зверства, его похоти. Вот надзиратель гостиницы, опрашивающий имена только что прибывших путешественников; там лупанарии, где мужчины бродят около голых женщин, в то время как через плохо прикрытые двери видны забавы других пар; дальше еще, сквозь виллы неслыханной роскоши, безумие богатства и великолепия, как и сквозь чередующиеся с ними бедные постоялые дворы с их смятыми постелями, полными клопов, – видно, как живет общество того времени: порочные мошенники, как Аскилт и Эвмолп, ищущие удачной наживы, старые шлюхи в неопрятных платьях, с накрашенными лицами, шестнадцатилетние развратники, пухленькие и завитые мальчики, женщины в истерических припадках, ожидающие наследства и предлагающие своих детей, сыновей и дочерей в разврат завещателям – все спорят на улицах, сталкиваются в банях, дерутся и, как в пантомиме, пробегают по страницам книги.
И все это рассказано в остром, ясном и красочном стиле, обнимающем все диалекты, заимствующем выражения из всех наречий, занесенных в Рим, раздвигающем все оковы так называемой великой эпохи, заставляя каждого говорить на своем языке: вольноотпущенников без образования – на простонародном латинском уличном языке, иностранцев – на их варварском, ругаться по-африкански, по-сирийски, по-гречески, тупоумных педантов, каким является в этой книге Агамемнон, объясняться риторическим стилем с неуместными словами. Одним штрихом нарисованы эти валяющиеся вокруг стола пьяницы, ведущие пошлые разговоры, изрекающие старческие максимы и глупые поговорки, эти люди с рожами, обращенными к Тирмалхион, который ковыряет в зубах, предлагает обществу горшки, беседует с ними о здоровье их чрева, суетится, приглашая своих собеседников расположиться поудобнее. Дез Эссента поражал этот реалистический роман, этот кусок, вырезанный из римской жизни живым и притом без всяких забот об исправлении общества и о сатире, без подогнанного конца и морали; эта история без действия и без интриги, выводящая на сцену содомские приключения, с спокойной тонкостью анализирующая радости и печали любви и взаимности, великолепным, изысканным языком рисующая пороки дряхлой цивилизации и распадающегося государства, причем автор ни разу не показывается, не одобряет и не порицает поступки и мысли своих действующих лиц; в утонченности стиля; в остроте наблюдений и в постоянстве метода дез Эссент видел странное сближение, любопытную аналогию с некоторыми новейшими французскими романами, к которым он относился терпимо.
Конечно, он горько сожалел об «Евстионе» и «Альбуции», об этих двух произведениях Петрония, о которых упоминает Планциад Фульгенций и которые навсегда утеряны, но библиофил, живший в нем, утешал ученого, держа в благочестивых руках превосходное издание «Сатирикона», ин-октаво, которым он обладал и на котором стояло имя И. Дуза, Лейден и 1585 год.
Начиная с Петрония его латинская коллекция доходила до II века христианской эры, шагала через декламатора Фронтона с его неудачно реставрированными старинными словами, перепрыгивала через «Аттические ночи» д’Авла Геллия, его ученика и друга, ума пытливого и проницательного, но писателя, запутавшегося в вязкой тине, и приостанавливалась на Апулее, которого дез Эссент имел в первом издании, ин-фолио, напечатанном в 1469 году в Риме. Африканцем дез Эссент наслаждался; в его «Метаморфозах» латынь достигла расцвета: он катил ил и разнообразные воды, стекающиеся из всех провинций, и все они сливались, соединяясь в причудливый, экзотический, почти новый, изысканный цвет; новые подробности латинского общества вылились здесь в форме неологизмов, созданных потребностями разговорного языка, в римском уголке Африки; затем дез Эссента забавляла его веселость, очевидно, полного человека, его южная склонность к излишеству. Он являлся похотливым и веселым добряком рядом с христианскими апологетами, жившими в одном с ним веке – со снотворным Маницием Феликсом, псевдоклассиком, изливающим в своем «Октавии» эмульсии, сгущенные еще Цицероном, и даже рядом с Тертуллианом, которого дез Эссент сохранял, быть может, больше ради своего альденского издания, чем ради самого произведения.
Хотя дез Эссент был довольно силен в теологии, но диспуты монтанистов против католической церкви и полемики против гностицизма не трогали его: несмотря даже на удивительный стиль Тертуллиана, сжатый, покоящийся на причастиях, полный двусмысленностей и столкновения противоречий, усеянный игрой слов и остротами, испещренный словами, взятыми из науки права и из языка отцов греческой церкви, он не раскрывал уже больше «Апологетика» и «Трактата о терпении» и самое большее читал несколько страниц «Об одеянии женщины», где Тертуллиан отчитывает женщин за то, что они украшают себя драгоценностями и дорогими материями, и где запрещает им употребление косметики, так как все это пытается исправить и украсить природу. Эти идеи, диаметрально противоположные его собственным, вызывали у него улыбку, но роль, которую играл Тертуллиан в своем епископстве в Карфагене, возбуждала в нем тихие грезы; сам человек привлекал дез Эссента больше, чем его произведения.
Действительно, он жил в зыбкие времена, потрясаемые ужасными смутами, при Каракалле, при Макрине, при странном Эмеском жреце Элагабале; и он спокойно готовил свои проповеди, догматические сочинения, защитительные речи и поучения, в то время как Римская империя шаталась в своих основах, а азиатские страсти и языческая грязь разливались во всю ширь; он с полнейшим хладнокровием советовал плотское воздержание, умеренность в еде, скромность в одежде, в то время когда Элагабал, весь в золоте и серебре, с тиарой на голове, в одеждах, затканных драгоценными камнями, занимался, среди своих евнухов, женскими рукоделиями, заставлял называть себя императрицей и каждую ночь менял императора, выбирая его преимущественно среди цирюльников, поваришек и цирковых конюхов.
Эта антитеза восхищала дез Эссента. Затем, латинский язык, достигший своей полной зрелости при Петронии, клонился уже к упадку; появилась христианская литература, принеся с собой новые идеи, новые слова, неупотреблявшиеся построения, неизвестные глаголы, эпитеты с непонятным, туманным смыслом, отвлеченные слова, которые до того времени в римском языке встречались очень редко и которые Тертуллиан одним из первых стал употреблять.
Но эта расплывчатость, продолжаемая после смерти Тертуллиана его учеником св. Киприаном, Арнобием, туманным Лактанцием, не представляла прелести. Это было что-то расслабленное и тухлое. Это были неискусные возвращения к цицероновской напыщенности, не имеющие еще того особенного аромата, какой в IV, а в особенности в последующие века дух христианства придаст языческому стилю, искрошившемуся и разложившемуся, как дичь, тогда, когда истощится цивилизация старого мира, когда от одного толчка варваров разрушатся империи, гноящиеся сукровицей веков. Искусство III века представлял в библиотеке дез Эссента единственный христианский поэт Коммодиан Газский. «Апологетическая песнь», написанная им в 259 году – сборник поучений, скрученных в акростихи, в народных гекзаметрах, с цезурами, по образцу героического стиха, составленных без внимания к размеру и гиатусу и сопровождаемых рифмами, многочисленные примеры которым будут впоследствии в церковном латинском языке.
Эти растянутые стихи – мрачные, наполненные терминами из обыкновенной речи и словами со скрытым и примитивным смыслом – привлекали дез Эссента и интересовали его больше, чем перезрелый и уже позеленевший стиль историков Аммиана Марцеллина и Аврелия Виктора, чем эпистолярный стиль Симмаха, компилятора и грамматика Макробия; он предпочитал их даже этим настоящим скандированным стихам, этому разнообразному и превосходному языку, каким говорили Клавдиан, Рутилий и Авзоний. Это были тогдашние мэтры искусства; своими воплями они наполняли умирающее государство: христианин Авзоний, со своим «Свадебным центоном» и изукрашенной поэмой «Мозелла», Рутилий – со своими гимнами славе Рима, с анафемами евреям и монахам, с путеводителем из Италии в Галлию, в котором он передает беспредельность пейзажей, отраженных в воде, миражи окружающих горы туманов; Клавдиан, в некотором роде воплощение Лукана, господствующий над всем четвертым веком трубным гласом своих стихов, кующий звучный и сверкающий гекзаметр, одним ударом выбивающий эпитет в снопах искр, достигающий истинного величия, могучим вдохновением созидающий свое произведение. В истлевающей Западной империи, в сумятице постоянной резни и розни, под угрозой варваров, подступающих к воротам Вечного города, Клавдиан воскрешает древность, воспевая похищение Прозерпины. Он наносит мерцающие мазки своих стихов во мраке, объявшем мир, будто факелами освещая наплывающую тьму. Последний глашатай язычества, поднимает он над христианством, захватившим и язык, и литературу, свой рожок, одинокий представитель великого искусства, поддерживаемый только Павлином, учеником Авзония. Испанский священник Ювенк перелагает стихами Евангелие, Викторин пишет «Маккавеев», св. Бурдигалезий, в эклоге, подражающей Вергилию, заставляет пастухов Эгона и Букула оплакивать болезни своих стад; а святых целый ряд: Иларий Пиктавийский, покровитель никейской веры, Афанасий Западный, как его называют, Амвросий, автор неудобоваримых проповедей, скучный христианский Цицерон; Дамасий, изготовитель надгробных эпиграмм, Иероним, переводчик Вульгаты, и его соперник Вигилянций Комменжский, нападающий на культ святых, на обман чудес, на посты и восстающий против монашеских обетов в безбрачии священников с теми аргументами, которые будут повторяться следующими веками.
Наконец, в V веке, Августин, епископ Иппонийский. Его дез Эссент знал прекрасно, так как это был самый известный церковный писатель, основатель христианской ортодоксии, на которого католики смотрят как на оракула, на верховного учителя. Он не совершил великих открытий, хотя и воспел в своей «Исповеди» отвращение к жизни земной, а жалобное благочестие в его трактате «О граде Божьем» пыталось умерить ужасную скорбь времени успокоительными обещаниями лучшей участи. Когда дез Эссент занимался теологией, он уже был утомлен и сыт его проповедями и иеремиадами, его теориями предопределения и благодати, его борьбой с расколом.
Дез Эссент больше любил перелистывать «Психомахию» Пруденция, аллегорическую поэму, излюбленное чтение Средних веков, и сочинения Сидония Аполлинария, переписка которого, пересыпанная остротами, архаизмами и загадками, нравилась ему. Он с удовольствием перечитывал панегирики, в которых этот епископ, в подкрепление своих хвастливых похвал, призывает языческих богов. Дез Эссент питал слабость к его позерству и двусмысленности, к темноте смысла этих стихотворений, сочиненных искусным механиком, который заботится о своей машине, смазывает ее и изобретает, в случае надобности, многосложные и лишние колеса. После Сидония дез Эссент часто обращался еще к панегиристу Меробавду, а также к Седулию, автору поэмы в стихах и элементарных гимнов, некоторыми частями которых церковь воспользовалась для службы; к Марию Викторину, мрачный трактат которого об «Испорченности нравов» озаряется местами блестящими, как фосфор, стихами; Павлину из Пеллы, поэту гремящего «Евхаристикона», епископу Ориенцию, бранящему в двустишиях своих «Увещаний» распущенность женщин, лица которых, как он утверждает, развращают народ.
Интерес дез Эссента к латинскому языку не ослабевал; вконец испорченный язык, теперь он падал, лишаясь своих членов, истекая гноем, с трудом сохраняя, в гниении своего тела, некоторые крепкие части, которые христиане извлекали, чтобы замариновать их в рассоле своего нового языка.
Наступила вторая половина V века, ужасная эпоха, когда страшный толчок потряс землю. Варвары разорили Галлию; парализованный Рим, отданный на разграбление вестготам, чувствовал, что его жизнь застывает, видел, что его окраины – Запад и Восток – бьются в крови и с каждым днем истощаются.
Во всеобщей гибели, в убийствах цезарей, следующих одно за другим, в шуме резни, струящейся с одного конца Европы в другой, гремело страшное «ура», заглушающее вопли, покрывающее все голоса. На берегу Дуная тысячи людей на маленьких лошадках, в плащах из крысиных шкур, ужасные татары, с громадными головами, с расплюснутыми носами, с подбородками, изрытыми рубцами и шрамами, с желтыми безволосыми лицами – несутся во всю прыть, окутывают вихрем территории Империи. Все исчезло в пыли скачки, в дыму пожаров. Наступила тьма, и ужаснувшиеся народы дрожали, слушая проносящийся с громовым грохотом страшный смерч. Орда гуннов снесла Европу, ринулась на Галлию и пала поверженная в шалонских равнинах, где Аэций разгромил ее в ужасающей атаке. Равнина, залитая кровью, пенилась как багряное море; двести тысяч трупов загородили дорогу, помешав разбегу этой лавины, которая, свернувши с дороги, гремя громовыми ударами, упала на Италию, где истребленные города пылали как стога.
Западная империя пала под ударом; умирающая жизнь, влачимая ею в слабоумии и грязи, угасла; конец вселенной казался близким; города, забытые Аттилой, были выхвачены голодом и чумой; латинский язык тоже, казалось, был зарыт под развалинами мира.
Прошли года; варварское наречие начало регулироваться, выходить из своих жильных пород, создавать настоящие языки. Латинский язык, спасенный в разгроме монастырями, заточился среди обителей и приходов; кое-где вспыхивали поэты, вялые и холодные: африканец Драконций, с своим «Гекзамероном», Клавдиан Мамерт, с своими литургийными стихами, Авит Вьеннский; затем биографы – Эннодий, рассказывающий о чудесах св. Епифания, проницательного и уважаемого дипломата, честного и бдительного пастыря, Эвгиппий, описывающий нам беспримерную жизнь св. Северина, этого таинственного отшельника, этого смиренного аскета, явившегося неутешным народам, помешанным от страданий и страха, как ангел милосердия; писатели – Вераний из Жеводана, создавший маленький трактат о воздержании, Аврелиан и Ферреол, составлявшие церковные каноны; историки – Ротерий из Агда, известный утерянной историей гуннов.
Произведения следующих веков редели в библиотеке дез Эссента.
Представителями VI века были, однако, Фортунат, епископ из Пуатье, чьи гимны и «Vexilla regis»[2], выкроенные из старой падали латинского языка, подслащенные благовониями церкви, ему иногда вспоминались, Боэций, старый Григорий Турский и Иордан.
Затем, в VII и VIII веках – как бы сверх вульгарной латыни летописцев Фредегара и Павла Диакона и стихов, заключающихся в антифонарии из Бангора, в котором алфавитный гимн, написанный в честь св. Комгаллом с одинаковыми рифмами, просматривал иногда дез Эссент, – литература почти всецело замыкалась в жизнеописаниях святых, в легенде о св. Колумбане, написанной отшельником Ионой, и в легенде о блаженном Кутберте, составленной Бедой Достопочтенным по запискам анонимного монаха из Линдисфарна. Дез Эссент ограничивался перелистыванием в минуты скуки произведений агиографов и перечитывал некоторые эпизоды из жизни св. Рустикулы и св. Радегунды, рассказанные одна Дефенсорием, синодитом из Лигже, другая скромной и наивной Баудонивией, монахиней из Пуатье.
Но странные произведения латинской литературы англосаксов больше привлекали дез Эссента. Это была целая серия загадок Альдхельм, Татвина, Евсевия, этих потомков Симфозия, и особенно загадки, написанные св. Бонифацием, акростихами, решение которых заключалось в заглавных буквах стихов.
Увлечение дез Эссента уменьшалось с концом этих двух веков; наконец, он далеко не был в восторге от тяжелой массы латинистов-каролингов, разных Алкуинов и Эйнхардов, и довольствовался, как образцом языка IX века, анонимными хрониками о св. Галле, Фрекульфе и Регино; поэмой об осаде Парижа, подписанной Аббоном Горбатым, дидактической поэмой бенедиктинца Валафрида Косого «Садик», глава которой, посвященная прославлению тыквы, символу плодородия, приводила дез Эссента в веселое настроение; поэмой Эрмольда Черного, прославляющего подвиги Людовика Благочестивого – поэмой, написанной правильными гекзаметрами, в строгом, почти мрачном стиле, железным латинским языком, закаленным в монастырских водах, с разбросанными местами металлическими кусками чувства; поэмой «О свойствах трав» Макра Флорида, который особенно забавлял его своими поэтическими рецептами и очень странными свойствами, которые он приписывал некоторым растениям и цветам: например, от кирказона, смешанного с мясом быка и положенного на нижнюю часть живота беременной женщины, родится мальчик; бурачник, растворенный в настойке, веселит собеседников; толченый корень пиона навсегда излечивает эпилепсию; укроп, положенный женщине на грудь, очищает ее воды и вызывает безболезненность ее периодов.
Исключая нескольких специальных неклассифицированных томов, новейших и без даты, некоторых сочинений по каббалистике, медицине и ботанике, некоторых разрозненных томов патрологии Миня, заключающих в себе утерянные христианские стихотворения, и антологии второстепенных латинских поэтов собранной Вернсдорфом; еще Меурзия, руководства классической эротологии Форберга, Устав с указаниями для духовников, латинская библиотека дез Эссента останавливалась на начале X века.
Действительно, интерес и многосложная наивность христианского языка тоже пропали. Царило пустословие философов и схоластов, словопрение Средних веков. Громоздилась куча сажи – летописей и исторических книг, свинцовые круги сборников монастырских грамот; умерли приятный лепет и изящная порой неловкость монахов, приправляющих благочестивое рагу поэтическими остатками древности; изделие вычищенных, усовершенствованных существительных, пахнувших ладаном, причудливых прилагательных, готических драгоценностей, грубо вырезанных из золота с варварским и восхитительным вкусом, было разрушено. Старые издания, сберегаемые дез Эссентом, прерывались; и сделав гигантский прыжок через века, на полках громоздились книги, подходившие прямо к французскому языку нынешнего века, минуя ряд столетий.
IV
Ближе к концу дня перед домом на Фонтенэй остановилась карета. Так как дез Эссент никого не принимал и так как почтальон не отваживался проникнуть в эти необитаемые места ввиду того, что ему не нужно было передать ни газеты, ни журнала, ни письма, – слуги колебались, спрашивая друг друга, нужно ли отпереть; потом, под звон колокольчика, изо всей силы ударившегося в стену, они решились открыть потайное окошечко, прорезанное в двери, и увидели господина, у которого вся грудь от шеи до пояса была покрыта огромным золотым щитом. Они вошли с докладом к своему хозяину, который в это время завтракал.
– Прекрасно, введите, – сказал он, так как вспомнил, что в свое время дал адрес ювелиру для доставки заказа.
Господин поклонился, положил в столовой на сосновый пол свой щит, который шевельнулся, немного поднимаясь и вытягивая змеевидную голову черепахи; она внезапно испугалась и спряталась.
Эта черепаха была фантазией, пришедшей дез Эссенту накануне его отъезда из Парижа. Однажды глядя на восточный ковер с серебристыми отблесками, бегущими по шерстяной ткани, желтой, как смола, и лиловой – цвета сливы, он подумал: хорошо бы положить на этот ковер что-нибудь такое, что двигалось бы и своим темным цветом подчеркивало резкость этих цветов. Охваченный этой мыслью, он бродил по улицам, дошел до Пале-Рояля и перед витриной Шеве ударил себя по лбу: там в бассейне была громадная черепаха. Он купил ее; потом, положив ее на ковер, он сел перед ней и, прищурив глаза, долго всматривался. Цвет этого панциря, сырой тон сиены решительно грязнил блеск ковра, нисколько не оживляя его; серебро едва мерцало теперь, сливаясь с холодными тонами ободранного цинка на краях этого жесткого и тусклого щита. Он грыз ногти, отыскивая средства примирить эти несогласия, помешать решительному раздору этих тонов; наконец он открыл, что первая мысль разжечь блеск ткани колебанием положенного на нее темного предмета – была ошибочна; в конце концов, этот ковер был еще слишком ярок, слишком резок, слишком нов. Цвета недостаточно смягчились и ослабли; нужно было перевернуть задачу, ослабить тона, заглушить их контрастом блестящего предмета, подавляющего все вокруг себя, бросающего золотой цвет на бледно-серебряный. Вопрос, поставленный таким образом, был легко разрешим. Вследствие этого дез Эссент решил покрыть панцирь черепахи золотом.
Когда ее принесли от мастера, животное сверкало как солнце, сияло на ковре, отраженные оттенки которого смягчились лучезарностью вестготского щита, с черепицевидной чешуей, сделанной художником с варварским вкусом. Сначала дез Эссент был очарован этим эффектом; потом он подумал, что эта исполинская драгоценность только начерно набросана; она была бы вполне закончена, если бы была инкрустирована редкими камнями. Он выбрал в японской коллекции рисунок, изображающий букет цветов, выходящих ракетой из тонкого стебля, отнес его к ювелиру, набросал контур, который должен заключать этот букет в овальную раму, и объяснил изумленному мастеру, что листья и лепестки каждого цветка должны быть сделаны из драгоценных камней и вставлены в панцирь животного.
Он задумался над выбором камней: брильянт сделался особенно пошлым с тех пор, как все торговцы носят его на мизинце; не так обесценились восточные изумруды и рубины: они испускают лучезарное пламя, но слишком напоминают зеленые и красные глаза омнибусов, несущих фонари этих двух цветов; что касается топазов, сырых или обожженных, – эти дешевые камни дороги мелкой буржуазии, желающей иметь драгоценности в зеркальном шкафу; с другой стороны, хотя церковь и сохранила за аметистом священное значение, но и этот камень опошлен в полнокровных ушах и на пухлых руках лавочниц, желающих за умеренную цену украситься настоящими и тяжелыми драгоценностями; среди этих камней один только сапфир сохранил свой блеск не тронутым промышленностью и денежной глупостью. Его искры, сыплясь на светлую и холодную воду, некоторым образом оберегли от грязи свое скромное и горделивое благородство. К несчастью – при искусственном освещении его свежий блеск не сверкает больше; синяя вода уходит в себя, кажется уснувшей, для того чтобы с началом дня снова проснуться и сверкать.
Решительно ни один из этих камней не удовлетворял дез Эссента: они были слишком оцивилизованы и слишком известны; он пересыпал между пальцами более интересные и более причудливые минералы и наконец выбрал серию настоящих и поддельных камней, сочетание которых должно было создать чарующую и поражающую гармонию.
Таким образом он составил букет цветов: в листья были вставлены драгоценные камни определенного резко-зеленого цвета: зеленые александриты цвета спаржи, зеленые хризолиты цвета порея, зеленые оливины цвета оливы; и они выходили из веток альмандина и уваровита лиловато-красного цвета, искрящиеся сухим блеском, каким внутри бочек светится слюда винного камня.
Для цветов, оторванных от стебля и отдаленных от основания букета, он употребил азурит, но он решительно отверг эту восточную бирюзу, которую вставляют в брошки и в кольца и которая вместе с банальным жемчугом и гнусным кораллом составляет радость черни. Он отобрал исключительно западную бирюзу, которая, в сущности, не что иное, как ископаемая слоновая кость, пропитанная медянистыми веществами, бледно-голубой цвет которой загрязнен и непрозрачен – он серый, как бы пожелтевший от желчи.
Покончив с этим, он мог теперь вставлять в лепестки распускающихся цветов в середине букета, ближайших к стволу, прозрачные минералы со стеклянным и нежным блеском, с лихорадочными и острыми лучами.
Он составил их исключительно из цейлонских «кошачьих глаз», хризобериллов и синих халцедонов.
Эти три камня сверкали действительно таинственно и извращенно, с болью вырванные из холодной глубины своей мутной воды.
«Кошачий глаз» зеленовато-серого цвета, испещренный концентрическими жилами, которые как будто колебались, ежеминутно двигаясь в зависимости от освещения; хризоберилл с лазоревым волнистым лоском, пробегающим по молочному оттенку, разлитому внутри; синий халцедон, зажигающий синеватые огни фосфора на шоколадном темно-коричневом фоне.
Мастер отметил места, где должны быть вставлены камни.
– А края панциря? – спросил он дез Эссента.
Дез Эссент подумал сначала о некоторых опалах и гидрофанах; но эти камни, интересные колебанием своих цветов, изменчивостью своего блеска, слишком непокорны и неверны; у опала совершенно ревматическая чувствительность: игра его лучей изменяется от сырости, жары или холода; что касается гидрофана, то он горит только в воде и пышет своим серым жаром, только когда его намочат.
Наконец он остановился на таких минералах, которые чередовались бы своим отблеском: на компостельском гиацинте красного дерева, на зеленом аквамарине, бледном рубине цвета розового уксуса и зюдерманландском рубине цвета бледного сланца. Их слабой игры было достаточно, чтобы осветить темноту панциря и обнаружить ценности цветения камней, окружавших его узкой гирляндой неясных огней.
Спрятавшись в углу столовой, дез Эссент смотрел теперь на черепаху, светящуюся в полутьме.
Он чувствовал себя совершенно счастливым, он упивался блеском горящих венчиков на золотом фоне. И вдруг, вопреки привычной меланхолии, почувствовал аппетит. Он макал гренки в чашку с чаем, в настой безупречной смеси привезенных из Китая через Россию Ши-а-Фаюн и Мо-ю-тан с уместным дополнением желтых и ханских сортов.
Как всегда, он пил эту душистую жидкость из китайских фарфоровых чашек, называемых яичной скорлупой: так они были прозрачны и легки. И точно так же, как он признавал только эти восхитительные чашки, он неизменно употреблял для стола только настоящее позолоченное серебро, которое было чуть-чуть видно под тяжелым слоем слегка стертой позолоты, имеющей в этом виде оттенок старинной нежности, истощенной и умирающей.
Допив последний глоток, он вошел в свой кабинет и велел слуге принести черепаху, которая упорно не хотела двигаться.
Шел снег. При свете ламп за голубоватыми стеклами распускались льдистые травки, и иней, как рассыпанный сахар, искрился на оконных стеклах – в бутылочных донышках с золотыми ободками.
Глубокое молчание окутывало домик, онемевший в темноте. Дез Эссент задумался; полная дров жаровня наполняла комнату горячими испарениями; он приоткрыл окно.
Как огромная обивка из серебряного горностая на черном фоне, поднималось перед ним черное небо, усеянное белыми пятнами. Пронесся холодный ветер, ускорил взбудораженный полет снега и нарушил порядок красок.
Геральдическая обивка неба вывернулась, стала настоящим горностаем, белым с черными хвостиками, – от черных пятен ночного неба, разбросанных между хлопьями.
Он закрыл окно; слишком резкий переход от чрезмерной жары к холоду полной зимы оказался неприятен; он съежился около огня, и ему пришла мысль выпить, чтобы согреться.
Он пошел в столовую, где в шкафу, вделанном в одной из стен, стояли маленькие бочонки с серебряными кранами, на полочках из сандалового дерева.
Он называл это собрание бочонков с ликерами орга́ном для рта.
Трубочка могла соединить все краны, подчинить их одному движению таким образом, что когда прибор уже на месте, – стоит только нажать кнопку, скрытую в панели, чтобы все краны одновременно повернулись и наполнили напитком незаметно подставленные под них бокалы.
В это время орган был открыт. Ящики с надписями «флейта», «валторна», «целеста» – были выдвинуты и готовы к маневрам. Дез Эссент пил по глотку то тут, то там, разыгрывал внутренние симфонии, вызывая в горле ощущения, аналогичные с теми, какие музыка доставляет слуху.
Впрочем, каждый напиток, по мнению дез Эссента, соответствовал своим вкусом звуку какого-нибудь инструмента. Сухой кюрасо, например, соответствовал кларнету, певучесть которого кисловата и бархатиста; кюммель – гобою: его звонкий тенор гнусавит; мятная и анисовая водка – флейте, она подсахарена и подправлена перцем, мягка и щиплет в одно и то же время; а для полноты оркестра – вишневка яростно трубит в трубу, джин и виски горчат нёбо своими пронзительными взрывами корнет-а-пистонов и тромбонов; виноградная водка гремит оглушительным шумом труб, в то время как от хиосской ракии и других крепких напитков во рту катятся громовые удары цимбал и барабана.
Он думал также, что эта ассимиляция могла распространяться дальше, что под сводом нёба могли разыгрываться квартеты струнных инструментов: со скрипкой – старой водкой, крепкой и тонкой, острой и нежной; с альтом – замененным ромом, наиболее крепким, хриплым и глухим; с ратафией, раздражающей и тягучей, меланхолической и ласкающей, как виолончель, и, наконец, с контрабасом, вкусным, солидным и черным, как настоящий старый биттер. Можно было бы даже, если бы хотелось устроить квинтет, прибавить пятый инструмент – арфу, к которой подходил по своему правдоподобному сходству вибрирующий вкус и серебристый, сухой и порывистый тон тминной водки.
Соответствие шло еще дальше: в музыке ликеров существовало родство тонов; так, чтобы определить одну только ноту, – бенедиктин представляет, так сказать, минорный тон того алкоголя, мажорный тон которого винные карты – партитуры обозначают знаком зеленого шартреза.
Приняв однажды эти принципы, дез Эссент мог уже, благодаря своей богатой опытности, разыгрывать на своем языке молчаливые мелодии, немые похоронные марши, слушать в своем рту соло на мятной, дуэты на ратафии и роме. Он даже исполнял во рту настоящие музыкальные отрывки, следуя шаг за шагом за композитором, передавая его мысль, его эффекты и оттенки близкими соединениями или контрастами напитков, приблизительной и искусной смесью.
Иногда он сам сочинял мелодии, разыгрывая пасторали с легкой черносмородиновой, выводившей в его горле переливы жемчужных песен соловья с нежным шоколадным ликером, напевавшем паточные старинные мелодии: «Песня Эстеллы» и «Ах, матушка, узнай».
Но в этот вечер у дез Эссента не было никакого желания слушать вкус музыки; он ограничился лишь одной нотой клавиатуры своего органа, взяв маленький бокальчик, который он предварительно наполнил настоящим ирландским виски.
Он опустился в кресло и глотал этот сок, настоянный на овсе и ячмене; резкий запах креозота наполнил его рот. С каждым глотком мысль его следила за оживлявшимся теперь ощущением его нёба, шла по следам, оставленным вкусом виски и, благодаря фатальному сходству запахов, пробудила давно забытые воспоминания.
Этот едкий аромат невольно напомнил ему такой же запах, каким был наполнен его рот, когда дантисты работали в его деснах. Раз попав на этот след, его думы, сначала рассеянные по всем докторам, которых он знал, собрались, сосредоточились на одном из них, особенно запечатлевшемся в его памяти.
Это было три года назад; охваченный среди ночи отвратительной зубной болью, он завязал щеку, бросался на стулья, бегал как сумасшедший по своей комнате. Болел уже запломбированный коренной зуб; никакое лечение было невозможно; только щипцы дантиста могли устранить боль. Весь в лихорадке он ждал дня, решившись перенести самую тяжелую операцию, лишь бы она положила конец его страданиям.
Держа челюсть, он спрашивал себя, как быть. Дантисты, лечившие его, были богатые негоцианты, которых нельзя было видеть когда вздумается; нужно было условиться с ними относительно визитов, часов свиданий.
– Это невозможно, я не могу дольше медлить, – сказал он и решил идти к первому попавшемуся дантисту, бежать к народному зубодеру – к одному из тех людей с железным кулаком, которые если и не знают искусства, впрочем бесполезного, чистить костоед и заделывать дыры, то умеют вырывать с корнем с неподражаемой быстротой самые неподатливые обломки зубов; у этих открыто с самого утра, и они не заставляют ждать. Пробило наконец семь часов. Он поспешно вышел и, вспоминая знакомое имя механика, называвшего себя народным дантистом и жившего на углу набережной, бросился по улицам, кусая платок и едва удерживая слезы.
Подойдя к дому, который он узнал по громадной вывеске из черного дерева, на которой огромными буквами цвета тыквы красовалась фамилия «Гатонакс», и еще по двум стеклянным шкафчикам, где искусственные зубы были тщательно выравнены в челюстях из розового воска, скрепленные медными механическими пружинками, дез Эссент вспотел и задохнулся. Ужасный страх охватил его, дрожь побежала по коже, наступило успокоение; боль прекратилась; зуб замолк. Он в оцепенении стоял на тротуаре; но наконец он поборол боязнь, поднялся по темной лестнице и, шагая через несколько ступенек, вскарабкался на третий этаж. Там он очутился перед дверью, на которой эмалевая дощечка повторяла имя, бывшее на вывеске, написанное небесно-голубыми буквами.
Он позвонил, но потом, испугавшись больших красных плевков, замеченных им на ступеньках лестницы, быстро повернулся было, решив страдать зубами всю свою жизнь, но вдруг за его спиной послышался раздирающий крик, который наполнил всю лестницу и приковал испугавшегося дез Эссента к месту; в это время отворилась дверь, и старушка попросила его войти.
Страх его сменился стыдом; его ввели в столовую; хлопнула другая дверь, пропустив страшного гренадера в черных брюках и сюртуке; дез Эссент последовал за ним в другую комнату.
С этой минуты его ощущения стали неясны. Смутно вспоминал он, что опустился в кресло против окна; что, положив палец на зуб, пробормотал: «Он уже запломбирован; боюсь, что ничего нельзя сделать».
Мужчина пропустил мимо ушей эти объяснения, воткнув ему в рот громадный указательный палец; затем, ворча что-то в свои большие нафабренные усы, он взял со стола инструмент. Началась главная сцена. Уцепившись в ручки кресла, дез Эссент почувствовал в щеке холод, потом глаза его увидели тридцать шесть свечей, и перенося неслыханные боли, он начал бить ногами и блеять, как животное, которого режут.
Послышался треск – при выдергивании сломался коренной зуб; дез Эссенту показалось тогда, что ему отрывают голову, раздробляют череп; он потерял рассудок, выл изо всех сил, яростно защищался от мужчины, который опять бросался на него, как будто хотел запустить ему руку до самого живота.
Дантист порывисто отступил на шаг и, подняв тело, прикрепленное к челюсти, грубо бросил его в кресло, а сам, стоя у окна и тяжело дыша, тряс на кончике щипцов синий зуб, на котором висело что-то красное. Смирившись, дез Эссент наплевал полную чашку крови, отказал жестом вошедшей старушке, принесшей обломок его зуба, который она хотела было завернуть в газету, и, заплатив два франка, убежал, в свою очередь оставляя на ступеньках кровяные плевки; он очутился на улице радостный, помолодевший на десять лет, интересуясь малейшими вещами.
– Брр. – Вздрогнул он, опечаленный от наплыва этих воспоминаний. Он поднялся, чтобы разрушить ужасные чары этого видения, и, вернувшись к действительности, вспомнил о черепахе. Она все еще не двигалась; он потрогал ее – она была мертва. Конечно, привыкши к сидячей жизни, к жалкому существованию, проведенному под несчастным панцирем, она не могла вынести ослепительной роскоши, наложенной на нее, лучезарного облачения, в которое ее одели, драгоценных камней, которыми ей вымостили спину, как дароносицу.
V
В это же время, когда особенно обострилось желание дез Эссента забыть эту ненавистную эпоху мерзких рож, более властно заговорила и потребность не видеть больше картин, которые изображают человеческие лица, копошащиеся в Париже в четырех стенах или бродящие по улицам в поисках заработка.
Потеряв интерес к современной жизни, он решился не впускать в свою келью масок отвращения и жалости; он хотел тонкой и изящной картины, поэтичной в античной извращенности, далекой от наших нравов, далекой от наших дней.
Он хотел для услаждения своего ума и для утехи глаз несколько возбуждающих произведений, которые переносили бы его в неведомый мир, наводили бы его на след новых догадок, расшатывали бы его нервную систему многообразными истериками и кошмарами, беспечными и ужасными видениями.
Был один художник, талант которого приводил дез Эссента в восхищение, Гюстав Моро. Дез Эссент приобрел два его шедевра, и перед одним из них по ночам он отдавался грезам. Это было изображение Саломеи следующего содержания.
Во дворце, похожем на базилику мусульманско-византийской архитектуры, возвышался трон, подобный главному престолу собора, под бесчисленными сводами, из которых коренастые колонны струились, как романские столбы, украшенные разноцветными камнями, выложенные мозаикой, инкрустированные ляпис-лазурью и сардониксом.
В центре скинии, возвышаясь на престоле, к которому вели полукруглые ступени, сидел тетрарх Ирод, опершись руками на колени.
Лицо желтое, пергаментное, испещренное морщинами, истощенное годами; его длинная борода развевалась, как белое облако над звездами из драгоценных камней, которыми сияла надетая на нем златотканая одежда.
Вокруг этого изваяния неподвижного, застывшего в священной позе индусского бога курились благовония, разливающие облака дыма, сквозь которые, как фосфорические глаза животных, просвечивали огни камней, вставленных в стенки трона; дым поднялся и застыл под сводами, где смешался с голубой пылью ярких дневных лучей, падающих из купола.
В развращающем запахе благовоний, в разгоряченной атмосфере этой церкви Саломея с вытянутой левой рукой – жестом повеления, с согнутой правой рукой, держащей против лица большой лотос, медленно на носках подвигается под звуки гитары, струны которой перебирает женщина, сидящая на корточках.
С сосредоточенным, торжественным, почти священным лицом начинает она похотливый танец, который должен пробудить притупленные чувства старого Ирода; ее груди волнуются, и от трения крутящихся ожерелий соски их приподнимаются. На ее влажной коже сверкают алмазы, ее запястья, пояса, кольца сыплют искры; верх ее праздничной одежды, обшитой жемчугом, затканной серебряными разводами, украшенной золотой битью – панцирь из драгоценностей, на котором каждое звено из камня горит, скрещивает огненные змеи, шевелится на матовом теле, на коже, цвета чайной розы, как великолепное насекомое, с ослепительными крылышками, златоцветными точками, голубовато-стальным и зеленым, цветом павлина.