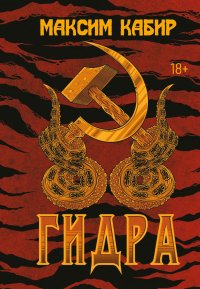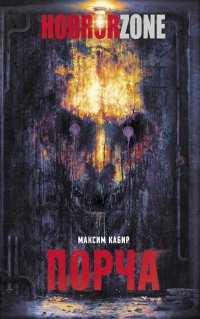
Читать онлайн Порча бесплатно
- Все книги автора: Максим Кабир
Серия «HorrorZone»
Серийное оформление: Юлия Межова
© Максим Кабир, текст, 2022
© Алексей Провоторов, обложка, 2022
© ООО «Издательство АСТ», 2022
* * *
Костров (1)
Двадцатого августа на стене в западной части подвала появился Нечестивый Лик. Двое мужчин прошли по длинному, озаренному гирляндой лампочек, коридору, свернули, позвенев ключами, отворили железную дверь, выкрашенную в желтый канареечный цвет. Наблюдая за манипуляциями тщедушного мужичка в спецовке, Костров размышлял о том, какой дурак выбирал краску. Ею же были превращены в желтые идиотские гармошки батареи центрального отопления.
Мужичок – Игнатьич – споро сбежал в попахивающий плесенью мрак, щелкнул выключателями. Эффекта пришлось подождать. Словно исподволь, зажглась заточенная в решетку лампа. Обрызгала светом цементный пол. За девять лет на должности Костров ни разу не бывал в подвале и, судя по всему, мало что потерял. Душный унылый бункер…
Он спустился по лестнице, фыркая. Великан Тиль выступил из темноты. Макушкой Тиль практически упирался в потолок. Пошел за Костровым следом.
Под вверенной Кострову территорией обнаружилось убегающее на десятки метров пространство, словно фундамент из спрессованной тьмы, которую не способна была разогнать одинокая лампа. Трубы в потрепанной изоляции, морок, вдруг напомнивший сорокапятилетнему Кострову, что в детстве он плакал, если мама гасила ночник. Источником глупых иррациональных страхов был гардероб, и так кстати сбоку от мужчин оказался невесть откуда взявшийся шкаф. Приземистый, с резной дверцей, в чешуйках отслоившейся синей краски.
Костров покосился на рухлядь. Тиль глухо чертыхнулся, поймав темечком паучьи тенета.
Сутулая спина Игнатьича маячила впереди.
Основная часть подвала находилась по правую руку: коленчатые трубы поделили ее на туннели. Слева валялся хлам, сносимый сюда годами: отслужившие свой век парты с нацарапанными именами давно повзрослевших школьников, размокшие картонные коробки, хромой стул.
Прижав к туловищу локти, чтобы не запачкать пиджак, Костров шел оловянным солдатиком за Игнатьичем.
– Да чтоб тебя! – Тиль протаранил очередную паутину.
– Тута вот, – булькнул Игнатьич. Прокуренные легкие сипели.
Он подвинулся, позволяя начальнику рассмотреть.
А смотреть было на что.
Давший течь кран в женском туалете целую ночь цедил мимо раковины воду. Затопило западное крыло, с первого этажа просочилось в оба подвала: в верхний, переделанный под вотчину Тиля, и во второй, самый нижний. Завхоз сетовала на вздувшуюся побелку. А здесь-то и вздуваться было нечему: голый бетон, известь в щелях.
И лицо на стене. От потолка до пола.
– Нечестивый Лик, – торжественно прокомментировал Игнатьич.
Не глядя на разнорабочего, загипнотизированный взором лица, Костров спросил:
– Какой Лик?
– Нечестивый. То бишь гнилостный.
Костров поскоблил ногтями гладко выбритый подбородок. Поймал себя на том, что задирает верхнюю губу. Высоко задирает, демонстрируя резцы и десны. Он сомкнул было, а потом облизал губы. Произнес хмурясь:
– И где ты слов таких нахватался?
– Дык Тамара сказала. Как увидала его. Нечестивый, грит. Скверна, грит.
– А что ж Тамаре Павловне на посту не сидится? Чего это она по подвалам шастает?
– Я виноват, – потупился Игнатьич, – сам ее привел чудо-юдо показать.
Веко Кострова дернулось. За глазными яблоками запекло. Жар нарастал. Померещилось, что если он не зажмурится, глаза вспыхнут ясным пламенем и сгорят.
– Никакое это не чудо-юдо, – мрачно изрек Тиль. – Потеки на стене, херь собачья.
Жар отступил, будто словами Тиль прикрутил газ на печи. В помещении даже стало как-то светлее, а рисунок потерял симметрию и четкость.
– Вот-вот, – живо согласился Костров и зашагал обратно к лестнице. – Люди дело говорят, херь. Ты б, мил-человек, занялся чем-то, ручку вон в учительской подкрутил, вместо того чтоб меня от дел отрывать.
Экскурсия завершилась. Мужчины ушли из подземелья и прихлопнули тьму желтой дверью.
Нечестивый Лик остался в подвале.
Паша (1)
– Может, сходишь, отрегулируешь? – сказала медсестра, прерывая поцелуй.
Они лежали в огромной ванне, предназначенной для купания пациентов, хорошенькая девушка и ее коллега. Вода бурлила, становясь невыносимо горячей.
– Но там же холодно, – закапризничал санитар.
– А здесь тоже может похолодать.
Намек понят. Санитар нехотя выбрался из воды – к кранам и термометрам за стеклянной перегородкой ночной больницы.
Медсестра утиралась полотенцем и не видела, как за ее спиной некто подкрался к мужчине, накинул на шею удавку. Санитар поник.
Медсестра вставляла в волосы заколки, она не подозревала, что убийца в маске, неутомимый, могучий, приближается… кладет ладонь на плечо.
– Ну хватит, Бад. Мне пора возвращаться. Позавтракаешь со мной утром?
Она игриво прикусила указательный палец того, кого принимала за Бада. Оглянулась…
Паша Самотин клацнул по пробелу, и персонажи застыли на экране компьютера. Симпатичная медсестра окоченела в лапище Майкла Майерса.
– Мам? – Самотин прислушался, но единственным звуком было мерное жужжание процессора.
Однако же кто-то окликал его…
Паша встал из-за стола. Полуденное солнце заливало светом бесчисленные корешки книг, фигурки супергероев, столпившиеся на полках, постеры с рок-группами. Последние августовские деньки даровали жару, и племянница бабы Тамары выходила во двор позагорать, подставляла лучам плоский живот, серебрилась пирсингом в пупке. Хотелось бы Паше заговорить, познакомиться с ней – все же соседи, общий штакетник… но девушка выглядела слишком круто и неприступно, а Паша был наглым плейбоем разве что в фантазиях.
– Мам? – повторил он, высовываясь в прихожую.
В доме царила тишина.
Мама, полчаса назад возившаяся у плиты, куда-то испарилась.
«Глюки», – резюмировал Паша, поворачиваясь. Взгляд мазнул по окну. Снаружи на него смотрело чудище с красно-черной мордой и короткими рогами.
Паша выругался.
Чудище хохотнуло, стаскивая маску Дарта Мола, являя плоское несуразное лицо, обрамленное жесткими вихрами. По-своему чудищное, зато родное.
– Руд! Приехал!
Паша ринулся к окну, распахнул створки. Руд – Нестор Руденко – ловко взобрался на подоконник и через мгновение жал Паше руку. За две недели друг загорел и похудел, веснушки изгваздали щеки, нос, приплюснутый после знакомства с кулаком Рязана.
– Накупался? Как море?
– Соленое, жидкое, – Руд говорил с фирменной ленцой, по которой Паша успел соскучиться. Вальяжные манеры, непробиваемое спокойствие, были броней мальчишки, защищающей его субтильное тельце и редкое имя от насмешек ровесников, от тычков. Броня, впрочем, срабатывала не всегда.
– Завел курортный роман?
– Менял баб как перчатки.
– Заливай. – Они дружили с пятого класса – пять лет – и все друг о друге знали. Руд, в отличие от Паши, даже не целовался с девушкой. Да и Пашины поцелуи нельзя было назвать полноценными – так, чмок за гаражами с теперь потолстевшей и подурневшей Ингой… два года назад…
– За санаторием был пляж… – Руд понизил голос. – Нудистский. Я маман говорю: мороженое куплю. А сам – туда по-бырому. Ох, какие там цыпочки, Самотин!
– Что, и без трусов?
– Без ничего! Выбритые, в масле…
– Кто в масле? – Дверь скрипнула, в комнату заглянула Пашина мама.
– Рижские шпроты, – глазом не моргнул Руд. – Драсьте, Лариса Сергеевна.
– Привет, Нестор. С возвращением. Математику подтянул?
– От зубов отскакивает.
– На следующей неделе проверю.
Мальчики синхронно скривились, вывалили языки.
– Вас накормить?
– Не, спасибо.
– Спасибо, мам.
Лариса Сергеевна затворила за собой.
– Ну вот зачем она напомнила? – поник Паша.
Лето пролетело, как и полагается лету – метеором, пулей. До конца каникул оставалось шесть дней. Здравствуй, школа, засиженные мухами парты, бесконечные уроки.
– Ого! – это Руд заприметил обновку, рыжую куклу, сидящую на диване под постером Green Day. У куклы было злобное, иссеченное швами личико и пластиковый нож в кармашке джинсового комбинезона. – Чаки!
– Лимитированная серия, – гордо сказал Паша.
Руд тискал куклу-убийцу, та пищала: «Я славный парень! Славный парень с тесаком!»
– Офигеть! На русском говорит! Где взял?
– Батя заходил.
– О… – Руд кивнул понимающе. – Общался с ним?
– Ну так… парой слов перебросились.
– А с негритяночкой как?
Негритяночка – это племянница бабы Тамары, приезжающая откуда-то из Пскова. Чернокожей она не была, прозвище мальчики дали ей из-за загара. Хотя теперь Руд был загорелее.
– В процессе, – преувеличил Паша.
– Ну ясно. Порнушку смотришь? – Руд ринулся к столу, шлепнул по клавиатуре. Майерс растормозился и ткнул медсестру в кипящую ванну.
– Сиквел «Хеллоуина».
– Сиквелы – отстой. – Руд с Чаки в обнимку плюхнулся на диван.
– А «Крестный отец»? Вторая часть лучше.
– Не видел.
– «Лепрекон»…
– Это – да. Уорвик Дэвис… А я по дороге к тебе встретил нашего лепрекона.
– Курлыка?
– А кого же!
Погоняло Курлык намертво приклеилось к тишайшему Ване Курловичу. Ваню Паша всегда жалел и звал при случае в гости или на футбол. Мамка Вани закладывала за воротник, однажды Паша видел ее, в нижнем белье разгуливающую по улицам. Курлык жил у деда, который работал в школе слесарем и электриком в одном лице. Дед, Игнатьич, тоже пил.
Курловичу пришлось несладко. Горшинские гопники мутузили его чаще прочих.
– Курлык сказал, школу затопило. Вроде канашку прорвало.
– Кто-нибудь утонул?
– Ага. Костров. В дерьме.
Они смеялись, а ветер проникал в форточку, принося запахи полыни, гудрона, умирающего лета.
– Ты не поверишь, – сказал Руд, – но я хочу в школу.
– Перегрелся?
– Не, серьезно. Всех мудаков отправили в ПТУ. Ни Рязана больше, ни Желудя. На класс – пятнадцать калек, из них девять – девчонки. Вон даже Ахметова, старая «бэ», на пенсию ушла.
– А кто вместо нее литературу будет вести?
– Новенькая какая-то. Короче, братан, заживем, как у бога за этим самым, – Руд прервался на полуслове, встрепенулся. – Ба! Дырявая башка! Я ж тебе сувенир принес!
– Невесту для Чаки?
– Почти. – Руд вынул из кармана курительную трубку. Вручил другу.
– С побережий Крыма. Чистый орех.
– На фига? Я же не курю.
– Баран! Ты – писатель. Все писатели курят трубку.
– Аллен Карр не курит.
– Я знаю только Джимми Карра. Кстати, как поживает Пардус?
Пардусом звали овчарку Паши, умершую в прошлом году – настоящая трагедия для и без того уменьшившейся семьи Самотиных. Но Руд имел в виду, конечно, героя Пашиного рассказа, которому автор подарил имя любимца.
Руд был единственным, кто прочел рукопись, – искренне хвалил и затребовал писать продолжение.
– Ты ж не любишь сиквелы.
– А это не сиквел, – возразил друг, – это сериал. Второй эпизод.
– Уболтал. – Паша извлек из ящика тонкую стопку листов с распечатанным текстом.
– А секс там будет?
– Прочитай – узнаешь.
– Вот бы, – сказал Руд, надавливая на живот Чаки, заставляя его говорить, – вот бы новая училка была секс-бомбой.
Марина (1)
Марина Крамер приходила сюда в третий раз, но никак не могла расшифровать, какие чувства рождает в ней эта школа. Смятение? Иррациональную ностальгию? Или вовсе не было никаких чувств, по крайней мере тех, что она себе насочиняла. Ничего, кроме понятного и обычного волнения вчерашней студентки, готовой приступить к обязанностям педагога.
Марина разочаровалась, увидев здание на холме впервые. Бурная фантазия рисовала подлатанный, стонущий на ветру особняк позапрошлого столетия, конюшни, переформатированные в спортзал, учительскую во флигеле.
Но школа оказалась самой обычной советской постройкой, довольно большой для города на семнадцать тысяч жителей. Двухэтажная, напоминающая вилку. Два зубца – крылья. Ухоженный газон внутреннего дворика. Рядышком стадион, турники…
Костров, директор, импозантный мужчина с проседью в окладистой бороде и аккуратной прическе, долго жал руку, говорил, как им повезло, что Марину направили именно в Горшин.
«Сработаемся», – говорил он.
И все же обидно, что без флигеля и конюшен…
Вестибюль средней общеобразовательной школы номер один тонул в вечных сумерках. Фотографии медалистов, российский флаг, герань в кадках. Вахтерша, Тамара Павловна, листала глянцевый журнал на посту. За ее спиной уходила вверх широкая лестница. По ступенькам спускалась стройная женщина средних лет. В строгой блузе и юбке-карандаше, с косой, заплетенной сложным бубликом.
– Крамер? Русслит?
– Прибыла в ваше распоряжение! – Марина по-военному отдала честь и заулыбалась.
– Вольно. – Женщина приблизилась, водрузила на нос очки. – Я, как и вы, рядовая. Ольга Викторовна Кузнецова, учу обормотов истории отечественной и зарубежной.
– Очень приятно.
«На ее уроках дети сидят тише воды», – оценила Марина.
Ольга Викторовна коснулась пальцем подбородка новенькой. Покивала.
– А вы – красотка. Бедные наши мальчики.
– Я… – Марина стушевалась.
– Да не краснейте. У нас тут все учителя – красотки. Так что вы нам подходите.
– И мужчины? – сострила Марина.
– Мужчин у нас, дорогая моя, раз-два и обчелся. Костров, слесарь… а, и еще ИЗО. Но, между нами, девочками, там надо разбираться.
Марина засмеялась. Кузнецова ей понравилась. Если повезет – станет ее первой подругой здесь. Старшей подругой и наставницей…
– Костров вам школу показывал?
– Не успел.
– Так я и думала. Вечно в хлопотах. Идемте, проведу экскурсию.
Кузнецова взяла Марину под локоть.
– Школа, как видите, большая. Даже чересчур. Сегодня все в Москву уезжают, набор мизерный. Комбинат загибается, трудоустроиться сложно. В девяностые у меня было три девятых класса. Три! А сейчас – один!
– Вы так давно здесь работаете.
– Страшно сказать – двадцать восемь лет. Как вы, после института, необстрелянной девчонкой пришла. Ничего, обстреляли. И мама моя, царствие небесное, здесь до шестидесяти семи здоровье гробила. У нас это наследственное.
Марина зацепилась мысленно за маму Ольги Викторовны. Попыталась подсчитать, но математика давалась со скрежетом. Гуманитарий, она и таблицу умножения вымела из памяти, освобождая пространство для поэзии Серебряного века.
– Спортзал. – Кузнецова отворила дверь в огромное помещение: добрых шесть метров до потолка, окна во всю стену. – Маты весной закупили, мячи. Спонсор у нас – Тухватуллин, директор мебельной фабрики. Костров на него чуть ли не молится. Вы в сентябре познакомитесь с его сынком, седьмой класс. И если у вас с ним не будет трудностей, я съем килограмм мела.
Марина вспомнила практику, проблемного подростка, с которым, пройдя через трения и скандалы, они стали добрыми приятелями – до сих пор при случае переписываются в социальных сетях.
– Библиотека, – сказала Кузнецова у запертой стеклянной двери. – По совместительству краеведческий музей. Ну это вы отдельно исследуете, когда выйдет Люба Кострова, библиотекарь. Там, вы знаете, директорская. Актовый зал, над ним – столовая, действительно неплохая. Только не заказывайте гороховый суп – дрянь.
Они перешли в восточное крыло. Слева тянулись кабинеты. Информатика, химия, физика.
– Вашу предшественницу, Ахметову, дети недолюбливали. Признаться, подавала она материал скучно, суконно. Уж до чего мне нравится Лермонтов, а на ее открытом уроке – уснула.
– Я постараюсь вас не усыпить, – живо отозвалась Марина. Хотелось верить, что она умеет захватить аудиторию, внушить собственную зачарованность классиками, преподать с неожиданной стороны…
– Педагоги у нас – штучный товар, все в одном экземпляре. Коллектив крохотный. Двадцать пять человек – считая уборщицу и поварих.
– А если кто заболеет?
– Болеть не нужно.
Они уперлись в тупик – в мужской туалет – и пошли обратно, через вестибюль с сонной вахтершей – в западное крыло, зеркальное отражение восточного.
– Не хочу вас пугать, – сказала Ольга Викторовна, – но школа держится на соплях. Слухи, что нас расформируют, циркулируют с нулевых. Часть кабинетов пустует. Постоянный недобор. В восьмом году на юге возвели микрорайон, Стекляшку.
Марина кивнула, вспомнив кружок высоток за автовокзалом.
– При микрорайоне построили школу. Компьютеры – не чета нашим ящикам. Пластик. Все с иголочки. Малышей отдали им. И родители, конечно, предпочитают сдавать детей в новую школу. Там углубленный английский, индивидуальный подход. Это мы – закостенелые. Когда педагог болеет, ученики бегут заниматься в Стекляшку. Костров договорился о смежных уроках. Он вообще молодец.
Женский туалет в конце крыла был закрыт на ремонт.
– Позавчера кран прохудился. Крыло плавало – воды по щиколотку. Затопило кабинет труда и подсобку внизу.
Снаружи щебетали птицы. Окна в рассохшихся рамах… отклеившийся плинтус.
«Да уж, – подумала Марина, – не первый сорт».
Мысль все же вышла ласковой – так умиляются старому псу.
На лестнице Кузнецова спросила:
– Вы из Владимира, верно?
– Из Владимирской области. Город Судогда. Во Владимире я закончила университет.
– Значит, вам не привыкать к захолустью.
– Мне есть чем себя занять. К тому же, мои предки отсюда.
– Правда? – Ольга Викторовна вскинула тонкую бровь.
– Прабабушка жила в Горшине в начале века. Потом уехала в Санкт-Петербург.
Ольга Викторовна окинула спутницу уважительным взглядом.
– Сегодняшняя молодежь корнями не интересуется совсем.
– Бабуля была помешана на составлении семейного древа.
– Стало быть, вы специально выбрали именно нас?
– Не совсем. Но я увидела название поселка среди вариантов и тут же согласилась.
«Вот сейчас, – шепнул внутренний голос, – пока не перевели разговор».
Марина прочистила горло.
– Ольга Викторовна, а школа старая?
– Как посмотреть.
Они шли по пустому коридору между окнами и запертыми дверями. Попискивал паркет.
– Горшинской школе весной исполнилось сто лет. Но от прежнего здания сохранились лишь фундамент и теплица. В свою очередь, то кирпичное здание было еще старее – до революции оно принадлежало Стопфольдам, местной аристократии. Как вы знаете, Советы с аристократией не нянчились.
Перед взором Марины проявилась фотография, бережно хранящаяся в семейном архиве: особняк на холме, выпуклые угловые ризалиты, черепичная крыша, треугольный фронтон, купола круглых башенок. У крыльца – усатый молодой франт опирается на трость, свободной рукой касается полей шляпы…
– Ваша мама застала прежнюю школу?
– Скажу больше: она ее сносила. Помогала строителям с комсомольским отрядом. И первый свой урок провела в новеньком здании.
– В шестьдесят…
– Шестьдесят втором. Мама собирала материалы по истории Горшина. Я передала их в библиотеку. Если интересно, обратитесь к Любе.
Они дошли до середины западного крыла, и Ольга Викторовна объявила:
– Приготовьтесь. Ваше королевство.
Королевство пережило нашествие варваров. Ободранные стены, шкаф, словно выблевавший на пол папки. Классная доска прислонена к ржавым батареям. Марина заподозрила грешным делом, что помещение нарочно привели в такое состояние, чтобы испытать новенькую.
– Знаю, авгиевы конюшни. Но завуч заграбастала себе бывший кабинет Ахметовой, а вам ссудили давно заброшенный. Зато мы с вами соседи, будем пить кофе на большой перемене.
– Я не страшусь грязи, – заверила Марина, прикидывая, что у нее в запасе неделя на уборку. Можно управиться при желании.
– Костров командирует вам парочку старшеклассников, – Ольга Викторовна чихнула, разогнала рукой пыль, – обживайтесь, дорогая.
Костров (2)
После стольких лет брака Костров не разучился удивляться: за какие заслуги ему достался такой клад? Сокровище номер раз шинковало на кухне овощи. Сокровище номер два, уменьшенная копия первого, то ли уроки зубрило, то ли притворялось, посматривая каналы малолетних блогеров.
Директор школы подкрался к жене, окольцевал талию, ткнулся губами в душистые волосы. Люба была по-девичьи тоненькой, щемяще-хрупкой. Костров часто вспоминал, как сходил с ума от переживаний, когда она рожала дочь. Шесть часов ада. И курносый ангелочек в финале.
– Как пахнет хорошо…
– Врун. Нечему пахнуть, я только воду поставила.
– Ты – пахнешь.
Люба потерлась о его грудь.
– Меня есть нельзя, подожди плов.
– Жалко, что ли. Маленький кусочек.
Костров защелкал челюстью. Люба сунула ему в зубы морковную соломку. Он прожевал.
– Что нового? – спросила она, направляясь к печи.
– Новая учительница литературы. Крамер Марина… отчество сложное.
– Хорошенькая? – Люба подозрительно прищурилась.
– Я не педофил.
– А она несовершеннолетняя?
– Двадцать четыре года. Малявка.
– Мне было двадцать три, когда я пришла в школу. И чем все закончилось?
– Виновен. Был чересчур горяч.
Он хлопнул жену по упругой заднице, драпированной джинсами.
– Библиотекари – мой фетиш со школьной скамьи.
– Кобелина.
– Кто такой кобелина? – спросила Настя, вбегая на кухню, обхватывая отца так же, как минуту назад он обхватывал Любу.
Родители перемигнулись, прикусили улыбки.
– Кобелина – это итальянская фамилия, – сказал Костров, – Рикардо Кобелина, оперный певец.
– Опера – фу, – поморщилась Настя. Достала из холодильника упаковку яблочного сока.
Костров ловко выхватил сок у дочери и поменял на такой же тетрапак, взятый со стола.
– Гланды береги. Первое сентября на носу.
– Фу, теплый!
– Прекращай фукать, фуколка.
– Я не фуколка.
– А кто же?
– Куколка!
– А по-моему, ты – курочка, которую надо съесть.
Он поймал дочь, поднял к потолку и притворился, что кусает ей живот.
– Не курочка! Не курочка! – верещала Настя.
– Мать, открывай духовку, пока я ее держу!
– У нашего папы каннибальские замашки, – прокомментировала Люба.
Настя вырвалась, заливисто смеясь, побежала в комнату.
Костров пригубил ледяной сок из пакета.
– Стаканы для чего, дикарь?
– Так вкуснее.
Люба поставила на плиту казанок, налила масло.
– И где ты разместил эту нимфетку?
– Нимфетку? – засмеялся Костров. Он обожал чувство юмора жены. Юмором и изумрудами глаз покорила его Любочка Окунькова тринадцать лет назад. Как время летит… – Настя сегодня узнает много новых слов. А разместил я Марину Батьковну по соседству с Кузнецовой.
Люба охнула.
– В том свинарнике?
– Да прямо – свинарник!
– Прямо свинарник. И гадючник.
– А пускай молодые кадры привыкают к трудностям.
– Тогда уж посадил бы ее в подвал.
Ухмылка застыла на губах Кострова. Он вспомнил полумрак за желтой дверью, цементный пол, прихотливый рисунок… Вспомнил, как запекло в голове, пока он изучал стену. Как колыхнулось внутри что-то смутное, вязкое…
– А ты… – он поскоблил ногтем картон упаковки, – спускалась в школьный подвал?
Люба сбрасывала в масло колечки лука.
– Не спускалась. А что там?
«Лицо», – подумал Костров отстраненно.
– Ничего. Паутина и мыши.
– Мыши? Держи их подальше от моих книг.
Костров открыл было рот, но Настя крикнула из комнаты:
– Мам, пап! Вы обманщики. Я погуглила. Кобелина – это бабник, ловелас, ходок.
Костров согнулся пополам от хохота. Сжал тетрапак так, что сок брызнул из откупоренного горлышка и залил холодильник.
– Аккуратнее, – вытирая слезы смеха, сказала Люба.
Костров, довольно похрюкивая, потянулся за тряпкой.
Смех стал мотком колючей проволоки в гортани. Верхняя губа директора оттопырилась, оголяя десны – не будь Люба увлечена сейчас луком, она бы сказала, что прежде не замечала за супругом таких гримас.
Бурые струйки стекали по холодильнику, образовывая знакомый узор.
Лицо.
Нечестивый Лик.
Пардус
Рассвет ознаменовался барабанным боем. Гулкие удары разбудили жителей поселка. Они вскакивали с травяных циновок, перешептываясь, вслушиваясь, понимая то, чего не понимал чужестранец. Звук подхватывался, уносясь за пределы домишек, скучившихся у скал; просачивался в джунгли. Испуганные птицы спархивали с ветвей, голосили обезьяны. Огромные барабаны повторяли гласные и согласные, извещая о смерти вождя.
Молодой человек, явно не из этих краев, облачился в набедренную повязку и сандалии из бычьей кожи, повязал пояс, на котором висел короткий меч. Взор светло-карих, почти желтых глаз изучал входную дверь. Снаружи раздались шаги и приглушенные голоса. Пальцы пришлеца коснулись рукояти, искусно вырезанной из слоновой кости.
Дверь распахнулась, и на пороге возникло полдюжины воинов. Ассегаи, нацеленные на гостя, не предвещали ничего хорошего, как и хмурые лица. Чужак убрал руку с оружия и кротко улыбнулся.
– Выйдите! – потребовал один из брухаров. Молодой человек повиновался.
Солнце всходило над поселком кучерявых и коренастых людей. Ухмылялись маски, насаженные на колья забора. Ветерок трепал ленты, которыми был оплетен ритуальный столб, возвышавшийся в центре площади. Туда стекались жители. Чужак, высокий, гораздо выше любого здесь, видел поверх голов тело, лежащее у дома собраний. Грузный старик уставился в небо остекленевшими глазами. Чужак обернулся, и воины заворчали, кто-то толкнул в спину.
«Нужно было обойти стороной проклятую деревню», – мрачно подумал чужак.
Из дома собраний тем временем вышли двое, коротышка в пестрых одеждах и удивительной красоты женщина. Взор чужака скользнул по пышной груди, едва прикрытой легкой тканью, по эбонитовым бедрам и изящным щиколоткам. Чужак явился из глубины Черного континента, он вторую неделю пересекал страну Зубчатых гор, но не встречал столь красивых брухарок.
– Приветствую вас, – сказала женщина, властным жестом успокаивая толпу. Она говорила на большом языке, понятном пришлецу. – Сегодня ночью случилось ужасное. Ваш вождь и мой муж погиб. Враг заколол его, подло подкравшись сзади.
– Кто? Кто? – загомонила толпа.
– Ответ дадут кости.
Красавица отступила на шаг.
Коротышка – колдун – вынул из подсумка горсть отполированных костей. Забубнил неразборчиво. Брухары умолкли, ловя каждое движение. Колдун приплясывал, обходил по кругу убитого вождя, возносил молитвы богам. Чужак поерзал, ему наскучило представление. В родном городе – и еще больше за время странствий – он насмотрелся на всяческих заклинателей змей, повелителей дождя, факиров, глотающих огонь, и прочих шарлатанов. Не то чтобы он не верил в магию, напротив, но настоящие колдуны попадались редко в этих иссушенных солнцем краях.
Прерывая раздумья гостя, коротышка высыпал косточки на песок и преклонил перед ними колени, сосредоточился, точно читал письмена. Хитрое лицо просветлело, осененный коротышка вскочил. Чужак понял все прежде, чем слова сорвались с уст, взбудоражив толпу:
– Кости сказали мне, что вчера на закате в наш поселок забрел чужестранец.
– Так и есть! – воскликнул кто-то. Головы завертелись, взгляды уцепились за статную фигуру гостя. Ни единый мускул не дрогнул на его обветренном лице. Он смотрел открыто и приветливо, а люди, включая старуху, впустившую его в дом, и старика, угостившего лепешками, попятились.
– Кости сказали, что он убил вождя подлым ударом своего меча.
Воин со шрамом на щеке хлопнул древком ассегая по ребрам чужака, руки дернули за пояс, сорвали ножны, обезоружили. Подозреваемый не сопротивлялся.
Копьеносцы напирали с боков, а толпа расступилась, пропуская жену покойного вождя. Она приблизилась, грациозная и опасная. В чем в чем, а в опасностях чужак, отметивший двадцать третий день рождения, разбирался. Полные губы вдовы изогнула гримаса презрения. Темные и жестокие глаза ощупали плоский живот и грудные мышцы мужчины, покатые плечи, шрамы, зафиксировались на обвивающем шею шнурке.
– Как твое имя? – спросила она.
Чужак кашлянул и сказал миролюбиво:
– Пардус. А твое?
Толпа зароптала. Женщина улыбнулась холодно, глаза ее сверкнули.
– Элима. Жена Прунна, убиенного тобой.
– Это ложь, Элима.
– Кости не врут, – воскликнул колдун, притоптывающий рядом, и ткнул в Пардуса пальцем, – не врут, мерзавец!
– Откуда ты? – мягко спросила Элима.
– С юга. Из страны мбоке, из города, именуемого Тельхин.
Элима изучала прямые и жесткие волосы чужака, тонкие черты лица, присущие скорее белому человеку, чем жителю Юга. Висящий на шнурке камень, рубин размером с голубиное яйцо, отразился в зрачках женщины.
– Ты не похож на мбоке, – задумчиво сказала Элима.
– А ты не похожа на скорбящую вдову, – парировал Пардус.
Колдун замахнулся:
– Да как ты!..
– Постой, – усмирила его Элима. – Как зовут твоего отца, мбоке Пардус?
– Я не помню его имени, – небрежно проговорил чужак.
Брухары охнули. А Элима, скрестив руки под впечатляющей грудью, заключила:
– Мбоке Пардус, забывший имя отца. Ты пришел в наш поселок, ел нашу пищу и пил наше вино. В благодарность за оказанное гостеприимство ты убил нашего вождя. Тебе нет прощения. Уведите его, а мы подумаем, как наказать злодея.
Последняя фраза адресовалась страже. Ассегай кольнул в ребра. Брухары повели Пардуса через поселок, к бамбуковой клети, стоявшей на окраине. Чумазые детишки наблюдали за процессией, теснясь к хижинам. Завидев пятна свернувшейся крови на прутьях, Пардус хмыкнул. Не такими милыми оказались жители Зубчатых гор, как он представлял.
Клеть была просторной. Пардус уселся поудобнее и стал ждать. Ждать пришлось долго. Солнце палило, жгло макушку. Стража не реагировала на просьбы утолить жажду. Далеко за полдень его навестила Элима. Принесла воду. Он жадно опустошил кувшин, вытер рот и долго смотрел на вдову сквозь прутья.
– А ты та еще змея, не так ли?
– Побереги язык, – предупредила Элима и покосилась в сторону. Стража отдыхала поодаль, их никто не слышал, и женщина словно сбросила маску.
– Ты говоришь с будущим вождем племени.
– Не сомневаюсь, – улыбнулся Пардус. – Странно, что ты заколола старика лишь теперь. Неужели в поселке так редко появляются чужестранцы, которых можно обвинить в собственных преступлениях?
– Не твоего ума дело, безродный пес.
Элима прищурилась. Она не сводила глаз с рубина; Пардус – с ее бюста.
– Скажи лучше, откуда у бродяги этот камень? Украл, зарезав еще одного невиновного человека?
Пардус накрыл ладонью рубин.
– Наследство. Все, что осталось от матери.
– Надеюсь, ты не будешь против, если я заберу его.
– О, боюсь, что буду.
– Трупу ни к чему побрякушки. И богенге они безразличны.
– Богенге?
Мышцы Пардуса напряглись.
– Тебе они знакомы? – усмехнулась Элима.
– Люди-леопарды, – сказал Пардус.
Он вспомнил все, что слышал о богенге, байки, пересказываемые шепотом у костра, щекочущие нервы. Племя, не строящее домов, не охотящееся на зверей, не удящее рыбу, не возделывающее поля. Тайный клан, жестокие убийцы и каннибалы, поклоняющиеся чудовищному богу Зиверу. Говорили, что при посвящении в богенге ученик обязан убить своих родителей и съесть их плоть. Говорили, что у них нет теней, и лучше столкнуться на лесной тропе с настоящим леопардом, чем с богенге.
– Верно, умник, – подтвердила Элима. – Мой народ добр и не желает проливать кровь даже после того, что ты сделал. Мы отдадим тебя богенге. И пусть боги смочат твои губы в пустыне за мирами.
– Рад был встрече, красавица, – сказал Пардус в спину удаляющейся вдове.
Не впервые Пардуса из Тельхина обвиняли в том, чего он не совершал. Разморенный жарой, он задремал и увидел кошмар: растерзанное тело на мраморных плитах дворца, тело своей матери. И себя, стенающего над убитой, и отчима, вбегающего в покои со взводом лучников.
Его скормили бы шакалам, но сводная сестра усыпила конвоиров бульоном из сон-травы, помогла покинуть Тельхин. У высоких стен столицы они занялись любовью и попрощались навсегда. Пардус, принц мбоке, ушел на север, чтобы найти истинного убийцу королевы. Чтобы найти своего отца.
Смеркалось, когда пленника разбудила стража. Сорвала с шеи камень – он почувствовал, как внутри шевельнулся зверь, но ничего не предпринял. Рано.
Барабаны скорбели о смерти вождя, а колдун брухаров отправился к скалам и дул в витой рог, пока из сгущающихся сумерек ему не ответили.
Стража сопровождала Пардуса к узкому ущелью, в котором не разминулись бы два человека. Словно бог-кузнец Ярхо проверял остроту лезвия и рубанул по скале клинком, рассек ее надвое.
Ассегаи заставили шагнуть в проем.
– А вы – приятные парни, – сказал Пардус и пошел по ущелью. Иногда приходилось перелезать через валуны, иногда – продираться ползком. Стены то соединялись, то размыкались. Меж скал мерцала полная луна, освещала дорогу. Хороший знак. Мать говорила, что предки Пардуса спустились с луны. Что там у них хоромы, изготовленные из сияющего лунного гранита.
Впереди чернела чащоба.
Он вынырнул из ущелья. Переплетенные ветви преграждали путь. Лес шумел угрожающе, а за стволами юркали тени.
Никто в здравом уме не стал бы оказывать сопротивление людям-леопардам. Лучше погибнуть от их рук, чем прогневать Зивера, покровителя богенге. Неприкасаемые, сыны Зивера блуждали по саваннам, изредка забредая в города. Забирали детей. Матери плакали, заламывая руки, и ничего не могли поделать.
Безоружный человек вглядывался в темноту и видел, как отслаиваются от нее три фигуры, как плывут, словно призраки.
«Они не призраки! – отрезал Пардус. – У них есть зубы, значит, есть и плоть!»
Богенге, храня молчание, крались с трех сторон. Он уже различал пятнистые от татуировок тела, накидки из шкур леопардов. В темноте проступали уродливые деревянные маски, круглые глазища, выпяченные пасти. На кулаки убийц были насажены кастеты, так что между пальцев торчали кривые ножи, имитирующие когти хищной кошки.
Пардус прижался к скале. Загнанный в угол, он сбросил с себя набедренную повязку и наготой встречал каннибалов. Пардус улыбался. А в груди распрямлялся зверь. Как рука входит в перчатку, так зверь, вырастая, заполнял Пардуса, присваивал его конечности, его разум, подчинял мышцы.
Богенге застыли, переглянулись.
Что-то было не так с их жертвой. Привыкшие с легкостью забирать причитающееся, они таращились сквозь прорези в масках на свой обед, а обед менялся.
Пардус упал на четвереньки, его голова скукоживалась, разъединившиеся пластины черепа терлись друг о друга, уменьшался мозг. Растопыренные пальцы втягивались, кости выворачивались наизнанку. Внизу хребта пульсировало, выпирало сквозь обрастающую шерстью кожу. От позвоночника отпочковался хвост. Все это чудесное превращение заняло секунды. Миг, и на месте человека – готовый к прыжку зверь.
Желтые кошачьи глаза блеснули, и язык облизал клыки.
Пардус хотел жрать.
Один из богенге рухнул на колени. Запричитал. Пардус прыгнул, лапа сорвала маску. Лицо под ней было выкрашено кровью. Пардус добавил еще красного, вспоров глотку каннибалу, порвав трахею. Труп повалился в листву.
Прыжок. Когти впились в спину улепетывающему богенге. Располосовали до желтого жира. Клыки погрузились в загривок. Сколько лун принц не перевоплощался? Десять? Двенадцать? Он был голоден. Он утолял жажду.
Прыжок. Стальной кастет пырнул в бок, но зверь уклонился, походя скальпировав врага. Клыки вскрыли податливое брюхо, в пасть хлынуло горячее. Богенге кричал и дергался на моховой подушке, потом обмяк, и джунгли почтительно стихли.
Луна озарила кровавую сцену. Три трупа и пирующего леопарда. Самый опасный хищник джунглей, Пардус, сын лунного людоеда, трапезничал. Кровь была необходима, чтобы вернуть человечье обличье.
Звезда Гиены взошла на небосводе, а окровавленный и сытый молодой Пардус выпрямился, хрустя суставами. Между зубов застряли волокна кожи, желудок был набит мясом. Миновала вечность с тех пор, как он перестал ужасаться последствиям обращения. Стесняться своей сути.
Мать и сводная сестра были единственными, кто знали его тайну и не отшатнулись в ужасе. А теперь одна мертва, а другая потеряна навсегда.
– Извините, что съел вас, – сказал Пардус поверженным богенге и вошел обратно в ущелье.
Камень был не просто подарком матери. В нем заключалась сила, оберегающая от нежелательного превращения. Камень подавлял зверя и загонял в темные уголки души.
Дежурившие под сенью эувфорбии стражи воздели ассегаи, но, заметив шкуру леопарда, свисающую с плеч, и клыкастую маску, кинулись бежать.
Пардус зашагал по поселку. К дому с островерхой крышей, выделяющемуся среди хижин.
Стражники скорчились в пыли, ужас перед богенге парализовал их. Колдун закрыл голову руками и хныкал бессильно. Не одарив его вниманием, Пардус вошел в дом вождя.
Обнаженная Элима возлегала на львиных шкурах. Взор Пардуса алчно ощупал чуть раздвинутые ноги и треугольник курчавых волос, шоколадные соски и рубин в ложбинке.
– Просыпайся, вдова.
Элима распахнула глаза, изумленно вскрикнула. Качнулись грушевидной формы груди. Коротким тычком Пардус заставил ее вновь лечь. Уселся рядом, откровенно любуясь наготой.
– Ты, ты…
Она заикалась.
– Я пришел за своим рубином.
Пардус стащил шнурок с теплой шеи и стиснул камень в кулаке.
– Ты убил их? Убил людей-леопардов?
– Увы, это так. И я убью каждого, кто окажется на моем пути. А теперь позволь мне…
Свободная рука опустилась между бедер Элимы.
Чуть позже она спросила, поглаживая его по животу, дивясь размерам того, что сводная сестра называла рогом бога-проказника:
– Хочешь остаться? Править вместе со мной?
– И быть однажды убитым ударом в спину? – Он засмеялся, вставая. За окнами брезжил рассвет.
– Прощай, мбоке Пардус, забывший имя отца.
– Прощай, змея.
Он покинул поселок и устремился на север, в обход скал. Рубин сверкал, указывая дорогу. Внутри спал зверь, насытившийся леопард.
А на лесной поляне что-то черное и огромное склонилось к трупам богенге, обнюхало их, и взвыло, и бросилось сквозь чащу за убийцей своих сыновей.
Бог Зивер шел по пятам Пардуса.
Паша (2)
Паша забрался на диван и изучал книжные полки. Трансформеры, штурмовики и пластиковый Грут охраняли библиотеку. Нужный том маскировала грамота: школа вручила ее за участие в олимпиаде по химии. Самотин тогда занял почетное третье место. Выходит, естественнонаучные дисциплины принесли ему больше, чем литература.
Паша сдул пыль с книги. На обложке скалил зубы Веселый Роджер, скрещивались абордажные сабли. «Золотой век пиратства». Про пиратов он давно мечтал написать…
Сочинять истории он начал в третьем классе. Устные новеллы, фантастические боевики, в которых храбрые агенты межгалактической полиции сжигали бластерами злобных сатурнианских роботов. Он рассказывал их папе. Папа хвалил, но сейчас Паша понимал, что битвы с армией диктатора Горгона проходили мимо папиных ушей.
В седьмом классе, под впечатлением от «Ведьмака», он напечатал на компьютере первый рассказ. Персонажи перекочевали из космоса в мир меча и магии.
Он мечтал прославиться как автор фэнтези. Как Сапковский. Взрослые быстро развеяли иллюзии.
– Это не приносит денег, – сказал папа. – Фантастов – пруд пруди. Чтобы опубликоваться, нужен блат.
Мама советовала заниматься учебой, а «свои сказки» писать на каникулах.
Ахметова, учительница литературы, усмехнулась, прознав про амбиции Самотина.
– Ты парень неглупый, но, при всем уважении к твоей маме, не вундеркинд. Давай тебе исполнится восемнадцать, и тогда уж решишь, кем хочешь стать.
Пробы пера, конечно, были детской ерундой. Но этим летом Самотин сочинил пару историй… ему казалось, годных. В Сапковские он, поумневший, больше не метил, но и бросать творчество не желал.
Спальню огласила мелодия из «Звездных войн».
Паша подхватил телефон.
– Чего тебе?
– Бог Зивер шел по пятам Пардуса? Шел по пятам Пардуса?
Руд гневно кричал в ухо.
– И что?
– Где финал, Самотин?
– Это и есть финал.
– Это преступление против читателя! Против меня лично! Я-то ждал, что Пардус найдет настоящего отца, отомстит за мать, а ты, мало того что не развил сюжет, так еще оборвал на самом интересном!
– Не понравилось? – Паша учился воспринимать критику без обид.
– Да естественно, понравилось! Желтый жир! Кровь! Голая Элима! А на фига ты приделал ей волосатый лобок? Пусть будет эпиляция. Так круче.
– Сомневаюсь, что в те времена женщины делали эпиляцию.
– А на что похож этот Зивер?
– Понятия не имею.
– Может, на носорога с десятью рогами?
– Может, – улыбнулся Паша.
– Я нарисую комикс про Пардуса.
– Ты же не умеешь рисовать.
– Ну, найму художника.
– За какие шиши?
– Самотин! Хорош ныть! Ты – гений! Через тройку годков я буду продавать на аукционе твои каракули. И напишу книгу «Как я с известным писателем срал за супермаркетом». А что такое, – Руд зашелестел бумагой, – «э-ув-форбия»?
– Какое-то растение. Я взял слово из книжки про Африку.
– Кайф. Переедешь в Москву… я буду наведываться в гости.
– Руд, – охладил Паша пыл друга, – сколько в Горшине было знаменитых жильцов?
– Хэ-зэ. Восемь?
– Ноль.
– Реально?
– Загугли.
– Гуглю… – На другом конце города застучали клавиши. – Так-так-так. Ноль, говоришь? А писатель Алексей Толстой? Между прочим, автор «Золотого ключика».
– Гонишь.
– Лови пруфы. В сороковом году А. Н. Толстой проездом побывал в Горшине.
– Ну да, считай земляк.
– И Ленин Владимир Ильич!
– Родился в Горшине?
– Горячо! Зимой двадцать первого охотился в окрестных лесах. До села добрался на санной подводе.
– Это все великие горшинцы?
– Пока все.
Паша, с мобильным у виска, подошел к окну. Приподнял занавеску. За штакетником мелькнула тень.
– Мне надо бежать.
– Пиши продолжение! Были случаи, чтобы триквел оказался лучше оригинала?
– «Пятница, 13-е».
– Если что, я буду твоим агентом. Бывай.
– Бывай. – Паша чиркнул по дисплею и опрометью бросился в коридор. На заднем дворе он сбавил шаг. Пригнулся, юркнул в тень ореха. Сел и прижался лицом к забору.
Сквозь штакетины он видел территорию вахтерши. Видел негритяночку, развешивающую мокрые простыни.
Племянница бабы Тамары была в белой футболке и шлепанцах. Привстала на цыпочки, чтобы достать до перекладины, – мышцы напряглись. Бедра крепкие, смуглые.
Все лето Паша бесстыдно фантазировал на тему соседки. Запершись в ванной, представлял, как знакомится с ней, и она говорит томно: «Умираю от скуки в этой дыре. Не хочешь заняться чем-нибудь типа секса?»
В реальности негритяночка лишь сдержанно кивала в ответ на его приветствия. Мама сказала, ее отчислили из института за прогулы. Значит, ей как минимум восемнадцать. Шансы равны нулю.
Девушка наклонилась к корзине. Подол задрался, на миг оголив серебристые плавки, круглые ягодицы и кусочек незагорелой плоти.
Паша мысленно застонал.
Был бы он Пардусом, принцем из Тельхина! С развитой мускулатурой, покатыми плечами, в шрамах по всему телу. Такому, самоуверенному, немногословному, негритяночка не отказала бы. Потом, утомленная после ночи любви, еще бы и предложила:
– Оставайся и правь со мной.
А Паша расхохотался бы и ушел в рассвет, сражаться с чудовищами и старыми богами.
Но он не был Пардусом, а Горшин не был страной Зубчатых гор.
Развесив белье, негритяночка пошлепала в дом.
Паша вернулся к своим пиратам, думая о необитаемых островах и темнокожих красотках.
Марина (2)
Горшин не разочаровал Марину лишь потому, что она заранее не очаровывалась. Хмельные гусары орали благим матом у шашлычной. Подворотни пованивали мочой. Окно общежития выходило на стройку, где за фанерной оградой бухтел экскаватор и вяло копошился подъемный кран с горделивой надписью на стреле «Ивановец».
«Могло быть хуже», – сказала себе Марина.
По крайней мере, здесь было зелено, и до грибного леса – рукой подать. Как давно она собирала с дедушкой маслята и лисички? Очень давно.
Гордое звание «город» провинция носила лет эдак пятнадцать. Ярлык «сонный городишко» клеился к Горшину легко, как вырвиглаз-вывески клеились к автовокзалу. Они вопили приезжим: «Трикотаж»! «Люстры!» «Золото!» – и как бы предупреждали, что делать тут нечего, лучше катите себе дальше в Москву.
Семнадцать тысяч населения – больше, чем в Судогде!
Серая коробка общежития примостилась в середке, около вокзала, заправки и мастерских. Федеральная трасса делила Горшин пополам. На севере – микрорайон Стекляшка, на юге – хрущевки и частный сектор, окрестные села, сосновый бор.
Во вторник Марина решила изучить город. Надела шорты и футболку, смоляные волосы завязала резинкой. Вечер был теплый, совсем июльский, но паутина, парящая в воздухе, предсказывала скорую осень.
Переселяться помог дед. Арендовал у товарища грузовик, притаранил из Судогды внучкины книги, одежду, косметику.
– Для учительницы внешность – превыше всего! – говорил.
Бабушка встревала:
– Маринка и без грима хороша!
– Хороша-хороша, но про помаду нельзя забывать.
Возле рынка причитала попрошайка, лаяли дворняги, ссорясь за беляш. Марина делала мысленные пометки: супермаркет «Центральный» (а в нем «Бургер-Кинг!»), салон красоты «Гламур», «Сотофон», магазин «Рыболов» – чем черт не шутит. Она-то, конечно, тоже выросла в дыре, но пять лет студенческой жизни развратили, избаловали…
Тянуло то к маме, то к владимирским друзьям в клуб, то вообще в объятия к…
«К тому, чьего имени нельзя произносить», – погасила она порыв.
Асфальтную жилу трассы окаймлял уродливый бетонный забор, пьяно кренящийся секциями, измаранный граффити. К Стекляшке вел пешеходный мост.
Вместо обшарпанных хрущевок тут тонули в яблонях симпатичные высотки кофейного цвета. Нарядные дворы, детские площадки, пиццерия и даже кинотеатр. А вон, за елками и березовой рощицей, школа № 2. Поменьше старшей коллеги, но и повеселее.
Марина полагала, что для полноценной реализации талантов не обязательно оседать в мегаполисе. А друзья чуть ли не поминки устроили, узнав про Горшин.
«Про Горшин… как „прогоркло“», – отметила она.
Марина нахваталась разного от родни: у бабушки позаимствовала упертый характер, боевой нрав, у мамы – прилежность в учебе, усидчивость. Но не стала, как мама, книжницей-отшельницей. Отличные оценки совмещала с бесшабашными (и безбашенными) вечеринками. Благо дед одолжил важное умение хорошо отдохнуть, поработав. От отца, давно эмигрировавшего, она унаследовала только фамилию, отчество и цвет волос.
И так чересчур много.
Горшин заканчивался нефункционирующей военной академией и функционирующей воинской частью – здесь, сказала Кузнецова, располагалась гвардейская бригада специального назначения.
Уютной Стекляшке учительница поставила пятерку.
По тенистой аллейке вернулась к мосту, перешла дорогу. Южная половина города состояла из серых и белых пятиэтажных зданий, бледно-голубых – трехэтажных. Центральный проспект – Советский – подпирали гривастые клены. Первые этажи домов традиционно отводились под магазины: мебельный, цветочный, обувной, продуктовый. Росгосстрах и Сбербанк, «Дикси» в модерновой шкатулке.
Возле аптеки рухнула черемуха, выдрав из почвы осьминога корневища. Ствол оседлали подростки. При виде Марины они захихикали, засвистели.
– Эй, заблудилась?
«А вдруг – мои ученики?»
Не одарив их вниманием, Марина с достоинством продефилировала мимо.
От мемориала героям войны тропинка петляла на холм, к школе. Марина взяла левее, смело штурмуя терра инкогнита.
Днем она присутствовала на своем дебютном педсовете. Обсуждался учебный план, аттестация. В учительской – пятнадцать педагогов. На дюжину женщин – двое мужчин. Приятно, что есть и молодые барышни (информатика, биология тире экология, музыка). Коллектив вроде дружный, приветливый. Марина незаметно чиркала в телефон: «Лар. Сер. Самотина – математика. Ант. Пав. Прокопьев – ИЗО. Алек. Мих. Аполлонова – англ. яз.».
Позабавила пожилая учительница физики (ее имя Марина не запомнила). Старушка весила добрый центнер, на совет пришла с Библией под мышкой, и в основном клевала носом, пробуждаясь иногда от громких шутливых комментариев Прокопьева или Кузнецовой.
Завуч, кругленькая и сдобная женщина по фамилии Каракуц, познакомила коллектив с новенькой. Марине долго аплодировали, растрогав, велели быть гордостью школы.
Элегантный Костров поручил Крамер шефство над седьмым классом, осиротевшим после ухода Ахметовой.
– Что ж вы, ироды, – сказал худощавый, бородка клинышком, Прокопьев, вылитый художник, – человек к вам пришел, а вы его сразу – в пасть Тухватуллину?
Тухватуллина уже упоминала Ольга Викторовна. Притча во языцех. Любопытно…
– Зубы сломает ваш Тухватуллин, – подбодрила Кузнецова, а Костров сказал в кулуарах:
– В седьмом моя дочка учится. Так что я вам самое дорогое доверил.
Над частным сектором курсировали облака. Грязно-рыжий трубопровод обгадили голуби. За штакетником звенели цепями псы, орали телевизоры, и, как ни старалась, Марина не смогла представить Горшин времен своей прабабки. С бричками, подводами, винокурней…
Не преподнеся сюрпризов, город закончился промышленными зданиями. Синяя громада – рыбокомбинат. Рядом мебельная фабрика и закрывшийся велосипедный завод.
Речку, расхваленную Кузнецовой, Марина прозевала. Ничего, найдет в следующий раз.
Городки вроде Горшина имели преимущество. Здесь проще начинать с нуля. Не только работать. Строить отношения тоже. Останься она во Владимире, уже трижды простила бы того, чье имя нельзя называть. Он вчера написал ей на электронку письмо – в соцсетях он был забанен навечно. Скучаю, помню, сожалею…
– Все пройдет, как с белых яблонь дым, – процитировала Марина.
По дороге в общагу заскочила на рынок и купила свежего леща. К вину, отметить классное руководство.
Тамара (1)
В ночь на двадцать восьмое августа у шестидесятилетней Тамары Яшиной из груди пошло молоко. Спросонку она испугалась, что кровь. Мало ли, рак. Ее мать умерла от рака.
Она стянула сорочку и обнаружила белесую влагу, струящуюся по ребрам. На цыпочках, чтобы не разбудить племянницу, выскочила в ванную, над раковиной помассировала грудь. Привычная дряблость сменилась забытой полнотой, приятной тяжестью. Ареолы покрыли капли молозива. Сердце норовило выпрыгнуть через горло. Тамара надавила сильнее, и жирное, как сливки, молочко потекло вниз, образуя на животе четкий рисунок.
Лицо со впадиной пупка вместо рта.
Она, конечно, ошиблась, обозвав Лицо «нечестивым». Начиталась макулатуры, наслушалась попов. Вот и ляпнула, что взбрело в пустую башку, а Игнатьич рассвистелся. Да и страшным оно казалось поначалу. Если от Господа, то почему под землей, почему из канализационной воды, а не из родниковой?
Потому, старая ты кошелка, что пути Господни неисповедимы. Из сора, из плевел явится святость, как чистейшее молоко из старушечьего вымени.
Белое, радостное, приливало, будоража эмоции, давно высеянные из памяти.
Снова спустившись к Лицу – она не знала зачем – Тамара увидела совсем иное.
Мудрость. Доброту. Всепрощение.
Хотелось свернуться клубочком, и спать на холодном полу, и смаковать яркие сны.
Но нужна ли какая-то там вахтерша Богу? Не противно ли ему ее присутствие?
Оказалось, не противно.
Копия Лица двигалась по ее морщинистому животу – потоки молока имитировали движение. Лицо нашло в зеркале ее горящие глаза и позвало.
Тамара наспех оделась. Племянница, допоздна игравшая в телефоне, крепко спала. Напихав под лифчик салфеток, Тамара бежала ночными улицами, и луна напоминала сочащийся молоком сосок.
Млечные соки омывали холм и школу. Трава из зеленой превратилась в белую, окна мерцали, как серебряные пластины.
Тамара вынула из кармана огромную связку ключей.
Грудь была теплой, словно пара угревшихся за пазухой кошек.
Учителя и школьники, когда замечали вахтершу, называли просто: баба Тамара. Реже – тетя Тамара. По имени-отчеству обращался только Костров, и ее душа таяла. Даже когда отчитывал. Племянница Лиля говорила: «Теть-Том», почти «Тетом», одним выдохом.
Но был на свете человек, который давно-давно звал ее Звездочкой. Так нежно, что можно умереть от счастья.
В Горшине никто бы не догадался: невзрачная баба Тамара когда-то сводила мужчин с ума. По крайней мере одного, самого красивого. Она тоже была красивой: худенькой, дерзкой. Звездочка с острыми лучами.
Она жила в деревне под Самарой. Гришу ее родители на дух не переносили. Выпивоха, бабник, картежник. Что они смыслили! В Гришиных объятиях Тамара плавилась восковым столбиком. В его глазах была королевой. Солома жалила голую спину – она не чувствовала ничего, кроме мужских рук, губ, мужского естества.
Грише доверяла беззаветно. Сразу согласилась поехать с ним в город, пойти к магазину ночью. Плевое дельце – она смотрит, чтоб дружинники не нагрянули, Гриша вскрывает кассу. Пока деньги отлеживались под ее матрасом, как Гриша учил, экспроприировали самогонщицу.
Гриша привез аметистовые бусы. Давал ей вино изо рта в рот. Она мечтала о детях.
Караулила во дворе дачи – даже не знала чьей. Достаточно Гришиных слов: «Зажиточные, в Пицунде сейчас отдыхают».
Звездочка улыбалась, накручивала на палец локон. В доме вскрикнули коротко – женский голос. Потом заплакал ребенок. Потом все утихло, и Гриша вышел на крыльцо, пьяно пошатываясь, утирая пот. С зажатого в кулаке сапожного шила капала кровь.
– Худо, – промолвил он, – ой, худо, Звездочка.
В газетах написали, он зарезал двоих. Хозяйку и трехлетнего мальчонку. Его арестовали по горячим следам. Про сообщницу не прознали. Гришу поставили к стенке.
Тамаре снился расстрел. Снились захлебывающиеся кровью жертвы.
Она покинула село и проделала долгий путь, чтобы забыть случившееся.
За страшный грех Бог наложил печати на ее чрево, и племянница – точнее, внучатая племянница – была единственной отрадой пожилой женщины.
А сегодня Бог сказал ей: «Прощена».
Пустил молоко.
Лунное сияние проникало в окна, лакировало школьный паркет. Кишка предбанника… засов… двенадцать ступенек и выключатель.
В подвале пахло, как в церкви.
Бог смотрел со стены.
Как же она могла, как? Огульно… на святое…
– Я пришла, Отче.
Тамара читала где-то: образ Девы Марии проявился на скале в Мексике. Паломники молились чуду.
Но фреска под школой не желала огласки… пока.
Лицо улыбалось Тамаре, и в нем угадывались черты Гриши. Хотя оно не было Гришиным.
Просто Бог – это любовь.
Тамара стащила кофту и лифчик. Грудь увеличилась на два размера – до той полноты, которую баюкал Гриша в ласковых ладонях. Отечная, блестящая, в переплетении голубых вен. Тамара ощупала себя и обнаружила комки под кожей. Подушечками пальцев протряхнула уплотнения.
Грудь болела. Фонтанировала молоком.
– Покорми меня, Звездочка, – прошелестел голос где-то за переносицей.
Меж нарисованных губ Лица зияла впадина, дефект, дырочка в бетоне. Была ли она вчера? Не важно.
Омываемая любовью высшего существа, Тамара подошла вплотную к стене и аккуратно всунула сосок в отверстие. Глаза ее при этом смотрели в глаза Бога.
Душа воспарила. Лицо принялось сосать.
Марина (3)
Расправившись со шторами, Марина долго глотала минералку из бутыли. Теплый ветер дул в распахнутые окна, шевелил тюль. Колени подгибались от усталости, но настроение было превосходным. Подвиг Геракла зачтен. Конюшни расчищены.
Кабинет – ее личный кабинет! – благоухал полиролем и освежителем. Запах ремонта практически выветрился. Завхоз приволокла три банки голубой краски. Остальное Марина купила за свои кровные. Сама орудовала валиком и кистью, сама покрывала лаком мебель. Идущие мимо школы дети могли видеть взгромоздившуюся на подоконник девушку, в процессе работы подпевающую Робби Уильямсу.
За седьмым классом числилось двадцать шесть стульев, тринадцать парт, учительский стол, доска и допотопный, частично отреставрированный по урокам из ютуба, шкаф. Макулатуру, набивавшую ящики, помогли выносить пригнанные Костровым одиннадцатиклассники. Книги по марксизму-ленинизму, собрание сочинений Иосифа Сталина в тринадцати томах, пятнистые слипшиеся методички (ничего не выбрасывать! – хлопотала завхоз).
Из бывшего кабинета Ахметовой переселились классики. Шолохов, Толстой, Маяковский. Их портреты заняли место над дверью.
Мелом Марина написала на доске: «Крамер – ты лучшая!» Пририсовала сердечко. Снаружи раздались шаги – Марина быстро вытерла тряпкой самовосхваление.
В кабинет вошла блондинка лет тридцати пяти. Раньше они не встречались.
– Тук-тук-тук. Здесь снимают передачу «Квартирный вопрос»?
– Уже сняли. Бюджетный выпуск.
Марина отряхнула ладони и пожала протянутую руку.
Блондинка присвистнула, оглядываясь:
– Да ты – волшебница.
– Только учусь, – польщенно ответила Марина.
– Я, как узнала, куда тебя квартировали, Кострова чуть не прибила.
– Он тут ни при чем.
– Уж поверь мне, он везде при чем. Я тринадцать лет с ним живу.
– О, так вы…
– Прошу, не надо «выкать». Кострова. Просто Люба.
– Марина.
У директора был отменный вкус на женщин. Библиотекарь обладала восхитительными зелеными глазами и гладкой кожей – Марина, оббегавшая десяток дерматологов, позавидовала.
– Как тебе у нас?
– Хорошо. Тихо, спокойно.
– Это поправимо. Детей меньше, чем в городских школах, сто семьдесят штук, но зато таких штук, что мало не будет. – Люба потрогала ткань штор. – Красивые. За свой счет брала?
– Да они дешевые.
– Малых потряси, пусть возмещают. Не затоскуешь в Горшине-то?
– Я из Судогды.
Библиотекарь изумилась:
– Это где?
– Владимирская область.
– Ясно. Привыкшая, значит, к тмутараканям. Кто у тебя на родине остался?
– Мама, дедушка с бабушкой.
– Жениха нет?
– Не-а.
Марина отмахнулась от образа того, чье имя нельзя называть.
– Плохо. У нас дефицит женихов. Или пьяницы, или лентяи. Был один, но я его… – Люба показала безымянный палец с кольцом.
«Неужели, – подумала Марина, – предупреждает, мол, мое, не трогай?»
Так она и не претендовала.
– Я теперь классный руководитель у вашей дочери.
– У чьей дочери? – шутливо насупилась Люба.
– У твоей то есть.
– Так-то. Да, у Насти. Она про тебя расспрашивает папу. Ты ей понравишься. Ты – модная.
– Модная, – прыснула Марина, облаченная – ремонт же! – в рваные джинсы и вылинявшую рубаху.
– Марина… как отчество?
– Фаликовна.
– Ой-е. – Люба прикрыла глаза пятерней.
– Что такое?
– Кто ж с экзотическими отчествами в педагоги идет?
– Намучаюсь? – улыбнулась Люба.
– Этим зубастикам только дай за что-нибудь уцепиться. Первое, что услышишь: «Как-как? Шариковна?» Так и прилипнет. Не реши, что каркаю…
Марине, свыкшейся с крестом отчества, было не обидно, а смешно.
– Ну я еще и Крамер. Может, они фамилию предпочтут исковеркать.
– А что, – прищурилась Люба, – может быть.
– Костровым легко рассуждать на такие темы. К Костровым не придерешься.
– А к Окуньковым?
– Это кто?
– Это я. Девичья фамилия. С ней я в библиотеку пришла и до сих пор хожу Окунем. Раньше думала, вот выпустится класс, новенькие про Окуня не узнают. Ага. Мне кажется, им в школе сразу говорят: «Эй, парень! Кострова-то – Окунь».
Марина смеялась, слушая слезливую тираду.
– А у других клички есть?
– Записывай. Костров – Борода. Кузнецова – понятно – Кузя. Каракуц – Каракурт. Англичанка, Александра Михайловна Аполлонова – уж до чего красиво и звучно, в честь покровителя искусств. А ее Половником дразнят.
– И ничего нельзя поделать?
– Пиши жалобы в районо.
Они болтали полчаса, оглашая смехом пустой этаж. Покосившись на часы, Люба встрепенулась:
– Я совсем забыла, зачем к тебе пришла. Идем!
– Куда?
– Как куда? Получать учебники и пособия.
Костров (3)
Спросонья никак не удавалось сообразить, что поменялось в комнате. Костров моргал и перетаптывался на месте. Мочевой пузырь, поднявший из постели посреди ночи, продолжал сигналить.
Директор помассировал веки.
Глаза привыкали к полумраку. Торчащий за окном фонарь нанес на предметы золотистое напыление.
Что-то не так.
Костров пошарил рукой по щекам, окончательно просыпаясь.
Осознание шибануло в солнечное сплетение – словно многотонный шар на стреле самоходного крана ударил по демонтируемому зданию. Вечером они с Настей видели такую штуковину в выпуске «Ну, погоди!».
Мебель увеличилась в размерах. Спинка стула теперь доходила до его макушки, а столешница упиралась в подбородок. Постель, только что покинутая, взмыла на уровень двухэтажной кровати. Кровать с двумя ярусами была у Насти – Люба возмущалась, зачем она дочери, но Настя любила спать то внизу, то вверху, под настроение, а Костров продолжал мечтать о втором ребенке.
В боку закололо.
Глаз фонаря таращился через стекло.
Костров попятился – что-то двинулось над головой. Гладильная доска. Он прошел под ней, как под аркой. В мгновение мебель вымахала еще сильнее. Край простыни, свисающий с кровати, напоминал белое знамя. Чтобы вскарабкаться на стул, потребовалась бы дополнительная табуретка. Столешница парила, подпираемая толстенными колоннами ножек.
Абсурд происходящего не поддавался анализу. Липкий пот выступил на спине.
Выросла не только мебель. Комната, на чью тесноту постоянно жаловались Костровы, приобрела масштабы бального зала в каком-нибудь дворце. Потолок едва угадывался. В вышине мерцала искусственным хрусталем люстра. Окна с рамами расширились и удлинились – сам Тиль вышел бы через форточку, не пригибаясь… если бы сумел забраться на Джомолунгму подоконника.
Босые пятки тонули в ворсе ковра.
«Где я?»
Ответом был скрип огромных пружин. Там, в поднебесье, великанша устраивалась поудобнее на своем великанском ложе.
Люба…
Пяти- или шестиметровая…
Вот сейчас из-за края кровати выползет луна ее головы и гигантский рот спросит, почему муж не спит.
Но пружины утихомирились.
А комната подросла.
Или… или это он уменьшился… как в старой американской комедии…
Оглянувшись, Костров увидел, что пространство под кроватью – щель между полом и бордовой драпировкой днища – увеличилось до размеров подземного гаража. Серые холмы спрессованной пыли вырисовывались в темноте. Тускло поблескивала чайная ложка – килограммы латуни – вероятно, Настя когда-то уронила ее под кровать.
При мысли о дочери дыхание перехватило.
Мозг предоставил сюрреалистическую картинку: Настя поднимает отца в воздух и целует в живот гигантскими губами.
Стены ходили ходуном.
Округлое, коричневое, величиной с автомобиль, наехало сбоку.
Таракан!
Присмотревшись, Костров понял, что это тапка, и она не представляет угрозы.
В отличие от шебуршащего на кухне кота. Хруст. Матрос ел сухой корм, перемалывал зубами катышки со вкусом кролика.
Костров закружился юлой, и комната закружилась: кресла, стулья, шкаф…
Мир резко зафиксировался.
Шкаф отвесной скалой вздымался в небо. Обелиск. Небоскреб.
Плита двери медленно отодвигалась. Барханы пыли шевелились, разлезаясь на клочья. Великанша засопела под километром одеяла.
Шкаф распахнулся. Сшить такую одежду могли разве что бездельники, стремящиеся попасть в Книгу рекордов Гиннесса. Вешалки позвякивали: сталь громыхала.
В гардеробе очертилось Лицо.
Нечестивый Лик выплыл навстречу, и задравший голову Костров закричал. Горячий поток хлынул по ляжкам.
Лик отворил пасть.
– Уммм… – Костров смял наволочку в кулаке. Приоткрыл веки. Слюна стекала из уголка рта на подушку. Он утер губы, сел, щурясь от яркого солнца.
Комната вернулась к изначальным размерам. Компактная, тесная, родная.
На кухне Люба переговаривалась с дочерью. Ему позволили поспать подольше. Насладиться кошмаром, необычайно ярким и плотным.
«Хорошо хоть не уписался», – подумал Костров, ощупывая пах.
Расслабляясь постепенно, потянулся, захрустев позвоночником. Тапочки были как раз впору. Шкаф предложил выглаженную рубашку.
Перед тем как присоединиться к семье, Костров взял вешалку, встал на четвереньки и поводил ею под кроватью.
Крючок вытащил наружу комочки пыли и чайную ложку.
Курлык
Ваню Курловича дразнили Курлыком. Он настолько привык, что не только откликался на прозвище, но и к самому себе – мысленно – обращался именно так.
«Жопа, Курлык. Спасайся, Курлык».
Он перешел в девятый класс, но выглядел на пару лет младше. Невысокий, субтильный, с неразвитой мускулатурой. Ниже любой девчонки-ровесницы. Рост вкупе с легким косоглазием делали его объектом насмешек. Словно он таскал на спине деревянную табличку: «Пни меня», и ровесники исполняли просьбу.
Математичка, Лариса Сергеевна, как-то сказала завучу: «Бедный мальчик такой слабый и рохлый из-за мамаши, дряни эдакой. Бухала во время беременности, прикинь?»
Лариса Сергеевна не знала, что он прячется под партой и все слышит.
Взрослые жалели Курлыка, но он им не доверял. Помнил тетю Риту, парикмахершу. Она тоже вздыхала сердобольно, угощала печеньем. А когда из куртки дочери пропали деньги, кричала громче остальных: «Это точно дело рук Курловича! Весь в мать, алкоголичку! Его надо на учет ставить в детскую комнату!»
Что за детская комната, Курлык не понял. За свою жизнь он крал лишь дважды: сникерс в «Дикси» – очень хотелось кушать – и крутую пожарную машину у Нестора Руденко. Правда, машину он вернул: совесть грызла.
Если бы Курлык отметил на карте места, где его задирали или били, Горшин целиком исчез бы под крестиками.
У церкви на Пасху – расквасили бровь, бросили в лужу куличи.
На Колхозной – выбили зуб.
У кинотеатра – снова зуб, сняли штаны.
На Почтовой – отобрали мелочь, зажигалку «Зиппо».
Опасаясь за дедушкины нервы, он говорил, что упал.
– Ага, упал! – Дед проспиртованной ватой тер его грязные щеки. – Прямо в зеленку.
– Мы играли…
Дедушка грозил кулаком куда-то в окно. Клялся отыскать хулиганов. Но дедушку самого задирали дети. «Пьяница, пьяница, за бутылкой тянется!» Подбросили собачье дерьмо в саквояж. Сфотографировали спящим в подсобке и фотку повесили на доске почета.
Курлык любил деда. Тот, хоть и пил, не становился агрессивным, как мама. Наоборот, от водки делался ласковым, готовил вкусности, болтал с внуком о пустяках. Трезвый же был угрюмым и ворчливым.
Но лучше уж с угрюмым дедом жить, чем с мамой, которая или дрыхнет, или кричит и бьет бутылки.
Так он считал до вчерашнего вечера…
Курлык шмыгнул носом. Таясь в кустах, он наблюдал за двумя мальчиками, сидящими на лавке возле стелы. Тень каменной таблички защищала их от полуденного солнца. Табличка сообщала, что здесь в тысяча восемьсот двенадцатом проходил, отступая после Бородинского сражения, арьергард русской армии во главе с генералом Милорадовичем.
Табличка умалчивала о том, что здесь же, чуть позже, Ваня Курлович улепетывал от Рязана.
Бровь, куличи, «Зиппо» – подарок отца из Москвы – это все Рязан.
Курлык не считал себя умным парнем, но смекал: Рязан при своем весе и росте мог найти противника посолиднее. «Бить Курлыка – как девочку бить», – думал Курлык.
Рязан теперь учился в соседнем городе, но обитал-то по-прежнему через улицу.
Жизнь учила не обольщаться.
Обрадовался Ваня, что в школе не встретит Рязана – тут же встретил на остановке. Отделался легкой оплеухой. Может, Рязан взрослел…
Мальчики на скамейке затеяли жаркий спор.
Высокий, светловолосый – Паша Самотин, сын Ларисы Сергеевны. Вихрастый и смуглый – Нестор Руденко. Руд ездил на море летом, а Курлык море видел разве что в кино.
Мальчики были его друзьями. Не важно, осознавали ли они это, хотели ли.
Они ни разу не унизили Курлыка. Не били. И, главное, они не жалели его в открытую, как какого-то калеку. Подтрунивали, но так, что обидно не было, ведь они и друг над другом подтрунивали.
Позапрошлой зимой Паша пригласил Курлыка в гости – с ночевкой, – и это была замечательная ночь! Они играли в стрелялки, листали комиксы, пили колу, бесились. Паша с Рудом – старше его на год! – отнеслись к нему как к равному.
В определенный момент Курлык ускользнул на кухню – принять лекарства. От газировки и шоколадок скрутило живот. Желудок был проблемой Курлыка. Одной из десятков проблем.
Он отвинтил крышку пластмассовой баночки, рассчитал дозу, высыпал белые кристаллы в стакан. Залил теплой водой, перемешал и выпил залпом раствор. Горечь не пугала. Горечь – вкус четырнадцати лет его существования.
– Это героин? – спросили из коридора.
Курлык вздрогнул.
Парни подглядывали. Возможно, опасались, что он сворует что-нибудь.
– Какой героин? – хмыкнул Руд. – Героин не пьют, его по вене пускают.
– Ну кокаин, – сказал Паша.
– Кокаин нюхают.
– Не, я кино смотрел. Мафиози кокс в десны втирали.
Курлык прервал дискуссию, откашлявшись.
– Это не наркотики, пацаны. Это соль специальная.
– Для чего?
– Я… ну… – Курлык покраснел.
– Чего яйца мнешь? – подбодрил Руд.
– От запоров.
Он ждал взрыв безудержного хохота. Чего он не ждал, так это слов Паши:
– Дашь попробовать?
И пацаны пробовали раствор, плюясь и ругаясь.
Даже сейчас, после случившегося вечером, Курлык улыбнулся.
Им можно рассказать. Не маме, не учителям, а им.
– Привет, мужики.
– О, Добби! – Руд свел к переносице зрачки. Паша пихнул его локтем.
– Кончай. Здорово, мужик.
Хлопки ладоней действовали как успокоительное.
– Ты чего зеленый такой? Соль закончилась?
– Да нет. – Он нащупал в кармане баночку. Уходя из дому ночью, взял спальник и средство от запоров.
– Вот пусть он скажет! – щелкнул пальцами Паша. – Он – эксперт по части телочек. Ева Грин или Кейт Бекинсейл? Кому бы ты вдул?
– Я… я их не знаю.
– Вот блин.
– Мужик, – посерьезнел Паша, – реально, ты в порядке?
– Нет, – покачал головой Курлык. В горле защипало.
– Эй. – Руд подвинулся, освобождая место для третьего. – Рассказывай.
Курлык посмотрел на друзей.
И рассказал.
– Давай-давай, поднажми!
Курлык засопел. Если дед оборачивался в узком коридоре, он кое-как выпрямлялся и стирал с физиономии мученическую мину. Но без надзора раскорячивался и высовывал наружу язык. Мешки весили тонну.
– Что здесь, деда?
– Книги из кабинета новенькой училки. Я Нинке грю: выбросить их к чертям. Кто их читать станет? Крысы? А она: нет, казенное имущество! Сволоки вниз!
Нинка – это завхоз школьный.
Под тяжестью ноши Курлыка занесло на повороте.
– А тут крысы есть? – спросил он с деланым безразличием.
– Был залетный пацюк. Я вживую не видел, токмо помет. Говно – по-нашенски. Зимой травил…
Дед отворил желтую дверь и спустился по лестнице. Через полминуты зажегся свет.
Курлыку не шибко нравился подвал трудовика, где как-то на уроке Рязан и Желудь сунули его пальцы в слесарные тиски. Но подвал под подвалом не понравился совсем. Особенно трубы, прикидывающиеся рептилиями. И что-то распыленное в темноте. Запах… церкви?
«Как бункер в компьютерном шутере», – подумал мальчик.
– Кидай их вон, на кучу.
Курлык сгрузил мешки у облезлого шкафа.
Дед стоял, руки в карманы. Подняв голову, Курлык увидел, что дед смотрит на него. Пристально смотрит – и лицо у деда желтое, будто та железная дверь, а глаза – холодные, будто цементный пол.
– Чего? – осторожно спросил Курлык.
– Вань. – Дед странно сморщился, оттопырил губы, гримасничая. – Вань, ты слышал про пионеров-героев?
– Слышал.
Во мраке заухало.
– Деда, может, пойдем?
Старик проигнорировал здравое предложение.
– Дверь прикрой, – сказал он. – Покажу кой-чего.
Взбираясь по ступенькам, Курлык представлял волосатых пауков и жирных слизней. Тяжелая створка заскрежетала петлями. Грохнула о дверной короб. Курлык оглянулся. Дед исчез.
– Ты где?
– Тута, – раздалось из недр подвала. Посетила шальная мысль: это не дедушка говорит.
«Ну да. Пауки это тебя заманивают в ловушку, дурачок».
Курлык пошел на голос. Дед стоял у стены, спиной к мальчику. Курлык прикинул, что вверху, над ними, туалеты для девочек на первом и втором этажах западного крыла.
– Пионеры – герои, – сказал дед, – совершили подвиг. Умерли, значится, за Родину. Ты бы за Родину умер, Вань?
– Н-наверное…
– Этого не надо бояться. Это не простая смерть, где подох и сгнил. Это сразу ты оживаешь. Как Христос. А что оно больно сперва – так из той боли и получается победа.
Дед отошел в сторону. В опущенной руке он держал аккумуляторный гвоздезабиватель. Выпив, дед позволял внуку брать желтую штуковину – Курлык воображал, что уничтожает полчища некроморфов.
– Ты поймешь, – ласково сказал дед.
На стене расплескалось Лицо. Рисунок из темных прожилок, из пятен влаги.
Курлык съежился. Взор черных глаз прожигал насквозь. Хотелось перестать дышать – мальчик надул щеки. Нечто подобное он ощущал на флюорографии: боязнь облучиться, скукожиться под воздействием рентгеновских лучей, заболеть раком.
Мозолистая ладонь легла на плечо. Дед очутился позади. Массировал тонкие косточки внука.
– Родину нужно спасать, Вань. Как в сорок первом. Родина погибнет без нас.
Кожа Курлыка засвербела под короткими волосами – сильнее, чем тогда, когда он подхватил педикулез и заразил весь класс.
Что-то коснулось шеи. Прошло по скуле до уха.
Нейлер с полной обоймой гвоздей.
Страх шевельнулся где-то на задворках сознания. Его нейтрализовала мысль, гораздо более ясная: «Стать героем. Хоть раз – стать героем».
– Ты понимаешь, – прошептал дед.
Клювик гвоздезабивателя поддел мочку. Ткнулся в ушную раковину, в забитый серой канал.
Палец деда дрожал на клавише. Стальной боек вколотит стержень в мозг. И они победят.
Об этом нахлынувшем чувстве Курлык не расскажет друзьям. Как и о том, что из дыры в бетоне, из отверстия на месте рта, текла жидкость… будто слюна.
Разрывая оковы, дед толкнул Курлыка – не вперед, а вбок, к мешкам и партам.
– Не подходишь! – застонал старик разочарованно. Зашатался, выронил нейлер. – Ты не нравишься ему!
Курлык уж мчался к лестнице.
– Курлович! – гаркнула в вестибюле уборщица. – Я пол мыла!
– П-простите…
– Ох, блин. – Руд взъерошил челку. – Съехал-таки Игнатьич с катушек. Добухался.
– Руд, – упрекнул Паша.
– А как это назвать еще? Внуку пистолет приставить к уху.
– Вань, и что ты дальше сделал?
– Ничего. В сарае заночевал. Утром домой зашел – дед макароны сварил по-флотски. Как будто ничего не было.
– Ни фига себе, ничего не было, – возмутился Руд.
– Он бы выстрелил? Как думаешь?
– Не знаю…
– А чего ты к взрослым не пошел? К Кострову?
– Чтобы деда в психушку забрали? – Курлык печально улыбнулся. – Я с матерью жить не собираюсь. И в детдоме тоже.
– Но если он опасный…
– Лучше уж так.
– Мужик, – произнес Руд, – я не врубился, что там за рисунок на стене?
– Рисунок. – Курлык пожал плечами, надеясь, что парни не прочтут в его глазах истинные эмоции. – Рыло.
…Дед нахохлился за кухонным столом. Изучал свои ногти, дрожащие пальцы. Пахло сивухой. Бутылка успела опустеть наполовину.
– Привет. – Курлык прислонился к дверному косяку.
– Здравствуй, Иван. Ты это… не бойся меня.
– Я не боюсь.
– Я, Иван, как лучше хотел.
По лицу старика пробежала рябь. Губа оттопырилась, оголяя коронки.
– Деда, ты помнишь Рязана?
– Кого?
– Мишу Рязанова с Армейской?
– А… – Дед покрутил рюмку. – Ну, помню.
Курлык облизался и спросил:
– Может, он понравится подвалу?
Марина (4)
Школьное крыльцо украсили воздушными шарами. Ветер теребил флаги. Из колонок звучал вальс. Вальсы и гимн запускал тычком кнопки скучающий подросток. Две сотни детей образовали квадрат. Мальчишки в наглаженных костюмах, нарядные девчонки. Неожиданностью для Марины стало присутствие на линейке мэра. Упитанный глава Горшина сыпал банальностями. Дети изнывали от скуки. Ковырялись в носах – родители хлопали их по рукам.
Костров выступил с короткой речью. Завуч Каракуц раздала грамоты. Станцевал народный ансамбль. Маша и Медведь продемонстрировали развлекательно-педагогическую сценку. Миленькая первоклашка позвенела колокольчиком. Под бурные аплодисменты ученики прошагали в здание.
Школа наполнилась гомоном, жизнью.
К Марине подходили родители, вручали цветы. Хризантемы, герберы, альстромерии. Цветы не умещались в охапке. Кабинет превратился в оранжерею. Ей никогда не дарили так много букетов. Родители представлялись, но имена и фамилии тут же вылетали из головы. Ничего, будет время запомнить, наладить контакты.
За линейкой последовала встреча с подопечными.
Шестнадцать человек смотрели на новую учительницу. Уже взрослые. Еще дети.
Жилетки с отливом. Банты. Рюши. Большие пытливые глаза.
Марина – бежевое платье до колен, неброский макияж – встала на фоне доски. Мысленно попросила уверенности у Шолохова с Маяковским.
Как начать? Здравствуйте, ребята, я – ваша учительница? Они догадались…
Глаза пожирали. Спокойствие, только спокойствие!
– Давайте знакомиться? Меня зовут Марина Фаликовна Крамер.
– Марина Шариковна?
Бинго!
– Фаликовна. Знаю, смешное отчество.
– Вашего папу звали Фалик?
Мозг работал на повышенных оборотах. Цейтнот или нет? Расслабься, они же малыши.
– Да, – с улыбкой сказала Марина. – Это старинное имя немецкого происхождения.
– Вы – немка?
– Нет, я – русская.
Дети слушали голос, интонацию. Прощупывали.
– Я буду вашим классным руководителем, и мне очень хочется, чтобы мы подружились.
– А не слишком ли вы молоды?
Вопрос задал развалившийся на стуле парень, темноволосый, коренастый.
Класс требовал правильного ответа.
– Чувствую себя молодой, но в паспорт заглядываю все реже.
Девочки засмеялись.
– Небось сразу после института? – снова брюнет. Говорит с ленцой, смотрит нагло и все ниже подбородка.
– С пылу с жару.
– Никого из профессиональных педагогов не было?
«Испытывает, жук эдакий».
– А давайте я заодно и с вами знакомиться буду? Как твоя фамилия?
Съехав по спинке стула еще ниже, брюнет сказал:
– Пушкин.
– Ух ты, прямо как у Александра Сергеевича.
– Да он шутит, – сказала девочка с первой парты, – Тухватуллин он, Айдар.
«Не сомневалась».
– Варежку закрой, – шикнул девочке брюнет.
– Тухватуллин Айдар. – Марина пошла по проходу. Дети поворачивали головы. – Я мечтала поскорее тебя увидеть.
– Меня? – насупился паренек. – С чего бы?
– Я слышала только хорошее о твоих родителях, что они интеллигентные и благородные. Интересно увидеть, какого сына они воспитали.
Тухватуллин подобрался нехотя, выпрямился.
Ага, подействовало!
Марина мимоходом провела рукой по его плечу.
– Айдара я уже знаю и многих из вас тоже, пусть пока не по именам. Учителя говорили, что вы не только хорошо учитесь, но и хорошо веселитесь.
Девочка в первом ряду поняла руку.
– Да?
– А вы замужем?
– Давайте вы будете представляться перед вопросами, чтобы я запоминала, хорошо?
– Настя Кострова.
– Очень приятно, Настенька. Я не замужем.
– А жених у вас есть?
– Увы, нету. Я привереда.
В воздух взмыл лес рук.
– Прошу.
– Яна Конькова. У вас есть домашние животные?
– Пока нет, я только обустраиваюсь. У моих родителей живет кот, египетский мау, Осирис. Знаете такую породу?
– Ага, лысая.
– Не лысая, – поправила Настя, – с короткой шерстью, да?
– Точно. Короткошерстная, пятнистая. У тебя, Яна, есть животные?
– Морская свинка.
Марина спросила совета, кого ей завести, свинку или хомячка. Дети консультировали, спорили. Она акклиматизировалась.
– А какую вы музыку слушаете?
– Ой, я меломан. От джаза и рока до Элджея.
– А Чемерис рэп читает!
– Круто!
– Я вас нашел в ВК! – Мальчик при бабочке помахал смартфоном. – Добавите в друзья?
– Еще бы!
Класс шумел, бомбардируя вопросами.
– Вы с нами не справитесь.
Марина повернулась к Тухватуллину.
– Почему ты так думаешь, Айдар?
– Я знаю. Сломаетесь. Свихнетесь, как Ахметова.
– Интересно… – Марина слушала с мягкой улыбкой.
– Айдар, – начала Настя.
– Помолчи, – колючие глаза уцепились за Марину, – вам что сказали? Что Ахметова на пенсию ушла?
– Да. – Улыбка дрогнула.
– Ахметова, – отчеканил Тухватуллин, – покончила с собой. Перерезала горло прямо за вашим столом.
Повисла пауза. В тишине громко тикали часы. За окном пролетел воздушный шарик. На галерке сдавленно засмеялись. В колких глазах Тухватуллина заплясали чертики.
– А ты – замечательный актер, – похвалила Марина. – Можешь поступить в театральный. Или писать ужастики, как Стивен Кинг.
– Чтобы писать, – вставила Яна Конькова, – надо хоть одну книжку прочесть.
– И именно поэтому я здесь, – сказала Марина.
Паша (3)
– Горшинскому Толкиену – гип-гип-ура!
Руд бросил на траву рюкзак и уселся сверху.
– Питер Джексон не звонил по поводу экранизации?
– Звонил. Я трубку не взял.
– Титан!
Они расположились возле стадиона, за футбольными воротами. Здесь заканчивалась территория школы и начинались заросли бурьяна, ползучего пырея и хвоща. Склон, сбегая вниз, упирался в разрисованные гаражи. Зелень потускнела, выгорела на жаре.
Мяч взлетал в сентябрьское небо. Футболисты собранны и серьезны, словно участвуют в важнейшем чемпионате. Если мяч покидал пределы поля, капитаны команд свистели малышне, и та пасовала мячик обратно.
Небо было чистым, голубым, лишь над школой висело одинокое облако в форме опрокинутого лица. Великанского лица с глазами-впадинами.
Сегодня Пашиной маме исполнялось сорок четыре. Почему-то в день маминого рождения Паша особенно сильно ненавидел отца. За то, что мама одна – пускай с подружками, с коллегами, – но все равно одна.
О разводе Паше объявили на гадком-гадком семейном совете два с половиной года назад. Сценка из фильма, насквозь фальшивого. Родители сидят напротив, отрепетированно улыбаются, лгут, что для сына не изменится ничего. «Мы так же уважаем друг друга и так же сильно любим тебя».
– А я вас – нет! – вспылил тогда двенадцатилетний Паша и выскочил из дома. В летней кухне ударил кулаком по стеклу – разбил окно. Мама закричала, увидев кровь…
Пятнадцатилетний Паша стиснул кулак. Между костяшек змеился белый шрам – след от впившегося осколка.
В больнице ему казалось, что эта кровь заново склеит их семью. Что родители испугаются и сплотятся.
Чего, естественно, не случилось.
Папа, инженер-технолог, уволился с комбината, переехал в соседний город к любовнице, которая через год стала его официальной женой. Мама плакала по ночам.
Изменилось все.
Папа приезжал раз в месяц – дарил дорогие подарки. На первых порах Паша ломал купленных им трансформеров, бросал в костер пиратские корабли. Повзрослев, перестал. Вон и мама давно прекратила плакать. Паша опять общался с отцом, перекрикивался через разделившую их пропасть.
Но не простил. Не сумел простить.
И в день рождения матери старые шрамы свербели.
«Как зовут твоего отца, мбоке Пардус?»
«„Я не помню его имени“, – небрежно проговорил чужак».
– Чего нюни распустил? – Руд толкнул локтем.
– Да ничего. Задумался.
– Ты – писатель, тебе можно.
По опоясывающей стадион дорожке просеменила девушка в розовом спортивном костюме.
– Шесть из десяти, – оценил Руд.
– Фига ты харчами перебираешь.
– Как тебе, кстати, новенькая?
– Крамер? – Паша вспомнил темноволосую учительницу литературы. Ее располагающую открытую улыбку. – Красивая, – сказал он. – Красивые щиколотки.
– Щиколотки? – ухмыльнулся Руд. – Вот чем вы, интеллигенция, отличаетесь от нас, пролетариев. Мы бы сказали: красивый зад. Красивые ноги. А вы, – он вытянул губы трубочкой, – «щиколотки»!
– Нормальное слово – щиколотки. И материал подает интересно, а не как Ахметова.
– И ваш вердикт?
– Десять из десяти.
– Десять? – ахнул Руд. – Не перегибай палку. Максимум семь.
– Твой уровень, – сказал Паша, – Бобриха.
Семидесятилетняя Бобриха – Мария Львовна Боброва – вела в школе физику.
Руд расхохотался.
– Не, ну Бобриха – вне конкуренции.
На поле засвистели, вратарь поймал мяч. Паша жонглировал камушком. Руд жевал травинку.
– Я Курлыка видел, – сказал Руд.
– Как он?
– Скала скалой. Хвост пистолетом.
– Ага, – улыбнулся Паша, – пальцы – веером.
– А ты знаешь, откуда это пошло: пальцы веером? – Руд выставил вилкой указательный палец и мизинец. – Откуда пошла распальцовка у бандитов?
– От металлистов? – предположил Паша.
– Мимо. Это еще с Союза тема. Бандиты участвовали в поножовщине. Чаще всего пером в живот бьют, так? А человек раненый за лезвие хватается. И режет сухожилие. Калечит руку. Средний и безымянный пальцы прижимаются к ладони.
Паша посмотрел на свой кулак, на зигзагообразный шрам.
– Так что распальцовка – вынужденная – была признаком храбрости и боевитости. А потом – так, понтом.
– Прикольно. – Паша почесал запястье.
– Можешь использовать в рассказе.
– Я ж не пишу про братков.
– Точно.
– Так и что там Курлык? Не чудит больше Игнатьич?
– Угомонился.
– Бедный Курлык.
– Ты лучше вот что мне скажи, Павел. Что за морду видел Курлычок в подвале?
Паша пожал плечами:
– Кто-то нарисовал на стене монстра.
– Наверное, очень страшного. Курлыка трясло, когда он вспоминал.
– Чтоб Курлыка напугать, много ума не надо.
– Так-то да. Но неужели тебе не интересно? Ты же писатель. Чем тебе не сюжет: в подвале… нет, в пещере Пардус находит наскальную живопись – лицо чудовища, которому поклонялись вымершие племена.
«А он прав», – писательский механизм заработал шестеренками, высек искру. Руд осклабился, заметив блеск в глазах товарища.
– Но подвал запирают, – сказал Паша.
– Так и есть. – Руд вытащил из кармана два ключа, помахал ими. – От главного входа. И от подвала.
– Где ты…
– Курлыка попросил. Пообещал дать в аренду «Икс-бокс». Он у Игнатьича ключи свистнул и сделал дубликаты. Так что в пятницу, как стемнеет, спустимся в пещеру и отыщем монстра.
Костров (4)
Костров ощущал себя белкой в колесе рутинной канцелярской работы. Платежки, отчеты, реестры… Вопросы питания и зарплаты, отчетность, поступления по хозяйственной части. Утром принять бракеражную комиссию. Днем сгонять в банк – у школы не было своего бухгалтера. В промежутках утвердить меню, отшлепать печати на принесенных секретаршей документах. Вечером встреча с предпринимателем. Лебезить, чуть ли не клянчить.
Школа держалась на спонсорах. Тухватуллин помогал материально, снабжал краской и пиломатериалами, купил маты и татами в спортзал. Члены попечительного совета подарили комплект теннисных столов. Но ведь с каждым предварительно надо было договориться, подлизать.
Костров устало откинулся на спинку кресла.
Окна в директорской были распахнуты. В воздухе парили пылинки. Позолоченный герб блестел над ореховым столом.
Как там у классика? «Завидую тебе, орел двуглавый, ты можешь сам с собой поговорить…»
Перед директором лежал ворох распечаток. Электронная почта ломилась от писем. Из ГУОН, от фирм – поставщиков услуг, от издательств.
Он прихлебнул кофе, поморщился: остыл, пока разбирался с разгневанной мамашей. Дитятко толкнули в туалете.
Полистал бумаги.
«Предлагаем апробировать учебную литературу…»
В мусорную корзину!
«Утилизируем батарейки…»
В мусор!
«Согласно распоряжению, в школе должны быть элементы разрушения…»
Костров помассировал глазные яблоки, вчитался:
«…должны быть: элементы разрушенной кирпичной стены, траншея, ров…»
Он скользнул взглядом по папкам в шкафу, по сейфу и почетным грамотам районного управления образования.
Вся школа была сплошным элементом разрушения. С директором во главе. Крыша протекала. Стыки плит потемнели над кабинетом биологии. Родительский комитет скинулся на еврорубероид, который оказался самоклеящимся, а значит, надо выравнивать поверхность битумом.
И разве только это?
Первый класс набирали буквально по крохам, обхаживали родителей, сулили счастье. Набрали в итоге тринадцать малышей – в два раза меньше, чем во второй школе.
Комиссия желала видеть рвы и траншеи, но у Кострова элементарно не было военрука. Не отказался бы он и от системного инженера и дворника.
А физика! Физику вела Мария Львовна Боброва, она же Бобриха, высшая квалифицированная категория, ветеран труда. Но Бобрихе шестьдесят девять – над ней дети потешаются, дисциплина нулевая. Всюду таскает Библию, не ровен час впадет в маразм и вместо закона Архимеда станет преподавать семиклассникам Закон Божий.
Завуч критикует новенькую, Крамер, мол, не соблюдает дистанцию, хочет в классе сойти за свою. А на Крамер надобно молиться, что горбатится за копейки.
В директорскую без стука вошла завхоз, энергичная, боевая тетка.
– Свет моих очей, – сказал Костров, – я вас уже боюсь.
– Правильно делаете.
– Что еще?
– Крыша.
– Да знаю я…
– Не знаете. Крыша в оранжерее прохудилась.
Костров закатил глаза к потолку.
– Что я сделал? Убивал людей в прошлой жизни?
– Игнатьич залепил куском линолеума. Но дожди пойдут – все на пальмы. Не нужно будет поливать.
– Хорошо. – Костров чиркнул в ежедневнике. – Я проконтролирую.
Капитальный ремонт заложили в бюджет на двадцатый год, но профинансируют ли?
– Завтра, – сказала завхоз, – встреча депутатов с населением. В актовый зал требуются дополнительные стулья.
– Организуйте.
Не успела завхоз уйти, появился очередной гость – Мачтакова, сухопарая, остриженная ежиком женщина в спортивном костюме, с болтающимся на шее свистком.
– Вита Георгиевна? Если по поводу денег – денег нет. Но вы держитесь.
Физрук прикрыла дверь, заглушая голоса из приемной:
– Я не про деньги.
Костров сцепил пальцы замком, вопросительно изогнул бровь.
– Вы давно с Тилем разговаривали? – спросила Мачтакова.
– С Сан Санычем? – Костров порылся в памяти, разгребая отчеты и бланки. В последние дни он видел трудовика мельком, на педсовете. – Давненько. А что?
– Да чудной он какой-то. Я сегодня проходила мимо его кабинета. Слышу, дети его зовут и хихикают. Заглядываю, он сидит за столом, как будто спит с открытыми глазами. Дети ему кричат, а он не реагирует.
– М-да. – Костров подкрутил ус.
– В понедельник Тиль зашел в спортзал. И тоже будто спал на ходу. Девочки в баскетбол играют, а он стоит посредине площадки. В него врезаются, оббегают его, а он стоит. Я ему: Сань, ты чего-то хотел? Он повернулся и ушел.
– Вит Георгиевна, – Костров встал, поправляя галстук, – вы – умница, что ко мне обратились. Пускай это между нами останется.
– Само собой. Я все понимаю.
– Вот и славно. Кстати. По поводу плавания я договорился со второй школой. Будут дети ходить в их бассейн.
– Здорово. Спасибо вам.
– Подготовьте необходимые справки.
«Тиль-Тиль-Тиль, – шагая по западному крылу, Костров звенел фамилией трудовика, словно колокольчиком. – Не хватало нам тебя потерять».
Саша Тиль – кремень. Скала. В доме должен быть мужик – таким мужиком, авторитетом для подростков, в школе был Сан Саныч. И директор мог всегда на него положиться.
Только несколько человек знали, что в две тысячи тринадцатом у Тиля случился нервный приступ. Тридцативосьмилетний учитель овдовел. Жена, умница и красавица, умерла от перитонита. На похоронах присутствовал весь коллектив, и Тиль, казалось, держался молодцом. Но спустя неделю вахтерша обнаружила его в туалете – двухметровый мужчина забился под раковину и скулил, царапая лицо ногтями. Благо детей в школе почти не было.
Тамара побежала за Костровым. Кое-как великана депортировали в директорскую, поили валерьянкой. Костров отправил учителя на больничный, но ежедневно заскакивал после работы. Тиль не пил водку, не плакал, а просто лежал на кровати, теребя шарф жены, принюхиваясь к ткани.
Они с Костровым разговаривали о разном. О судьбе. О смерти. О Боге.
Через пять или шесть дней трудовик сказал, что шарф больше не пахнет. Встал с кровати и превратился в прежнего Тиля. Сильного и выносливого.
Или не превратился?
Костров сошел по ступенькам в подвал. Больничного цвета стены, гирлянда лампочек. Кабинет трудов, дальше – подсобка, электрощитовая комната, тир. За углом – желтая дверь.
Странное чувство пробудилось в Кострове. Тревога? Пожалуй, да. Он подумал о помещении под ногами. Темнота, трубы и паутина. И Нечестивый Лик на бетоне.
Лик, перекочевавший в его сны.
Воспоминания о ночном кошмаре окислили слюну во рту.
«Чушь, – подумал Костров, – те потеки на стене давно высохли. Случайно соединившиеся линии – херь собачья – испарились».
В кабинете Тиля пахло стружкой и маслом. Пыль оседала на верстаки, на тиски. Тиль, широкоплечий, курчавый, в синем фартуке и клетчатой рубашке, стоял у стенда с инструментами: ножовками, топориками и молотками.
– Привет, Сань.
Тиль не ответил. Костров кивнул на перебинтованную левую кисть:
– А что с рукой?
– Стамеской поранился.
– Ого. В больнице был?
– Там царапина.
Костров заглянул в глаза учителя. Но увидел не пустоту, испугавшую его шесть лет назад. Не тоску и душевную боль. А… воодушевление?
– Саня, у тебя все хорошо?
– Великолепно. – Тиль наконец оторвался от созерцания инструментов и посмотрел на Кострова. Он улыбался. Костров облегченно выдохнул. – Ты даже не представляешь, – сказал Тиль, – что нас ждет.
– Поделишься?
– Не сейчас. – Толстый палец запечатал губы. – Тсс.
– Это сюрприз? Что-то личное?
– Скоро.
Глаза Тиля сверкали.
– Может, на рыбалку? – предложил Костров. – В субботу отпрошусь у Любы.
– Я занят, друг. Дел по горло.
– Тогда в другой раз?
Тиль молчал, улыбаясь.
«Словно мальчишка, распаковывающий подарок», – подумал заинтригованный Костров.
Марина (5)
– То есть как не спрашивать Ерцова? – Марина удивленно заморгала.
– А вот так, – сказала завуч спокойно. Круглая, с сахарной улыбкой и хитрым блеском за стеклами очков. – Не спрашивайте. Не вызывайте к доске.
Они разговаривали в вестибюле. Большая перемена – стайки детей сновали по этажу.
– Драсьте, Татьяна Сергевна! Драсьте, Марина Фаликовна!
– Здравствуйте, здравствуйте. – Каракуц отвела Марину в уголок.
– Вы зачем Ерцову двойку влепили?
– Он не выучил урок.
– А тема какая?
– Древнерусская литература. Художественные особенности «Слова о полку Игореве».
– И что, обязательно двойку ставить?
– На тройку он не тянул. Смеялся, срывал урок.
– Позвоните родителям. Сделайте так, чтобы тянул. Вы поймите, – Каракуц разгладила складку на блузе Марины, – вы двойку ставите не Ерцову, а Аполлоновой.
– Александра Михайловна-то тут при чем?
– При том! При том, что она – его классный руководитель. А вы ей успеваемость занижаете своими двойками.
– Но не могу же я Ерцову пятерки ставить!
– Зато можете игнорировать. Не замечать. Нет, по части дисциплины – ругайте, конечно. А неуд зачем? Неуд Ерцова – это неуд школе. И вам, вам, педагогу. Как четвертные выводить будем?
Марина замялась, и Каракуц, явно наслаждаясь превосходством над неопытной коллегой, проворковала:
– Вот вы зондируете класс. И сразу же видно, где дурак, а где нет. По глазам, да? Ломброзо читали? Про антропологический тип преступников. А тут антропологический тип дураков.
– Сильно вы – про детей.
Каракуц дернула крошечным ртом.
– Я двадцать лет в школе работаю. Имею право…
– От теорий Ломброзо, – сказала Марина, – один шаг до измерения черепов линейкой. До фашизма.
– Ой, – ощетинилась завуч, – не разбрасывайтесь патетикой. Ломброзо не Ломброзо, а кто к уроку готов, можно вычислить. Ерцов через год пойдет в ПТУ на гроботеса – нужны ему ваши исторические памятники?
– А это не ко мне вопрос, – осмелела Марина, – это к Министерству образования. Не я составляла программу.
– Отлично. – Каракуц сняла очки и потерла нос. – Надумали Аполлоновой отчетность испортить – дело ваше. Но как старший коллега говорю: у учителя троек в портфеле много, а двойки – на крайний случай. Их закрывать потом. Займитесь успеваемостью седьмого. И думайте, прежде чем делать.
«Жаба, – шипела Марина, маршируя по коридору. Передразнивала завуча: – Думайте, прежде чем делать! Ломброзо читали? Жаба!»
В столовой, большой и светлой, звенели вилки, благоухало ванилью. Школьники обедали за длинными столами. Строгого вида учительница младших классов жестикулировала, будто дирижировала оркестром. Оркестр – мал мала меньше – тосковал над кашей.
Марина приметила своих новых подруг у окна: Кузнецову и Кострову. Помахала, встала в очередь. За прилавком суетились поварихи, дородные сестры Зайцевы. Шестиклассники обсуждали солнцезащитные «Рэй-Бэны» однокашника – брендовые они или китайская реплика.
Марина заказала гречку, винегрет и компот, пошла с подносом к окну.
– Ты чего такая смурная? – спросила Люба.
Марина поведала о стычке, шепотом, чтобы не услышали дети, спародировала интонации завуча.
– Вот грымза, – возмутилась Люба.
– Ты только мужу ничего не говори. Решит, что я жалуюсь.
– Это все пережитки прошлого, – сказала Ольга Викторовна, помешивая суп. – Наследие советской системы. Двойки есть, но ставить их не рекомендуется. Ерцов не подготовился – виноват учитель. А на то, что Ерцов один параграф прочесть не в состоянии, я про контурные карты молчу, – всем плевать. Я у него спрашиваю: кто крестил Русь? Ну как, девочки, этого можно не знать в девятом классе? Говорит: Иван Грозный. На кого, спрашиваю, ты равняешься? На Сталина, говорит. Потому что Сталин создал СССР, и при нем Гагарин в космос полетел.
Марина невесело усмехнулась.
– Каракуц недаром называют Каракуртом, – сказала Люба, – вот правда – паук. Весной нашу Жанну до слез довела.
Жанна – молоденькая учительница информатики – пила с Мариной кофе.
– Прицепилась к ее юбке. В таком виде на уроки не ходят! А юбка – самая скромная. Каракуц говорит: «Вы не в борделе».
– С ней лучше не ссориться, – сказала Ольга Викторовна, – побереги психику.
– Если бы только это. – Марина нашла глазами свой класс, жующий булки у мозаичных колонн в центре столовой. Вынула из сумочки тетрадный листок. – Полюбуйтесь.
– Так-так. – Ольга Викторовна промокнула салфеткой губы. – Анкета. Тухватуллин Айдар Давидович. Две тысячи шестого года рождения. Домашний адрес, мобильный телефон.
– Там, ниже.
– Ага. Есть ли хронические заболевания? – Кузнецова покачала головой. – СПИД и бубонная чума?
– Так и написал, – кивнула Марина.
– Твои увлечения – стрелять по голубям? Что тебя волнует в жизни – телки и оружие?
– И как мне быть? – устало спросила Марина. – Оставить после уроков? Он на меня смотрит и ржет. Ему начхать, что я говорю.
– Разбаловали его, – сказала Люба. – Никакого воспитания, только подарки. У отца времени на сына не было, он приставками откупался. А потом ушел из семьи.
Марина приоткрыла рот от удивления.
– У Тухватуллина родители развелись?
– Да. Но они не афишируют.
– Тогда понятно, где собака зарыта.
– Он раньше таким не был, – согласилась Ольга Викторовна. – Да, ленился, баловался, но не хамил. Злости вот этой не было. После развода – как подменили ребенка.
– Спасибо, что сообщили. – Марина спрятала анкету, ругая себя мысленно: классный руководитель обязан знать такие вещи о своих учениках!
Взгляд скользнул поверх опустевших столов – уткнулся в неподвижные фигуры за колоннами. Вахтерша Тамара и щуплый слесарь-электрик Игнатьич. Дети, покидая столовую, огибали их, застывших в проходе.
Что-то заставило Марину задержать взор. У Тамары и Игнатьича были вялые одутловатые лица, лишенные выражения, будто они запамятовали, куда и зачем шли. Две пары странно расширившихся глаз одновременно уставились на Марину.
– Чего это они?
– Кто? – не поняла Люба.
– Они. – Марина покосилась через плечо, но за колоннами никого не было.
Паша (4)
– А вдруг тут есть сигнализация?
– Ага, – просопел Руд, – и лазерная решетка, как в «Обители зла».
Они топтались на крыльце, освещенном уличными фонарями. Адреналин бушевал в крови. Паша видел двор и ели, лестницу, по которой он сходил и поднимался в течение многих лет. Пятиэтажки внизу холма. Казалось, жильцы прильнули к окнам и уже вызывали полицию: «Двое грабителей вламываются в школу, поспешите». Застрекочут вертолеты, с фиолетового неба посыплется спецназ: «Мордами в землю! Вы арестованы!»
– Готово! – объявил Руд.
«Взлом с проникновением, – подумал Паша, переступая порог. – Или с ключом – это не взлом?»
Часы показывали девять тридцать. В одиннадцать он должен был вернуться домой.
Света фонарей хватало, чтобы различать дежурный пост, библиотеку, кабинет директора.
Паша запирал дверь.
Полумрак населил вестибюль тенями, придал таинственность знакомым предметам.
– Итак, – сказал Руд, поравнявшись с товарищем, – пора сознаться.
– В чем?
– Второй ключ – не от подвала. Ты не пошел бы со мной, если бы знал.
– А от чего он?
– От кабинета информатики.
– Что ты мелешь? – прошипел Паша.
– Тебе нужны деньги. Мне нужны деньги. Компьютеров в кабинете много – мы возьмем два. Никто не заметит.
– Прекращай!
– Ладно, – захихикал Руд, – но ты поверил.
– Ни фига.
– Поверил-поверил.
Руд двинулся в западное крыло.
Паша то и дело озирался – на окна, на оставшийся позади вестибюль, черный-пречерный. В дамском туалете цокал кран. Капли разбивались о раковину.
– Тихо, – шикнул Руд, пригибаясь.
Паша сжался пружиной.
– Слышишь?
Кап-кап-кап. Бой сердца отдавался в ушах.
– Нет.
– Бобриха идет за нами, чтобы трахнуть.
– Ну ты и придурок.
Теперь в голову лезли мысли о престарелой учительнице физики, подстерегающей за углом, облаченной в кружевное боди.
Но в подвале – в верхнем подвале – конечно, не было никаких старух. Руд зажег свет. Мальчики, немного расслабившись, пошли мимо кабинета трудов и тира. Свернули в короткий коридор, заканчивающийся желтыми дверями.
Сладкая дрожь разлилась по телу. Рассказать бы кому…
«Вот и расскажешь, – подумал Паша, – вернее, опишешь в следующей истории».
Замок подался, хрястнул. Дверь оглушительно заскрипела. За ней кишел мрак.
– А фонарь ты брал?
– Стой здесь. – Руд шагнул вперед: мрак поглотил его, не оставив и косточки.
Паша поежился. Неужто Руд смелее его? Он мысленно полистал их совместные приключения: стычки с гопниками, атаку на яблоки тети Нади, побег от стаи бродячих псов. Выходило, что так. Руд – младше его на три месяца – был не только заводилой, но и по части удальства опережал.
Внизу, поморгав, вспыхнула лампа.
Мрак схлынул, оголив лестницу и хитро улыбающегося Руда у подножья.
– Вэлкам.
Подвал был огромен. Трубы уходили вправо на десятки метров. Электричества не хватало, чтобы оценить даже десятую долю помещения. От мысли, что оно тянется до самого мужского туалета в восточном крыле, внезапно замутило. Паша представил себя, идущего на спор в поисках противоположного тупика, представил густеющую тьму, в которой он увязает, застревает, как в сузившемся туннеле, и дергается там, бессмысленно вопя.
Рядом с лестницей громоздился хлам: парты, хилый шкаф, перемотанные бечевкой книги. Руд снял со шкафа что-то желтое. Игрушечный пистолет?
– Опа! – Руд прицелился в Пашу.
– Это же…
– Гвоздомет. Как в четвертом Fallaut, только без компрессора.
Руд направил ствол в рухлядь и надавил на клавишу. Нейлер харкнул гвоздем. Стальное жало по шляпку вошло в облупившиеся дверцы шкафа.
– Крутяк, – ухмыльнулся Руд.
– Положи на место, – буркнул Паша. Он подумал о полоумном Игнатьиче, тычущем гвоздометом в Курлыка. – Чем здесь пахнет?
– Сыростью?
– Нет. – Паша принюхался. – Халвой? Какими-то восточными сладостями?
– Ну да. Курлык тут знатной халвы наделал.
Мальчики двинулись влево.
– Где-то тут, – сказал Руд.
Западная стена выползла из темноты. Шершавая, размеченная темными линиями. Паша моргнул. Хаотичные улиточные следы сложились в рисунок – его уже нельзя было развидеть.
Лицо от пола до потолка.
Паша окоченел, словно был куклой, и кукловод обрезал ниточки. Или как в том навязчивом кошмаре, где он ломал позвоночник и умолял маму не трогать его, не перемещать до приезда врачей.
Лицо источало угрозу. Ледяную жуть, будто из бескрайней тундры выл убивающий ветер – и хотя ни единый волосок не шевельнулся на голове Паши, он ощущал каждой порой дуновение.
Он думал о мертвецах. Не зомби из фильмов, а об обыкновенных покойниках, с заострившимися чертами, в гриме, в цветах и лентах. Как они лежат в гробах. И как, проснувшись ночью, ты обнаруживаешь их лежащими в твоей постели, и ты зажат между ними.
Он думал о дохлятине, гниющей на полуденном солнце. О крови, текущей из-под юбки одноклассницы Лауры. О дядечке в магазине, который обернулся, и маленький Пашка увидел синюшную опухоль на его щеке.
Мама рассказывала, как ей делали кесарево сечение, и она чувствовала руки хирурга внутри.
Сейчас Паша чувствовал то же самое, но не в животе, а в черепной коробке.
Слушая Курлыка, он воображал намалеванные клыки.
Но ничего подобного не было. Никаких дешевых трюков.
Со стены на него взирало лицо мужчины. Прямой нос, раздувшиеся ноздри, выпученные глаза, росчерки бровей и скул, четкие носогубные складки. Рот не нарисован, а точно выкопан в бетоне.
И все же Лицо страшило пуще любого чудища. Непристойное, гнусное, живое.
Таким мог быть Зивер, бог людей-леопардов. Но Паша ни за что не описал бы, не объяснил бы, чем его напугал рисунок.
Руд заговорил, и морок рассеялся. По крайней мере, Паша сумел отвести от стены взор.
– Он как будто… пульсирует.
– Дышит, – сипло сказал Паша.
– Мне немного…
– Противно?
– Ага. – Руд взъерошил кудри. – Я вспомнил… на море ночью пошел в туалет. А он был заполнен насекомыми. Какие-то огромные мотыльки, сколопендры… фу…
Паша не стал спрашивать, при чем здесь насекомые. Они оба думали о мерзком, изучая рисунок.
За спиной хрустнуло. Мальчики переглянулись. Замок! Кто-то ковырялся ключом в замке!
– Шухер! – прошептал Руд и бросился к трубам.
Протяжно заскрипели металлические петли.
Паша очутился возле хлама. Отворил дверцы, юркнул в шкаф, разрывая паутину, старясь не зацикливаться на образах волосатых пауков. Днище прогнулось под его весом. Он дернул на себя дверцы, и в этот момент кто-то спустился в подвал.
– Игнатьич? – женский голос. Знакомый. – Игнатьич, это ты?
«Баба Тамара!» – Паша облизал пересохшие губы.
В шкафу имелись щели, но Паша боялся шевельнуться.
– Старый пьяница… – пожурила вахтерша. – Пусто. Заходи.
Тень промелькнула мимо Пашиного убежища. За ней – вторая.
Сердце колотилось так, что он удивлялся, почему баба Тамара не слышит?
– Он тебя ждал, – сказала Тамара. – Он мне приснился, после того раза. Говорит: приведи ее снова.
Паша снял с ресниц паутину. Не чихнуть бы! – пыль щекотала слизистую. Свербели подмышки. Обливаясь потом, он прильнул к щели в боковой стенке.
В десяти метрах от шкафа стояли две окуренные мглой фигурки. Пониже – баба Тамара. Повыше…
«Это же негритяночка!» – догадался Паша.
Соседка зачем-то пригласила в подвал племянницу. Судя по разговору, не в первый раз.
– Смотри, девочка, смотри. И пускай Бог на тебя смотрит. Покажи ему…
По коже что-то поползло. Тарантул! Крыса!
Стиснув зубы, Паша покосился на руку. Свет, просачивающийся в дырявый сундук, позволил разглядеть рыжего таракана. Паша сбил его ногтем. Потер нос. Вернулся к щели.
Он решил, что бредит. Или спит, или надышался распыленных в подземелье химикатов.
Негритяночка раздевалась.
Здесь, в холодном склепе, в присутствии бабы Тамары – и даже при ее помощи – стаскивала платье, расстегивала бюстгальтер. Она стояла лицом к стене, и Паша видел спину, клинышек стрингов и ягодицы.
Член, не согласовываясь с мозгом, затвердел.
– Да, да, пускай смотрит, – частила вахтерша.
Что там творится? Кого она назвала Богом? Зивера? Морду на стене?
Обнаженная девушка развела в стороны руки, словно для объятий.
Паша вспомнил, как на уроке информатики полез под стол за упавшей мышкой и увидел белые трусики Жанны Александровны. И как в автобусе видел в декольте наклонившейся женщины морщинистый сосок.
«Ты можешь выйти из шкафа, – сказал в голове дружелюбный голос, – и спросить, чем они занимаются. И даже присоединиться»…
Паша коснулся виска.
Свет погас.
«Руд!»
В кромешной темноте Паша выскочил из шкафа. Побежал, без малейшей уверенности, что бежит к выходу. Что не заблудится в лабиринте труб. Не потеряет Руда с ключами. И не останется тут навечно.
Из мрака зашипели призывно.
– Кто здесь? – спросила вахтерша.
Паша упал на корточки, ощупал пол. Ступеньку. Сверху Руд скоблил ключом металл, пытаясь попасть в замочную скважину.
– Кто вы? – голос прозвучал совсем близко.
Паша взбирался по лестнице, молясь всем богам.
Дверь распахнулась. В последний момент чьи-то пальцы граблями прошлись по икре Паши. Он вылетел из подвала и грохнул дверьми. Помчался за Рудом. Западное крыло… вестибюль. Руд бился с главной дверью. Паша вглядывался в коридор, зубы стучали.
Секунды, растянувшиеся в часы, и вот они скатываются по склону… смеясь? Да, смеясь, после всего пережитого.
В подворотне они повалились на траву. Истеричный смех перешел в надсадный кашель. Отплевавшись и отфыркавшись, Паша спросил:
– Ты это видел?
– Голую негритяночку? А то! Я сидел сразу за лестницей. Мог давно выключить свет, но такое зрелище…
– Мужик. – Паша прикрыл ладонью рот. В привычном мире взрослые не шастали голыми по подвалам. – Они извращенцы! Баба Тамара и ее племянница – диггеры-нудисты, или я не знаю…
– Слушай, – сказал Руд, – я как-то напал на сайт. Скрытая камера установлена в ванной общежития, и можно наблюдать онлайн за купающимися студентками. Даже для меня это чересчур подло. Но я смотрел… краем глаза. И там – ночью – была одна сцена. Девушка притащила в ванную таз, а в тазу – отрезанная свиная башка.
– Что?
– Мамой клянусь. Она понатыкала свечей, разделась и ходила вокруг таза. Камера не писала звук, но я думаю, она произносила заговоры. Это было самая больная хрень, которую я видел. Ну, до того, как увидел образину на стене.
Паша сглотнул, прогоняя мысли о Лице.
– Сдается мне, Тамарка проводила какой-то ритуал. Типа знахарского. Народная медицина, суеверия, такое вот.
– По-моему, здраво, – сказал Паша, обмозговав.
– Жалко, блин, мы не сфотографировали рисунок. Не хочешь вернуться и сделать парочку фоток?
– Нет, – твердо, без тени улыбки ответил Паша.
Марина (6)
Осень – робкая в начале – смелела к октябрю, по мере того как смелела и акклиматизировалась Марина на новой работе. Осень вымела ошметки летней поры, отгрохала капитальный ремонт. Дожди размывали проселочные тропки. Шумели в соседнем лесу. Взбухли могильные холмики на отдаленном от города кладбище. Под порывами ветра неумолимо лысели рощицы. Дети в двух горшинских школах смотрели с тоской за окна, где клубилась серая дымка.
А у Марины Фаликовны на душе было светло и солнечно. Грядущие выходные она отмечала красным вином, и ни слякоть, ни гудящий снаружи экскаватор не стали помехой для хорошего настроения. Сегодня в девятом классе был замечательный разбор «Евгения Онегина»: живой, с неравнодушными мальчишками и девчонками. Кажется, крылатая фраза «Он уважать себя заставил» – то есть умер – войдет на время в обиход учеников. Марина рассказывала о своем путешествии в Пушкинские Горы, о дуэли Александра Сергеевича – словно пересказывала драматический фильм.
Не по годам развитая Неля Лебедкина сравнила слова Ленского в финале второй главы с сюжетом элегии Жуковского. Спорили, сколько лет Онегину. Девочки защищали Татьяну. Даже из лопоухого Ерцова удалось выдоить пару комментариев.
Ради таких уроков стоило надевать педагогический хомут. Терпеть бумажную волокиту, срывать голос. И без репетиторства и факультативов вести по двадцать часов в неделю устный предмет – серьезная нагрузка на связки. Не говоря про русский язык и классное руководство. Кузнецова рекомендовала пить теплое молоко и есть инжир.
Марина отхлебнула вина.
Комната, усилиями обитательницы доведенная до ума, избавилась от казенного привкуса. Стала уютной, родной. Книги, безделушки, привезенные из Судогды сувениры.
В пушистой пижаме, приобретенной по случаю первой зарплаты, Марина расположилась на диване. Окружила себя документами, включила музыку. Красное сухое и Боуи идеально подходили к пятничному вечеру, а завтра с утра она рванет домой – лопать мамины пирожки – и прощай до понедельника, Горшин.
Подарки накупила: и маме, и деду, и бабушке.
– Так-с. – Она вынула из стопки распечатку с изображением горшинской церкви.
Бумагами снабдила Люба Кострова.
При библиотеке работал скромный музей. Фотографии запечатлели улочки позапрошлого века. Рынок, телеги, артель обувщиков. Марина сказала, что интересуется прошлым города.
– Все же здесь мои корни.
Люба подготовила материал.
«Храм Рождества Пресвятой Богородицы освятили в 1880-м. В 1937-м закрыли и разграбили. Несколько десятилетий здание служило складом. В восьмидесятых опустело из-за аварийной обстановки. В 1992-м, после долгого перерыва, под его сводами собралась община. Начались богослужения, а с 1996-го – реставрационные работы».
«Туда ходила на воскресные службы моя прапрабабка», – восхитилась Марина.
Прочитала про становление советской власти в городе – скукотища. Выудила отсканированную статью.
«О поселении на месте нынешнего города известно с XVI столетия. Деревня, согласно писцовой книге, принадлежала московскому монастырю, не сохранившемуся до наших дней. За монастырем числилась до XVIII в., когда все церковные земли были секуляризованы, а крестьяне переведены в разряд «экономических». В середине XIX в. в Горшине числилось шестьдесят дворов, почти пятьсот человек. Помимо крестьянского труда, процветали мелкие ремесла: здесь отливали пуговицы. В семидесятых заработало Горшинское смешанное земское училище. Обучение длилось два года, впоследствии – четыре. Школа стала начальной».
Марина перелистнула страницу.
«В 1905-м открылась пятиклассная школа, просуществовавшая девять лет. Село стало центром волости, здесь находилось волостное правление, дом урядника и почтовая станция. С 1919-го горшинцы учились в новой школе – на территории бывшей усадьбы Стопфольдов. В 1962-м помещичий особняк разобрали до фундамента, чтобы построить знакомое всем горожанам здание. Таким образом, школа № 1 в 2019 году отметит свое столетие».
«В 2004 году Постановлением губернатора области от… №… рабочий поселок Горшин преобразован в город районного подчинения».
Взгляд Марины переметнулся к копии исторического документа: «Распоряжение по Ведомству Православного Исповедания Российской империи. Царствование Государя Императора Петра I. 1722 год».
«И почему я на истфак не поступила?» – увлеченная Марина плеснула еще вина в бокал.
Петровский документ будоражил фантазию. Речь шла о лихих душегубцах, угнездившихся в окрестных дебрях. О прогнивших мостах и зело трудных заросших тропах. Чтобы искоренить великий разбой, из столицы был послан Преображенский полк во главе с бомбардир-лейтенантом. Драгуны и горшинский сотник уничтожили банду, а лес вырубили на сто саженей, дабы по оной дороге проезжим всякого чина людям было безопасно и государственному интересу утраты не было.
Автором следующей статьи значилась некто Кузнецова А. М. – Марина решила, что это мама Ольги Викторовны.
Она узнала здание на снимке – то же, что на фото из семейного архива, но запечатленное с другого ракурса. Угловые ризалиты и треугольный фронтон, флигель, деревянные хозяйственные строения. Парадный фасад декорирован в псевдорусском стиле, на окнах – наличники с терракотовыми завершениями.
Особняк Стопфольдов.
Текст гласил:
«Генрих Петрович Стопфольд (1801–1877) сделал блестящую и молниеносную карьеру, дослужившись от титулярного советника до коллежского асессора (от „вашего благородия до вашего высокоблагородия“), и получил право на потомственное дворянство».
Марина улыбнулась. Чины о рангах пахли Чеховым, Акуниным.
«С 1844 года Стопфольд владел всеми дворами Горшина. Тогда же приступил к возведению усадьбы. После крестьянской реформы, отменившей крепостное право, сохранил половину земли, получив щедрую компенсацию за вторую половину. Купил торфяной заводик. Имел двоих детей – дочь Августу и сына от второго брака, Георгия, родившегося в 1867-м».
«Ого! – подивилась Марина. – В шестьдесят шесть детей строгал!»
«После смерти Генриха Петровича, усадьбу и завод унаследовали дети. Августа проявляла к хозяйству больший интерес, чем младший Стопфольд, много путешествовавший и пытавшийся утвердиться на ниве искусства. Так, Августа выделила средства на шоссирование Смоленского тракта. Георгий Генрихович писал картины, организовал в Москве две выставки портретов, раскритикованные и не имевшие успеха у зрителя. Неудачи и смерть супруги от холеры подкосили Стопфольда, он впал в депрессию и умер в 1908-м».
«В сорок один!» – прикинула Марина.
«К тому моменту усадьба опустела. Августа годом ранее переехала в Петербург, забрав с собой единственную дочь Георгия Генриховича».
«Свою племянницу, – закончила Марина за автора статьи. – Шестилетнюю Наталью».
Дальнейшая судьба Стопфольдов была ей известна.
Августа умерла в революционном Петрограде.
Наталья Георгиевна скончалась в блокаду.
Ее дочь вышла замуж и сменила фамилию. Переселилась во Владимирскую область. Родила Маринину маму.
А теперь Марина учила детей на фундаменте родового поместья. Не сказка ли?
В статье говорилось, Георгий Стопфольд писал портреты. Значит, он мог написать и портрет дочери. Найти бы…
Марина отмокала в горячей воде. Побрила запущенную за месяц зону бикини. Выбравшись из ванны, распаренная, встала у зеркала. Стресс положительно сказался на фигуре. Животик пропал, красиво очертились ребра. Небольшая грудь выглядела аппетитно. Увеличилась, предрекая месячные. Марина ущипнула себя за сосок, провела пальцами по плоской ложбинке между налитыми полушариями.
– Дворянка, – прошептала она отражению, – Стопфольд, дворянка. Выкуси, тот, чье имя нельзя называть.
И, весьма довольная, дворянка Марина отправилась в постель.
Тамара (2)
Бог подарил ей свою слюну и свое семя.
Слюну Тамара добавила в чай, чтобы племянница выпила и не кобенилась. От Божьей слюны Лиля стала кроткой и покорной, глаза ее потускнели, а на губах появилась незнакомая улыбка. С улыбкой она шла за Тамарой в подвал оба раза, делала, что велят.
Семенем Тамара наполнила гинекологическую спринцовку.
Жидкость вытекала из трещины в бетоне.
Так – прочла Тамара – мироточили иконы и католические статуи.
Она боялась, что Лиля не поймет. Конечно, любимая племянница, кровиночка. Но и сорвиголова, вскормленная компьютерами да кровавыми сериалами. Лиля думала, тетя не знает про травку. Курила в туалете. Круглый месяц провалялась на шезлонге, уставившись в телефон. Она и в Бога-то не верила, говорила: поповские басни, не забивай мне, теть-Тома, мозг. А глядишь-ты, спустилась к святому лику, и разум включился. Наносное, мирское, отринула, самое важное из души достала.