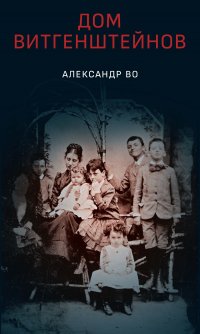
Читать онлайн Дом Витгенштейнов. Семья в состоянии войны бесплатно
- Все книги автора: Александр Во
THE HOUSE OF WITTGENSTEIN: A FAMILY AT WAR
Copyright © 2008, Alexander Waugh
All rights reserved
© ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», 2020
Часть I
Свинство
1
Венский дебют
О Вене часто – и даже несколько назойливо – пишут как о городе парадоксов. Но если вы этого не знаете и никогда там не были, представьте себе каприччио из рекомендаций австрийского совета по туризму, пирожных с густым кремом, кружек и футболок с Моцартом, новогодних вальсов, величественных зданий со статуями, широких улиц, дам преклонных лет в мехах, электрических трамваев и липицианских жеребцов. Вену в начале XX века так не преподносили. Да ее и не преподносили вовсе. В некогда незаменимом путеводителе Марии Хорнор Ленсдейл 1902 года габсбургская столица выглядит гораздо неопрятней и динамичнее, чем в сегодняшних описаниях. Во Внутреннем городе и в центре, говорится в книге, «темно, грязно и мрачно», а в еврейском квартале «в домах непередаваемо гадко. Когда поднимаешься по лестнице, то, взявшись за перила того и гляди схватишь занозу, а стены все в липкой грязи. Зайдешь в темную комнатушку – потолок покрыт сажей, а мебель чуть ли не на голове у тебя стоит»[1].
Немцу в венском трамвае иногда не с кем было словом перекинуться: в городе жили венгры, румыны, итальянцы, поляки, сербы, чехи, словенцы, словаки, хорваты, русские, далматинцы, истрийцы и боснийцы, – и жили, по всей видимости, довольно счастливо. Американский дипломат в 1898 году пишет:
Человек, который хоть какое-то время прожил в Вене, будь он чистокровнейшим немцем, женат скорее всего на галичанке или польке, его кухарка будет родом из Богемии, нянечка – из Далмации, слуга – сербом, кучер – славянином, цирюльник – мадьяром, а гувернер его сына – французом. Большинство государственных служащих – чехи, а венгры оказывают большое влияние на государственные дела. Нет, Вена – не немецкий город![2]
За границей венцев считали добродушными, беззаботными и высокообразованными людьми. Днем средний класс проводил целые часы за разговорами в кофейнях за единственной чашкой кофе или стаканом воды. Здесь лежали газеты и журналы на всех языках. По вечерам люди наряжались, чтобы идти на танцы, в оперу, театр или концертный зал. Страстно любили всяческие представления, были беспощадны к несчастному актеру, забывшему текст, или певцу, давшему петуха, а своих кумиров обожествляли, преклоняясь перед ними. Стефан Цвейг, сам родом из Вены, вспоминал это увлечение своей юности: «В то время как в политике, управлении, в обыденной жизни все вершилось довольно спокойно и по отношению к любым недочетам были снисходительны, а к любому промаху терпимы, к произведениям искусства подходили без скидок: здесь дело шло о чести города»[3].
1 декабря 1913 года почти во всей Австрии было холодно и светило солнце. К вечеру от северных склонов Карпатских гор до покатых холмов и зеленых низин альпийских предгорий разлился туман. В Вене стояла безветренная погода, на дорогах и тротуарах было тихо и непривычно морозно. День двадцатишестилетнего Пауля Витгенштейна был полон волнения и нестерпимого напряжения.
Липкие пальцы и холодные руки – кошмар любого пианиста: малейшая влага на кончиках пальцев приводит к тому, что пальцы скользят или «сбивают», случайно ударяя две соседние клавиши одновременно. Пианист с потными пальцами становится рабом своей осторожности. Если руки слишком холодные, пальцы деревенеют. Кожа не перестает потеть из-за холода, и в самом худшем случае пальцы коченеют, но остаются скользкими от пота. Многие артисты проводят тревожные час или два перед зимним концертом, погрузив руки в горячую воду.
Концертный дебют Пауля должен был начаться в половину восьмого вечера в Großer Musikvereinssaal, благословенном месте с почти идеальной акустикой, где Брамс, Брукнер и Малер не раз слушали, как впервые исполняются их работы. Именно отсюда – из «Золотого зала» – ежегодно транслируется по всему миру новогодняя вакханалия вальсов и полек. Пауль не ожидал, что на его дебют продадут все билеты. В зале было 1654 сидячих и 300 стоячих мест. Вечер понедельника, он никому не известен, а программа непривычна для венской публики. Впрочем, он отлично знал технологию скупки билетов. В детстве мама отправила его купить 200 билетов на концерт, в котором друг семьи должен был играть на скрипке. От билетной кассы его прогнали как мошенника, прикрикнув: «Если тебе нужны билеты для перепродажи, здесь ты их не найдешь!» Пауль вернулся к матери, умоляя ее послать с этим поручением кого-нибудь другого. Впервые в жизни он стыдился своего богатства.
Если в зале будет наполовину пусто, то по крайней мере как можно больше мест должна занять дружественная публика. Он хотел произвести впечатление мощной поддержки. Семья Витгенштейн была большой и крепкой. Ожидалось, что все братья и сестры, кузины и кузены, дяди и тети придут и будут оглушительно аплодировать в конце каждого произведения независимо от того, понравилось ли им исполнение. Постояльцы, слуги и дальние родственники слуг, многие из которых никогда раньше не ходили на концерты серьезной музыки, получили билеты и обязались прийти. Пауль снял бы зал поменьше, но его предупредили, что в таком случае критики могут и не появиться. А ему нужны были Макс Кальбек из Neues Wiener Tag-blatt и Юлиус Корнгольд из Neue Freie Presse, двое самых влиятельных музыкальных критиков в Вене.
Каждую деталь заботливо предусмотрели. Концерт с Венским филармоническим оркестром обошелся бы ему вдвое дороже, чем с менее престижным Tonkünstler Orchestra, но дело было не в деньгах. «Я не стал нанимать Венский филармонический оркестр вовсе не из-за цены, – писал он позднее. – Вероятнее всего, они не станут играть так, как ты этого захочешь, и тогда ты будешь выглядеть как всадник на необъезженной лошади. А потом, если концерт пройдет с успехом, могут сказать, что это исключительно заслуга оркестра»[4]. Он выбрал Tonkünstler.
Дирижер оркестра, Оскар Недбал, был на двадцать лет старше Пауля. Ученик Дворжака, композитор и первоклассный альтист, он десять лет был дирижером Чешского филармонического оркестра, а в 1906 году присоединился к Tonkünstler Orchestra. В 1930 году, накануне Рождества, он выбросился из окна четвертого этажа гостиницы в Загребе, и больше о нем не говорили.
Программа Пауля была необычной, вызывающей и провокационной. Он хотел исполнить четыре произведения для фортепиано и оркестра подряд – четыре виртуозных концерта за один-единственный вечер. Независимо от того, ждет ли молодого пианиста успех или провал, его дебют надолго запомнится как дерзкое гимнастическое выступление.
Произведения ирландского композитора-пьяницы Джона Филда, умершего от рака прямой кишки в Москве в 1837 году, в Вене давно вышли из моды.
Сейчас «пьяницу Джона» помнят как того, кто ввел форму ноктюрна – краткого фортепианного произведения мечтательного характера, позднее популяризованную Шопеном. Слуга и повар Пауля были, вероятно, не единственными зрителями, которые никогда не слышали о таком композиторе. Даже среди знатоков в 1913 году немногие сочли бы Филда достойным «Золотого зала»: у Вены было собственное наследие, самое выдающееся из всех городов мира, и тем, кто с детства впитывал Моцарта, Гайдна, Бетховена, Шуберта, Брамса, Брукнера и Малера (все они жили в то или иное время в Вене), музыка Фил-да могла показаться в лучшем случае безвкусной диковиной, а в худшем – дурной шуткой.
В истории не осталось свидетельств того, что Пауль чувствовал перед концертом, какое у него было настроение, когда он надевал фрак, грел руки в зеленой комнате, поднимался по крутым ступеням на сцену и кланялся аудитории, состоящей из друзей, незнакомцев, критиков, наставников, учителей и слуг, – но ему никогда не удавалось справиться с нервами. Позже бывало, что он бил кулаками в стены, рвал ноты или крушил мебель в комнате в напряженные последние минуты перед выходом на сцену.
Концерт Филда из трех частей длится 35 минут.
Если Пауль сразу и не заметил, ему, вероятно, доложили впоследствии, что Юлиус Корнгольд, главный критик Neue Freie Presse, вышел из зала во время аплодисментов и не вернулся послушать, как он исполняет «Серенаду и аллегро жиокозо» Мендельсона, «Вариации и фугу на тему Черни» Йозефа Лабора или грохочущий бравурный «Концерт для фортепиано с оркестром № 1» Листа. Когда они с семьей каждый день после концерта пролистывали газеты и музыкальные журналы, это странное поведение критика, должно быть, сильно действовало им на нервы.
Людвиг, младший брат Пауля, не мог прийти на выступление – его не было в Вене. За три месяца до концерта он уехал из Англии (где изучал в Кембридже философию) и поселился в двух комнатах в доме почтмейстера в крошечной деревушке на берегу фьорда к северу от Бергена в Норвегии. Как пишет в дневнике его близкий друг, решение подвергнуть себя добровольному изгнанию было «диким и безумным». В сентябре он решил, что хочет удалиться от мира, где «постоянно чувствует презрение к окружающим и раздражает других своим нервным темпераментом»[5]. В это же самое время он страдал (как это часто бывало) от навязчивых мыслей о смерти. «Чувство, что я умру, прежде чем опубликуют мои идеи, растет с каждым днем»[6], – писал он своему учителю и наставнику в Кембридже. Через две недели потрясение побудило его действовать – он получил письмо, в котором сообщалось, что его сестра Гретль с мужем Джеромом переезжают в Лондон. «Он их не переносит и не сможет жить в Англии и постоянно терпеть их визиты», – пишет друг[7]. «Отправляюсь немедленно, – заявил Людвиг, – мой зять переезжает в Лондон, а я не вынесу, если буду так близко».
Вся семья хотела, чтобы Людвиг приехал на концерт Пауля и на Рождество, но он противился, долг подчиниться тяготил его. Семья его огорчала, прошлое Рождество прошло ужасно, он был в дурном настроении, а философская работа продвигалась с черепашьей скоростью. «К СОЖАЛЕНИЮ, я должен ехать в Вену на Рождество, – писал он своему другу. – Дело в том, что моя мать очень хочет меня видеть, так сильно, что страшно обидится, если я не приеду; и у нее сохранились такие плохие воспоминания об этом времени в прошлом году, что я не в силах отказаться»[8].
2
В это время в прошлом году
Рождество в зимнем Пале Витгенштейн на Аллеегассе в венском районе Виден традиционно превращалось в экстравагантное и торжественное действо, которому все семейство придавало огромнейшее значение, но Рождество 1912 года (за год до концертного дебюта Пауля) отличалось от всех остальных, поскольку общая энергия и энтузиазм поутихли перед мрачным осознанием того, что глава семьи (отец Пауля и Людвига – Карл Витгенштейн) – крепкий и плотный по комплекции – умирал в своей спальне наверху. Он страдал от рака языка и месяц назад лег под скальпель известного венского хирурга барона Антона фон Эйсельсберга. Чтобы добраться до пораженной части, доктору фон Эйсельсбергу пришлось сначала удалить большую часть нижней челюсти Карла. Только тогда он смог приступить к удалению лимфатических узлов шеи, дна ротовой полости и того, что еще оставалось от языка Карла после прошлых операций. Кровотечение останавливала команда ассистентов при помощи новейшей технологии прижигания электрическим током.
Всю свою сознательную жизнь Карл курил большие кубинские сигары, и продолжал курить даже после того, как семь лет назад проявились первые симптомы его болезни. Потом доктора порекомендовали ему придерживаться постельного режима. В итоге он перенес семь операций, но рак продолжал обходить каждую хитрость доктора фон Эйсельсберга, продвигаясь кружными злокачественными путями от щитовидки к уху и горлу, и в конце концов к языку. Последняя операция прошла 8 ноября 1912 года. Эйсельсберг предупредил, что есть риск смертельного исхода, и за день до того, как врачи начали точить инструменты, Карл с Леопольдиной удалились в сумрак роскошного Musiksaal. Он взял скрипку, она села за фортепиано, – вместе они играли самые любимые произведения Баха, Бетховена и Брамса, долго, без слов прощаясь друг с другом.
На следующее утро в центре простой, хорошо освещенной операционной с сияющей плиткой доктор фон Эйсельсберг удалил опухоль из ротовой полости Карла. Возможно, ему наконец удалось уничтожить последние следы рака, но для Карла – вялого, онемевшего и ослабленного вторичной инфекцией – было слишком поздно. Он уехал из клиники, чтобы умереть дома. Итак, в Рождество 1912 года, обессилевший, он лежал в лихорадке, а семья собралась вокруг в мрачном ожидании.
3
Мятеж Карла
Гермина (произносится Герми́на), по-домашнему – Мининг, была первым и самым любимым ребенком из девяти детей Карла; ее назвали в честь дедушки, Германа Витгенштейна. Ее рождение отмечает поворотную точку на пути к успеху в делах Карла, и потому он всегда относился к ней как к талисману. Когда он умирал, ей было тридцать девять лет, она никогда не была замужем и до сих пор жила дома, находясь в полном его распоряжении. Она была замкнутой и сдержанной, с неестественно прямой осанкой, скованными движениями; те, кто плохо знал Гермину, могли счесть ее высокомерной и даже надменной. На самом деле она была весьма неуверенной в себе и чувствовала себя неловко в компании незнакомцев. Когда на обед пришел Брамс и ей разрешили сесть с ним за стол для почетных гостей, она так разволновалась, что убежала из комнаты и провела почти весь вечер в одной из уборных Пале – ее тошнило. На фотографиях юная Гермина выглядит проворной, женственной, может быть, даже хорошенькой, но из-за безотчетной потребности в уединении она всегда с подозрением относилась к мужчинам. Говорят, в лучшие времена у нее была пара поклонников, но ни один из них не оказался достаточно пылким, чтобы лишить ее девственности.
С годами она отдалилась ото всех, кроме самого близкого дружеского и семейного круга. Улыбка все реже появлялась на ее лице, она была нелюдимой, собранной, настороженной и педантичной. Даже в самые жаркие дни Гермина ходила в мрачных закрытых платьях, гладко зачесывала волосы назад и сворачивала конский хвост в пучок на затылке. Большие уши и заметный выступающий нос она унаследовала от отца. В последние годы жизни она походила на статного армейского офицера, наслаждающегося ранней отставкой, наподобие капитана фон Траппа в «Звуках музыки».
Несмотря на стеснительность, Гермина была талантливым пианистом и хорошей певицей, но больше всего она любила рисовать. В начале 1890-х годов, когда отец купил Пале (за 250 000 флоринов у обанкротившегося застройщика, который построил его для себя двадцать лет назад), Гермина вдохновила его начать собирать коллекцию произведений искусства и помогала ему в этом. Сначала ей позволяли выбирать работы и решать, где и как их можно выставить – отец в шутку называл ее в те дни «мой арт-директор», – но как только он взял дело в свои руки, она понемногу уступила позиции и вскоре превратилась лишь в тень деспотического отца-энтузиаста. Впрочем, она оставалась его ближайшим соратником, ездила с ним в утомительные поездки, инспектируя его фабрики и мельницы по всей империи Габсбургов, устраивала его деловые приемы, предлагала многочисленные улучшения в охотничьем поместье в горах. За несколько недель до последней операции она терпеливо сидела у его постели, записывая автобиографические заметки, которые он диктовал ей, срываясь в хрипящее стаккато одышки:
1864. Порекомендовали покинуть школу и учиться до выпуска в частном порядке.
Убежал из дома в январе 1865 года.
Два месяца жил в съемной комнате на Крюгер-штрассе.
Взял с собой скрипку и 200 флоринов, которые принадлежали сестре Анне.
Увидел в газетном объявлении просьбу молодого студента о помощи и дал ему денег в обмен на паспорт.
На границе, в Боденбахе, власти потребовали все паспорта. Пришлось ждать в большой комнате.
Был вызван лично для обыска двумя пограничниками. Фальшивый паспорт прошел проверку[9].
Так называемая рекомендация покинуть школу была тем, что немцы и австрийцы называют consilium abeundi, – Карла фактически исключили. Герман Христиан Витгенштейн, которого часто приводила в ярость нерасторопность сына, в этот раз пытался сдержать упреки. Карл всегда давал повод для беспокойства, всегда был несговорчивым, упрямым и трудным ребенком, «себе на уме», и возникало немало ситуаций, когда приходилось его наказывать, – к примеру, однажды он заложил свою скрипку, чтобы купить стеклорез, в другой раз подкрутил что-то в башенных часах так, что те стали бить каждые пятнадцать минут и будили домашних через равные промежутки времени всю ночь; а как-то «одолжил» один из отцовских экипажей и повез сестру с ее другом кататься, но гнал слишком быстро, и экипаж разбился на мосту, так что приятель сестры сломал нос. Что уж говорить про тот случай, когда он убежал из школы в соседний город Клостернойбург? Ему было всего одиннадцать, и он выбросил дорогое пальто, чтобы сойти за уличного мальчишку. Когда Карл попрошайничал у дверей кофейни, его узнал мэр города. Его приютили на ночь, а наутро вернули разъяренным родителям.
Герман любил и всячески баловал старшего сына Пауля, тайком подсовывал ему подарки и воспитывал наследником своего состояния, но с Карлом, третьим сыном, он никогда не ладил. С самого начала они относились друг к другу прохладно и с недоверием, враждовали, и так продолжалось до смерти Германа в мае 1878 года. Гермина говорила, что отец и дед различались по характеру. Они были слишком разные, «как мел и сыр», сказали бы англичане, Tag und Nacht (как день и ночь), выразилась она. Карл был веселым, непредсказуемым и свободолюбивым, Герман – нудным, скупым и бескомпромиссным. Во всем остальном они были похожи: оба властные и неуступчивые, они враждовали не на шутку скорее из-за сходных недостатков, чем из-за различий.
Во второй раз Карл сбежал неожиданно, без предупреждения и объяснения причин. Стоял январь 1865 года. Ему было семнадцать. Сначала подумали, что произошел несчастный случай. Подморозило, мела страшная метель. Вену сковал лед, и все дороги, ведущие в город, занесло глубокими сугробами. Фотографию Карла раздали полицейским, те уверенно предсказывали скорое возвращение, но дни складывались в недели, недели превращались в месяцы, а Карла все не могли найти. Напряжение в семье Витгенштейн выросло настолько, что скоро никто не осмеливался даже упомянуть имя мальчика при родителях.
Из пограничного пункта в Боденбахе Карл держал путь в порт Гамбурга и там поднялся на борт корабля, следующего в Нью-Йорк. Он прибыл туда в начале весны, у него не было за душой ни гроша, только одежда, в которой он приехал, и дорогая скрипка в руках. Поначалу он устроился работать официантом в ресторан на Бродвее, но через пару недель ушел, чтобы выступать с группой бродячих музыкантов. Из-за убийства президента Линкольна 14 апреля в театре Форда во всех штатах запретили театральные и музыкальные представления, и группа Карла распалась. Вскоре он уже перегонял баржу, груженную прессованной соломой, из Нью-
Йорка в Вашингтон, и остался там на полгода, подавая виски в переполненном Nigger-bar.
Главной задачей было отличить одного черного от другого, чтобы понять, кто платил, а кто нет. Владелец бара сам не различал черных.
Впервые прилично заработал.
Одетый с иголочки вернулся в ноябре в Нью-Йорк и в первый раз написал домой[10].
Память подводила умирающего. На самом деле первое письмо – несколько скупых строк – он отправил тремя месяцами раньше, в сентябре 1865 года, слуге Витгенштейнов, с которым он дружил. Результат не заставил себя ждать: на него обрушился шквал писем от братьев и сестер, от матери из Вены, но ничего – от отца: Карл так и оставался у него в немилости. Сначала отвечать было стыдно, но его молчание побудило сестру написать письмо, умолявшее поговорить с родителями. Карл написал, но не им, а ей: «Я не могу писать родителям; раз я не осмелюсь сейчас предстать перед ними и попросить у них прощения, то уж тем менее я способен сделать это на бумаге, которая стерпит все и не покраснеет. Я сделаю это, когда подвернется случай показать им, что я исправился»[11].
Месяцами ситуация не сдвигалась с мертвой точки, но мать, жаждущая получить хоть словечко от блудного сына, забрасывала его письмами и денежными переводами. Карл все еще не мог решиться ей ответить. 30 октября он написал брату Людвигу (которого в семье звали Луис):
Мамино письмо меня ужасно обрадовало. Когда я читал его, у меня так билось сердце, что я едва мог продолжать… Сейчас я разношу еду и напитки. Ра-
бота нетрудная, но нужно держаться до 4 утра… У меня только одно желание – ты, вероятно, его уже угадал, – наладить отношения с отцом. Когда я займусь бизнесом, то напишу ему, но здесь вести бизнес очень сложно, так что не удивляйся, что я все еще не нашел другую работу[12].
Карл устал и душевно, и физически. Он впал в депрессию и шесть месяцев страдал от ужасной диареи (возможно, дизентерии), отчего совершенно пал духом и исхудал. С большим трудом он собрался с силами и написал матери:
Можешь считать меня негодным сыном, ведь я благодарю тебя только теперь, когда получил столько твоих писем, а сам не писал, но я никак не могу обрести внутренний покой, который нужен, чтобы написать родителям. Каждый раз, когда я думаю о тебе и о братьях и сестрах, я чувствую стыд и сожаление… Дорогая мама, пожалуйста, поговори с отцом обо мне и будь уверена в искренней признательности твоего сына[13].
О прямой переписке с отцом пока не шло и речи, по крайней мере до тех пор, пока он не найдет себе работу получше, чем барменом. Вернувшись из Вашингтона в Нью-Йорк, он стал давать уроки математики и скрипки в христианской школе на Манхэттене, но, не справившись с учениками, ненадолго устроился ночным сторожем в приют для обездоленных детей в Вестчестере. После этого он пошел преподавать в небольшом колледже в Рочестере, там хорошо кормили и платили приемлемое жалование – впервые с тех пор, как он прибыл в Америку. Только теперь он снова мог думать о Вене и об отце.
4
Предприниматель
Весной 1866 года Карл вернулся из Нью-Йорка. Его не ждал оркестр и красная ковровая дорожка, да и сам вид его только усугублял страдания, причиненные семье его побегом. Выглядел он ужасно – тощий, в поношенной одежде, сам не свой, – и изъяснялся на смеси ломаного немецкого и сленга янки.
Мать предупреждала Карла в письмах, что по возвращении от него ждут, что он займется сельским хозяйством. «Если отец непременно настаивает, чтобы я работал на ферме, я, разумеется, этим займусь», – писал Карл брату Луису[14]. Все еще в немилости, едва приехав, он отправился на одну из арендованных ферм отца недалеко от маленького торгового городка Дойчкройц, который в то время был частью немецкой западной Венгрии. Его отослали туда, чтобы он восстановил силы и проникся энтузиазмом по отношению к деятельности отца.
Герман Витгенштейн не был фермером в привычном смысле этого слова: он в жизни не вспахал ни единого поля и не подоил ни одной коровы. Успехом в делах он был обязан партнерству с родственниками, богатыми венскими торговцами Фиг-дорами. Ко времени рождения Карла в 1847 году Герман торговал шерстью и жил в деревне Голис недалеко от Лейпцига в Саксонии. Через четыре года они с женой и детьми переехали в Австрию: там он выступал в роли посредника или управляющего недвижимостью, превращая обветшавшие поместья безответственных аристократов в процветающие имения в обмен на проценты от прибыли. Деньги, вырученные от этого дела, а также от сотрудничества с Фигдорами (те торговали углем, зерном, лесом и шерстью – товарами из этих поместий), он благоразумно инвестировал в собственность в Вене.
Несмотря на крайнюю скупость, Герман с семьей жили «подобающе». В Австрии он снял знаменитый дворец в Бад-Фёслау, через три года переехал в огромный, похожий на куб дворец с башнями в Фёзендорфе в девяти милях к югу от Вены (теперь там ратуша и музей велосипедов). Позже он занял основную часть арендованного дворца в Лаксенбурге, изначально построенного для канцлера императрицы Марии Терезии, Антона фон Кауница. Младшая дочь Германа, Клотильда (она закончила свои дни затворницей, став в Париже морфинисткой) – единственная из одиннадцати детей, кто родился в Австрии. Карл был шестым ребенком и третьим, самым младшим, сыном.
Герман Витгенштейн никогда не осыпал детей деньгами, он был уверен, что они сами должны пробить себе путь в жизни. Он считал Карла самым бестолковым из трех сыновей, но строгая экономия вместе с непрерывным осуждением и пренебрежением к способностям Карла привели только к тому, что в ожесточенном сердце мальчика разгоралось непреклонное желание доказать, что отец ошибается.
Под конец карьеры Карлу нравилось, что его называют «человеком, который сделал себя сам», хотя это определение верно лишь отчасти. Огромное состояние он заработал, конечно, при помощи своей энергии и деловой хватки, но, как и многим soi-disant[15] «селф-мейд» людям, Карлу следовало бы принять во внимание, что он женился на весьма обеспеченной леди, без чьей щедрой поддержки на начальном этапе пути от наемного работника до владельца капитала он мог никогда не добиться успеха.
Историю роста Карла Витгенштейна от американского бармена-бунтаря до австрийского «стального магната-мультимиллионера» проследить несложно. Проведя год на ферме в Дойчкройце, он поступил в Высшую техническую школу в Вене, усваивая только те знания, которые, как Карлу казалось, пригодятся ему впоследствии, пропуская вечерние лекции и работая за гроши, чтобы набраться опыта, на фабрике Staatsbahn (Национальной железнодорожной компании). В 1869 году он ушел из университета, так и не получив диплом, и следующие три года работал в разных местах: помощником инженера-конструктора на морской верфи в Триесте; в турбиностроительной компании в Вене; на венгерской северо-восточной железной дороге в Сатмаре и Будапеште; на сталелитейном заводе Neufelch Schoeller в Тернице и, наконец, в курортном городе Теплице, где его сначала взяли на неполный рабочий день – помогать разрабатывать проект нового железопрокатного завода. Управляющий взял Карла из уважения к фамилии и не ждал от него многого, но вскоре, благодаря энергичности, оригинальности мышления и способности быстро решать любые деловые вопросы и инженерные проблемы, Карл получил на заводе полную ставку.
Наконец-то почувствовав себя в безопасности, с годовым окладом в 1200 гульденов, он решился просить руки своей возлюбленной. Леопольдина Кальмус была сестрой женщины, которая снимала крыло дворца в Лаксенбурге. Мать Карла прохладно приняла весть о помолвке сына, сомневаясь, что из него выйдет хороший муж. Будущей невестке она написала: «У Карла доброе сердце, но он слишком рано покинул родительский дом. Что касается финальных штрихов его воспитания, надежности, последовательности, самообладания – всему этому, я надеюсь, он научится рядом с вами»[16].
Герман, которому еще только предстояло встретиться с мисс Кальмус, выказывал меньше одобрения. Покойный отец невесты был виноторговцем. Она была наполовину еврейка и к тому же католичка, разом оскорбив и его протестантскую мораль, и антисемитский настрой. На самом деле Леопольдина была дальней родственницей жены Германа, миссис Витгенштейн – обе вели свое происхождение от раввина Исаака Брилина, жившего в XVII веке, но Герман тогда мог этого и не знать. В любом случае он давно наказал детям не вступать в брак с евреями. Из одиннадцати детей не послушался только Карл. Герман имел законное право запретить свадьбу, и Карлу надлежало попросить разрешения отца на брак. Он последовал правилам, но так небрежно и бесцеремонно, что привел отца в ярость.
Герман лежал в постели, жалуясь на боль в пояснице, когда сын в хорошем настроении приехал из Теплице. Карл предложил сделать массаж, чтобы унять боль, и едва отец принял горизонтальное положение, издавая стоны в подушку, Карл как бы невзначай обмолвился, что он проездом в Аусзе, где хочет сделать мисс Кальмус предложение. Поднимался ли в тот момент вопрос о ее вероисповедании, история умалчивает, но когда Карл стал превозносить красоту и добродетели будущей невесты, Герман резко оборвал его. «Все они поначалу такие, – сказал он, – пока не сбросят овечью шкуру!»[17]Лишь когда о помолвке объявили официально, старик написал невестке:
Дорогая мисс,
мой сын Карл, в отличие от его братьев и сестер, всегда, с самого раннего детства, следовал собственному пути. В конце концов, может быть, это не такой уж и серьезный недостаток. Он даже попросил моего согласия на помолвку – правда, когда уже ехал просить вашей руки. Раз он вас так хвалит, и раз его сестры горячо его поддерживают, я не чувствую себя вправе чинить вам препятствия, и могу только желать, чтобы ваши мечты и надежды на счастливое будущее сбылись. Примите пока такое выражение моего искреннего расположения к вам, по крайней мере пока не представится возможность встречи.
Искренне ваш
Г. Витгенштейн[18]
Карл и Леопольдина поженились в день Святого Валентина, 14 февраля 1874 года, в капелле знаменитого венского католического Собора Святого Стефана. День был ветреный. На крыше собора сияла, как чешуя экзотической рыбы, разноцветная полированная черепица, а высоко на фронтальном портале среди резных фигур, олицетворяющих уродство и зло, лик еврея в pileum cornutum[19]будто бы искоса поглядывал на входящих Германа и гостей. Когда обряд был завершен, все собрались поприветствовать жениха и невесту – но Карл, придя в ярость от нерасторопности кучера, двинул кулаком в окно экипажа, с криком: «Какого черта! Ты вообще собираешься ехать?»[20]От удара разбилось стекло, и он порезал руку; кровь капала на чистый пол экипажа.
Молодожены уехали жить в Айхвальд, недалеко от Теплице, но проработать с хорошим окладом Карлу удалось не так долго, как он ожидал. Вскоре он оказался в эпицентре внутреннего конфликта, на пике которого уволился, протестуя против грубого отношения председателя правления к его другу, управляющему директору. Год он оставался без работы (как раз в это время родилась Гермина), а летом 1875 года подрабатывал инженером в одной венской организации. Когда Карл год провел в столице, враг-председатель сам уволился из Теплице, и Карла восстановили в прежней компании, на этот раз с местом в правлении. Завод находился в бедственном положении, но Карл смог переломить ситуацию, в острой конкуренции отвоевав крупный заказ на железнодорожные рельсы у Круппа. Для этого он преследовал русского финансиста, строителя железных дорог Самуила Полякова, который как раз был в поездке по Европе, и убедил его купить более легкие и дешевые рельсы, чем у конкурентов. Для войны с турками русским нужны были рельсы для проведения военной кампании на Балканах. По условиям сделки Карл должен был производить рельсы до тех пор, пока Поляков не телеграфирует, что пора остановиться. Когда это указание наконец-то поступило, Карл сообщил русским, что во дворе завода сложено несколько тысяч готовых к отправке рельсов – ложь, конечно, но она гарантировала, что и финальный платеж будет гораздо больше.
В бизнесе Карл был игроком: размерами своего огромного состояния он был равно обязан как тяжелой работе и живой интуиции, так и успеху рискованных предприятий. Он давал обещания, не зная, сможет ли он их исполнить, соглашался покупать компании и акции на деньги, которых у него не было; выставлял на продажу то, что уже обещано другим клиентам. В конечном счете он всегда полагался на свой ум, помогавший ему выпутываться из проблем, которые сам же себе и создал. «Промышленник должен рисковать, – писал он. – Нужно быть готовым поставить на карту все, если потребуется, даже рискуя не получить желаемых результатов, потерять все и начать с нуля»[21].
В 1898 году, в 51 год он вернулся в Вену после долгого отпуска за границей и объявил, что уходит из бизнеса. Тут же он сложил все свои директорские полномочия и ушел со всех управляющих позиций, и в последующие годы внимательно следил за тем, что происходит в промышленности, из своего кабинета на Крюгерштрассе, двери которого были постоянно открыты, «чтобы министр торговли всегда мог заскочить за советом». На момент отставки он находился на пике карьеры. За все время он успел побывать владельцем и главным акционером Богемской горнодобывающей компании, Пражской железоделательной компании, сталелитейного завода в Теплице, Альпийской горнодобывающей компании, хозяином фабрик поменьше, металлопрокатных предприятий, шахт и рудников по всей империи. Он занимал места в правлениях минимум трех крупных банков и компании, производящей боеприпасы, владел великолепными и ценными коллекциями мебели, произведений искусства, фарфора и подлинных музыкальных рукописей-автографов, которые хранил в трех своих главных австрийских резиденциях.
До тех пор пока позволяло здоровье, Карл посвящал часть освободившегося времени личным увлечениям – охоте, стрельбе, фехтованию, верховой езде, оценке и коллекционированию произведений искусства, писал статьи о бизнесе и экономических вопросах, играл на скрипке, летом долго гулял по альпийским лугам. Бессмысленно строить предположения, сколько у него было денег. Карл Менгер, его двоюродный брат, писал, что состояние Витгенштейна до Первой мировой войны «оценивалось в 200 миллионов крон, что сопоставимо по меньшей мере с тем же количеством долларов после Второй мировой войны»[22]. Но эти цифры бессмысленны. Он был колоссально богат.
5
Брак с наследницей
Джером Стейнбергер был сыном обанкротившегося импортера лайковых перчаток из Нью-Йорка[23]. Его отец, Герман, совершил самоубийство в Рождество 1900 года. Одна из теток со стороны Стейнбергеров бросилась в реку Гудзон. Считается, что его дядя, Якоб Стейнбергер, тоже покончил с собой в мае 1900 года. Джером предпринимал отчаянные попытки спасти семейное дело, но потерпел поражение, сменил фамилию на Стонборо и пошел на гуманитарный факультет чикагского колледжа. Его отец, иммигрант из Нассау в Саксонии, по слухам, застраховал свою жизнь на сто тысяч долларов. Сестра Айме вышла замуж за Уильяма, белую ворону в могущественном клане Гуггенхаймов[24].
В 1901 году, называя себя «доктор Стонборо», Джером впервые съездил в Вену, а через год вернулся изучать медицину. Неизвестно, где и как он обратился из иудаизма в христианство (и так ли это), но 7 января 1905 года, через три месяца после еврейской свадьбы его сестры в Нью-Йорке, он снова был в Вене, и в один из самых холодных дней в истории Австрии дрожал перед алтарем протестантской церкви на мощенной булыжником Доротеергассе рядом с высокой, нервной 22-летней венской невестой.
Друзья звали ее Гретль, хотя при крещении ей дали имя Маргарита, и на самом деле ее должны были звать на английский манер – Маргарет. Она была младшей дочерью Карла и Леопольдины Витгенштейн. Среди ее родственников были судьи, военные, врачи, ученые, покровители искусств и государственные чиновники – и все выдающиеся. К стенам церкви над тем местом, где они с Джеромом обменялись клятвами, были прикреплены три полированные дощечки: «Да приидет Царствие твое», «Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его» и «Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!»
Почему у Джерома и Гретль возник романтический интерес друг к другу, непонятно. Она была из музыкальной семьи, он – нет; она искала общения, он по возможности избегал его. Впрочем, оба питали стойкий интерес к наукам и медицине: она в подростковом возрасте вышила подушку для своей спальни, изобразив на ней человеческое сердце с коронарными сосудами и артериями. После банкротства отца, должно быть, Джерома вдохновляла перспектива получить доступ к ее огромному наследству – в конце концов, она была дочерью одного из самых богатых людей империи Габсбургов. Возможно, ее, в свою очередь, привлекли в нем нетерпеливость, властность, волевой характер, непредсказуемое настроение – что очень напоминало ей отца. Такие предположения по поводу Гретль и Джерома, возможно, не очень справедливы, но между Джеромом Стонборо и Карлом Витгенштейном существовало явное сходство, и даже если Джером намеревался жениться на Гретль не из-за состояния, он явно оценил роскошный, переполненный сокровищами дворец ее отца в Вене.
Гретль была на девять лет младше и на несколько дюймов выше американского мужа, тщедушного темноглазого брюнета. Глядя на сохранившиеся фотографии, ее не назовешь красавицей, по крайней мере в обычном значении этого слова, но фотоискусство могло быть к ней несправедливо: многие, знавшие ее лично, считали ее весьма и весьма привлекательной. «Она обладала „необычной“ красотой, – говорит один, – и была элегантной на экзотический лад. Арки волос надо лбом делают ее внешность неповторимой»[25]. Густав Климт попытался ухватить эти неуловимые нюансы в полноростовом портрете, заказанном миссис Витгенштейн незадолго до свадьбы дочери.
Гретль возненавидела картину, она ругала Клим-та за то, что он «неточно» изобразил ее рот, что она позже исправила при помощи другого, менее известного художника. Но и тогда картина ей не понравилась, поэтому она бросила ее пылиться на чердаке. Посетители Новой Пинакотеки в Мюнхене, где картина находится сейчас, могут сами поразмышлять, почему натурщица была так разочарована. Они могут указать на темные круги под глазами Гретль, которые выдают ее усталость, сомнения, возможно, испуг. Можно отметить, что она стоит напряженная, расстроенная, в пышном, не слишком ей идущем белом шелковом платье с открытыми плечами, указать на бледность ее рук, нервно сплетенные на животе пальцы. Внимательно изучив ее портрет, посетитель никогда не узнает причин всего этого – причин, не связанных с опасениями по поводу ее замужества или даже со стеснительностью, с которой она позирует перед сексуальным хищником Климтом. В мае 1904 года, когда Климт начал работу над картиной, брат Гретль, самый близкий ей по возрасту, добрый товарищ детства, неожиданно театрально, напоказ принял яд.
6
Смерть Рудольфа Витгенштейна
На момент смерти Рудольфу Витгенштейну, которого в семье звали «Руди», исполнилось 22 года, он был студентом-химиком в Берлинской академии. По общему мнению, он был интеллигентным, образованным, привлекательным молодым человеком, страстно увлекался музыкой, фотографией и театром. Летом 1903 года, обеспокоенный одной из особенностей своей личности, которую он сам назвал «мои извращенные пристрастия»[26], он искал помощи у Научно-гуманитарного комитета, благотворительной организации, которая боролась за отмену 175-й статьи уголовного кодекса Германии – драконовского закона против die widernatürliche Unzucht (неестественных сексуальных актов). Комитет публиковал ежегодный отчет о своей деятельности под витиеватым названием Jahrbuchfür sexuelle Zwischenstufen unter besonderer Berüchsichtigung der Homosexualität («Ежегодник транссексуальности и особых вопросов гомосексуальности»), и в одном из выпусков известный сексолог, доктор Магнус Хиршфельд детально описывает конкретные проблемы неназванного студента-гомосексуала в Берлине. Руди, боясь, что по этой статье его узнают, немедленно устремился к фатальному исходу. Такова, по крайней мере, одна из версий. Нижеописанные факты менее спорны.
2 мая 1904 года в 21:45 Руди зашел в бар-ресторан на Браденбургштрассе в Берлине, заказал два стакана молока и поесть. Ел он, заметно волнуясь. Поужинав, он попросил официанта передать пианисту бутылку минералки с просьбой сыграть популярные куплеты Томаса Кошата Verlassen, verlassen, verlassen bin ich:
- Покинут, покинут, покинутый я!
- Как камешек брошенный я без тебя,
- В слезах на коленях в часовне моей
- Я буду молиться при свете свечей.
- В лесу есть полянка, где много цветов,
- Там спит моя радость, вот только любовь
- Не в силах ее никогда оживить,
- И век без нее мне покинутым быть.
Как только раздалась музыка, Рудольф достал из кармана мешочек с бесцветными кристалликами и растворил их в стакане молока. Если проглотить цианистый калий, он моментально вызывает агонию: в груди все сжимается, в горле ужасно жжет, кожа бледнеет, начинаются рвота, кашель и конвульсии. Через две минуты Рудольф откинулся на стуле без сознания. Хозяин послал посетителей привести врачей. Пришли трое, но было уже слишком поздно.
На следующий день в новостной заметке в газете говорилось, что на месте происшествия нашли несколько предсмертных записок. В одной из них, адресованной родителям, Руди признавался, что убивает себя от горя из-за смерти друга. Два дня спустя его останки забрали из берлинского морга в Вену, и там без почестей похоронили. Боль и унижение его отца, Карла, трудно передать. Не успели похороны закончиться, как он погнал все семейство с кладбища, запретив жене даже оглядываться на могилу. В дальнейшем ни жене, ни другим членам семьи не разрешалось упоминать имя Рудольфа в его присутствии.
Через восемь месяцев после похорон, когда Гретль с новоиспеченным мужем выходили из церкви, в которой только что обвенчались, невеста передала замерзший свадебный букет надежному другу с просьбой отнести туда, где похоронен ее брат, и рассыпать цветы в память о нем на его могиле.
7
Трагедия Ганса
Решение Карла запретить говорить о Рудольфе было продиктовано не отсутствием чувств по этому поводу, а их избытком: если дать им волю, они окажутся разрушительными. Присутствовали и практические соображения: он хотел, чтобы семья сплотилась и не горевала, чего можно было достичь только жестким запретом. Но если он собирался объединить домочадцев, трудно было придумать что-то хуже цензуры. В доме из-за запрета повисло невыносимое напряжение, дети отстранились от родителей, и исправить это уже не удастся никогда. Карла за глаза обвиняли в том, что он чрезмерно давит на сыновей, заставляя их выбрать профессию, куда обязательно входили бы две дисциплины, которые помогли ему сколотить состояние – инженерное дело и бизнес. Фрау Витгенштейн, Леопольдину (или Польди, как ее звали в кругу семьи) дети обвиняли в том, что она не могла противостоять мужу-тирану, что она нерешительна и пуглива, как мышка. Больше чем через сорок лет после смерти брата Гермина с горечью писала:
Когда мой семилетний брат Руди сдавал вступительные экзамены в школу, он расстроился и испугался, когда экзаменатор сказал матери: «Он очень нервный ребенок, вам нужно быть к нему повнимательней». Я часто слышала, как это высказывание повторялось с иронией, словно какой-то абсурд. Мать не могла всерьез предположить, что ее ребенок может быть слишком нервным, для нее это было немыслимо[27].
Разговоры о самоубийстве Рудольфа в семье из-за отцовского запрета превратились в тайные совещания, отчего факты со временем исказились по принципу испорченного телефона. Например, ходили слухи, что он покончил с собой из-за того, что изнеженное венское воспитание не подготовило его к сложностям студенческой жизни в Берлине; или что отец запретил ему учиться на актера, или что он подхватил венерическую болезнь, от которой тронулся умом. Среди множества предположений ходило немало нелепиц, и все же это ничто по сравнению со сплетнями, связанными с исчезновением еще одного брата, Иоганнеса (его называли Ганс).
Как сказал бы Оскар Уайльд: «Потерю одного сына еще можно рассматривать как несчастье, но потерять двоих похоже на небрежность». Как ни странно, самоубийство Руди не первая трагедия в доме Витгенштейнов: двумя годами ранее старший сын Карла, Ганс, исчез без следа. Это тоже запрещалось обсуждать.
На детских фотографиях у Ганса угловатая голова и заметное косоглазие, по всей видимости, он был немного слабоумным. Сегодня сказали бы, что у него «синдром саванта»: это отсталый ребенок с необычайным даром в одной области, например, обладающий поразительной памятью или умеющий быстро считать в уме. Ганс был болезненно застенчив, с богатым внутренним миром. Крупный и неуклюжий, упрямый и с трудом поддающийся воспитанию, он был, по мнению старшей из сестер, «очень особенным ребенком». Первое сказанное им слово было «Эдип».
С раннего детства он испытывал странное влечение переводить внешний мир в математические формулы. Однажды вечером, когда он еще был ребенком, они с сестрой гуляли по Городскому парку Вены. Увидев красивую беседку, он спросил, может ли она представить, что беседка сделана из алмазов. «Да, – ответила Гермина. – Как было бы здорово!»
«Позволь-ка», – сказал он и уселся на траве, пытаясь сопоставить годовой доход южноафриканских алмазных шахт со всеми богатствами Ротшильдов и американских миллиардеров, мысленно измерить всю беседку целиком, включая орнамент и чугунные кружева, и медленно и последовательно построить изображение, пока – внезапно – не остановился. «Я не могу продолжать, – признался он, – поскольку не могу представить алмазный павильон выше вот такого», – он поднял руку на высоту около метра над землей. – «А ты можешь?»
«Конечно, – ответила Гермина. – А что не так?»
«Ну, нет таких денег, чтобы купить еще больше алмазов».
При всей своей математической смекалке Ганс питал неизменный интерес к музыке, и здесь он был феноменально талантлив. В четыре года он мог определить эффект Доплера в падении на четверть тона высоты звука проносящейся мимо сирены; в пять он бросился на землю в слезах с криками: «Не так! Не так!» – когда два духовых оркестра на разных концах длинной карнавальной процессии одновременно играли два марша в разных тональностях. Когда семья отправилась на концерт знаменитого Joachim Quartet в Kleiner Musikvereinssaal, Ганс отказался идти. Его не интересовали музыкальные интерпретации, вместо этого он лежал дома на полу, разложив перед собой партитуру концерта. И хотя он ни разу не слышал произведения, он смог, просто изучив партии по отдельности, создать в уме ясное представление о том, как будут звучать вместе четыре музыкальные линии, и благодаря этому сыграть все произведение по памяти на фортепиано родителям, когда они вернулись.
Несмотря на то что Ганс был левшой, он достойно играл на скрипке, органе и фортепиано. Юлиус Эпштейн, учитель Малера и известный преподаватель фортепиано в Венской консерватории, однажды назвал его «гением», но всю искусность и проблески тепла в исполнении Ганса портили чрезмерная порывистость и непроизвольные всплески напряжения, типичные для его характера с ранних лет. Гермина, объясняя их напряженной, закипающей атмосферой дома Витгенштейнов, заключила:
Это трагедия, что наши родители, несмотря на их высокую нравственность и чувство долга, так и не смогли добиться гармонии в отношениях друг с другом и с детьми; это трагедия, что сыновья так отличались от отца, будто он взял их в сиротском доме! Он испытал, по-видимому, горькое разочарование, что никто не последовал его примеру и не продолжил работу всей его жизни. Одно из самых больших отличий – и самое трагичное – заключалось в том, что сыновьям с детства не хватало его энергии и воли к жизни[28].
Так что же на самом деле случилось с Гансом? Короткая заметка в Neues Wiener Tagblatt от 6 мая 1902 года гласит: «Промышленника Карла Витгенштейна постигло ужасное несчастье. С его старшим сыном Гансом (24 лет), находившемся на учебе в Америке около трех недель, произошел несчастный случай при катании на каноэ»[29]. По дате этой короткой заметки можно предположить, что Руди выбрал вторую годовщину «ужасного несчастья» с братом в качестве знаменательной даты, подходящей, чтобы покончить с собственной жизнью в Берлине. Но если Ганс действительно убил себя 2 мая 1902 года, Витгенштейны еще долго открыто этого не признавали, и эту краткую заметку, в которой ничего не говорится о дальнейшей судьбе Ганса, ни в коей мере нельзя считать последним словом на эту тему. С тех пор в семье ходило множество домыслов. Одни говорили, что он бежал в Америку, другие – что в Южную Америку; кто-то сообщает, что в последний раз его видели в Гаване на Кубе. Его имени нет ни в одном из сохранившихся списков пассажиров. Возможно, Ганс уехал по фальшивому паспорту. Известно, что когда ему было двадцать с небольшим, отец отправлял его поработать на заводы в Богемии, Германии и Англии, где он должен был взять на себя обязанности и ответственность, которым отчаянно противился, и из такой работы он не сумел извлечь никакой пользы для себя. Вместо того чтобы работать, он предпочитал заниматься музыкой.
Когда Ганс возвращался домой, раздоры с отцом разгорались с новой силой. Карл был страшен даже в хорошем настроении. Гретль писала в дневнике: «Частые шутки отца кажутся мне не веселыми, а только опасными»[30]. Карл, плохо разбиравшийся в людях, страстно желал, чтобы старший сын преуспел в бизнесе, стал блистательным предпринимателем и промышленником, напоминал высокими достижениями его самого; но когда высоко воспаряешь, кажешься крошечной точкой тем, кто не может летать. Карл, хотя сам любил музыку, не выносил болезненной одержимости сына и в конце концов позволил ему играть на музыкальных инструментах только в строго обозначенные часы. Юношеский мятеж Карла против отца привел его к большому успеху в делах, но неосмотрительно было ожидать от Ганса того же пыла, и недальновидно считать, что неослабевающее отцовское давление на такого юного, беспечного и незрелого парня может привести к каким-либо иным результатам, кроме катастрофичных.
Все сходятся во мнении, что в 1901 году Ганс сбежал от отца за границу. К двадцати годам он располнел, увлекся мрачной нигилистической философией Артура Шопенгауэра и, по одному из сообщений, был гомосексуалом[31]. Кто-то утверждает, что он дожил до двадцати шести лет. В одном источнике говорится, что он умер в Эверглейдсе во Флориде, в другом – что «в 1903 году семье сообщили, что годом раньше он исчез из лодки в Чесапикском заливе и с тех пор его не видели. Очевидно было, что он совершил самоубийство»[32].
Однако очевидно ли родителям, что их ребенок покончил с собой, когда им сообщают, что в последний раз его видели в лодке год назад? Разве родители, попавшие в такие странные, нетривиальные обстоятельства, не будут надеяться, терпеливо ждать час за часом, год за годом стука в дверь? С какого момента родители, не увидев ни тела, ни свидетелей, допускают, что их сын не просто сбежал и скрывается, а совершил самоубийство?
Лодка – единственный постоянный мотив всех вариантов истории. Кто-то говорит, что Ганс в лодке застрелился или отравился, кто-то – что он пробил дно, чтобы утопиться. Один из племянников считал, что лодка могла перевернуться во время тропического шторма на озере Окичоби: «Конечно, можно взять на озеро пистолет и застрелиться, но только мертвецки пьяный человек потащится на это проклятое озеро, чтобы расстаться с жизнью»[33]. Одна из тетушек Ганса утверждала в письме, что родители специально наняли человека, чтобы искать его на реке Ориноко в Венесуэле.
Лодка, неустановленная дата, минимум пять разных мест – едва ли получится установить истину.
Ганс, конечно, мог прожить всю жизнь за границей втайне от семьи в Вене, но самый вероятный вариант – что он действительно совершил самоубийство где-то за пределами Австрии, что семья и прежде сталкивалась с намеками или даже непосредственными провозглашениями его суицидальных намерений, а открыто признать, что он добровольно расстался с жизнью, их подтолкнула весьма широко обсуждавшаяся гибель 4 октября 1903 года в Вене 23-летнего философа по имени Отто Вейнингер.
Историю Вейнингера рассказать недолго. Он был пылким, умным, запутавшимся юношей маленького роста, похожим на обезьянку, из семьи весьма строгих нравов. Его отец был ювелиром. Свою короткую жизнь Вейнингер прожил на полюсах ненависти к себе и самовозвышения без малейшего промежутка здравого смысла между ними. «Я уверен, что сила моего духа такова, – писал он, – что я в некотором роде могу решить все проблемы. Не думаю, что мог бы долго оставаться в заблуждении. Я уверен, что заслуживаю имя Мессии (Спасителя), ибо такова моя природа»[34].
Весной 1903 года Вейнингер опубликовал свой magnum opus, внушительный трактат под названием «Пол и характер», где занял жесткую позицию по отношению к женщинам (будучи женоненавистником) и евреям (будучи евреем). Как только книга вышла, он написал другу: «У меня есть три пути: виселица, самоубийство или настолько блестящее будущее, что я даже не осмеливаюсь подумать о нем». В итоге враждебная реакция прессы привела его ко второму варианту. Вечером 3 октября он снял комнату в доме на Шварцшпаниерштрассе, где несколько лет томился австрийский поэт Ленау и где 26 марта 1827 года умер Бетховен. Оговорив с хозяйкой условия сдачи, Вейнингер попросил доставить его семье два письма и в одиннадцатом часу ночи ушел в комнату, запер дверь, достал заряженный пистолет, направил ствол в левую сторону груди и выстрелил. Получив письмо, не медля ни минуты, утром примчался брат. Дверь спальни пришлось вышибать. В комнате в луже крови лежал полностью одетый Отто. Он еще дышал. Добровольная скорая помощь доставила потерявшего сознание молодого философа в Главный госпиталь Вены. Там в половине одиннадцатого утра он и умер.
Самоубийство Вейнингера привлекло широкое внимание венской общественности. В газетах выходили целые полосы комментариев о нем, его репутация стремительно росла: в считанные дни он превратился из невразумительного полемизатора в национальную знаменитость. «Пол и характер» продавался огромными тиражами. Поговаривали, что кое-кто из Витгенштейнов посетил его похороны на Мацлайнсдорфском кладбище, проходившие, как распятие Христа, при частичном затмении солнца. Все Витгенштейны прочли его книгу.
Недавние исследования показали, что «медиа»-суициды известных людей вызывают волну так называемых подражательных самоубийств. К примеру, в августе 1962 года количество суицидов в США увеличилось на 303 (скачок на 12 %) после того, как Мэрилин Монро приняла смертельную дозу. Впрочем, это явление не ново. Количество суицидов в Вене выросло после сенсационного двойного самоубийства кронпринца Рудольфа и его любовницы Марии фон Вечеры в Майерлинге в 1889 году, а около сотни лет назад в разных частях Европы запретили роман Гете «Страдания юного Вертера», когда обнаружилось, что суицид литературного героя вызвал шквал самоубийств страдающих от любовной лихорадки юношей Италии, Лейпцига и Копенгагена.
То же самое началось в Вене после смерти Отто Вейнингера в октябре 1903 года. Если Ганс Витгенштейн действительно покончил с собой, то скорее всего он это сделал, когда Вейнингер был еще жив. Но семья смирилась с его судьбой и признала ее гораздо позже, после публичной смерти Вейнингера, тихая рябь от которой вышла далеко за пределы Шварцшпаниерштрассе и, может быть, добралась до того самого маленького столика в берлинском Gaststube, где семь месяцев спустя сидел Рудольф, нетерпеливо глядя на свой последний стакан молока.
8
В доме Витгенштейнов
Зимний Пале Витгенштейн на Аллеегассе, куда Джером Стонборо впервые вошел где-то между драмами исчезновения Ганса и самоубийства Рудольфа, должен был показаться ему роскошью совсем иного порядка, нежели все виденное раньше, когда он поставлял перчатки на Бродвей. В тот первый раз он пришел, вероятнее всего, на один из частных концертов Витгенштейнов, куда его пригласили как нового друга Рудольфа Мареша, врача, женатого на одной из двоюродных сестер Гретль.
Фасад, протянувшийся почти на 50 метров вдоль Аллеегассе, снаружи выглядел одновременно величественным и аскетичным: девять пролетов на втором этаже, семь – внизу, с высокими арками по бокам. Джером вошел в ворота с правой стороны, через тяжелые дубовые двери; его встретил портье в ливрее, единственная обязанность которого заключалась в том, чтобы встать со стула и поклониться гостям. Во дворе он, конечно же, оценил огромный скульптурный фонтан (работы хорватского экспрессиониста Ивана Мештровича), замысловатый мозаичный пол на входе в мрачный холл с высоким потолком, резные панели, фрески со сценами из «Сна в летнюю ночь» Шекспира и впечатляющую работу Огюста Родена. Прямо перед ним между двумя каменными арками лестница из шести ступеней с мраморными балюстрадами поднималась к поразительным двойным стеклянным дверям. Подле них (с этой стороны) – статуя тевтонца в полный рост, снимающего шлем в знак приветствия. Двери открывал (с той стороны) камердинер в ливрее, одетый, как вспоминал один из гостей Пале, в «форму, напоминавшую австрийский охотничий наряд в Штирии»[35]. Дальше гости поднимались по большой, широкой, покрытой красным ковром мраморной лестнице (в дневное время на нее падал солнечный свет, струящийся сквозь сводчатую стеклянную крышу высоко вверху) к гардеробной, где уже ждали слуги, чтобы забрать пальто.
Частные концерты проводились иногда в холле, но чаще в Musiksaal на втором этаже. Это был один из самых прекрасных салонов в доме. Здесь от пола до потолка протянулись роскошные гобелены со сценами охоты, а одну стену занимали трубы педального органа с двумя клавиатурами, богато украшенного изображениями рыцарей и менестрелей в прерафаэлитской манере. В центре комнаты стояли друг напротив друга два рояля Bösendorfer Imperial, клавиатура к клавиатуре, а на высоком черном постаменте сидел, нахмурившись, полуобнаженный Людвиг ван Бетховен – модель знаменитого памятника, которую высек из цельного куска белого мрамора Макс Клингер. Вокруг были расставлены десять позолоченных торшеров, но их редко включали, комнату обычно держали в темноте. Даже днем ставни не открывали, единственным источником света были две маленькие лампы, прикрепленные к пюпитрам каждого рояля.
Если бы Джерому понадобилась «комната отдыха», он не нашел бы более удобного места, поскольку одной из маний Карла Витгенштейна было обязательное наличие уборной с позолоченными кранами и раковинами, примыкающей к каждой гостиной.
Музыкальные вечера Витгенштейнов были, по словам Гермины, «всегда счастливыми событиями, почти торжественными, а прекрасная музыка – их неотъемлемой составляющей»[36]. Качество исполнения было первоклассным, так как играли выдающиеся музыканты. Скрипач Йозеф Иоахим, ученик Мендельсона и первый, кто сыграл скрипичный концерт Брамса, был в родстве с Карлом; он два или три раза в год играл в Пале на знаменитой скрипке Гварнери дель Джезу 1742 года, которую Карл щедро ему одолжил; он использовал Musiksaal для репетиций, когда приезжал со своим квартетом в Вену. Гости – ученые, дипломаты, художники, писатели и композиторы – не уступали в известности музыкантам, которые их развлекали. Брамс приходил послушать исполнение своего Квинтета для кларнета; Рихард Штраус посетил несколько концертов в Musiksaal, бывали композиторы Шёнберг, Цемлинский и Густав Малер. Впрочем, последнего перестали приглашать, когда он оскорбил хозяев, разгневанно воскликнув: «После того, как мы услышали фортепианное трио Бетховена „Эрцгерцог“, нельзя играть ничего!»[37] Еще одним постоянным гостем был Эдуард Ганслик, заклятый враг Вагнера, которого до самой смерти в 1904 году считали самым влиятельным и опасным музыкальным критиком Вены. На письмо фрау Витгенштейн, где она справляется о его здоровье, Ганслик незадолго до смерти ответил:
Дорогая, уважаемая и любезная сударыня,
ваше участливое письмо подарило такую радость моему сердцу, что я весь день был счастлив и благодарен вам. Прелестные вечера, за которые я должен благодарить вас, живой чередой пронеслись перед глазами. Превосходная музыка, восхитительные тосты, провозглашаемые в приятном возбуждении вашим мудрым и красноречивым мужем, большое удовольствие, которое вы получаете, уделяя пристальное внимание музыке и всему остальному!
Мое здоровье, кажется, сохраняет какое-то равновесие, что дарит мне надежду поблагодарить вас лично в мае за то, что вы так любезно справляетесь обо мне.
С глубочайшим уважением,
Ваш Эд. Ганслик[38].
Если Джером и чувствовал себя неловко в таком изысканном венском обществе, тогда он этого не признавал (это случится позже); его неуклюжесть проявлялась во взрывах подолгу вынашиваемой ревности, вызванных той очевидной легкостью, с которой Гретль щебетала с другими мужчинами в период его ухаживаний. Она посчитала эти припадки знаком настоящей любви, а не (как она поймет впоследствии) явным предвестием психоза, который омрачит, расшатает и в конце концов разрушит их брак. Упрямство Гретль побудило ее выйти замуж за человека, далекого от круга Витгенштейнов, но Джером Стонборо был чужим не только для Витгенштейнов, он был чужим для всей Вены, чужим даже на родине, в Америке, человеком без корней, необъяснимым, которому трудно угодить и с которым трудно иметь дело. Карлу могло отчасти понравиться то, что зять был состоятельным человеком, а его сестра вышла замуж за Гуггенхайма, но несколько вопросов высокопоставленным друзьям в Америке (среди которых были стальные миллиардеры Эндрю Карнеги и Чарльз Шваб) явно дали ему знать о смене Джеромом фамилии, банкротстве Стейнбергера и крайне слабых позициях Уильяма Гуггенхайма.
Когда Гретль купила изящный замок на берегу озера Траунзе, Маргарита Канлифф-Оуэн, ведущая в Washington Post колонку сплетен под псевдонимом Маркиза де Фонтеной, безуспешно пыталась узнать что-нибудь о ее таинственном муже:
Кто такой этот господин Стонборо? Покупатель виллы и шато Тоскана, принадлежавших давно ушедшему эрцгерцогу Иоганну Австрийскому и его матери Марии-Антонии, последней великой герцогине Тосканской. Господин Стонборо описан в объявлении о покупке как «знаменитый американский мультимиллионер». Но я не смогла найти его имени ни в одном справочнике, даже в Locator, где указаны имена членов ведущих клубов и так называемых «сливок общества» крупнейших городов Соединенных Штатов[39].
Что до братьев и сестер Гретль, они возненавидели нового родственника, и ненависть только росла с годами, а двое младших, Пауль и Людвиг, которых звали die Buben (мальчики) – особенно сильно. Когда их познакомили с Джеромом, они были подростками, но остальные домочадцы все еще относились к ним как к детям.
9
Мальчики
Во взрослой жизни Пауль Витгенштейн был гораздо известнее младшего брата, но сейчас все наоборот: Людвиг, или Люки, как его звали в семье, стал иконой XX века – привлекательный, заикающийся, терзающийся, непостижимый философ. Вокруг этой мощной личности после его смерти в 1951 году образовался настоящий культ – и, что характерно, многие последователи культа Витгенштейна никогда не открывали его книг и не пытались понять ни единой мысли. «Schmarren!» («Чепуха!») – отзывался обо всем этом Пауль[40]. Но критика не омрачила братской дружбы. Когда вышел «Логико-философский трактат» (где в предисловии автор утверждает, что нашел решение большинства самых сложных философских проблем в мире), Людвиг подарил книгу Паулю, подписав: «Моему дорогому брату Паулю на Рождество 1922 года. Если книга бесполезна, пусть она скоро исчезнет без следа»[41].
Когда Джером ухаживал за Гретль, Паулю – привлекательному, невротичному, эрудированному, любящему природу, пылкому – было семнадцать, и он как раз сдавал выпускные школьные экзамены в классической гимназии в Винер-Нойштадте. Людвиг, будучи на полтора года младше, томился в течение учебного года у семьи Штригль в провинциальном городе Линце. Днем он ходил на уроки в реальное училище, полуклассическое го, сударственное образовательное учреждение на триста учеников. Как вспоминает один из учеников, большинство учителей
…психически ненормальные, а многие к концу своих дней и вовсе помешались; их вечно грязные воротнички… Они даже внешне выглядели какими-то потасканными, – пролетариат, не умевший мыслить самостоятельно, отличавшийся дремучим невежеством и лучше всего подходивший для того, чтобы поддерживать беспомощную систему правления, которая, слава Богу, теперь в прошлом[42].
Этого ученика, который был всего на шесть дней старше Люки, звали Адольф Гитлер.
Непохоже, чтобы хоть один из них, Людвиг или Гитлер, в то время мог хотя бы подозревать о потенциале другого. В школе оба держались особняком, оба требовали от одноклассников, чтобы те обращались к ним на «Вы», хотя принято было по-свойски друг другу «тыкать». Гитлера, страдавшего от наследственной болезни легких, учителя отмечали, но не как будущего фюрера Германии, а как проблемного двоечника, который не смог даже получить аттестат зрелости, в то время как Людвига, чей недуг состоял в болезненном выпячивании стенок кишечника (попросту говоря, грыжа), в лучшем случае считали средним учеником, по большинству предметов его отметки часто вызывали обеспокоенность.