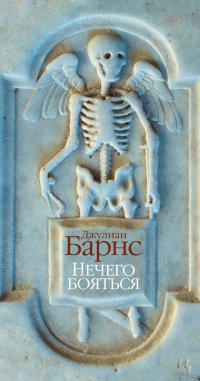Читать онлайн До ее встречи со мной бесплатно
- Все книги автора: Джулиан Барнс
Все-таки лучше жениться, чем помереть.
Мольер. Плутни Скапена(Перевод Н. Дарузес)
Julian Barnes
BEFORE SHE MET ME
Copyright © 1982 by Julian Barnes
Originally published in Great Britain in hardcover by Jonathan Cape, London, in 1982
All rights reserved
Оформление обложки Вадима Пожидаева В оформлении обложки использована картина Фрэнсиса Кэмпбелла Буало Каделла (1883–1937) «Интерьер, Эйнсли-плейс, 6» (1920-е).
© В. В. Сонькин, А. Л. Борисенко, перевод, 2022
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022
Издательство Иностранка®
* * *
Это была довольно злобная книга о неприглядной стороне сексуальности, о ревности и одержимости. Она была задумана жесткой, должна была оставлять неприятный осадок. Мне кажется, это самая смешная моя книга, хотя ее юмор отдает мрачностью и дурновкусием.
Джулиан Барнс
Мало кто сможет устоять против этого юмора, этой коварной притягательности… Барнсу удалось написать одну из тех книг, от которых не можешь оторваться до самого утра.
The New York Times Book Review
Пугающе правдоподобно – и написано с невероятным мастерством.
Guardian
Содержательно и остроумно исследует психологию, философию и любовь во всем многообразии их проявлений.
The Times
Короткий и безжалостно блестящий роман об отношениях, погубленных ревностью, полный тонких наблюдений о природе любви.
Metro
Смешно, печально и слегка зловеще… описанная в романе ревность кажется осязаемой и опасной.
Spectator
Барнс не только виртуозно развлекает читателя, но и обращается к нему с серьезными моральными вопросами; самые мрачные стороны предательства и боли он демонстрирует с тем же блеском, что и фарс сложных любовных перипетий, и столкновение характеров.
The New Yorker
Мало кого так приятно читать в наши дни, как Джулиана Барнса.
Chicago Tribune
В его творчестве остроумие и интеллект сплетаются так, что этому невозможно сопротивляться.
New Statesman
Джулиан Барнс показывает нам, чего может добиться независимый сильный писательский голос, решительно отбрасывая костыли современной прозы.
Philadelphia Inquirer
Джулиан Барнс – один из небольшой плеяды британских романистов-новаторов, которым удалось вытащить английский роман из провинциальной колеи, в которой тот было застрял.
Newsday
Книга Барнса – это гимн человеческому воображению, сердцу, неистовому разнообразию нашего генофонда, наших деяний, наших наваждений. Они щекочут нам ум и чувства, и Барнс добивается, без трюков и каламбуров, того, что так ценил Набоков, – эстетического наслаждения.
Chicago Sun-Times
Барнс рос с каждой книгой – и вырос в лучшего и тончайшего из наших литературных тяжеловесов. Читатель давно и устойчиво сроднился с его сюжетными и стилистическими выкрутасами и не променяет их ни на что.
The Independent
Любителей изящной, умной и афористичной прозы Барнс никогда не разочарует.
The Gazette
Барнс – непревзойденный мастер иронии. Все детали современной жизни он улавливает и передает со сверхъестественной тщательностью.
London Review of Books
Тонкий юмор, отменная наблюдательность, энергичный слог – вот чем Барнс давно пленил нас и продолжает пленять.
The Independent
Фирменное барнсовское остроумие ни с чем не спутаешь.
The Miami Herald
В своем поколении писателей Барнс, безусловно, самый изящный стилист и самый непредсказуемый мастер всех мыслимых литературных форм.
The Scotsman
Джулиан Барнс – хамелеон британской литературы. Как только вы пытаетесь дать ему определение, он снова меняет цвет.
The New York Times
Как антрепренер, который всякий раз начинает дело с нуля, Джулиан никогда не использует снова тот же узнаваемый голос… Опять и опять он изобретает велосипед.
Джей Макинерни
Лишь Барнс умеет с таким поразительным спокойствием, не теряя головы, живописать хаос и уязвимость человеческой жизни.
The Times
По смелости и энергии Барнс не имеет себе равных среди современных британских прозаиков.
New Republic
Современная изящная британская словесность последних лет двадцати – это, конечно, во многом именно Джулиан Барнс.
Российская газета
Легкомысленный и глубокий одновременно, предлагающий за разумную сумму приобрести коллекцию точных высказываний о жизни, Барнс прижился в России даже больше, чем на родине; он – идеальный писатель-иностранец, живое доказательство того, что, выполняя важную этическую миссию – говорить правду, писатель не обязательно должен отказываться от психологически и материально комфортной частной жизни и писать толстые, навязчивые, претенциозные, с космическими амбициями романы, в которых нет ни одной шутки.
Лев Данилкин (Афиша)
Тонкая настройка – ключевое свойство прозы букеровского лауреата Джулиана Барнса. Барнс рассказывает о едва уловимом – в интонациях, связях, ощущениях. Он фиксирует свойства «грамматики жизни», как выразится один из его героев, на диво немногословно… В итоге и самые обыденные человеческие связи оборачиваются в его прозе симфонией.
Майя Кучерская (Psychologies)
Роман «До ее встречи со мной» – в своем роде антишестидесятнический манифест. Он борется с представлением, что в 1960-е с сексом как-то разобрались, а до этого все было запутанно и бессмысленно. Сначала миром правила королева Виктория, а потом появились Битлы, все вдруг стали спать с кем попало и излечились. Так многие представляют себе в общих чертах историю английской сексуальности. А я хотел сказать, что все не так, – человеческое сердце и человеческие страсти остаются неизменными.
Ревность – привлекательная тема для романа, потому что она театральна, нередко иррациональна, несправедлива, навязчива и чудовищна для всех участников. Нечто глубоко первобытное внезапно взрывает поверхность нашей якобы взрослой жизни – так голова крокодила показывается вдруг в прудике с кувшинками.
Джулиан Барнс
1
Три костюма и скрипка
Когда Грэм Хендрик наблюдал прелюбодеяние жены первый раз, он ничуть не огорчился. Он даже обнаружил, что хихикает. Ему и в голову не пришло заслонить рукой глаза дочери.
Конечно, все это подстроила Барбара. Барбара, первая жена; а Энн – вторая, та самая, которая прелюбодействовала. Хотя, конечно, тогда ему и в голову не пришло такое определение. Поэтому и не возникло импульса pas devant les enfants[1]. И вдобавок это все еще было медовое время – так Грэм его называл.
Медовое время началось 22 апреля 1977 года в Рептон-Гарденс, когда Джек Лаптон познакомил его с парашютисткой. Это было на вечеринке, он как раз пил третий стакан. Но алкоголь никогда не помогал ему расслабиться: как только Джек назвал имя девушки, в мозгу Грэма что-то замкнуло и оно тут же автоматически стерлось из памяти. С ним это постоянно случалось на всяких сборищах. За несколько лет до того он решил в качестве эксперимента повторять имя собеседника во время рукопожатия. «Привет, Рейчел», – говорил он, или «Привет, Лайонел», или «Добрый вечер, Марион». Но мужчины, кажется, из-за этого принимали его за голубого и бросали настороженные взгляды, а женщины вежливо спрашивали, не из Бостона ли он или, может, адепт позитивного мышления? Грэм забросил свой эксперимент и продолжал страдать от выходок собственного мозга.
В тот теплый апрельский вечер, прислонившись к стеллажу в квартире Джека, вдалеке от болтающих курильщиков, Грэм вежливо рассматривал все еще безымянную светловолосую женщину с безупречной прической, в полосатой блузке из шелка (по крайней мере, он так решил).
– Это, наверное, очень интересная профессия.
– Да.
– Вы, наверное, много путешествуете.
– Да.
– Участвуете в шоу?
Он представил, как она кувыркается в воздухе, а из канистры, пристегнутой к ноге, вырываются клубы алого дыма.
– Нет, этим занимается другой отдел.
(Да? И что же это за отдел?)
– Но наверное, это опасно?
– Что – опасно? Летать? – Удивительно, подумала Энн, как часто мужчины боятся самолетов. Она-то относилась к ним абсолютно спокойно.
– Не столько летать, сколько прыгать.
Энн вопросительно склонила голову набок:
– Прыгать?
Грэм поставил стакан на полку и помахал руками. Энн еще сильнее наклонила голову. Он схватился за среднюю пуговицу своего пиджака и изобразил по-военному резкий рывок вниз.
– Я думал, вы парашютистка, – сказал он наконец.
Сначала она улыбнулась одними губами, но вскоре и в глазах ее жалостливый скептицизм сменился весельем.
– Джек сказал, что вы парашютистка, – повторил он, как будто от повторения и отсылки к авторитетному источнику это могло стать правдой. На самом деле совсем наоборот. Это, несомненно, была очередная шуточка Джека («Ну что, пёрнул в лужу, старый мудак?»).
– В таком случае вы тоже не историк и не преподаете в Лондонском университете, – сказала она.
– Боже упаси, – ответил Грэм. – Я что, похож на профессора?
– Понятия не имею. Разве они выглядят как-то по-особенному?
– Конечно! – с горячностью сказал Грэм. – Очки, коричневый твидовый пиджак, горб на спине, ревнивая, мелочная натура, одеколон «Олд спайс».
Энн оглядела его. Он был в очках и коричневом вельветовом пиджаке.
– Я нейрохирург, делаю операции на мозге, – сказал он. – Ну то есть не совсем. Пока что я продвигаюсь вверх: надо сначала попрактиковаться на других частях тела, этого требует логика. В данный момент это шея и плечи.
– Интересно, должно быть, – сказала она, явно сомневаясь, до какой степени можно ему доверять. – И трудно.
– Да, это трудно. – Он подвигал очки на переносице, после чего водрузил их в точности на прежнее место. Он был высокий, с удлиненным лицом и квадратным подбородком; темно-каштановые волосы беспорядочно припорошены сединой, как будто кто-то потряс над ним засорившейся перечницей. – И опасно.
– Да, наверняка.
Неудивительно, что он так поседел.
– Самое опасное – летать, – объяснил он.
Она улыбнулась; он улыбнулся. Она была не только хорошенькая, но и милая.
– Я покупаю одежду для магазинов, – сказала она.
– Я историк, – сказал он. – Преподаю в Лондонском университете.
– А я – волшебник, – сказал Джек Лаптон, вклиниваясь в их разговор и протягивая бутылку. – Преподаю магию в университете жизни. Вино или вино?
– Уйди, Джек, – сказал Грэм с необычной для себя твердостью.
И Джек ушел.
Оглядываясь назад, Грэм видел с пронзительной ясностью, как прочно заякорена была в то время его жизнь. Хотя, возможно, обманчивая ясность всегда возникает, когда оглядываешься назад. Ему было тридцать восемь лет, из которых пятнадцать он был женат, десять на одной и той же работе, ипотека перевалила за середину – и жизнь, вероятно, тоже; он уже чувствовал, что дорога пошла вниз.
Барбара бы с ним не согласилась. Да он и не смог бы ей этого объяснить в таких словах. Может быть, в этом отчасти и было дело.
Тогда он все еще был привязан к Барбаре; хотя как минимум в течение последних пяти лет уже не любил ее по-настоящему, их отношения не вызывали у него особого интереса и тем более гордости. Он был привязан к дочери, Элис, но и она, как ни странно, не пробуждала в нем глубоких чувств. Он радовался, что она хорошо учится, но понимал, что эта радость сродни облегчению от того, что она не учится плохо, – как различить эти чувства? Так же, от противного, он был привязан и к своей работе, хотя с каждым годом все меньше, по мере того как его студенты становились все более беспомощными, невинно-ленивыми, все более вежливо-отстраненными.
За все пятнадцать лет своего брака он ни разу не изменял Барбаре, и поскольку считал, что это нехорошо, и, вероятно, поскольку не встречал серьезных искушений (когда студентки прямо перед его носом скрещивали ноги, задирая платье, он давал им более трудные темы эссе, и они говорили потом, что он бесчувственный чурбан). По этой же причине он не думал о смене работы: вряд ли нашлась бы другая работа, которую он мог бы выполнять с такой легкостью. Он много читал, копался в саду, разгадывал кроссворды; он защищал свое имущество. В свои тридцать восемь он уже чувствовал себя немного пенсионером.
Но, познакомившись с Энн – не в тот первый раз в Рептон-Гарденс, а позже, когда он сам себя обманом уговорил пригласить ее на свидание, – он вдруг почувствовал, как восстанавливается его связь с самим собой, только на двадцать лет моложе. Он снова был способен на безумства и идеализм. И он почувствовал, что у него снова есть тело. Причем не только в том смысле, что он стал получать настоящее удовольствие от секса (хотя, конечно, и это тоже), но и в том, что он перестал ощущать себя просто контейнером для мозга. В последние десять лет он все реже использовал собственное тело; все удовольствия, эмоции, которые прежде возникали где-то на поверхности кожи, теперь гнездились на небольшом участке внутри головы. Все ценное происходило где-то в черепной коробке. Конечно, он следил за своим телом, но бесстрастно, незаинтересованно – примерно как за автомобилем. Оба объекта следовало время от времени заправлять топливом и мыть; оба иногда давали сбой, но обычно неполадку можно было устранить.
893–8013: как он нашел в себе смелость позвонить? Он знал как: при помощи самообмана. Он сидел в то утро за столом со списком номеров, по которым нужно было позвонить, и просто вставил ее номер в середину списка. В разгар мелочной торговли по поводу расписания и вялых уверений в заинтересованности со стороны редакторов научных журналов он вдруг услышал гудки ее номера. Он сто лет никого не приглашал пообедать (в смысле, женщин и не по работе). Это было как-то… не нужно. Но ему только-то и пришлось, что назвать себя, убедиться, что она его помнит, и пригласить. Она согласилась; более того, сказала «да» на первую же дату, которую он предложил. Ему это понравилось, он почувствовал себя настолько уверенно, что не стал снимать обручальное кольцо. Сначала думал снять.
И с этого момента все было так же прямолинейно. Он или она говорили «а давай…», и второй отвечал «да» или «нет», и так принималось решение. Никто не обсуждал разные мотивы, как происходило в их с Барбарой браке. Ведь на самом деле ты не это имел в виду, Грэм? Когда ты сказал то-то и то-то, на самом деле ты хотел сказать сё-то? Жить с тобой, Грэм, все равно что играть в шахматы с партнером, у которого кони стоят в два ряда. Однажды вечером на седьмом году брака, после почти расслабленного ужина, когда Элис уже была в постели, а он наслаждался покоем и был, как ему казалось тогда, счастлив, насколько это возможно, он сказал Барбаре, лишь немного преувеличивая:
– Я очень счастлив.
И Барбара, которая в тот момент сметала со стола последние крошки, резко повернулась к нему, подняв руки в розовых резиновых перчатках, словно готовый к операции хирург, и спросила:
– Что ты такое натворил?
Такие разговоры случались у них и до, и после, но в памяти застрял именно этот. Может быть, потому, что он ничего не натворил. И впоследствии он всегда медлил, прежде чем сказать, что любит ее, или что он счастлив, или что дела идут хорошо, и задавался вопросом: если я скажу о своих чувствах, не подумает ли Барбара, что я что-то пытаюсь скрыть, что-то загладить? И если ничего такого не приходило ему в голову, он говорил то, что собирался, но это лишало жизнь спонтанности.
Спонтанность, прямота, непосредственность общения, напрямую связанная с телом, – Энн не просто подарила ему Наслаждение (это могли бы сделать многие), но показала окольные пути, лабиринты удовольствия; она умудрилась даже освежить саму его память о наслаждении. Это освоение всегда шло по одному и тому же пути: сначала жажда узнавания, когда он смотрел, как Энн делает что-то (ест, занимается сексом, говорит, просто идет или стоит); затем период подражательного повторения, пока он не освоится вполне с этим конкретным удовольствием; и наконец, благодарность, сопровождаемая тошнотным привкусом обиды (сначала он не понимал, как так может быть, но было именно так). Он был благодарен ей за науку, он восхищался тем, что она научилась этому первая (иначе как бы она научила его?), и все же порой его глодало осадочное, нервное раздражение, что Энн прошла этот путь до него. В конце концов, он был на семь лет старше. В постели, например, ее уверенность и легкость казались ему демонстративными, укоряющими, как будто это насмешка над его осмотрительностью, над его деревянной неловкостью. «Эй, остановись, подожди меня», – думал он; а иногда и вовсе досадливое: «Почему ты научилась этому не со мной?»
Энн знала об этом – она заставила Грэма признаться, как только почувствовала, что что-то не так, – но это не казалось угрозой. Конечно же, они все обсудят, и это пройдет. Кроме того, было много областей, в которых Грэм разбирался гораздо лучше, чем она. История была для нее библиотекой с закрытыми книгами. Новости были неинтересны, поскольку казались неизбежными, не поддающимися влиянию. Политика была ей скучна, если не считать короткого игрового азарта во время объявления бюджета и несколько более длительного во время всеобщих выборов. Она даже помнила почти все имена основных министров, хотя, как правило, это был предыдущий кабинет.
Она любила путешествия, а Грэм давно махнул на них рукой (это был еще один вид деятельности, который происходил преимущественно внутри черепной коробки). Она любила современную живопись и старую музыку; ненавидела спорт и шопинг; любила еду и книги. Грэм разделял многие ее вкусы и понимал все. Когда-то она любила кино – в конце концов, она и сама играла небольшие роли в нескольких фильмах, – но теперь не ходила в кинотеатры, и Грэма это устраивало.
Когда они познакомились, Энн не пребывала в поиске. «Мне тридцать один год, – сказала она не в меру заботливому дядюшке, который слишком пристально уставился на безымянный палец ее левой руки. – Я не засиделась в девицах, и я не в поиске». Она больше не ждала появления идеального – или даже просто подходящего – партнера от каждой вечеринки и от каждого ужина. Кроме того, она уже усвоила поразительное, комическое несоответствие между намерением и результатом. Хочешь завязать короткую, почти бесконтактную интрижку – и вдруг подружишься с его матерью; думаешь: вот хороший человек и при этом не размазня, и вдруг обнаруживаешь непробиваемого эгоиста – а ведь казался таким скромным, так услужливо подносил напитки. Энн не считала себя невезучей (как думали некоторые ее друзья) и не спешила разочаровываться в жизни; она предпочитала думать, что набралась мудрости. Глядя на неловкие ménages à trois[2], душедрательные аборты и другие жалкие, унизительные отношения, в которые ввязывались ее подруги, она заключала, что сама осталась практически в целости и сохранности.
То, что Грэм не был особенно хорош собой, говорило скорее в его пользу; Энн объясняла себе, что от этого он более настоящий. Его семейное положение можно было счесть нейтральным фактором. Подруги Энн постановили, что по достижении тридцатилетнего возраста мужчины вокруг (если не переключаться на малолеток) оказываются либо гомосексуальными, либо женатыми, либо сумасшедшими и из этих трех вариантов женатые очевидно предпочтительнее. Шейла, ближайшая ее подруга, уверяла, что женатые мужчины лучше одиноких еще и потому, что от них лучше пахнет: жены регулярно сдают их одежду в прачечную. А пиджак холостяка, настаивала она, всегда пахнет табаком и подмышками.
Первый роман с женатым человеком дался Энн нелегко: она чувствовала себя если не вором, то по крайней мере взяточником. Но потом это прошло. Теперь она говорила себе, что, если брак дал трещину, это ведь точно не ее вина. Если мужчина идет налево, значит он хочет этого, и никакая твоя принципиальная позиция и женская солидарность этому не помешают. Никто не поблагодарит тебя за молчаливое самопожертвование, он все равно найдет себе какую-нибудь сучку, а жена не узнает о твоей тайной поддержке. Поэтому, когда она первый раз обедала с Грэмом и увидела у него на руке обручальное кольцо, она только и подумала: ну что ж, не придется задавать этот вопрос. Спрашивать всегда неловко. Иногда они думают, что ты ждешь от них лжи, и лгут, и тогда трудно удержаться от избыточно ядовитой реплики вроде: «Как ты отлично гладишь рубашки».
В конце этой ознакомительной трапезы Грэм наклонился к ней и сказал на одном дыхании, от волнения слив два предложения в одно:
– Вы еще раз со мной пообедаете между прочим я женат.
Она улыбнулась и ответила просто:
– Конечно. Спасибо, что сказали.
После второго обеда, когда они немного больше выпили, он очень решительно подал ей пальто, разгладив складки на спине так, будто ткань между ее лопатками внезапно встала колом. Энн рассказала Шейле, что это был самый близкий их физический контакт после трех встреч, и та заметила:
– Может, он не только женатый, но и голубой?
На что Энн, к собственному удивлению, ответила:
– Это не важно.
Так и было. Вернее, могло бы быть, думала она. Потому что в конце концов, после весьма старомодного срока ухаживаний (и такого множества сигналов, которое бы заставило военную флотилию изменить курс), выяснилось, что Грэм не гомосексуален. Сначала их сексуальный контакт как будто подчинялся какой-то светской условности, но постепенно стал происходить вроде бы с нормальной частотой и по нормальным причинам. Через три месяца Грэм придумал конференцию в Ноттингеме, и они целый уик-энд колесили по закопченным курортным городкам и неожиданным вересковым пустошам с изгородями каменной кладки. Каждый из них думал про себя, что́ будет, если Барбара позвонит в отель и узнает, что она, миссис Грэм Хендрик, уже в нем проживает. Каждый решил про себя, что в следующий раз лучше снять две отдельные комнаты под настоящими именами.
Энн с удивлением начала осознавать, что влюблена в Грэма. Это был довольно неожиданный выбор: те мужчины, с которыми она ближе всего подходила к влюбленности, были расслабленные, вальяжные, а Грэм – резкий в движениях, неловкий; вставая из-за стола в ресторане, он вечно ударялся о ножки стула. Кроме того, он, по ее понятиям, относился к интеллектуалам, хотя она быстро обнаружила, что он не любит говорить о своей работе и гораздо больше интересуется тем, что делает она. Поначалу, когда он, поправив на носу очки, склонялся над спецвыпуском французского «Вога», посвященным готовому платью, эта картина казалась ей комичной и несколько угрожающей; однако, когда она предложила поехать вместе с ним в библиотеку периодики в Колиндейле, чтобы помочь ему собирать материалы о межвоенных забастовках и демонстрациях, он наотрез отказался, и она вздохнула с облегчением.
Она одновременно чувствовала себя и младше и старше, чем он. Иногда она жалела его за то, что он прежде жил такой ограниченной жизнью, а иногда терзалась мыслью, что никогда не будет знать так много, как он, никогда не сможет отстаивать свою точку зрения с той прямотой и логикой, какие знала за ним. Иногда, лежа в постели, она размышляла о его мозге. Как то, что находится под его волосами с проседью, отличается от того, что таится под ее светлыми прядями, чуть подкрашенными и искусно подстриженными? Если разрезать его голову, будет ли сразу очевидно различие? Если бы он на самом деле был нейрохирургом, возможно, он мог бы ей ответить.
Их роман длился уже полгода, когда стало ясно, что нужно рассказать обо всем Барбаре. Не из-за нее, а из-за них: они слишком сильно рисковали, лучше самим выбрать момент и сказать, чем вынужденно признаваться после долгого периода подозрений и нарастающего чувства вины. Это будет более достойный и легкий выход для Барбары. Так они себе говорили. Вдобавок Грэму было очень неприятно скрываться в туалете каждый раз, когда он хотел взглянуть на фотографию Энн.
Дважды он шел на попятный. Первый раз Барбара была в неплохом настроении, и он не решился нанести ей удар; второй раз она проявляла веселую враждебность, и он не хотел, чтобы она думала, будто он сказал ей об Энн просто в отместку. Он хотел, чтобы его сообщение было недвусмысленным.
В конце концов он пошел самым трусливым путем: просто остался с Энн на всю ночь. Это не было запланировано, они просто уснули после секса, и, когда Энн в панике стала его будить, он подумал: какого черта? С какой стати мне пилить домой, только чтобы лечь рядом с женщиной, которую я не люблю? Поэтому он просто повернулся на другой бок и предоставил морально-нейтральному сну определять ход событий.
К тому времени, как он вернулся домой, Элис должна была уже уйти в школу, но она была дома.
– Папа, мне же можно пойти сегодня в школу?
Грэм ненавидел такие ситуации. Он повернулся к Барбаре, осознавая, что уже никогда не сможет посмотреть на нее прежними глазами, хотя она не изменилась и, казалось, не могла измениться: короткие темные кудри, пухлое смазливое личико, бирюзовая подводка для глаз. По ней ничего нельзя было понять, она смотрела на него с непроницаемым выражением, как будто он диктор в телевизоре.
– Мм… – Он снова посмотрел на Барбару, но легче по-прежнему не стало. – Конечно, а что?
– У нас сегодня контрольная по истории, пап.
– Тогда ты точно должна пойти.
Элис даже не успела толком улыбнуться в ответ.
– Должна? Должна?! Ты нам будешь рассказывать, кто что должен? Ну-ну, расскажи нам, как надо. – От гнева круглое лицо Барбары вытянулось, мягкие черты заострились.
Такие ситуации Грэм ненавидел еще больше. Спорить с Барбарой ему не хватало умения: она бесстрашно оперировала неакадемическими принципами. Он прекрасно мог спорить со студентами: спокойно, логично, на основе установленных фактов. Дома никаких основ не существовало; казалось, у дискуссии (а точнее, у системы односторонних упреков) вообще нет начала, она выплескивается на тебя с середины. Он запутывался в домотканых обвинениях, сплетенных из гипотез, утверждений, фантазий и злости. Еще хуже было неослабевающее эмоциональное напряжение спора: победа грозила обернуться звенящей ненавистью, надменным молчанием, а то и кухонным топориком в затылке.
– Элис, иди к себе, нам с мамой надо поговорить.
– С какой стати? С чего бы ей не узнать, откуда ты пришел? Где ты был всю ночь – выяснял, кто что должен? Пришел покомандовать? Ну давай, что я должна сегодня сделать?
О боже, понеслось.
– Элис, ты плохо себя чувствуешь? – спросил он спокойно.
Дочь опустила голову:
– Нет, папа.
– У нее кровь шла из носа! Я не позволю ребенку идти в школу с кровотечением! В ее возрасте!
Ну вот, опять. Что значит «в ее возрасте»? А в каком возрасте можно отправлять в школу дочерей, у которых идет кровь из носа? Или Барбара делает вид, что это одна из «женских» причин что-то сделать (или не сделать), которые лежат на вечном счете в швейцарском банке? Или, может быть, это та область отдельных отношений матери и дочери, из которой он был исключен несколько лет назад? Может, кровь из носа – вообще эвфемизм?
– Сейчас уже все прошло.
Элис запрокинула голову, чтобы папа мог видеть ее ноздри. Однако внутри все по-прежнему было в тени, и он колебался, надо ли ему наклониться и посмотреть внимательнее. Он не знал, как поступить.
– Элис, что за отвратительные манеры! – прикрикнула Барбара и хлопнула дочь по затылку, так что та снова опустила голову. – Иди приляг, если через час станет лучше, я тебя отправлю в школу с запиской.
Грэм понимал, что абсолютно не способен вести такого рода борьбу. Одним движением Барбара вернула себе полную власть над дочерью, добилась, чтобы та осталась дома в качестве незримого свидетеля на суде, которой будет вершиться над ее непутевым отцом, и назначила себя будущим освободителем Элис, закрепив их союз против Грэма. Как ей это удается?
– Ну, – начала Барбара раньше (хоть и лишь на секунду раньше), чем Элис закрыла за собой кухонную дверь.
Грэм не ответил: он прислушивался, как дочь поднимается по лестнице. Все, что он услышал, было «НУ-У-У-У-У».
Единственной техникой, которой Грэм овладел за пятнадцать лет, было умение не отвечать на первые пару десятков обвинений в свой адрес.
– Грэм, тебя не было всю ночь, ты ни о чем меня не предупредил, явился домой черт-те когда и пытаешься командовать в моем доме. Как это понимать?
Четыре пункта для начала. Грэм уже чувствовал, как отчуждается от дома, от Барбары, даже от Элис. Если Барбара устраивает такие сложные игры для того, чтобы перетянуть Элис на свою сторону, ей дочь явно нужнее, чем ему.
– У меня роман. Я от тебя ухожу.
Барбара поглядела на него так, как будто не узнавала. Он уже был даже не телевизионный диктор, а почти что забравшийся в дом грабитель. Она не сказала ни слова. Он чувствовал, что сейчас его реплика, но добавить было нечего.
– У меня роман. Я тебя больше не люблю. Я ухожу от тебя.
– Никуда ты не уйдешь. Только попробуй, я обращусь к начальству университета.
Ну конечно. Она решила, что если у него роман, то обязательно со студенткой. Вот какого она о нем мнения. Эта мысль придала ему уверенности.
– Это не студентка. Я просто от тебя ухожу.
Барбара закричала, очень громко. Грэм ей не поверил. Когда она замолчала, он сказал:
– Я думаю, ты и так перетянула Элис на свою сторону и без этого всего.
Барбара снова закричала, так же громко и долго. Грэма это нисколько не тронуло, он даже ощутил некоторое самодовольство. Он хочет уйти и уйдет и будет любить Энн. Нет, он уже любит Энн. Он будет и дальше ее любить.
– Потише. Не переигрывай. Я ухожу на работу.
В тот день он провел три занятия по Болдуину[3], не ощущая привычной скуки ни от собственных повторов, ни от студенческих старательных банальностей. Он позвонил Энн и сказал, что придет вечером. В обеденный перерыв он купил большой чемодан, тюбик зубной пасты, зубную нить и мочалку, напоминающую медвежью шкуру. Это было похоже на начало каникул. Да, это будут сплошные нескончаемые каникулы – более того, у него будут еще и каникулы внутри каникул. Он почувствовал, что дуреет от этой мысли. Он вернулся в магазин и купил кассету фотопленки.
Домой он добрался к пяти и сразу пошел наверх, не пытаясь отыскать жену или дочь. Из спальни позвонил и вызвал такси. Когда он положил трубку, в комнату вошла Барбара. Он ничего ей не сказал, просто раскрыл на постели новенький чемодан. Оба заглянули внутрь: пронзительно-оранжевая кодаковская коробочка сразу бросалась в глаза.
– Ты не возьмешь машину.
– Я не возьму машину.
– Ты не возьмешь ничего.
– Я не возьму ничего.
– Забирай все, все – понял?
Грэм продолжал собирать чемодан.
– Отдай ключи от входной двери!
– Пожалуйста.
– Я поменяю замки!
Тогда зачем было забирать ключи, вяло подумал Грэм.
Барбара вышла. Грэм закончил упаковывать одежду, бритву, фотографию родителей, одну из фотографий дочери, стал закрывать полупустой чемодан. Все, что ему нужно, не занимает и половины чемодана. Это открытие его вдохновило. Он когда-то читал биографию Олдоса Хаксли и помнил, как озадачило его поведение писателя, когда горел его дом в Голливуде. Хаксли безучастно смотрел на пожар: его рукописи, тетради, вся библиотека были уничтожены безо всякой попытки противодействия со стороны владельца. Времени было полно, но он вынес только три костюма и скрипку. Теперь Грэм, кажется, понимал его. Три костюма и скрипка. Он снова посмотрел на чемодан и немного устыдился его размера.
Когда он взялся за ручку, одежда мягко перекатилась внутри; наверняка помнется, пока он доедет. Он поставил чемодан в коридоре и прошел на кухню; Барбара сидела за столом. Он положил перед ней ключи от машины и ключи от дома. В ответ она резко подтолкнула к нему большой пакет с грязным бельем:
– Не думай, что я буду это стирать.
Он кивнул и взял пакет.
– Пойду попрощаюсь с Элис.
– Она сегодня у подруги, будет там ночевать. Я разрешила. Если тебе так можно… – добавила Барбара, но это прозвучало скорее устало, чем зло.
– У какой подруги?
Барбара не ответила. Грэм снова кивнул и вышел. Держа в правой руке чемодан, а в левой пакет с грязным бельем, он прошел по Уэйтон-драйв и свернул на Хайфилд-Гроув. Именно туда он вызвал такси. Он не хотел ставить Барбару в неловкое положение (и даже, может быть, рассчитывал на проблеск сочувствия, уходя от дома пешком); но он, черт побери, не собирался отправляться к Энн и прибывать в Часть Вторую своей жизни на общественном транспорте.
Таксист встретил Грэма и его багаж без комментариев. Грэм подумал, что это выглядит как торопливый ночной побег: то ли слишком ранний, то ли безнадежно запоздалый. Но он достаточно владел собой, чтобы ничего не объяснять, и только напевал что-то себе под нос на заднем сиденье. Проехав около мили, он заметил на обочине мусорный бак из деревянных планок, велел водителю остановиться и бросил туда пакет с грязным бельем. Еще не хватало тащить грязное белье в свое медовое время.
Так начались бесконечные каникулы. Грэм и Энн провели полгода в ее квартирке, прежде чем нашли домик с садиком в Клэпеме. Барбара еще раз проявила свое умение выбивать почву у Грэма из-под ног, настояв на немедленном разводе. Никаких двух лет раздельного проживания и развода по взаимному согласию[4]: ей нужен был настоящий старомодный развод с определением виновной стороны. Под напором ее требований Грэм оставался невозмутим, как Олдос Хаксли. Да, он будет продолжать выплачивать ипотеку; да, он будет платить алименты в пользу Элис; да, Барбара может оставить себе машину и все, что есть в доме. Она отказалась принимать от него денежное содержание для себя – только косвенно. Она собиралась пойти работать. Грэм, а позже и суд нашли все эти условия справедливыми.
Постановление о расторжении брака было утверждено в конце лета 1978 года; Грэм получил право еженедельно встречаться с Элис. Вскоре после этого они с Энн поженились. Они провели медовый месяц на острове Наксос, в маленьком беленом домике, принадлежащем одному из коллег Грэма. Они вели себя так, как обычно ведут себя люди в медовый месяц: часто занимались сексом, пили много самосского вина, дольше, чем нужно, рассматривали осьминогов, которых сушили на стенах гавани, – однако Грэм ощущал себя странно неженатым. Счастливым, но неженатым.
Потом, на пароме, заполненном скотом и вдовами, они отплыли в Пирей, оттуда на корабле с пансионерами и профессорами вдоль адриатического побережья добрались до Венеции, а через пять дней отправились домой. Когда самолет летел над Альпами, Грэм держал за руку свою прелестную, добрую, безупречную жену и тихонько повторял себе, какой он счастливый человек. Это были каникулы внутри каникул, а теперь снова начнутся те, внешние. С чего бы им вдруг заканчиваться.
В течение следующих двух лет Грэм постепенно стал ощущать себя женатым. Может быть, подсознательно он ожидал, что все будет как в первый раз. Женившись на Барбаре, он чувствовал явный, хотя порой и неуклюжий эротический подъем, возбуждающую новизну любви, смутное чувство выполненного долга – перед родителями и обществом. На этот раз акценты были расставлены иначе: они с Энн спали вместе уже больше года, во второй раз любовь не столько пьянила, сколько внушала настороженность, некоторые из друзей отдалились и явно осуждали его за то, что он бросил Барбару. Другие призывали к осмотрительности: обжегся на молоке – дуй на воду.
Женатым Грэм почувствовал себя оттого, что ничего не происходило: ничто не вызывало страха и подозрений, недоверия к жизни. Постепенно его чувства раскрылись, как парашют, и после страха первых мгновений падения все вдруг замедлилось, и он воспарил, подставляя лицо солнцу и глядя на землю, которая почти не приближалась. Он чувствовал, что Энн не то чтобы воплощала для него последний шанс, а всегда была для него единственным шансом, первым и последним. Так вот что это такое, думал он, теперь понятно.
По мере того как разрасталось ощущение легкости, его увлечение любовью и Энн увеличивалось. Парадоксальным образом все казалось и более прочным, и более хрупким. Когда Энн уезжала в командировки, он обнаруживал, что скучает по ней не столько физически, сколько душевно. Когда ее не было рядом, он скукоживался, наскучивал сам себе, глупел, пугался; ему начинало казаться, что он ее недостоин, что он годился только для Барбары. И когда Энн возвращалась, он наблюдал за ней, изучал гораздо пристальнее, чем в первые дни знакомства. Порой его педантичная страсть граничила с отчаяньем, с одержимостью. Он завидовал предметам, до которых она дотрагивалась. Он с досадой думал о годах, которые она провела без него. Он горевал, что нельзя стать ею хотя бы на денек. Вместо этого он вел внутренние диалоги; одна его часть изображала Энн, другая – его самого. Эти беседы помогали ему убедиться, что они необыкновенно хорошо уживаются. Он не рассказывал Энн об этой привычке – не хотел обременять ее всеми мелкими деталями своей любви, а то вдруг… вдруг она почувствует себя неловко, решит, что и в этом ему нужна взаимность.
Он часто представлял себе, как объясняет свою жизнь постороннему человеку – любому, кто проявит достаточно интереса, чтобы спросить. Никто его ни о чем не спрашивал, хотя виной тому, возможно, была вежливость, а не отсутствие любопытства. Но все равно Грэм держал ответы наготове, постоянно декламировал их сам себе, словно перебирал четки, и шепотом возносил небесам удивленную и радостную молитву. Энн расширила его цветовой спектр, подарила потерянные краски, которые каждый имеет право видеть. Как долго он продержался на зеленом, голубом и синем? Теперь он видел больше и чувствовал себя защищеннее на экзистенциальном уровне. Одна мысль повторялась, словно basso continuo[5] его новой жизни, и приносила утешение. По крайней мере теперь, говорил он себе, теперь, когда у меня есть Энн, будет кому меня оплакать как следует.
2
In flagrante
Конечно, он должен был сразу заподозрить неладное. В конце концов, Барбара знала, что он ненавидит кино. Он ненавидел кино, она ненавидела кино, это была одна из первых ниточек, связавших их в период ухаживания, двадцать лет назад. Они с вежливой скукой посмотрели «Спартака»[6], иногда соприкасаясь локтями, скорее из-за неловкости, чем из-за влечения, и потом признались друг другу, что им не только не понравился фильм, но и вообще они не очень любят это занятие. «Мы не ходим в кино» – таков был их первый объединяющий признак как пары.
И теперь, по словам Барбары, его дочь хотела, чтобы он сводил ее на какой-то фильм. Он вдруг понял, что вообще понятия не имеет, была ли Элис когда-нибудь в кинотеатре. Наверняка была, если только генетическое влияние родителей на ее эстетическое восприятие не оказалось особенно сильным. Но точно он не знал. Это его опечалило. А потом в голову пришла еще более печальная мысль. Три года врозь, и ты даже не спрашиваешь себя, что ты знаешь, а что нет.
Но почему Элис вдруг захотела пойти именно с ним – и почему на комедию пятилетней давности, провалившуюся в прокате, которую снова стали крутить в «Одеоне» на Холлоуэй-роуд?
– Там, кажется, есть сцена, которую снимали в ее школе, – небрежно бросила Барбара по телефону; как всегда, просьбу дочери он услышал не напрямую. – Все ее друзья пойдут.
– А почему бы ей не пойти с ними?
– Кажется, она до сих пор немного боится кинотеатров. Ей будет уютнее с кем-то из взрослых.
Не с тобой. С кем-то из взрослых.
Грэм согласился. Он теперь почти всегда соглашался.
Когда он пришел в «Одеон» с Элис, плюсы его двадцатилетнего воздержания стали особенно очевидны. Фойе пропахло жареным луком; его полагалось добавлять в хот-доги, чтобы защититься от прохлады теплого июльского вечера. Билеты стоили как каре ягненка. Внутри, несмотря на множество пустых мест, висело облако сигаретного дыма. По всей видимости, немногочисленные посетители прикуривали сразу по две сигареты, как в том американском фильме, который Грэм не смотрел из принципа.
Когда началась картина (Грэм использовал слово из своей юности, «фильм» было слишком по-американски, а слово «кино» наводило на мысль о киноакадемии и кинокритике), он вспомнил еще много причин, по которым не любил кинотеатры. Люди часто говорят об искусственности оперы; но что же тогда сказать вот об этом? Краски вырвиглаз, идиотский сюжет, музыка 1880-х, приправленная Коплендом[7], и моральные терзания уровня «Денди»[8]. Конечно, «На седьмом небе» не шедевр; но, как известно, второсортное искусство лучше всего иллюстрирует типичные особенности жанра.
И кто решил, что комедия-триллер со слишком жирным грабителем, который бесконечно застревает в подвальных люках, – такая уж блестящая идея? Кто придумал добавить к этому тощего колченогого сыщика, который из-за хромоты вечно не может догнать жирного грабителя? О, смотри-ка, сказал себе Грэм, когда сцена погони внезапно пошла в убыстренном темпе под разухабистый фортепианный аккомпанемент, они открыли для себя этот свежий прием. Еще больше его поражал тот факт, что пара десятков зрителей – никто из них не был похож на одноклассников Элис – вполне искренне хохотали. Он почувствовал, как дочь тянет его за рукав.
– Папа, с фильмом что-то не так?
– Да, милая, проектор барахлит, – ответил он и добавил, когда сцена закончилась: – Уже починили.
Время от времени он с тревогой посматривал на Элис, опасаясь, что ей понравится, – дитя родителей-трезвенников впервые отведало сладкого хереса. Однако ее лицо оставалось неподвижным, она только иногда хмурилась. Грэм знал, что так она выражает презрение. Он все ждал, когда на экране покажется ее школа, но бо́льшая часть действия происходила в помещении; на дальнем плане городского пейзажа (по сюжету это был Бирмингем, но Грэм решил, что снимали в Лондоне) он вроде бы узнал знакомое здание.
– Это она?
Но Элис только еще сильнее нахмурилась, загоняя отца в пристыженное молчание.
Примерно через час следы жирного грабителя случайно привели сыщика-инвалида к гораздо более важному злодею, итальянистому, с усиками, любителю поваляться в кресле, который демонстрировал пренебрежение к закону, медленно посасывая сигару. Хромоногий сыщик стал немедленно открывать каждую дверь в его квартире. В спальне обнаружилась жена Грэма. Она возлежала в темных очках и читала книгу; ее грудь была целомудренно прикрыта простыней, но смятая постель говорила сама за себя. Неудивительно, что фильм отнесли к категории A[9].
Итак, герой внезапно узнает известную красотку – а Грэм свою изрядно обесцвеченную перекисью жену, – и она говорит низким голосом, заставляющим подозревать дубляж:
– Мне не нужна газетная шумиха.
Грэм издал нервный смешок, который помешал ему расслышать ответ хромой ищейки. Он взглянул на Элис и заметил, что она вновь презрительно нахмурилась.
Последовала двухминутная сцена, в ходе которой вторая жена Грэма поочередно изобразила удивление, гнев, презрение, сомнение, неуверенность, раскаяние, панику и снова гнев. Это был эмоциональный эквивалент убыстренной погони. Кроме того, она успела потянуться к телефону, стоявшему на прикроватной тумбочке, так что те из двадцати шести посетителей «Одеона», кто не прикуривал две сигареты сразу и не был ослеплен дымом, могли на мгновение увидеть ее обнаженные плечи. Затем она исчезла с экрана и, несомненно, из поля зрения каждого ассистента по кастингу, который не смог уклониться от просмотра этого фильма.
Когда они вышли, Грэм все еще улыбался сам себе.
– Ну что, увидела? – спросил он Элис.
– Увидела что? – спросила она с педантичной серьезностью. Хоть какие-то черты характера она унаследовала от него.
– Была в том кадре твоя школа?
– Какая школа?
– Твоя, какая же еще.
– С какой стати там должна была быть моя школа?
Ага. Вот оно что.
– Я думал, мы именно за этим сюда пришли, Элис: потому что ты хотела увидеть свою школу.
– Нет. – Она снова нахмурилась.
– Разве все твои друзья не ходили на этот фильм на этой неделе?
– Нет.
Ну да, конечно.
– И как тебе?
– По-моему, пустая трата времени и денег. Они даже не показывали никаких интересных мест вроде Африки. Смешно было, только когда сломался проектор.
Тоже верно. Они сели в машину Грэма и осторожно тронулись в сторону ее любимого кафе в Хайгейте. Он знал, что оно ее любимое, потому что за три года таких воскресных вылазок они посетили каждое кафе в северной части Лондона. Как всегда, они заказали шоколадные эклеры. Грэм ел руками, Элис – вилкой. Ни он, ни она никак это не комментировали, как не говорили и о других признаках, отличавших ее от той девочки, которой она могла бы стать, не уйди он из дома. Грэм считал, что говорить об этом нечестно, и надеялся, что сама она этого не замечает. Она, конечно же, замечала, но Барбара учила ее, что неприлично указывать людям на их дурные манеры.
Вытерев рот салфеткой – ее мать всегда говорила, что не обязательно выглядеть как клоун, – она спокойно проговорила:
– Мама сказала, что ты хочешь посмотреть именно этот фильм.
– Вот как? Она объяснила – почему?
– Она сказала, что ты хочешь увидеть Энн в… как это… «в одной из ее самых убедительных ролей», – кажется, так. – Она невозмутимо смотрела на него.
Грэм разозлился, но срывать свой гнев на Элис не собирался.
– Мама, видимо, пошутила, – сказал он. – Давай мы тоже с ней пошутим. Давай скажем, что не посмотрели «На седьмом небе», потому что все билеты были раскуплены, и пошли вместо этого на нового «Джеймса Бонда».
Наверняка сейчас идет какой-нибудь новый «Джеймс Бонд», не может быть, чтоб не шел.
– Хорошо. – Элис улыбнулась, и Грэм подумал: «Все-таки она пошла в меня». Но может быть, ему так кажется, только когда она соглашается с ним.
Некоторое время они молча пили чай, потом она сказала:
– Правда, папа, это был не очень хороший фильм?
– Боюсь, что не очень.
Еще одна пауза. Потом он спросил, неуверенно, но считая, что она ждет такого вопроса:
– Как тебе Энн?
– Кошмарно! – яростно ответила Элис. (Все-таки она в Барбару; ему только показалось.) – Кошмарная телка.
Грэм, как всегда, не стал реагировать на ее словарные открытия.
– Она просто играла роль, – сказал он скорее примирительно, нежели нравоучительно.
– Чертовски правдоподобно.
Грэм посмотрел на открытое, приятное, еще не сформировавшееся лицо дочери. В какую сторону оно устремится, спрашивал он себя: в странное сочетание заостренности и пухлости, которое теперь ассоциировалось у него с Барбарой, или в задумчивую, сдержанную, терпеливую продолговатость? Ради ее же блага он надеялся, что она не будет походить ни на одного из родителей.
Они допили чай, и Грэм еще медленнее, чем обычно, повез ее обратно к Барбаре. Теперь он именно так называл это место. Раньше казалось, что там его дом, но теперь это был дом Барбары, который, однако, даже не пытался выглядеть иначе. Грэм немного презирал дом за то, что тот не перекрасился, никак не изменился, не совершил никакого символического акта, отмечающего его принадлежность новому, одиночному владельцу. Дом явно был на стороне Барбары. Причем, по всей видимости, с самого начала. Каждую неделю его неизменность должна была напоминать Грэму о его собственном… двуличии, что ли.
Возможно; хотя Барбара уже не чувствовала его предательства так остро, как хотела ему показать. Барбара всегда относилась к эмоциям по-марксистски, считая, что кто не работает, тот не ест: эмоциям не следовало существовать просто так. Кроме того, она уже несколько лет интересовалась дочерью и домом больше, чем мужем. Люди ждали, что она будет кричать «Караул, ограбили», и она кричала, но при этом не очень-то верила сама себе.
Это было последнее воскресенье месяца; как обычно, Элис проскользнула в дом под локтем Барбары, а та вручила Грэму конверт. В нем содержался список дополнительных затрат за месяц, которые, по ее мнению, он должен был компенсировать. Иногда там был счет за какое-нибудь явное баловство, которое Барбара считала необходимым для Элис, чтобы залечить рану неизвестной локализации, нанесенную ей уходом Грэма. На такое требование сказать было нечего, и он, скривившись, выписывал чек.
Грэм сунул конверт в карман, не говоря ни слова. Обычно ответом служил другой конверт, который она так же молча принимала в следующее воскресенье. Задать вопросы можно было в четверг вечером, когда ему дозволялось поговорить с Элис минут пять-десять, в зависимости от настроения ее матери.
– Понравился фильм? – как ни в чем не бывало спросила Барбара.
Она выглядела опрятно и мило, густые темные локоны были свежевымыты. Это был вариант «собираюсь-хорошо-провести-время-и-пошел-ты-на-фиг», в отличие от варианта «падаю-с-ног-одна-с-ребенком-и-пошел-ты-нафиг». Грэм чувствовал одинаковое безразличие к обоим образам. В своем самодовольстве он даже не задавался вопросом, почему вообще когда-то ее любил. Эти темные волосы нечеловечески совершенного цвета, это круглое, непримечательное лицо, эти обвиняющие глаза.
– Не смогли на него попасть, – сказал он таким же ровным тоном. – Это такой кинотеатр, с тремя залами, и, видимо, ее одноклассники скупили все билеты до нас.
– И куда же вы пошли?
– Ну, мы решили, раз уж мы там, надо что-то посмотреть, и пошли на «Джеймса Бонда».
– Это еще зачем?! – Ее тон был резче, чем он ожидал. – Из-за тебя у нее будут кошмары! Ей-богу, Грэм.
– Ну, она слишком разумна для этого.
– Ну что ж, пеняй на себя. На себя!
– Э… хорошо. Поговорим в четверг.
Он отступил от порога, будто изгнанный продавец щеток.
В последнее время с Барбарой особенно не пошутишь. Конечно, она узнает, что они были не на «Джеймсе Бонде», – Элис продержится некоторое время, а потом расколется, в своей серьезной манере, но к тому времени Барбара уже не сможет воспринять это как мелкую месть. Почему она всегда это делает? Почему он всегда так паршиво себя чувствует, уезжая отсюда? Ну и ладно, подумал он. Ну и ладно.
– Хорошо пообщались?
– Неплохо.
– Дорого обошлось?
Энн не имела в виду непосредственные траты на вылазку с Элис, она говорила о косвенных, которые он получал в запечатанном конверте. И о других косвенных тратах тоже, вероятно.
– Еще не смотрел.
Грэм бросил ежемесячные расчеты на журнальный столик. Он всегда был угнетен, когда возвращался из неудачной части своей жизни в текущую, и считал, что это неизбежно. И он всегда недооценивал талант Барбары обращаться с ним как с мальчиком на посылках: в конверте вполне могла оказаться подписанная ею карточка бойскаута, а его бывшая жена могла прямо сейчас вешать на дверь бумажку с надписью: «Работа выполнена!»[10]
Он прошел на кухню, где Энн уже наливала разбавленный пополам джин с тоником, его обычное лекарство в этот день недели.
– Чуть не поймал тебя, можно сказать, in flagrante[11], – произнес он с улыбкой.
– А?
– Застал тебя сегодня с другим in flagrante, – пояснил он.
– С которым из них? – Она все еще не вполне поняла шутку.
– С макаронником. Тонкие усики, бархатная куртка, трубка, бокал шампанского в руке.
– А, этот. – Она все еще не понимала. – Энрико или Антонио? У них у обоих усики, и они непрерывно пьют шампанское.
– Риккардо.
– О, Риккардо.
Ну давай же, Грэм, объяснись, подумала она. Не заставляй меня нервничать.
– Риккардо Девлин.
– Девлин… Господи, Дик Девлин. Ты что, посмотрел «На седьмом небе»? Ужас, правда? И я там ужасная.
– Просто неудачный кастинг. И сценарий явно писал не Фолкнер.
– Я там сижу в кровати в дурацких черных очках и говорю: «Я не хочу, чтобы об этом кто-нибудь узнал» – или что-то такое. Звездная роль.
– Это было бы еще ничего. Нет, ты говоришь: «Мне не нужна газетная шумиха».
– Что ж, чего не было, того не было. И поделом. Меня еще и наказали за то, что я «распущенная».
– Ммм…
– А ты-то зачем это смотрел? Я думала, ты идешь на какой-то фильм, в котором снимали школу Элис.
– Я тоже так думал. Сомневаюсь, что такой фильм существует в природе. Думаю, Барбара решила пошутить.
Вот же сука.
– Вот же сука.
– Да ладно, солнышко.
– Нет, правда, какая сука. Ты видишь дочь три часа в неделю, и она их использует, чтобы меня уесть.
– Да вряд ли она об этом думала. – Тут он покривил душой.
– А о чем же еще? Она хотела, чтобы ты увидел, как я плохо играю, и чтобы тебе было неловко перед Элис. Сам знаешь, как легко дети поддаются влиянию. Теперь Элис будет представлять меня этакой экранной шлюхой.
– Она слишком разумная для этого.
– В ее возрасте? Вряд ли. Именно так я выгляжу в этом фильме, и именно так она будет меня представлять. Папа ушел и женился на потаскушке, скажет она завтра в школе своим подругам. Ваши папы живут с вашими мамами, а мой папа бросил маму и женился на потаскушке. Я ее видела в воскресенье. Типичная потаскушка.
Энн изобразила девичий ужас.
– Ничего подобного. Она и слова-то такого не знает, – ответил Грэм, но ему не удалось убедить себя самого.
– Ну, на нее это точно произвело впечатление, правда? Сука Барбара! – повторила она, на этот раз подводя итог.
Грэм до сих пор испытывал легкий шок, когда Энн сквернословила. Он помнил, как это случилось первый раз. Они шли по Стрэнду дождливым вечером, когда она вдруг отпустила его руку, остановилась, осмотрела свои ноги сзади и сказала: «Твою ж мать». Оказалось, что кто-то (она сама или он) забрызгал грязью ее колготки. С одной стороны, только и всего. Пятно легко отстирается; это не больно; в темноте никто не заметит; и они уже возвращались домой. Но все равно она сказала «твою ж мать». Был чудесный вечер, они отлично поужинали, им было хорошо вместе, разговор не иссякал; но все равно – вот несколько капель грязной воды, и она говорит «твою ж мать». А что же она скажет, если случится что-то серьезное? Сломанная нога, вторжение русских? Барбара никогда не ругалась. И Грэм никогда не ругался в присутствии Барбары. Ну, мог сказать «черт» себе под нос. В тот вечер, идя по Стрэнду, он мягко спросил:
– А что бы ты сказала, если б высадились русские?
– А? Это угроза или обещание?
– Ну, ты только что забрызгала колготки и выругалась. Я и подумал: а что бы ты сказала, если б сломала ногу или если б высадились русские?
– Грэм… – ответила она осторожно. – Я думаю, что буду решать это по мере поступления.
Некоторое время они шли в молчании.
– Ты, наверное, считаешь меня ханжой. А я просто спросил.
– Скажем так: ты, по всей видимости, жил в довольно тепличных условиях.
В тот раз разговор на этом прекратился, но Грэм не мог не заметить, что с Энн он сам стал больше сквернословить. Вначале неуверенно, потом с облегчением, потом с явным удовольствием. Теперь он делал это машинально, будто расставлял знаки препинания, – как все. Он решил, что, если уж русские придут, нужные слова тоже придут сами.
– Как все это было, когда снимали «На седьмом небе»? – спросил он Энн в тот вечер, когда они вместе мыли посуду.
– Не очень-то весело. Много павильонных съемок. Низкий бюджет, поэтому мы все время в одних и тех же костюмах. Я помню, они рихтовали сценарий, чтоб несколько сцен происходило в один и тот же день и нам меньше надо было переодеваться.
– А что этот твой итальянский казанова?
– Дик Девлин? Он английский, как Ист-Энд. Нельзя сказать, чтоб он прославился. Кажется, пару недель назад я видела его в рекламе крема для бритья. Он был милый. Не очень талантливый, но милый. Совсем не умел играть, ему приходилось использовать «силу взгляда» – это он так говорил. Водил меня как-то в боулинг, когда у нас съемок не было. Боулинг!
– А… – Грэм вытирал посуду и отвернулся, складывая салфетки, чтобы Энн не могла поймать его взгляд, – у вас было?
– О да. – По звучанию ее голоса он знал, что она на него смотрит. – Кажется, всего один раз.
– Как чихнуть.
– Ну примерно.
Грэм пригладил сложенные салфетки, взял совершенно чистую чайную ложечку и отнес ее в раковину, опустил в воду. Одновременно он поцеловал Энн в шею сбоку, изобразил чихающие звуки, снова поцеловал в то же самое место.
Ему нравилось, как прямо она ему отвечала. Она никогда не жеманничала, не хитрила, не уклонялась от ответа. Она никогда не прибегала к тактике «ты не заслужил этого знания», хотя вполне могла бы. Она просто говорила как есть. Ему это нравилось: ты спросил – тебе сказали; не спросил – не сказали. Проще простого. Он взял поднос с кофе и направился в гостиную.
Энн была рада, что ушла из актерской профессии тогда, когда ушла, – это произошло за несколько месяцев до встречи с Грэмом. Восьми лет оказалось вполне достаточно, чтобы понять: связь между талантом и возможностью работы достаточно случайна. Разнообразные опыты на сцене, на телевидении, а под конец и в кино убедили ее, что в лучших своих ролях она совсем неплоха; и ей этого оказалось недостаточно.
После нескольких месяцев внутренней борьбы она ушла из профессии. Не для того, чтобы отдыхать, а чтобы найти интересную и полноценную работу. Ловко использовав дружбу с Ником Слейтером, она устроилась в фирму «Редмен энд Гилкс». (Действительно ловко: она не просто не стала спать с ним до того, как он предложил ей работу, но дала понять, что не станет спать с ним, даже если это произойдет. Он, кажется, почувствовал облегчение и некоторый пиетет, столкнувшись с такой неуступчивостью. Наверное, это лучший способ, думала она позже, самый современный способ: теперь ты получаешь работу, не переспав с кем-то.) И все сложилось как нельзя лучше. Через три года она была заместителем начальника отдела закупок с огромным бюджетом, могла путешествовать сколько угодно, и часы пребывания на работе – порой, конечно, долгие – диктовались только ее собственной работоспособностью. Перед встречей с Грэмом в ее жизнь вошла неизвестная ранее стабильность; а теперь жизнь казалась еще прочнее, чем прежде.
В четверг Грэм позвонил Барбаре и немного поторговался по поводу выставленных счетов.
– Зачем ей столько одежды?
– Затем. – (Типичный ответ Барбары: взять кусок твоей формулировки и повторить с минимальными изменениями. Меньше труда, экономия времени, можно успеть подготовиться к следующему вопросу.)
– Зачем ей три лифчика?
– Надо.
– Она будет носить их одновременно, один на другом?
– Один на ней, один в чистом белье, один в стирке.
– Но я платил за три только месяц назад.
– Ты, может быть, не замечаешь, Грэм, и, вероятно, не очень интересуешься, но твоя дочь растет. У нее изменился размер.
Грэм хотел сказать «ее прямо распирает?», но он не решался теперь шутить с Барбарой. Вместо этого он еще немного позанудствовал:
– Так быстро растет?
– Грэм, если стягивать тело растущей девушки, можно нанести ей большой вред. Свяжи тело – и свяжешь ум, как известно. Я не думала, что ты настолько прижимист.
Он ненавидел эти разговоры; не в последнюю очередь потому, что подозревал: Барбара делает Элис свидетельницей этой беседы.
– Ладно. Хорошо. Кстати, спасибо за запоздалый свадебный подарок, если это был он.
– За что?
– За свадебный подарок. Я так понял, это то, что я получил в воскресенье.
– А. Рада, что тебе понравилось.
На этот раз она явно заняла оборонительную позицию, так что он инстинктивно надавил посильнее:
– Ума не приложу, зачем ты это сделала.
– Правда?
– Ну да, зачем бы тебе вдруг…
– Я думаю, тебе следует знать, во что ты вляпался. – Ее тон был по-матерински назидательным, и он почувствовал, что теряет почву.
– Какая забота. – «Сука», мысленно добавил он.
– Не стоит благодарности. И, кроме того, мне было важно, чтобы Элис увидела, под каким влиянием в настоящее время находится ее отец. – (Он не упустил это «в настоящее время».)
– Но как ты узнала, что в фильме играет Энн? Едва ли из афиши.
– У меня свои шпионы, Грэм.
– Нет, правда, как ты узнала?
Но она только повторила:
– У меня свои шпионы.
3
Мытье креста
Когда Джек Лаптон открыл дверь, в углу бороды у него тлела сигарета. Он протянул руки, затащил Грэма в прихожую, шмякнул его одной ладонью по плечу, другой по заднице и наконец протолкнул вперед с радостным воплем:
– Грэм, мудило грешное, заходи-заходи!
Грэм невольно улыбнулся. Он подозревал, что Джек – мастер запудривать мозги, и в их общем кругу это постоянно обсуждалось, но при этом он был бескомпромиссно мил, бурно приветлив и так откровенен, что ты немедленно забывал о причине вчерашних насмешек. Его задушевность могла быть притворной, могла быть частью игры, направленной на то, чтобы все его полюбили, но даже если и так – это работало, и так продолжалось без запинок и без смены регистра уже лет пять-шесть, так что в конечном счете необходимость беспокоиться об искренности отпадала.
Трюк с сигаретой возник как шутка – как якобы ключ к характеру. Борода у Джека была достаточно курчавой, чтобы спокойно запарковать в ней «голуазину» где-то в районе подбородка. Если он окучивал девушку на вечеринке, он мог отправиться за выпивкой и освободить руки, приткнув зажженную сигарету в бороду (иногда он закуривал исключительно для того, чтобы проделать этот трюк). По возвращении, окутанный густым облаком плотского дружелюбия, он выбирал один из трех путей, в зависимости от того, как оценивал девушку. Если она казалась интеллектуальной, сообразительной или хотя бы наблюдательной, он просто вытаскивал сигарету из бороды и продолжал курить (что указывало, как он пояснил Грэму, на «некоторую оригинальность»). Если она казалась глуповатой, застенчивой или не поддающейся на его обаяние, он оставлял сигарету на месте в течение одной-двух минут, говорил о какой-нибудь книге – не о своей, – а потом просил сигарету (что доказывало: он «один из тех умных и рассеянных писателей, у которых голова в облаках»). Если он вообще не мог ничего про нее понять, или думал, что она психованная, или сам был слишком пьян, он просто оставлял сигарету на месте, пока она не догорала до бороды, а потом с удивленным видом спрашивал: «Вам не кажется, что запахло паленым?» (это показывало, что он «яркая личность, человек неодомашненный, возможно, со склонностью к саморазрушению, понимаешь, как настоящие художники, но такой интересный»). Третий подход обычно сопровождался какой-нибудь заковыристой выдумкой про детство или родословную. Все это, конечно, таило и свои опасности. Как-то Джек заработал сильный ожог, обхаживая красивую, но неожиданно загадочную девушку. Он не мог себе представить, что она не заметила сигарету, и его изумление росло одновременно с болью; позже он выяснил, что, пока он ходил за напитками, девушка вынула контактные линзы, поскольку дым от его сигареты раздражал ей глаза.
– Кофе? – Джек снова шмякнул Грэма по плечу.
– Давай.
Первый этаж квартиры Джека в Рептон-Гарденс шел прямой анфиладой от прихожей до задней кухни; они сидели в сумеречном среднем отсеке, который Джек использовал в качестве гостиной. В нише стоял его письменный стол с рояльным табуретом перед ним; электрическая пишущая машинка едва угадывалась за грудой содержимого перевернутой мусорной корзины. Джек как-то раз объяснял Грэму свою теорию творческого хаоса. Сам по себе он очень чистоплотный человек, утверждал он, но искусство требует беспорядка. Слова якобы просто отказываются изливаться, если не чувствуют, что вокруг растворена некая сексуальная анархия, на которую их упорядоченная форма может произвести определенное воздействие. Поэтому вокруг валялись обрывки газет, журналов, коричневых конвертов и прошлогодних букмекерских футбольных купонов. «Они должны чувствовать, что есть какой-то смысл рождаться, – объяснял Джек. – Как те племена аборигенов, где женщины рожают на грудах старых газет. Тот же принцип. Возможно, и газеты те же».
Направившись в сторону кухонного отсека, Джек приостановился, перенес центр тяжести на одну ногу и громко пёрнул.
– Дуй, ветер! Дуй, пока не лопнут щеки![12] – пробормотал он почти про себя, но не совсем.
Грэм это уже слышал. Он почти все уже слышал, но его это не раздражало. По мере того как Джек постепенно становился все более известным писателем, а слава порождала долю самолюбования и эксцентричности, он портил воздух все чаще. И это не были смущенные эманации стареющего сфинктера – нет, то были шумные, сосредоточенные газы среднего возраста. Каким-то образом – Грэм даже не понял как – Джек превратил их в милую причуду
И дело было даже не только в том, что эти маленькие эпизоды казались простительными. Иногда Грэм подозревал, что они тщательно спланированы. Однажды Джек позвонил ему и стал уговаривать, чтобы Грэм помог ему выбрать ракетку для сквоша. Грэм отпирался и уверял, что в сквош играл всего три раза в жизни – один раз собственно с Джеком, когда тот загонял его по корту почти до инфаркта, – но Джек отказывался принимать этот отказ от ответственности. Они встретились в спортивном отделе «Селфриджа», и хотя Грэм ясно видел ракетки для сквоша и тенниса с левой стороны, Джек потащил его за собой на прогулку по всему этажу. Но вдруг, ярдов через десять, он остановился в своей типичной предварительной позе, спиной к стеллажу аксессуаров для конного спорта, и произвел ожидаемый звук. Когда они продолжили путь, он меланхолично пробормотал:
– Ветер в гривах.
Спустя пять минут, когда Джек решил, что, пожалуй, уже имеющаяся ракетка его вполне устраивает, Грэм заподозрил, не было ли это именно так изначально и задумано. Может быть, у Джека просто оказалось немного свободного времени и неиспользованная шутка, так что он позвонил Грэму, чтобы тот помог ему избавиться и от того, и от другого.
– Ну что же, мальчик, – сказал Джек с валлийским акцентом, хотя валлийцем не был; он протянул Грэму кружку кофе, сел, отпил из своей кружки, вытащил из бороды сигарету и затянулся. – Сочувствующий писатель с заинтересованным вниманием выслушивает обеспокоенного профессора. Пятнадцать фунтов – нет, лучше гиней – в час; неограниченное количество сеансов. Только выдай что-нибудь, из чего я, со всей своей преображающей мощью, смогу наваять историю минимум на двести фунтов. Шучу. Поехали.
Грэм несколько секунд вертел в руках очки, потом отпил кофе. Поторопился: он почувствовал, что вкусовые рецепторы на кончике языка обожжены. Он обхватил кружку обеими руками и уставился в нее.
– Я не то чтобы прошу какого-то конкретного совета. И не то чтобы мне нужно было второе мнение о том, как мне себя вести. Я просто не нахожу себе места, не могу успокоиться из-за своей реакции на… на то, на что реагирую. Я… как бы сказать… я не знал про это вообще. И я подумал, ну, у Джека же больше опыта в разной фигне, может, и у него такие приступы бывали, или он хотя бы знает кого-нибудь, у кого они бывали.
Грэм взглянул на Джека, но пар из кофейной кружки затуманил ему очки, и он увидел только коричневатое пятно.
– В твоем рассказе, старик, пока что не больше ясности, чем в заднем проходе у пидараса.
– Ага. Прости. Ревность, – внезапно произнес Грэм и затем, пытаясь пояснить, добавил: – Сексуальная ревность.
– Другой, по моему опыту, и не бывает. Хм… Печально, печально, дружочек. Подружка играла с огнем, да? – Джек недоумевал, почему Грэм явился с этим именно к нему. Его интонация стала еще нежнее. – Никогда не скажешь, вот что я тебе доложу. Никогда не скажешь, пока не будет слишком поздно, а там не успеешь оглянуться, как хирург уже обхватил щипцами твою мошонку. – Он замолчал в ожидании реакции Грэма.
– Нет, не в этом дело. Господи, вот это было бы ужасно. Ужасно… Нет, это все как бы… ретроспективное, все оно ретроспективное. Это все про мужиков до меня. До ее встречи со мной.
– А! – Джек подобрался, еще сильнее удивляясь, почему Грэм пришел к нему.
– Я пошел в кино на днях. Дерьмовый фильм. Энн в нем снималась. Там был еще один тип – не скажу кто, – и потом оказалось, что Энн была… спала, спала с ним. Не много, – быстро добавил Грэм – один-два раза. Не то что… ну, понимаешь, встречалась с ним или что.
– Хм…
– Я ходил смотреть этот фильм трижды за неделю. Первый раз я думал, знаешь, интересно посмотреть на его лицо, я первый раз на него особого внимания не обратил. Так что я посмотрел, и лицо мне не очень понравилось, но это же неудивительно, правда? А потом я поймал себя на том, что снова иду туда, еще два раза. И это даже не ближайший кинотеатр, это в Ислингтоне. Я даже перенес занятие, чтобы снова туда попасть.
– И как оно оказалось?
– Ну, первый раз – второй, если считать с нуля, – было, наверное, забавно. Этот… мужик играл какого-то мелкого мафиози, но я знал – Энн мне сказала, – что он из Ист-Энда, так что я слушал внимательно, и он даже акцент не мог удержать больше чем на три слова. Я подумал – почему Энн не могла переспать с актером получше? Я типа посмеялся над ним и подумал, что я, может, и не Казанова, но я уж точно получше историк, чем ты – актер, даже не надейся. Я вспомнил, как Энн говорила, что он в последнее время снимается в рекламе бритв, и подумал – бедняга, может, этот фильм был вершиной его карьеры, может, он весь перекручен от неудач, от зависти, от чувства вины и иногда стоит в очереди за похлебкой и мечтательно вспоминает Энн, думает, что с ней стало; и когда я вышел из кино, я подумал: «Так вот хрен же тебе, сволочь, хрен же тебе…» Во второй раз – в третий – это, пожалуй, загадка. Почему я вернулся? Ну вернулся, и все. Мне казалось… казалось, что надо. Мне казалось, что я близок к разгадке, к разгадке чего-то про себя, вот все, что я могу сказать. Наверное, я был в странном состоянии и не мог понять, почему я вообще пошел в кино – это я тогда перенес занятие, – и на протяжении невероятно тоскливого первого получаса я вообще не знал, что почувствую, но почему-то знал, что как в прошлый раз не будет. Наверное, надо было в тот момент уйти.
– И почему ты не ушел?
– Ну, какое-то детское пуританство, деньги-то заплачены. – (Нет, неверно.) – Было и что-то большее. Я тебе скажу, что́ это, по-моему, было: чувство, что я приближаюсь к чему-то опасному. Ждешь: вот сейчас не будешь знать, чего ждать. Слишком заумно получается?
– Не без этого.
– Но это не заумь, а физическое ощущение. Я дрожал. Я понимал, что мне сейчас откроется великая тайна. Я чувствовал, что столкнусь с чем-то страшным. Я чувствовал себя как ребенок.
Повисла пауза. Грэм отхлебнул свой кофе.
– И чего, было что-то страшное? Трах-тибидох-тах-тах?
– Вроде того. Это трудно объяснить. Я не испугался этого типа. Я испугался из-за него. Я был очень зол, но совершенно абстрактно. Еще меня дико тошнило, но это было что-то отдельное, сверх программы. Я был очень… расстроен, наверное, так можно сказать.
– Похоже на то. А в последний раз?
– То же самое. Те же реакции на тех же местах. Такие же сильные.
– Не выветрилось немного?
– Некоторым образом. Но оно возвращается, стоит мне об этом подумать. – Он остановился. Ему казалось, что теперь он сказал все.
– Ну, раз тебе не нужен мой совет, я тебе его дам. И совет мой таков: кончай ходить в кино. Ты же вроде этого никогда и не любил.
Грэм, кажется, не слушал.
– Понимаешь, я тебе так подробно рассказал про фильм потому, что это был катализатор. От этого все завелось. Ну, в смысле, я, разумеется, знал про некоторых из ее мужиков до меня, кого-то даже видел лично. Не всех, конечно. Но вот только после фильма они мне стали небезразличны. Мне вдруг стало мучительно думать, что Энн с ними спала. Это вдруг оказалось… не знаю… как измена, что ли. Глупо, да?
– Ну… неожиданно. – Джек упорно избегал смотреть на Грэма. «Спятил» – первое, что пришло ему в голову.
– Глупо. Но я стал думать про них всех по-другому. Я стал из-за них волноваться. Ложусь в постель, хочу заснуть, и получается как у Ричарда Третьего перед этой битвой… ну, какая она там.
– Не твоя эпоха?
– Не моя эпоха. И я то хочу выстроить их всех у себя в голове и внимательно посмотреть на каждого, то пугаюсь и не даю себе такой возможности. Есть такие, кого я знаю по имени, но как выглядят – понятия не имею, и я лежу, перебираю лица, составляю фоторобот на каждого.
– Хм. Что еще?
– Ну, я нашел еще пару фильмов, в которых Энн снималась, и пошел их посмотрел.
– Что из этого ты рассказал Энн?
– Не все. Не говорил, что ходил смотреть фильмы по второму разу. Только про то, что мне было не по себе.
– А она что говорит?
– Ну, она говорит, что сочувствует моей ревности, или собственническому инстинкту, или чему там, но совершенно напрасно, она ничего не делала – разумеется, не делала, – и что, может быть, я просто заработался и устал. Но нет.
– А тебе самому не в чем повиниться? Нет ли каких-нибудь мелких грешков, которые ты таким способом переносишь?
– Господи, нет. Если уж я был верен Барбаре пятнадцать или сколько там лет, мне бы и в голову не пришло куда-то рыпаться от Энн сейчас.
– Понятно.
– Ты, кажется, не убежден.
– Нет, понятно. В твоем случае – понятно. – Теперь голос Джека звучал убежденно.
– Так что мне делать?
– Ты вроде не просил совета?
– Ну, в смысле, куда я попал? Тебе что-нибудь из этого знакомо?
– Да не очень. Я плохо разбираюсь в современной ревности. Измены – другое дело, тут я король; моего типа, не твоего; готов дать тебе ценную консультацию, как только она тебе понадобится. Но это вот – все вот это перекапывание прошлого, нет, тут я не специалист. – Джек помолчал. – Конечно, ты можешь попросить Энн, чтобы она врала тебе. Говорила бы, что этого не было, если оно было.
– Нет. Да нет, это невозможно. Я перестал бы ей верить, когда она говорит правду.
– Ну, наверное. – По мнению Джека, он проявлял необычайное терпение. Он почти не говорил о себе уже бог знает сколько времени. – Все это для меня слишком тонкие материи. Вряд ли из этого можно изваять рассказ. – Удивительно, сколько людей, даже приятелей, присасывается к человеку, думая, что, раз он писатель, он наверняка заинтересуется их проблемами.
– То есть ты ничего тут не можешь предложить? – И, сказав, что советы им не нужны, они их тут же требуют.
– Ну, на твоем месте я бы, наверное, пошел и для излечения трахнул какую-нибудь телку.
– Ты серьезно?
– Абсолютно.
– Чем это помогло бы?
– О, уверяю тебя, помогло бы. Исцеляет все. От легкой головной боли до творческого кризиса. Для исцеления конфликтов с женой тоже отлично.
– У нас не бывает конфликтов.
– Совсем? Ну ладно, тебе я готов поверить. Мы со Сью все время ссоримся. И так было всегда – ну, кроме медового месяца, конечно. С другой стороны, в те времена нам не приходилось застилать кровать, мы спорили разве что про то, кто будет сверху.
Очки Грэма отпотели; он видел, что Джек набирает воздуха, чтобы поделиться личным опытом. Надо бы запомнить, что внимание Джека, сколь бы длительным оно ни было, всегда оказывалось условным.
– С Вэлери – ты, кажется, с Вэл не был знаком, да? – я ссорился постоянно. Конечно, это было двадцать лет назад. Но мы ссорились с самого начала. Это не твоя среда, чувак; все такое пролетарское, «Путь наверх» и «Такая вот любовь»[13]. Щупались на автобусных остановках. Пытаешься отстегнуть застежку двумя замерзшими пальцами левой руки, притворяясь, что просто гладишь ее по бедру, одновременно целуя и – и! – просовывая вторую клешню через ее правое плечо, чтобы пощупать сиськи. Какой-то трактат Клаузевица[14], да? Вообще, если вдуматься, примерно так оно и было. Так что сначала мы бурно спорили про то, куда мне можно положить руку, сколько пальцев и все такое. Потом наконец мы высадились в Нормандии, и я решил: ну хорошо, теперь ссоры прекратятся. Но нет – теперь мы спорили из-за того, как часто, и когда и где, и не просроченный ли это товар, Джек, уж пожалуйста, посмотри на срок годности. Можешь себе представить – прямо посреди процесса включать свет, чтобы проверить дату на упаковке? А после высадки в Нормандии, разумеется, мы уперлись в Арденны. Уже когда поженились, конечно. Надо, не надо, почему ты не найдешь себе нормальную работу, смотри, как красиво связано, у Маргарет уже трое. Пять-шесть лет такого мне вполне хватило, можешь мне поверить. Тут-то я и свалил.
– А что случилось с Вэлери?
– Ну, Вэл-то вышла замуж за учителя. Хлюпик такой, довольно милый. Детей любит, что, с моей точки зрения, полезное свойство. Наверняка проверяет срок годности на упаковке каждый раз.
Грэм не знал точно, к чему клонит Джек, но его это вполне устраивало. Об истории клана Лаптонов он раньше ничего не слышал: Джек декларировал необходимость жить только в настоящем, и из этого вытекало стилизованное забвение прошлого. На вопросы о юности он либо отсылал к своим книгам, либо с нуля возводил изощренную фантазию. Разумеется, не было уверенности, что он и сейчас не кроит некий миф под конкретные нужды Грэма. Писатель всегда отличался откровенностью, но никогда не был стопроцентно искренним.
– Я думал, что ссоры остались позади – вместе с Вэл. Когда я встретил Сью, я решил: вот и хорошо. Проблем с высадкой в Нормандии больше не было – ну, собственно, откуда, это было уже двенадцать лет спустя, в Лондоне, и они прокопали этот свой канал через Ла-Манш, да? Сью казалась не такой сварливой, как Вэл, – поначалу. Так что мы женились, а потом, вскоре, представь себе, начали ссориться. Она, например, спрашивала, в чем мое жизненное предназначение, что-нибудь в этом духе. Ну, я отвечал, что мое предназначение – валяться в кровати, и еще булочку с медом дайте, пожалуйста. И тогда мы уже ругались по-крупному, и я отползал подальше и слегка утешался, а потом возвращался домой, и мы уже ссорились из-за этого, так что в конце концов я подумал: может, все дело во мне? Может, со мной нельзя жить? Это тогда мы решили, что будет лучше, если у меня будет квартира в городе, а она останется жить в пригороде. Ну, это ты помнишь, это было всего несколько лет назад.
– Ну и?..
– Ну и – угадай? Мы продолжили ссориться, как раньше. Нет, ну, наверное, поменьше, потому что мы реже видимся. Но я бы сказал, что количество стычек на единицу времени осталось совершенно стабильным. Причем мы достигли больших успехов в оре друг на друга по телефону. Крупные ссоры у нас бывают так же часто, как когда мы жили вместе. И в этих случаях я потом поступаю точно так же. Звоню старой подружке и организую утешительную сессию. Всегда действует. Вот что я точно узнал про то, что мы за неимением лучшего слова называем изменой. Она всегда работает. На твоем месте я бы пошел и нашел себе славную замужнюю женщину.
– Большинство женщин, с которыми я спал, и были замужем, – сказал Грэм. – За мной. – Он был подавлен. Он пришел не для того, чтобы слушать вариацию на тему судьбы Джека, хотя, безусловно, ничего против не имел. И не для того, чтобы узнать, как с подобными проблемами справляется сам Джек. – Ты же не всерьез предлагаешь мне изменить жене?
Джек рассмеялся:
– Еще как! Впрочем, по здравом размышлении, конечно нет. Ты такая бабушка с тяжелым комплексом вины, которой это вряд ли подойдет. Потом ты гарантированно явишься домой к Энн и выплеснешь все у нее на плече, а это уж точно никому из вас не поможет и ничего не решит. Нет, все, что я хочу сказать, – тебе придется мыть этот крест. В каждом браке нужно мыть какой-нибудь крест. У тебя он такой.
Грэм посмотрел на него непонимающим взглядом.
– Мой крест? Слышал такое? Вот и мой его, раз он твой. Понял? Ну, мать твою, Грэм, мы с тобой оба дважды женаты, мы оба практически не затронуты дегенеративными заболеваниями мозга, мы оба думали про всякое каждый раз, прежде чем окунуться в этот омут. Итак, четыре брака говорят нам, что медовый месяц не может продолжаться вечно. И что с этим делать? Ты же не думаешь, что в твоем нынешнем состоянии виновата Энн, правда?
– Разумеется, нет.
– И что ты виноват – тоже не думаешь?