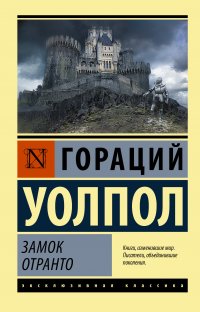
Читать онлайн Замок Отранто бесплатно
- Все книги автора: Гораций Уолпол
Horace Walpole
THE CASTLE OF OTRANTO
Перевод с английского В. Е. Шора
Серия «Эксклюзивная классика»
Серийное оформление А. В. Фереза, Е. Д. Ферез
© Перевод. В. Е. Шор, наследники, 2021
© Издание на русском языке AST Publishers, 2021
* * *
Предисловие к первому изданию
Предлагаемое читателю сочинение было найдено в библиотеке, принадлежащей католической семье старинного происхождения, на севере Англии. Оно было напечатано готическим шрифтом в Неаполе в 1529 году. Насколько раньше этой даты было оно написано – неясно. Главные события повести приводят на ум мрачнейшие века христианской эры – именно тогда верили в возможность подобных происшествий; но ни речь, ни поведение действующих лиц не несут на себе печати варварства. Повесть написана на чистейшем итальянском языке. Если бы она возникла приблизительно в то же время, когда якобы происходило рассказанное в ней, то следовало бы заключить, что это имело место где-то между 1095 и 1243 годом, то есть между Первым и Последним крестовым походом, или немного позже. В повести нет никаких других обстоятельств, которые позволили бы определить, к какому периоду относится ее действие; имена персонажей – явно вымышленные и, возможно, намеренно изменены; однако испанские имена слуг, по-видимому, указывают на то, что она не могла быть создана ранее воцарения в Неаполе арагонской династии, ибо лишь тогда испанские имена распространились в этой стране. Изящество слога и пыл автора, сдерживаемый, впрочем, удивительным чувством меры, заставляют меня предполагать, что повесть была сочинена незадолго до ее напечатания. Литература достигла тогда в Италии своего наивысшего расцвета, и ею было многое сделано для того, чтобы рассеять суеверия, которые в эту эпоху подвергались чувствительным ударам и со стороны реформаторов. Вполне вероятно, что какой-нибудь сообразительный монах мог постараться обратить против провозглашателей новых истин их собственное оружие и воспользоваться своим дарованием сочинителя для того, чтобы укрепить в простонародье старинные заблуждения и суеверия. Если его намерение было именно таким, то надо признать, что он действовал с замечательной ловкостью. Произведение, подобное публикуемому нами, способно поработить непросвещенные умы более, нежели добрая половина полемических книг, написанных со времени Лютера и до наших дней.
Такое истолкование побуждений автора представляет собой, однако, лишь чистую догадку. Каковы бы ни были его намерения и достигнутые им результаты, его сочинение может быть ныне предложено публике только как предмет для занимательного времяпрепровождения. И даже в этом качестве оно нуждается в некоторых извинениях. Чудеса, призраки, колдовские чары, вещие сны и прочие сверхъестественные явления теперь лишились своего былого значения и исчезли даже в романах. Не так обстояло дело в то время, когда писал наш автор, и тем более в эпоху, к которой относятся излагаемые им якобы действительные события. Вера во всякого рода необычайности была настолько устойчивой в те мрачные века, что любой сочинитель, который бы избегал упоминания о них, уклонился бы от правды в изображении нравов эпохи. Он не обязан сам верить в них, но должен представлять своих действующих лиц исполненными такой веры.
Если читатель извинит эти мнимые чудеса, он не найдет здесь больше ничего недостойного его интереса. Допустите только возможность данных обстоятельств, и вы увидите, что действующие лица ведут себя так, как вели бы себя все люди в их положении. В произведении нет напыщенности, нет вычурных сравнений, цветистых оборотов, отступлений и преизбыточных описаний. Каждый эпизод толкает повествование к развязке. Внимание читателя непрерывно держится в напряжении. Развитие действия почти на всем протяжении рассказа происходит в соответствии с законами драмы. Персонажи удачно обрисованы, и – что еще важнее – их характеры выдержаны от начала до конца. Ужас – главное орудие автора – ни на мгновение не дает рассказу стать вялым; притом ужасу так часто противопоставляется сострадание, что душу читателя попеременно захватывает то одно, то другое из этих могучих чувств.
Кое-кто, возможно, подумает, что образы слуг написаны в манере недостаточно серьезной для повествования такого рода; но, кроме того, что они составляют контраст главным персонажам, автор весьма остроумно использует их в ходе повествования. Благодаря своей naïveté[1] и простодушию они открывают многие существенные для сюжета обстоятельства, которые никаким иным путем не могли бы быть удачно введены в него. Женские страхи и слабости Бьянки в последней главе играют весьма важную роль в приближении развязки.
Для переводчика естественно быть предубежденным в пользу, так сказать, усыновленного им произведения. Более беспристрастные читатели, возможно, не будут так сильно поражены красотами этой повести, как был поражен ими я. Однако я не настолько ослеплен моим автором, чтобы не видеть его недостатков. Я мог бы пожелать, чтобы в основе его замысла лежала более полезная мораль, нежели та, что сводится к мысли: за грехи отцов караются их дети, вплоть до третьего и четвертого поколения. Сомневаюсь, чтобы в его время дело обстояло по-иному, чем в наше, и честолюбцы подавляли свою ненасытную жажду власти из страха перед столь отдаленным наказанием. Но и эта мораль ослаблена внушаемой читателю другой, хотя и не столь прямо выраженной, мыслью, что даже такие проклятия могут быть отвращены набожным почитанием святого Николая. Тут интересы монаха явно возобладали над расчетами сочинителя. Однако при всех сделанных выше оговорках я не сомневаюсь в том, что знакомство с этим произведением доставит удовольствие английскому читателю. Благочестие, преисполняющее эту повесть, преподаваемый ею урок добродетели и строгая чистота чувств спасут ее от осуждения, которого так часто заслуживают романы из рыцарских времен. Если ей выпадет успех, на который я весьма надеюсь, то, поощренный им, я, возможно, опубликую итальянский подлинник, хотя это лишит ценности мой собственный труд. Наш язык не обладает очарованием, присущим итальянскому, сильно уступая ему в разнообразии и гармонии: достоинства итальянского языка с особым великолепием проявляются в простом безыскусственном повествовании. Рассказывая по-английски, трудно избежать слишком низких или слишком возвышенных выражений – недостаток, который я отношу на счет малой заботы о чистоте языка в повседневном общении. Каждый итальянец или француз, каково бы ни было его общественное положение, считает делом чести говорить правильным языком, отбирая слова и выражения. Я не могу похвалиться тем, что вполне передал совершенство моего автора в этом отношении: его слог настолько же изящен, насколько замечательно его умение живописать страсти. Жаль, что он не использовал своего таланта в той области, которая, очевидно, подходила ему более всего, – то есть в театре.
Я не буду долее задерживать внимание читателя и позволю себе сделать еще лишь одно небольшое замечание. Хотя сюжет этот порожден воображением автора, а имена действующих лиц вымышленные, я все же не могу отказаться от мысли, что в основе повести лежат какие-то подлинные происшествия. Действие, несомненно, происходит в каком-то действительно существовавшем замке. Часто кажется, что, описывая отдельные части замка, автор ненамеренно воспроизводит то, что сам видел. Он говорит, например, «горница справа», «дверь слева», «расстояние от часовни до покоев Конрада». Эти и другие места в повести заставляют с большой степенью уверенности предположить, что перед взором автора было какое-то определенное строение. Лица любознательные и имеющие досуг для такого рода разысканий, возможно, найдут у итальянских писателей сообщения, послужившие автору источниками для его произведения. Высказывая суждение, что данный труд вызван к жизни какой-то подлинной катастрофой, во всем подобной описанной в нем, мы надеемся, что это будет способствовать интересу к нему и сделает в глазах читателя «Замок Отранто» еще более волнующей повестью.
Предисловие ко второму изданию
Благожелательный прием, который встретила у публики эта небольшая повесть, вызывает у автора потребность объясниться по поводу причин, натолкнувших его на мысль сочинить ее.
Но прежде чем изложить эти мотивы, автор должен испросить прощения у читателей за то, что в первом издании, представляя им свое произведение, он выдал себя за его переводчика. Так как неверие в собственные силы и новизна предпринятого труда были единственными побуждениями для этого маскарада, он льстит себя надеждой, что его поступок сочтут извинительным. Он смиренно доверился беспристрастному суду публики, твердо решив дать своему произведению затеряться в безвестности, если оно не будет одобрено, и не мысля заявлять себя сочинителем такого пустячка иначе как в том случае, если судьи, лучшие, чем он сам, выскажутся в пользу его детища и он сможет, не краснея, поставить на заглавном листе свое имя.
В этом произведении была сделана попытка соединить черты средневекового и современного романов. В средневековом романе все было фантастичным и неправдоподобным. Современный же роман всегда имеет своей целью верное воспроизведение Природы, и в некоторых случаях оно действительно было достигнуто. В вымысле нет недостатка и ныне; однако богатые возможности воображения теперь строго ограничены рамками обыденной жизни. Но если в новом романе Природа сковала фантазию, она лишь взяла реванш за то, что ею полностью пренебрегали в старинных романах. Поступки, чувства, разговоры героев и героинь давних времен были совершенно неестественными, как и вся та механика, посредством которой они приводились в движение.
Автор произведения, следующего за этим предисловием, счел возможным примирить названные два вида романа. Не желая стеснять силу воображения и препятствовать его свободным блужданиям в необъятном царстве вымысла ради создания особо занятных положений, автор вместе с тем хотел изобразить действующих в его трагической истории смертных согласно законам правдоподобия; иначе говоря, заставить их думать, говорить и поступать так, как естественно было бы для всякого человека, оказавшегося в необычайных обстоятельствах. Автор замечал, что в боговдохновенных книгах, когда Небо жалует людей чудесами и люди воочию зрят самые поразительные явления, они и тогда сохраняют все черты, присущие человеческому характеру, тогда как, напротив того, в легендарных историях рыцарских времен всякое невероятное событие сопровождается нелепым диалогом. Действующие лица словно теряют рассудок в то самое мгновение, когда нарушаются законы Природы.
Поскольку публика благосклонно отнеслась к предпринятой автором попытке, он не смеет утверждать, что совсем не справился с поставленной перед собой задачей; однако, если ему и удалось проторить путь, по которому пойдут другие, блистающие бо́льшими дарованиями сочинители, он должен со всею скромностью признать – и охотно делает это здесь, – что понимал, сколь значительно мог бы быть усовершенствован его план, будь у него сильнее воображение и владей он лучше искусством живописания страстей.
Я хотел бы, с разрешения читателей, добавить несколько слов к тому, что я говорил в первом предисловии относительно слуг. Простодушная непосредственность их поведения, которая порою может даже насмешить и поначалу кажется противоречащей общему мрачному колориту повествования, не только не представлялась мне мало уместной здесь, но как раз была намеренно мною подчеркнута. Единственным законом для меня была Природа. Какими бы глубокими, сильными или даже мучительными ни были душевные переживания монархов и героев, они не вызывают сходных чувств у слуг; по крайней мере, слуги никогда не выражают их с таким достоинством, как господа, и потому навязывать им такую манеру недопустимо. Позволю себе высказать суждение, что контраст между возвышенностью одних и naïveté других лишь резче оттеняет патетический характер первых. Когда простонародные персонажи затевают свое грубое шутовство и тем самым отдаляют читателя от ожидаемой им трагической развязки, само его нетерпение, быть может, усиливает в его глазах значительность финальных событий и уж, во всяком случае, свидетельствует о том, что сочинитель ловко сумел возбудить его интерес к ним. Однако, приняв такую манеру изображения, я опирался на более высокий авторитет, нежели мое собственное суждение. Великий знаток человеческой природы Шекспир был тем образцом, которому я подражал. Позвольте задать вопрос: не утратили ли бы его трагедии о Гамлете и Юлии Цезаре в значительной степени свою живость, не лишились ли бы они многих удивительных красот, если б из них были изъяты или облечены в высокопарные выражения юмор могильщиков, дурачества Полония и неуклюжие шутки римских граждан? Разве красноречие Антония и по внешности еще более благородная, искусно имитирующая искренность речь Брута не кажутся еще возвышеннее благодаря мастерскому приему автора, позволившего тут же прорываться в репликах их слушателей простой человеческой природе? Эти штрихи напоминают мне выдумку того греческого ваятеля, который, желая дать представление об истинных размерах Колосса Родосского, уменьшенного до размеров печатки, изобразил рядом с ним мальчика величиной с большой палец самой статуи.
«Нет! – говорит Вольтер в своем издании Корнеля. – Это смешение шутовского и возвышенного нетерпимо». Вольтер – гений[2], но не шекспировского размаха. Не прибегая к спорным авторитетам, я противопоставлю Вольтеру самого же Вольтера. Я не буду обращаться к его прежним панегирикам нашему могучему поэту, хотя французский критик дважды перевел один и тот же монолог из «Гамлета» – первый раз несколько лет назад ради того, чтобы дать о нем восторженный отзыв, а потом второй раз ради того, чтобы подвергнуть его насмешкам, – и я с грустью нахожу, что сила суждения у критика с течением времени слабеет, тогда как ей должно было бы крепнуть. Но я воспользуюсь его словами, относящимися к театру вообще и высказанными тогда, когда критик не имел в виду ни хвалить, ни порицать Шекспира, то есть в тот момент, когда он был беспристрастен. В предисловии к своему «Enfant prodigue»[3], этой превосходной пьесе, которой я неизменно восхищаюсь и которую, полагаю, не подверг бы насмешкам и через двадцать лет, будь мне отпущен еще такой срок жизни, г-н де Вольтер высказывает следующие мысли (они относятся к комедии, но в равной мере применимы и к трагедии, если трагедия отражает человеческую жизнь, а ведь именно таково ее назначение; и я не могу взять в толк, почему любая случайная шутка более заслуживает изгнания из трагического театра, нежели патетическая серьезность из театра комического): «On у voit un mélange de sérieux et de plaisanterie, de comique et de touchant; souvent même une seule avаnture produit tous ces contrastes. Rien n’est si commun qu’une maison dans laquelle un père gronde, une fille occupée de sa passion pleure; le fils se moque des deux, et quelques parents prennent part différemment à la scène, etc. Nous n’inférons pas de là que toute comédie doive avoir des scènes de bouffonnerie et des scènes attendrissantes: il у a beaucoup de très bonnes pièces où il ne règne que de la gayetè; d’autres toutes sérieuses; d'autres mélangées: d’autres où l’attendrissement va jusque’aux larmes: il ne faut donner exclusion à aucun genre: et si l‘on me demandoit, quel genre est le meilleur; je répondrois, celui qui est le mieux traité»[4].
Очевидно, что если комедия может быть toute sèrieuse[5], то трагедия может иногда позволить себе сдержанную улыбку. Кто вправе наложить на нее запрет? И вправе ли критик, заявляющий, ради защиты самого себя, что ни один род комедии не должен быть отброшен, предписывать правила Шекспиру?
Я знаю, что предисловие, из которого заимствованы вышеприведенные строки, подписано не именем г-на де Вольтера, а именем его издателя; однако кто же усомнится в том, что издатель и автор в данном случае – одно и то же лицо? Едва ли может возникнуть сомнение, где надо искать этого издателя, столь счастливо усвоившего слог своего автора и его блистательное искусство доказательств. Цитированные мною строки, несомненно, выражают собственные мнения этого великого писателя. В своем послании к Маффеи, предпосланном «Меропе», он высказывает сходное суждение, хотя, как мне кажется, с некоторой долей иронии. Переведя несколько строк из «Меропы» Маффеи, г-н де Вольтер добавляет: «Tous ces traits sont naïfs: tout у est convenable à ceux que vous introduisez sur la scène, et aux moeurs que vous leur donnez. Ces familiarités naturelles eussent été, à ce que je crois, bien reçues dans Athènes; mais Paris et notre parterre veulent une autre espèce de simplicité»[6].
Повторяю, мне кажется, что в этих и в других строках данного послания сквозит насмешка; но сила правды не уменьшается даже и тогда, когда ее представляют с оттенком смешного. Задачей Маффеи было изобразить события из истории греков, и уж, конечно, афиняне могли с не меньшей основательностью, чем парижский партер, судить о греческих нравах и об уместности представления их в театре. «Дело обстоит как раз наоборот, – утверждает Вольтер (и я не могу не восхищаться его аргументацией): – В Афинах было десять тысяч граждан, а число жителей Парижа приближается к восьмистам тысячам, из которых примерно тридцать тысяч являются судьями драматических произведений». Согласен – это так. Но допуская, что состав трибунала в самом деле столь многочислен, я полагаю все же, что не было другого такого случая, когда кто-либо стал бы утверждать, что тридцать тысяч человек, живущих почти на две тысячи лет позже той эпохи, о которой идет речь, являются в силу одной лишь численности их голосов лучшими судьями, чем сами греки, в вопросе о том, каков должен быть характер трагедии из греческой истории.
Я не буду затевать спора о той espece de simplicité[7], которой требует парижский партер, как и о тех колодках, которыми тридцать тысяч судей сковали свою поэзию, чье главное достоинство, как я улавливаю из многократно повторяющихся высказываний в «Новом комментарии к Корнелю», состоит в воспарении, несмотря на эти оковы, – то есть в таком искусстве, которое, будь оно общепризнано высшим достоинством поэзии, превратило бы ее из высокого труда воображения в ребяческое и в высшей степени презренное занятие – difficiles nugae[8] при свидетеле. Я не могу, однако, не упомянуть здесь об одном двустишии, которое всегда воспринималось моими английскими ушами как весьма плоское и пустячное, призванное лишь пояснить какое-то второстепенное обстоятельство, но которое Вольтер, обошедшийся весьма сурово с девятью десятыми сочинений Корнеля, выделил, взяв его под особую защиту, из всего творчества Расина:
- De son appartement cette porte est prochaine,
- Et cette autre conduit dans celui de la Reine.
В переводе это звучит так:
- Ближайшая к нам дверь ведет в его палаты;
- За дверью дальнею – царицыны пенаты.
Несчастный Шекспир! Если бы ты заставил Розенкранца сообщать его товарищу Гильденстерну расположение помещений в копенгагенском дворце, вместо того чтобы развернуть перед нами нравоучительный диалог между датским принцем и могильщиком, просвещенному парижскому партеру вторично посоветовали бы восхищаться твоим талантом.
Цель всего сказанного мною – найти оправдание моей дерзкой попытке в примере, который являет нам блистательнейший из гениев – тех, по крайней мере, что были порождены нашей страной. Я мог бы заявить, что, создав новый вид романа, я был волен следовать тем правилам, которые считал подходящими для его построения; но я бы испытывал бо́льшую гордость, если бы было признано, что я сумел сотворить нечто, хоть отдаленно, хоть в малой степени напоминающее столь замечательный образец, нежели если бы за мной числилась заслуга изобретения чего-то совсем нового, а мое сочинение при этом не было бы отмечено печатью гениальности и своеобразия. Что бы ни представлял собой мой труд, публика достаточно почтила его своим вниманием независимо от того, какое место в литературе отводят ему суждения читателей.
Сонет достопочтенной леди Мэри Коук
- О деве горестной судьбою
- Поведает вам мой рассказ;
- Ужели искренней слезою
- Не увлажнит он ваших глаз?
- Нет, ваше ль сердце будет глухо
- К людским несчастьям и скорбям?
- Ведь вам присуща твердость духа,
- Но черствость не присуща вам.
- Читайте же о замке жутком,
- Но ироническим рассудком
- Не поверяйте чудеса.
- Меня вы дарите улыбкой,
- И смело над пучиной зыбкой
- Я подымаю паруса.
Глава I
У Манфреда, князя Отрантского, были сын и дочь. Дочери уже минуло восемнадцать лет; она была на редкость хороша собой и звалась Матильдой. Сын Манфреда, Конрад, был на три года моложе своей сестры; он был юноша болезненный, ничем особо не примечательный и не подающий больших надежд. Тем не менее именно он был любимцем отца, никогда не выказывавшего знаков душевного расположения к Матильде. Манфред подыскал сыну невесту – дочь маркиза да Виченца Изабеллу, которую после сговора опекуны препроводили к князю, – с тем, чтобы он мог сыграть свадьбу сразу же, как только это позволит слабое здоровье Конрада. Члены семьи Манфреда и окрестные соседи замечали, как не терпелось ему увидеть совершенным свадебный обряд. Но семья, знавшая суровый нрав своего главы, остерегалась высказывать вслух предположения о причинах такой спешки. Супруга Манфреда, Ипполита, женщина весьма добросердечная, иногда осмеливалась говорить мужу о своих опасениях по поводу столь раннего брака их единственного сына, слишком юного и отягченного болезнями, но в ответ она неизменно слышала от Манфреда лишь упреки в том, что из-за ее бесплодия у него только один наследник. Вассалы и подданные князя были менее осторожны в разговорах между собой: они объясняли эту поспешность тем, что князь страшится исполнения старинного пророчества, которое, как говорили, гласило, что «замок Отранто будет утрачен нынешней династией, когда его подлинный владелец станет слишком велик, чтобы обитать в нем». Смысл этого пророчества был неясен; еще менее ясно было, какое отношение оно могло иметь к предстоящему браку. Но, несмотря на все загадки и противоречия, простой народ твердо держался своего мнения.
Бракосочетание было назначено на день рождения юного Конрада. В условленный час участники церемонии собрались в замковой часовне, где все уже было готово для венчального обряда; отсутствовал только сам Конрад. Манфред, не желая терпеть ни малейшего промедления, недоумевая, куда мог запропаститься сын, отрядил одного из челядинцев с наказом тотчас же привести юного князя. Слуга отсутствовал значительно меньше времени, чем требовалось для того только, чтобы пересечь двор и добраться до покоев Конрада. Очень скоро он бегом возвратился назад, совершенно обезумевший, задыхающийся, с расширенными от испуга глазами и с пеной на губах. Не произнеся ни слова, он указал рукой на двор. Всех присутствующих охватили изумление и страх. Княгиня Ипполита, не зная, что произошло, но сильно встревожившись из-за сына, от волнения лишилась чувств. Манфред, не столько обеспокоенный, сколько разъяренный оттяжкой венчания и нелепым поведением слуги, грозно потребовал у него объяснений. Ничего не отвечая, бедняга продолжал показывать дрожащей рукой в сторону двора. Лишь после того как требование было повторено несколько раз, он наконец выкрикнул: «Шлем, шлем!» Тем временем несколько человек успели спуститься из часовни во двор, и оттуда теперь доносился неясный шум, в котором выделялись крики и возгласы, выражавшие удивление и ужас. Видя, что сына все еще нет, обеспокоился и Манфред и сам отправился узнать, чем вызвано это непонятное смятение. Матильда, хлопотавшая около матери, осталась в часовне; не тронулась с места и Изабелла; она тоже хотела позаботиться о княгине, но, кроме того, не желала выказать ни малейшего нетерпения по поводу отсутствия своего жениха, к которому, говоря по правде, не испытывала никакой склонности.
Первое, что бросилось в глаза Манфреду, были его слуги, которые сбились в кучу и силились поднять нечто, показавшееся ему огромной грудой черных перьев. Манфред на миг остолбенел, не веря своим глазам.
– Что вы делаете? – гневно вскричал он. – Где мой сын?
В ответ он услыхал гул голосов:
– О господин! Ваш сын! Ваш сын! Шлем! Шлем!
Крайне взволнованный этими горестными возгласами и безотчетно чего-то страшась, он быстро шагнул вперед и – какое зрелище для отцовского взора! – увидел перед собою тело своего сына, раздавленное и наполовину прикрытое гигантским шлемом, во сто раз большим, чем любая каска, когда-либо сделанная для головы человека, и увенчанным огромным пучком перьев.
Ужасная картина, которая предстала перед ним, полнейшая загадочность происшедшего несчастья и в особенности возвышавшееся перед ним исполинское и диковинное явление – все это подействовало на Манфреда так, что он лишился дара речи. Но одно лишь горе едва ли могло бы вызвать столь долгое молчание князя. Манфред, не отрывая глаз, пристально смотрел на шлем, словно надеясь, что он окажется только видением, и был, казалось, не столько поглощен своей утратой, сколько размышлениями о том поразительном предмете, который явился ее причиной. Он притрагивался к смертоносной каске, внимательно разглядывал ее, и даже окровавленные, исковерканные останки юного князя не могли отвлечь взгляд Манфреда от этого чуда. Все люди вокруг, знавшие, как сильно любил Манфред сына, были поражены его бесчувственностью, пожалуй, не меньше, чем самим чудесным шлемом. Они подняли обезображенный труп Конрада и перенесли его в замок. Манфред при этом оставался совершенно безучастным и не отдавал никаких распоряжений. Не больше внимания проявил он и к оставшимся в часовне несчастным женщинам – к своей жене и дочери; и не к ним относились первые слова, которые слетели с его уст.
– Позаботьтесь о госпоже Изабелле, – сказал он.
Слуги не придали значения странности этого распоряжения: будучи весьма преданы своей госпоже, княгине, они решили, что князь, выразившись столь своеобразно, имел в виду ее тяжелое душевное состояние, и поспешили прийти к ней на помощь. Они перенесли Ипполиту, в которой едва теплилась жизнь, в ее покои, но она проявляла полное безразличие ко всем необычайным обстоятельствам, о которых ей рассказывали, – ко всему, кроме смерти сына. Матильда, исполненная самозабвенной дочерней любви, подавила свое собственное горе и изумление и думала только о том, как вернуть к жизни и утешить свою страждущую мать. Изабелла, помня, что Ипполита всегда относилась к ней как к родной дочери, и платя ей столь же горячей преданностью и любовью, также усердно хлопотала вокруг нее; вместе с тем, видя, что Матильда сама подавлена горем, хотя и стремится скрыть свое состояние, она старалась, как могла, разделить с ней и облегчить это тяжкое бремя, ибо питала к дочери Ипполиты самую искреннюю дружескую симпатию. Однако она не могла одновременно не думать и о своем собственном положении. Смерть юного Конрада не вызвала в ней никаких других чувств, кроме жалости, и она отнюдь не была опечалена тем, что избавилась от необходимости вступить в брак, суливший ей мало радости, как можно было предполагать, судя по облику ее нареченного жениха и по суровому нраву Манфреда; несмотря на проявляемую им к невесте сына большую снисходительность, он внушал ей непреоборимый страх своей беспричинной черствостью в обращении с такими кроткими существами, как его жена и дочь.
Пока Изабелла и Матильда провожали убитую горем мать к ее ложу, Манфред оставался во дворе и продолжал созерцать зловещий шлем, не обращая внимания на толпу, которая постепенно собралась вокруг него, привлеченная удивительным происшествием. Он почти ничего не говорил и лишь несколько раз повторил один и тот же вопрос: «Не знает ли кто-нибудь, откуда взялся этот шлем?» Никто, однако, не мог сообщить ему никаких сведений на этот счет. Но так как Манфреда, по-видимому, занимало только происхождение шлема – и ничего более, – вскоре и все остальные зрители стали рассуждать лишь об этом, высказывая различные предположения, неясность и невероятность которых вполне соответствовали исключительности самого бедствия. Глупейшие догадки следовали одна за другой, как вдруг один молодой крестьянин, пришедший сюда из близлежащей деревни, до которой уже успел дойти слух о событиях в замке, заметил, что чудесный шлем в точности похож на шлем черной мраморной статуи, стоящей в церкви святого Николая и изображающей Альфонсо Доброго, одного из князей, правивших здесь в прежние времена.
– Что ты сказал, негодяй? – вскричал, внезапно перейдя от оцепенения к ярости, Манфред и схватил молодого крестьянина за шиворот. – Как посмел ты произнести эти предательские слова? Ты заплатишь за них жизнью!
Присутствующие так же мало могли уразуметь причину гнева Манфреда, как и все прочее, что они видели перед собой, и этот новый оборот дела поверг их в полное замешательство. Сам молодой крестьянин был изумлен больше всех и не мог понять, чем он оскорбил князя; однако, сразу сообразив, как вести себя, он со смиренным видом осторожно высвободился из железных рук Манфреда и затем, отвесив глубокий поклон, выражавший не столько страх, сколько желание засвидетельствовать свою невиновность, почтительно спросил, в чем состоит его проступок. Отнюдь не умиротворенный покорностью крестьянина, напротив, еще более рассерженный тем, что молодой человек весьма решительно, хотя и ни в какой мере не грубо, заставил его разжать стиснутые пальцы, Манфред приказал своим людям схватить провинившегося и на месте заколол бы его кинжалом, если бы его не удержали приглашенные на свадьбу гости.
Во время этой перепалки несколько человек из числа собравшегося простонародья успели сбегать в расположенную поблизости от замка большую церковь и вернулись оттуда с ра зинутыми от изумления ртами: они объявили, что шлем, который был на статуе Альфонсо Доброго, исчез. При этом известии Манфред впал в полное неистовство и, словно чувствуя потребность сорвать на ком-нибудь свой гнев, снова обрушился на молодого крестьянина с криком:
– Негодяй! Дьявольское отродье! Колдун! Ты сделал это! Ты убил моего сына!
Толпа, которая, запутавшись в догадках и предположениях, искала в доступных ее пониманию пределах какого-то прямого виновника бедствия, тотчас подхватила слова Манфреда и тоже стала кричать:
– Это он, он! Он украл шлем с надгробной статуи Альфонсо Доброго и размозжил им голову вашего сына!
При этом никто и не подумал о том, как велико различие между мраморным шлемом, находившимся в церкви, и огромной стальной каской, которая была сейчас на виду у всех. Не пришло никому на ум и то, что для юноши, едва достигшего двадцатилетнего возраста, было совершенно невозможно приволочь с собой доспех такой немыслимой тяжести.
Явная нелепость всех этих домыслов привела Манфреда в чувство. Однако либо рассерженный тем, что крестьянин заметил сходство между шлемами и, таким образом, обнаружилось исчезновение шлема из церкви, либо желая пресечь всякие слухи, которые могло породить столь дерзкое предположение, Манфред во всеуслышание объявил, что молодой человек, бесспорно, является чернокнижником и что, пока церковь не произведет дознания по делу, изобличенный чародей будет содержаться в заключении под этим самым шлемом. Он тут же приказал своим людям поднять шлем и поместить под него молодого человека, сказав при этом, что ему не будут доставлять пищу, ибо он сам сможет добыть ее себе при помощи своих сатанинских чар.
Напрасно молодой человек упрашивал отменить этот нелепый приговор. Напрасно пытались друзья Манфреда отвратить его от этого дикого решения, для которого не было никаких причин. Большинство простонародья пришло в восторг от произнесенного их господином суда, в высшей степени справедливого, по их разумению, поскольку он карал кудесника тем же самым орудием, которое тот избрал для совершения своего злого дела; и ни у кого из этих людей даже не екнуло сердце при мысли, что юноша может умереть голодной смертью, ибо они и не предполагали такой возможности, будучи убеждены в том, что он при помощи своего дьявольского искусства с легкостью обеспечит себя пропитанием.
Поэтому распоряжение Манфреда было выполнено с большой готовностью и охотой, после чего, выставив у шлема стражу и строго наказав ей препятствовать всякой попытке передать узнику пищу, он подал своим друзьям и слугам знак расходиться, велел запереть наружные ворота, разрешив оставаться в замке только живущим в нем челядинцам, и удалился в свои покои.
Тем временем благодаря стараниям и заботам обеих молодых девушек княгиня Ипполита пришла в себя; она снова предалась своему горю, но среди бурных приступов отчаяния то и дело спрашивала о своем супруге и повелителе, хотела послать к нему слуг, что были при ней, и наконец упросила Матильду оставить ее и пойти утешать отца. Матильда, неизменно верная своему дочернему долгу, хотя и трепетала от страха перед суровостью Манфреда, повиновалась приказу матери; препоручив ее с тысячей предупреждений заботам Изабеллы, она осведомилась, где находится Манфред, на что ей было отвечено, что он удалился в свои покои и не велел никого допускать к себе. Предполагая, что отец погружен в свое горе, и опасаясь, что при виде единственного оставшегося в живых его детища слезы снова брызнут из его глаз, она колебалась, следует ли ей нарушать его печальное уединение; однако ее собственное беспокойство о нем и прямое повеление матери заставили ее отважиться на неповиновение приказу отца – дерзость, в которой она никогда не была повинна прежде. Робость, присущая ее кроткой натуре, остановила ее у входа в покои Манфреда. Стоя в нерешительности перед дверью, она слышала, как он, то быстрей, то медленней, ходит взад и вперед по комнате; такое состояние его духа только усилило ее дурные предчувствия. Однако она собиралась уже заявить о себе стуком и попросить разрешения войти, как вдруг Манфред сам отворил дверь, но в уме его царило смятение, а к тому же еще наступили сумерки, и он, не узнав Матильду, сердито спросил, кто его беспокоит.
– Дорогой отец, это я, ваша дочь, – дрожа, ответила Матильда.
– Убирайся! Мне не нужна дочь! – вскричал, отпрянув от нее, Манфред. И, резко отступив назад, он со всего размаху захлопнул дверь перед онемевшей Матильдой.
Она слишком хорошо знала необузданный нрав отца, чтобы решиться на новое вторжение. Немного оправившись от потрясения, вызванного таким недружелюбным приемом, она поспешила утереть слезы, чтобы скрыть происшедшее от матери и уберечь ее от еще одного тяжкого удара; и когда Ипполита стала взволнованно расспрашивать ее, каково состояние Манфреда и как переносит он свою утрату, она заверила ее, что отец здоров и сохраняет в несчастье мужественную твердость духа.
– Но неужели он не допустит меня к себе? – горестно вопросила Ипполита. – Неужели не позволит мне смешать свои слезы с его слезами и матери нельзя будет выплакать свое горе на груди ее повелителя? Или ты обманываешь меня, Матильда? Я знаю, какую любовь питал Манфред к своему сыну: не оказался ли удар слишком силен для него и он не смог его перенести? Я опасаюсь самого худшего! Поднимите меня, – обратилась она к служанкам, – я хочу, я должна увидеть моего супруга. Отнесите меня к нему немедленно. Он мне дороже всех на свете, даже моих детей.
Матильда знаками показала Изабелле, что следует помешать намерению Ипполиты подняться, и обе прелестные девушки мягко, но настойчиво старались удержать на месте и успокоить княгиню, как вдруг появился слуга с поручением от Манфреда и сообщил Изабелле, что его господин желает говорить с ней.
– Со мной? – воскликнула удивленная Иза белла.
– Идите, – сказала ей Ипполита, испытывая облегчение от того, что услыхала слова, переданные ее супругом. – Манфред не в состоянии сейчас видеть своих близких. Он думает, что ваше смятение не столь велико, как наше, и опасается силы моего горя. Утешьте его, моя дорогая Изабелла, и скажите ему, что я предпочитаю одна справляться со своей душевной мукой, нежели усиливать его страдания.
Так как в это время уже наступил вечер, слуга, сопровождавший Изабеллу, нес перед ней факел. Когда они предстали перед Манфредом, который нетерпеливо шагал взад и вперед по галерее, тот, встрепенувшись, бросил слуге:
– Прочь этот свет и убирайся сам!
Затем, с силой захлопнув дверь, он бросился на приставленную к стене скамью и велел Изабелле сесть рядом с ним. Дрожа от страха, Изабелла повиновалась.
– Я послал за вами… – сказал Манфред и остановился, как бы подыскивая слова.
– О князь! – прошептала Изабелла.
– Да, я послал за вами, – повторил он, – ибо хотел видеть вас по одному весьма важному поводу. Осушите ваши слезы, Изабелла… Вы утратили своего жениха… Да, такова жестокая судьба! А я утратил надежду на продолжение моего рода! Но Конрад был недостоин вашей красоты.
– Как, ваша светлость! – воскликнула Иза белла. – Я надеюсь, вы не подозреваете, что я не испытываю тех чувств, которые мне надлежит испытывать по столь печальному поводу. Мой долг и моя преданность никогда бы…
– Не думайте о нем больше, – прервал ее Манфред. – Конрад был болезненный, тщедушный мальчик. Возможно, для того и прибрал его Господь, чтобы я не доверил будущее моего дома столь ненадежному фундаменту. Княжеский род Манфреда нуждается в многочисленных и крепких опорах. Моя неразумная любовь к этому юнцу затмила мне взор и лишила меня предусмотрительности, – так что, может быть, оно и к лучшему. Я надеюсь, что через несколько лет у меня будут основания радоваться смерти Конрада.
Нельзя описать словами изумление Изабеллы. Сначала ей показалось, что у Манфреда от горя помутился разум. Затем она подумала, что эти странные речи имеют своей целью заманить ее в какую-то ловушку. Она испугалась того, что Манфред почувствовал ее равнодушие к Конраду, и поэтому сочла уместным ответить:
– Не сомневайтесь в моих чувствах, высокочтимый князь; отдав свою руку, я отдала бы и свое сердце. Конраду были бы посвящены все мои заботы, и как бы судьба ни распорядилась мною, отныне я всегда буду свято хранить его память, а вашу светлость и достойнейшую супругу вашу Ипполиту буду чтить как родных отца и мать.
– Будь она проклята, Ипполита! – вскричал Манфред. – Забудьте ее с этого мгновения, как я уже забыл ее. Короче говоря, Изабелла, вы утратили жениха, но он был недостоин ваших прелестей. Вместо хилого юнца супругом вашим должен стать мужчина во цвете лет, который сумеет ценить вашу красоту и который может надеяться на многочисленных отпрысков.
– Увы, ваша светлость, – возразила Изабелла, – ум мой слишком поглощен только что постигшим ваше семейство ужасным несчастьем, чтобы я могла помышлять о другом замужестве. Если мой отец когда-нибудь прибудет сюда и такова будет его воля, я покорюсь ей, так же как и в тот раз, когда я согласилась отдать свою руку вашему сыну; но до тех пор, пока не явится мой отец, позвольте мне оставаться под вашим гостеприимным кровом и посвятить свои скорбные дни попыткам облегчить горе, поразившее вас, госпожу Ипполиту и прекрасную Матильду.
– Я уже просил вас однажды, – гневно сказал Манфред, – не вспоминать больше об этой женщине; с этого часа она должна быть для вас такой же чужой, как и для меня. Короче говоря, Изабелла, поскольку я не могу женить на вас своего сына, я предлагаю вам в мужья себя самого.
– О Боже! – вскричала Изабелла, у которой наконец спала пелена с глаз. – Что я слышу! Вы, князь? Вы? Мой свекор! Отец Конрада! Супруг кроткой и добродетельной Ипполиты!
– Говорю вам, – властно заявил Манфред, – Ипполита больше не жена мне; с этого часа я в разводе с ней. Слишком долго ее бесплодие тяготело проклятием надо мной. Моя судьба зависит от того, будут у меня сыновья или нет, и я верю, что эта ночь предопределит день, когда мои надежды сбудутся.
С этими словами он схватил холодную как лед руку Изабеллы. Ни жива ни мертва от объявшего ее страха и ужаса, Изабелла вскрикнула и вырвалась от него. Манфред вскочил, чтобы настичь ее, как вдруг увидел в свете месяца, теперь уже высоко взошедшего и озарявшего противоположное окно, перья рокового шлема, которые поднимались до самых окон и раскачивались из стороны в сторону, глухо шелестя, словно деревья в бурю. Изабелле отчаяние придало храбрости, и, больше всего страшась настойчивого стремления Манфреда осуществить свой замысел, она крикнула:
– Смотрите, князь, смотрите! Само небо осуждает ваши нечестивые намерения!
– Ни небо, ни ад не помешают мне выполнить то, что я задумал, – ответил Манфред и снова бросился к Изабелле.
В этот момент портрет его деда, висевший над скамьей, на которой они перед тем сидели, явственно вздохнул и грудь его поднялась и опустилась. Изабелла, стоявшая спиной к портрету, не заметила, как он шевельнулся, и не знала, откуда донесся услышанный ею вздох, но вся задрожала. Произнеся: «Что это, князь? Вы слышите этот звук?» – она бросилась к двери. Манфреду, который не мог отвести глаз от портрета, было в этот момент не до нее, и она успела добраться до лестницы, прежде чем он, заметив ее бегство, сделал несколько шагов ей вослед, озираясь на ожившее изображение, как вдруг портрет покинул раму и, сойдя на пол, с угрюмым и скорбным видом стал перед Манфредом.
– Уж не во сне ли я вижу это? – вскричал Манфред. – Или все дьявольские силы ополчились против меня? Говори, адское виденье! А если ты действительно мой предок, то почему и ты вступил в заговор против своего несчастного потомка, который платит слишком дорогой ценой за то, что…
Он не успел окончить фразу, как призрак снова вздохнул и подал Манфреду знак следовать за ним.
– Веди меня! – воскликнул Манфред. – Я пойду за тобой хоть в самую преисподнюю.
Призрак степенно, но с угрюмым видом прошествовал до конца галереи и свернул в горницу направо. Манфред следовал за ним на некотором расстоянии, исполненный тревоги и ужаса, но без колебаний. Когда он захотел войти в горницу вслед за призраком, незримая рука резко захлопнула перед ним дверь. Князь, собрав во время этой задержки всю свою смелость, стал ломиться в дверь, ударяя в нее ногой, но убедился, что она не поддается никаким его усилиям.
– Что же, если ад не хочет удовлетворить мое любопытство, я употреблю все доступные мне человеческие средства, чтобы сохранить свой род, – промолвил он. – Изабелле не уйти от меня.
Девушка, чья решимость сменилась страхом, как только она покинула Манфреда, сбежала вниз по главной лестнице до прихожей. Здесь она остановилась, не зная, куда направиться дальше и как спастись от необузданности князя. Ворота замка были заперты, и во дворе были расставлены часовые. Могла ли она, повинуясь зову своего сердца, пойти в покои Ипполиты, чтобы предупредить княгиню об ожидавшей ее жестокой участи? Она не сомневалась, что Манфред сразу же явится за ней туда и в своей ярости нанесет задуманную им обиду со всей мыслимой жестокостью, а у них не будет никакой возможности защититься от неистовства его страстей. Нужна была хоть небольшая отсрочка, в течение которой Манфред мог бы поразмыслить над принятыми им ужасными решениями или появилось бы какое-нибудь благоприятное для нее обстоятельство, но для этого было необходимо, чтобы по крайней мере на ближайшую ночь ему пришлось отложить выполнение своих чудовищных намерений. Но где скрыться? Как уйти от Манфреда, который неизбежно будет преследовать ее в любой части замка? В то время как эти мысли вихрем проносились в ее голове, она вдруг вспомнила про подземный ход, который вел из подвалов замка в церковь святого Николая. Она знала, что если бы ей удалось добраться до алтаря, прежде чем ее настигнут, то даже такой неистовый человек, как Манфред, не посмел бы осквернить это священное место; и она решила, если не представится иного способа спастись, навсегда укрыться среди святых дев, чей монастырь соседствовал с церковью святого Николая. Приняв такое решение, она схватила светильник, горевший у подножия лестницы, и устремилась к потайному ходу.
Подвальная часть замка состояла из множества низких сводчатых коридоров, настолько запутанных, что до крайности взволнованной Иза белле нелегко было найти дверь в тот погреб, откуда начинался ход. Пугающее безмолвие царило во всех этих подземных помещениях, и лишь иногда порывы ветра сотрясали раскрытые ею двери, заставляя их скрипеть на ржавых петлях, отчего по всему мрачному лабиринту прокатывалось многократное эхо. Каждый шорох вызывал у Изабеллы новый прилив страха, но больше всего она боялась услышать гневный голос Манфреда, побуждающий слуг преследовать ее. Она ступала так осторожно, как только могла при всем своем нетерпении, но часто останавливалась и прислушивалась, нет ли у нее за спиной погони. Вдруг ей показалось, что она услышала чей-то вздох. Затрепетав, она отступила на несколько шагов. Кровь похолодела в ее жилах: она решила, что это Манфред. Самые разнообразные предположения, какие только могли быть порождены чувством ужаса, пронеслись одно за другим в ее голове. Она осуждала себя за поспешный побег, из-за которого она могла оказаться беззащитной перед его бешенством, ибо нельзя было надеяться, что в таком месте ее крики привлекут кого-нибудь ей на помощь. Однако звук этот, по-видимому, раздался не позади нее. А если бы Манфред знал, где она, то уж, наверное, следовал бы за ней по пятам. Она все еще находилась в одном из подземных переходов, а шаги, доносившиеся до ее слуха, были слишком отчетливы, чтобы ожидать их приближения с той же стороны, с которой шла она сама. Ободренная этим соображением и надеясь встретить доброжелателя в любом человеке, кроме Манфреда, Изабелла хотела уже двинуться вперед, как вдруг дверь, видневшаяся слева, невдалеке от нее, и стоявшая полуприкрытой, тихонько отворилась настежь; но прежде чем пламя светильника, который Изабелла подняла над головой, дало ей возможность разглядеть того, кто открыл дверь, он поспешно отступил во тьму.
Достаточно было любой случайности, чтобы напугать Изабеллу до полусмерти, и она колебалась, не зная, продолжать ли ей свой путь. Вскоре, однако, страх перед Манфредом пересилил все другие ее опасения. Как раз то обстоятельство, что незнакомец избегал показаться ей на глаза, придало ей некоторую смелость. «Это может быть только, – подумала она, – какой-нибудь слуга из замка». Обходительная и ласковая со всеми, она ни в ком не нажила себе врага, и сознание невинности внушало ей надежду, что слуги князя, если только они не посланы им самим на поиски ее, скорее будут способствовать, нежели препятствовать ее побегу. Подбодрив себя этими соображениями и предположив по всем признакам, что стоит у входа в подземную пещеру, она приблизилась к двери, которую только что открыли перед ней; но внезапный порыв ветра, ударив ей в лицо, едва она подошла к порогу, загасил светильник, и она осталась в полной темноте.
Нельзя описать словами то ужасное положение, в котором очутилась Изабелла. Она была одна в таком безотрадном месте, вся еще под впечатлением страшных событий минувшего дня, почти без надежды на спасение, ожидая каждый миг появления Манфреда, не видя для себя утешения и в том, что совсем рядом с ней находится кто-то неизвестный, очевидно, не без причины скрывающийся здесь. Она мысленно обратилась ко всем святым на небесах с горячей мольбой о помощи. В течение некоторого времени, охваченная отчаянием, она не в силах была шевельнуться. Но наконец все же она стала нащупывать дверь, двигаясь, по возможности, неслышно, и найдя ее, с трепетом вступила под своды, откуда до нее донеслись вздох и шаги. На мгновение она испытала что-то похожее на радость, увидев слабый, мерцающий луч застилаемой тучами луны, проникавший сверху, где часть потолка, по-видимому, обвалилась и откуда свисал не то кусок земли, не то обломок какой-то стены, что именно – Изабелла не могла разобрать. Заинтересованная, она подошла поближе к пролому и вдруг увидела человеческую фигуру, прислонившуюся к стене.
Изабелла вскрикнула, решив, что перед ней призрак ее жениха Конрада. Но фигура приблизилась и почтительно произнесла:
– Не тревожьтесь, госпожа! Я не сделаю вам ничего дурного.
Несколько ободренная словами незнакомца и тоном, которым они были произнесены, Изабелла сообразила, что этот самый человек, наверно, открыл ей дверь, и собралась с духом настолько, что смогла ответить:
– Кто бы вы ни были, сударь, сжальтесь над бедной девушкой, находящейся на краю гибели; помогите мне убежать из этого ужасного замка, иначе через несколько минут я стану несчастной навсегда.
– Увы! – воскликнул незнакомец. – Как могу я помочь вам? Я готов умереть, защищая вас, но я совсем не знаю замка, и у меня нет…
– О! – вскричала Изабелла, прервав его на полуслове. – Помогите мне только найти подъемную дверь – она должна быть где-то здесь поблизости, – и вы окажете мне величайшую услугу; ничего больше мне не нужно, но я не могу терять ни минуты.
С этими словами она стала ощупывать каменный пол и попросила незнакомца заняться тем же самым, чтобы найти небольшую медную пластину, вделанную в один из камней.
– Это затвор, – сказала она, – он открывается пружиной, секрет которой я знаю. Если мы найдем его, я смогу спастись, если же нет, то – увы, любезный незнакомец! – я боюсь, что вовлеку вас в свои несчастья: Манфред заподозрит, что вы соучастник моего побега, и вы станете жертвой его ярости.
– Я не слишком дорожу своей жизнью, – ответил незнакомец. – Если я отдам ее за то, чтобы избавить вас от тирании Манфреда, то в последнюю минуту это послужит мне некоторым утешением.
– Благородный юноша, – сказала Иза белла, – смогу ли я когда-нибудь отплатить вам…
Как раз когда она произносила эти слова, лунный луч, проскользнувший сквозь щель в своде, упал прямо на затвор, который они искали.
– О, радость! – воскликнула Изабелла. – Вот она, подъемная дверь! И, достав ключ, она нажала на пружину; медный затвор отскочил в сторону, открыв железное кольцо.
– Поднимите дверь, – сказала Изабелла.
Незнакомец повиновался; в открывшемся проеме виднелось начало каменной лестницы, которая уходила в полную темноту.
– Мы должны спуститься туда, – произнесла Изабелла, – следуйте за мной: хотя здесь мрачно и жутко, мы не собьемся с пути; подземный ход приведет нас прямо в церковь святого Николая. Но, быть может, – деликатно добавила она, – у вас нет причин покидать замок; а я вполне могу больше не обременять вас: через несколько минут я буду вне пределов досягаемости для неистовства Манфреда, только скажите мне, кому я обязана столь многим.
– Я ни за что не покину вас, – живо возразил незнакомец, – пока вы не окажетесь в безопасном месте, и не считайте меня чересчур самоотверженным человеком, хотя сейчас вы – моя главная забота…
Незнакомец не успел договорить, как вдруг издали послышался гул голосов, которые стали быстро приближаться, и вскоре беглецы смогли разобрать слова:
– Что вы толкуете мне о колдунах! Говорю вам, она должна быть в замке; я найду ее, несмотря на все бесовские чары!
– О, небо! – вскричала Изабелла. – Это голос Манфреда! Скорей, или мы погибли! Опустите за собой дверь.
С этими словами она поспешно сошла вниз по ступеням; незнакомец хотел ринуться вслед за ней, но неосторожно выпустил из рук подъемную дверь; она упала, и пружина захлопнула затвор. Напрасно пытался юноша открыть дверь, не заметив, каким именно способом нажала на пружину Изабелла, да и времени, чтобы продолжать попытки, у него почти не оставалось. Манфред услышал грохот от падения двери и устремился в ту сторону, откуда раздался шум, в сопровождении слуг, которые держали в руках пылающие факелы.
– Это, наверно, Изабелла! – вскричал Манфред, еще не вступив под своды подземелья. – Она пытается скрыться через потайной ход, но далеко уйти она еще не могла.
Каково же было изумление князя, когда при свете факелов он увидел вместо Изабеллы того самого молодого крестьянина, который, как он полагал, должен был сейчас пребывать в заключении под роковым шлемом.
– Предатель! – воскликнул Манфред. – Как ты попал сюда? Я полагал, что ты крепко заперт там наверху, во дворе.
– Я не предатель, – смело возразил молодой человек, – и никак не отвечаю за ваши предположения.
– Наглец! – закричал Манфред. – Ты нарочно распаляешь мой гнев? Говори: как удалось тебе освободиться из-под шлема? Ты, наверно, подкупил стражу – они поплатятся за это жизнью.
– Моя бедность, – спокойно отвечал крестьянин, – доказательство их невиновности; хотя они призваны служить прихотям своевольного тирана, но своему господину они преданы и готовы были весьма ревностно выполнить ваш несправедливый приказ.
– Ты настолько дерзок, что не боишься моего гнева? – сказал Манфред. – Что ж, пытки вырвут у тебя правду. Говори, я желаю знать, кто твои сообщники?
– Вот кто мой сообщник, – с улыбкой ответил юноша, указывая на своды над головой.
Манфред велел поднять повыше факелы и увидел пролом в потолке, образованный одним из краев каски, пробившим каменный настил двора в тот момент, когда слуги обрушили ее на молодого крестьянина, которому удалось протиснуться сквозь открывшуюся таким образом щель за несколько минут до встречи с Иза беллой.
– Значит, ты спустился оттуда? – спросил Манфред.
– Да, – ответил юноша.
– Но что же за шум я услыхал, входя в эту залу? – продолжал спрашивать Манфред.
– Это захлопнулась дверь, – сказал крестьянин. – Я тоже слышал громкий звук.
– Какая дверь? – поспешно спросил Манфред.
– Я не знаком с вашим замком, – ответил крестьянин. – Сейчас я впервые попал в него, и это подземелье – единственное помещение в нем, которое я до сих пор видел.
– Но я говорю тебе, – сказал Манфред, желая проверить, обнаружил ли юноша потайную дверь, – шум, который я слышал, шел отсюда; мои слуги тоже слышали его.
– Ваша светлость, – почтительно обратился к Манфреду один из слуг, – это, конечно, упала подъемная дверь, а он пытался скрыться таким путем.
– Замолчи, болван! – сердито прикрикнул на него князь. – Если намеревался скрыться, как оказался он с этой стороны? Я хочу услышать из его собственных уст, что за шум донесся до моих ушей. Говори правду: твоя жизнь зависит от того, будешь ли ты правдив.
– Правда для меня дороже жизни, – отвечал крестьянин, – и я не стану отвращать от себя смерть ценою лжи.
– В самом деле, молодой философ! – презрительно сказал Манфред. – Так вот скажи мне, что за шум я слышал.
– Задавайте мне вопросы, на которые я могу ответить, и, если я солгу, можете казнить меня.
Манфред, которого начали уже злить невозмутимость и бесстрашие юноши, вскричал:
– Хорошо же, отвечай, правдолюбец; этот шум, услышанный мною, был вызван падением подъемной двери?
– Да, – ответил юноша.
– Я так и знал, – произнес князь. – Но как же ты дознался, что здесь есть подъемная дверь?
– Я увидел в свете месяца медную пластину, – ответил молодой человек.
– Но кто сказал тебе, что это затвор? Как узнал ты секрет, который запирает его?
– Провидение, освободившее меня из-под шлема, направило меня и помогло найти пружину затвора.
– Провидение могло бы пойти несколько дальше и обезопасить тебя от моего гнева, – сказал Манфред. – Если провидение помогло тебе открыть затвор, оно покинуло тебя, как глупца, не способного воспользоваться его благодеяниями. Почему ты не устремился по тому пути, который был указан тебе для твоего спасения? Почему ты закрыл подъемную дверь до того, как спустился вниз по ступеням?
– Я мог бы спросить у вас, ваша светлость, – сказал крестьянин, – откуда было мне, совершенно не знакомому с замком, знать, что эти ступени ведут к какому-нибудь выходу; но я считаю недостойным для себя уклоняться от ваших вопросов. Куда бы ступени ни вели, я, вероятно, попытался бы испробовать этот путь – я не мог бы оказаться в худшем положении, чем то, в котором уже находился. Но я действительно дал двери упасть – это чистая правда; и тотчас вслед за тем появились вы. Я был причиной поднятой вами тревоги, какое же имело для меня значение, буду ли я схвачен минутой раньше или минутой позже?
– Ты весьма смел, хоть и молод, – произнес Манфред. – Но сдается мне, ты пытаешься хитрить со мной. Ты еще не сказал, как тебе удалось открыть затвор.
– Это я покажу вам, – ответил крестьянин, и, взяв в руку один из упавших со свода обломков, он улегся на подъемную дверь и стал бить по вделанной в нее медной пластине, желая таким образом оттянуть время, чтобы беглянка успела добраться до церкви.
Проявленное юношей присутствие духа, а также его прямота и искренность произвели большое впечатление на Манфреда. Он даже ощутил склонность великодушно простить юношу, не повинного ни в каком преступлении. Манфред не был одним из тех свирепых тиранов, которые черпают наслаждение в жестокости, предаваясь ей просто так, безо всякого повода. Обстоятельства его жизни привели к тому, что он очерствел, но от природы он был человечен; и добрые начала в его душе тотчас давали себя знать, когда страсти не затмевали его разума.
В то время как князь пребывал в замешательстве, не зная, как поступить, из отдаленных подземных зал послышался и прокатился эхом неясный гул голосов. Когда шум приблизился, Манфред узнал голоса своих слуг, которых он разослал по всем уголкам замка на поиски Иза беллы.
– Где его светлость? Где князь? – кричали они изо всех сил.
– Я здесь, – ответил Манфред, когда они подошли ближе.
– О, государь! – воскликнул первый из вошедших в залу. – Какое счастье, что мы нашли вас!
– Нашли меня? – крикнул Манфред. – А Изабеллу вы нашли?
– Мы думали, что настигли ее, – ответил слуга, выглядевший насмерть перепуганным, – но, ваша светлость…
– Что? – прогремел Манфред. – Она убежала?
– Жак и я, ваша светлость…
– Да, я и Диего, – прервал этого слугу другой, следом за ним вошедший в залу; он казался еще более потрясенным.
– Говорите по очереди, – приказал Манфред. – Я спрашиваю вас: где Изабелла?
– Мы не знаем, – ответили оба в один голос, – но мы так испуганы, что ничего не соображаем.
– Это я вижу, болваны вы этакие! – сердито сказал князь. – Что же нагнало на вас такой страх?
– О, господин! – промолвил Жак. – Диего узрел нечто такое… Вы, ваша светлость, не поверили бы своим глазам.
– Что еще за нелепости! – вскричал Манфред. – Отвечайте прямо, без обиняков, не то, клянусь небом…
– Так вот, – сказал бедняга слуга, – если вашей светлости угодно меня выслушать, дело было так: Диего и я…
– Да, да, я и Жак… – взволнованно вставил его товарищ.
– Я же запретил вам говорить обоим вместе, – сказал князь. – Отвечай ты, Жак: этот дурак Диего, кажется, еще больше спятил с ума, чем ты. Что случилось?
– Милостивый господин мой, если вам угодно выслушать меня, дело было так: Диего и я, по приказу вашей светлости, отправились искать молодую госпожу, но, опасаясь встретить призрак нашего молодого господина, сына вашей светлости, – упокой, Господи, его душу! – поскольку он не получил христианского погребения…


