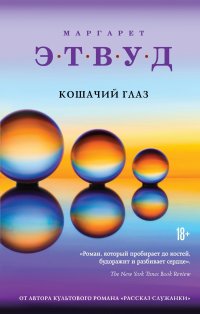
Читать онлайн Кошачий глаз бесплатно
- Все книги автора: Маргарет Этвуд
Эта книга – для С.
Картины и другие произведения современного искусства, описанные в этой книге, выдуманы. Однако на них повлияло творчество художников Джойс Вилэнд, Джека Чемберса, Чарльза Пэчтера, Эрики Хирон, Гейл Гелтнер, Денниса Бертона, Луиса де Нивервилля, Хезер Купер, Уильяма Курилика, Грега Курноу и гончара Ленор М. Этвуд, работающей в жанре поп-сюрреализма; а также – галерея Айзекса, старого оригинала.
За сведения по физике и космологии, затронутые в этой книге, я благодарю Пола Дэйвиса, Карла Сагана, Джона Гриббина и Стивена Хокинга, авторов увлекательнейших книг по соответствующим темам. Спасибо также моему племяннику Дэвиду Этвуду за его разъяснения теории струн.
Огромная благодарность Грэму Гибсону за то, что он претерпел этот роман; моему агенту Фиби Лармор; моим агентам в Англии – Вивьен Шустер и Ванессе Холт; моим редакторам и издателям – Нэн Тализ, Нэнси Эванс, Эллен Селигман, Адриенне Кларксон, Эви Беннет, Лиз Калдер и Анне Портер; моей неутомимой помощнице Мелани Даген; а также Доне Перофф, Майклу Брэдли, Элисон Паркер, Гэри Фостеру, Кейти Гилл, Кейти Минялофф, Фанни Силберман, Джеймсу Полку, Колин Куинн, Рози Абелле, С. М. Сандерсу, Джину Гольдбергу, Джону Галлахеру и Дороти Гулборн.
Когда Туканас отрезал старухе голову, старуха собрала в ладони собственную кровь и дунула, и кровь улетела на солнце.
– Так и моя душа входит в тебя! – закричала старуха.
С тех пор всякий, кто убивает, принимает в свое тело душу убитого, не зная и не желая этого.
Эдуардо Галеано«Память огня. Сотворение»
Почему мы помним прошлое, а не будущее?
Стивен Хокинг«Краткая история времени»
I. Железное легкое
1
Время – не прямая, а отдельное измерение, как измерения в пространстве. Если пространство можно искривить, то и время тоже можно. А если мы научимся двигаться быстрее света, то сможем путешествовать назад во времени и тогда будем существовать в двух местах сразу.
Так говорил Стивен, мой брат. Занимаясь физикой, он надевал особый вязаный бордовый свитер с расползающимися дырками на протертых локтях и стоял на голове, чтобы кровь приливала к мозгу и питала его. Я ничего не поняла, но, может быть, он не очень хорошо объяснял. Он уже тогда начал уходить от слов, от присущей им неточности.
Но я с тех пор представляю себе время как что-то четко очерченное, что-то видимое. Будто несколько прозрачных, жидких диапозитивов наложили друг на друга. Вглядываясь во время, мы смотрим не назад, а вглубь, как в воду. На поверхность поднимается то одно, то другое, а иногда – ничего. Но все сохраняется навеки.
2
– Стивен говорит, что время – не прямая, – говорю я. Корделия закатывает глаза, как я и ожидала.
– И? – отвечает она. Такой ответ нам обеим приятен. Он ставит на место как природу времени, так и Стивена, который зовет нас «подростки», будто он сам не подросток.
Мы с Корделией едем на трамвае в центр города, как всегда зимой по субботам. Воздух в трамвае сырой и туманный оттого, что уже побывал у кого-то в легких, и от испарений мокрой шерсти. Корделия сидит в непринужденной позе, с непроницаемым лицом, по временам подталкивая меня локтем, вперивая в других пассажиров взгляд серо-зеленых глаз, непрозрачных и блестящих, как металл. Она кого угодно может переиграть в вагонные гляделки, и я от нее почти не отстаю. Мы круты, мы просто богини, нам по тринадцать лет.
Мы в длинных драповых пальто, затянутых поясами. Воротники подняты – мы хотим походить на кинозвезд. На ногах у нас резиновые сапоги с подвернутыми голенищами. Под сапогами – мужские рабочие носки. У каждой в кармане платок, надетый по настоянию матери, но тут же тайком снятый. Мы презираем головные уборы. Рты у нас жесткие, ярко-красные, блестящие, как ногти. Мы с Корделией считаем, что мы – подруги.
В трамваях вечно попадаются старухи – во всяком случае, нам эти женщины кажутся старухами. Иные одеты прилично, в жакеты из шотландского твида, перчатки в тон и аккуратные шляпки без излишеств, с маленьким задорным перышком сбоку. Другие – бедней, явные иностранки, кутают головы и плечи в темные платки. Третьи – неповоротливые, бесформенные, с неодобрительно поджатыми губами, увешанные, как гирляндами, сумками, полными покупок. Эти у нас ассоциируются с распродажами, подвальными магазинами уцененных товаров. Корделия на глаз отличает дешевую ткань. «Габардин, – говорит она. – Дешевка».
Иные женщины еще борются, пытаются выглядеть гламурно. Их немного, но они выделяются. Они одеты в алое или фиолетовое, серьги – длинные висюльки, а шляпы смотрятся как театральный реквизит. Из-под юбки выглядывает край комбинации – необычного, фривольного цвета. Фривольным считается любой цвет, кроме белого. Волосы у этих женщин выкрашены в блонд, или в пастельно-голубой, или – что еще больше режет глаз на фоне безжизненной, как бумага, кожи – в черный, тусклый, как старая меховая шуба. Вокруг рта помадой нарисован другой рот, вокруг настоящих глаз – изломанный черный контур других. Эти женщины часто разговаривают сами с собой. Одна все время бормочет: «Баранина, баранина», снова и снова, как слова песни, а другая тычет нас зонтиком в ноги и говорит: «Голые!»
Эти женщины нам нравятся больше всего. В них есть некая веселость, изобретательность, им все равно, что о них подумают. Они сбежали (хотя от чего именно – нам не до конца ясно). Мы думаем, что они сознательно выбрали и странные костюмы, и речевые ужимки, и что в свое время мы тоже сможем выбирать.
– Я вот такой стану, – говорит Корделия. – Только я еще заведу брехливого пекинеса и буду гонять мальчишек со своего газона. У меня будет палка с крюком, как посох пастуха.
– А я заведу себе игуану, – отвечаю я. – И буду одеваться исключительно в мареновый цвет.
Это слово я выучила совсем недавно.
Теперь я думаю: а что если эти женщины просто не видели себя со стороны? Проще не бывает: плохое зрение. Теперь я сама этим страдаю: слишком близко к зеркалу – все расплывается, слишком далеко – не разглядеть мелких деталей. Кто знает, что за лицо я рисую? Какой шедевр современного искусства изображаю на себе? Даже на правильно выбранном расстоянии от зеркала я каждый раз другая: иногда выгляжу на сильно потасканные тридцать пять, иногда – на бодрые пятьдесят. Очень многое зависит от освещения и от того, как прищуришься.
Я ем в розовых ресторанах, они благоприятнее для цвета лица. В желтых и сама желтеешь. Я действительно размышляю на эту тему. Тщеславие начинает дорого обходиться; я понимаю, почему женщины в конце концов сдаются. Но я еще не готова сдаться.
В последнее время я ловлю себя на том, что напеваю вслух или что иду по улице с приоткрытым ртом, даже слюни текут. Совсем чуть-чуть; но, может быть, это – острие клина, трещина в фундаменте, которая со временем расширится и превратится… во что? В какие пейзажи сверкающей эксцентричности или безумства?
Этого я никогда не открою никому, кроме Корделии. Но какой Корделии? Той, которую я вызвала из глубин памяти, – в пальто с поднятым воротником и резиновых сапогах с подвернутыми голенищами? Или той, что была до этого? Или той, что была после? Каждый человек, без исключения, существует в нескольких экземплярах.
Если я снова встречусь с Корделией, что я расскажу ей о себе? Правду – или приукрашенную версию, в которой выгляжу хорошо?
Видимо, второе. У меня все еще осталась эта потребность – выглядеть хорошо.
Я очень давно не видела Корделию. Я не ожидала встречи с ней. Но сейчас, по возвращении, я вижу ее на каждой улице – она сворачивает за угол или скрывается в дверях. Само собой, эти фрагменты – плечо бежевого пальто из верблюжьей шерсти, профиль, отставленная назад нога – принадлежат женщинам, которые, стоит их увидеть целиком, оказываются не Корделией, а кем-то другим.
Я понятия не имею, как она выглядит сейчас. Может, она растолстела, груди обвисли, в углах рта седые волоски. Но это вряд ли; она станет их выщипывать. Может, она носит очки в модной оправе, сделала блефаропластику, на волосах «перышки» или она моет голову оттеночным шампунем. Всё это возможно; мы обе достигли пограничного возраста, нейтральной зоны, в которой ещё веришь, что эти уловки действуют, главное – избегать ярко освещенных мест.
Я представляю себе, как Корделия разглядывает в зеркало с близкого расстояния растущие мешки под глазами, свисающие и морщинистые, как кожа на локтях. Корделия вздыхает, мажет под глазами кремом – именно тем, который нужен, – и прихлопывает подушечками пальцев. Корделия непременно будет знать, какой крем – правильный. Она осматривает свои руки – они слегка усохли, искривились, как и мои. Шишки суставов. Морщинки у губ. У подбородка уже намечаются брыли, их видно в темных зеркалах окон в вагоне метро. Больше никому пока не видно, если не разглядывать пристально; но мы с Корделией привыкли смотреть пристально.
Она роняет банное полотенце – зеленое, приглушенного цвета морской волны в тон ее глазам, – и смотрит на себя через плечо. В зеркало видны складки кожи над талией, похожие на морду шарпея. Ягодицы обвисли, как гребень петуха. Иссохший мох волос, если развернуться передом. Я представляю себе Корделию в спортивном костюме, тоже зеленом, – она трудится в спортзале, потеет, как лошадь. Я знаю, что она сказала бы об этом. Обо всем этом. Как мы хихикали, с каким отвращением и восторгом, когда нашли воск, который ее старшие сестры использовали для депиляции. Он застыл в баночке, и в нем торчали щетинистые волоски. Гротескные причуды тела всегда интересовали Корделию.
Я воображаю, как неожиданно натыкаюсь на нее. Может быть, она в потертом пальто и вязаной шапке, напоминающей по форме бабу-на-чайник, сидит на тротуаре с двумя магазинными пакетами, в которые вмещается весь ее скарб. Сидит и бормочет что-то себе под нос. «Корделия! Не узнаешь?» – говорю я. Она узнает, но притворяется, что не узнала. Встает и ковыляет прочь на распухших ногах. Через дыры в резиновых сапогах просвечивают старые носки. Она оглядывается через плечо.
Эти фантазии меня отчасти утешают, и тем больше, чем они мрачней. Я смотрю из окна или с балкона, как Корделию преследует по улице какой-то мужчина, догоняет, бьет под ребра (удар в лицо для меня немыслим), сбивает с ног. Но дальше этого я пойти не могу.
Лучше буду думать про кислородную палатку. Корделия лежит без сознания. Меня вызвали в больницу, к ее одру, но слишком поздно. Тошнотворно пахнут вянущие в вазе цветы, у Корделии в носу и в венах трубки. Звук предсмертного дыхания. Я держу ее за руку. Лицо у нее опухшее, белое, как недопеченное тесто, под закрытыми глазами – желтоватые круги. Веки недвижны, но пальцы слегка подрагивают, или это мне кажется? Я сижу и думаю, не выдернуть ли трубки у нее из вен, шнур аппарата – из розетки. Ее мозг мертв, сказали врачи. Неужели я плачу? Но кто же мог меня сюда вызвать?
Или даже лучше: железное легкое. Я никогда его не видела, но в газетах публиковали фотографии детей в такой штуке – давно, когда люди еще болели полиомиелитом. Эти фотографии – железный цилиндр, гигантская металлическая колбаса, из одного конца торчит голова (непременно девочки), волосы разметались по подушке, глаза большие, как у ночного зверька, – всегда меня завораживали. Даже больше, чем истории про детей, которые пошли гулять по тонкому льду, провалились и утонули, или играли на путях и им поездом отрезало руки и ноги. Полиомиелит можно подхватить незаметно для себя, и тогда окажешься в железном легком, сама не зная как. Что-то вдохнула или съела, или заразилась через деньги, которые до тебя трогали другие люди. Знать бы, где упасть.
Взрослые ссылались на железное легкое, чтобы пугать нас, запрещать то, что нам хотелось. Никаких общественных бассейнов, летом – никаких гуляний в толпе. «Ты что, хочешь провести остаток жизни в железном легком?» – говорили взрослые. Дурацкий вопрос. Хотя для меня такая жизнь – с ее неподвижностью, с жалостью окружающих – имела свои тайные плюсы.
Ну, значит, Корделия в железном легком. Ею дышат, играя на ней, как на гармошке. Вокруг нее рождается металлический хрип. Она в полном сознании, но не может ни двигаться, ни говорить. Я вхожу в комнату, двигаюсь, говорю. Наши взгляды встречаются.
Корделия должна где-то жить. Может, в миле от меня, а может, на соседней улице. Но в конце концов я уже не представляю себе, что сделаю, если наткнусь на нее. Например, она окажется в метро, на сиденье напротив. Или будет стоять на платформе, разглядывая рекламу. Мы будем вместе смотреть на большой рот, растянутый вокруг шоколадного батончика, и я повернусь и скажу: «Корделия! Это я, Элейн». Она взглянет на меня и театрально взвизгнет? Или игнорирует?
Или это я ее игнорирую, если представится такая возможность? Или подойду к ней молча и обниму? Или схвачу за плечи и буду трясти, трясти?
Мне кажется, что я иду уже несколько часов. Под горку, в сторону даунтауна, где больше не ходят трамваи. Вечер – размытая серая акварель, похожая на жидкую пыль, как всегда осенью в этом городе. По крайней мере погода осталась той же.
Вот я дошла до места, где мы обычно вылезали из трамвая и погружались в притротуарные залежи январской снежной каши, в резкий ветер, задувающий с озера в щели между уродливыми домами с плоскими крышами. Для нас они служили воплощением большого города. Но теперь этот район больше не плоский, не уродливый, его потрепанная презентабельность ушла в прошлое. Восстановленные кирпичные фасады сверкают неоновыми вывесками, изобилием начищенной меди. Изобилием недвижимости. Изобилием денег. Впереди сияют огромные прямоугольные стеклянные башни, как великанские надгробия из холодного света. Замороженные активы.
Но я не разглядываю ни здания, ни модно одетых прохожих в импортном, сшитом на заказ, кожаном, замшевом и что у них там еще. Я смотрю под ноги, словно иду по следу.
Я чувствую, как перехватывает горло, болит челюсть. Я снова начала грызть пальцы. Во рту вкус крови, его я помню. Эскимо из апельсинового шербета, грошовые шарики жвачки, красные лакричные жгуты, обсосанные волосы, грязный лёд.
II. Серебряная бумага
3
Я лежу на полу, на футоне, накрывшись периной. Футон! Перина! Вот как далеко мы шагнули! Интересно, знал ли Стивен, что такое футоны и перины. Скорее всего, нет. Скорее всего, если бы сказать при нем «футон», он посмотрел бы так, как будто он глухой или ты – сумасшедшая. Он и футоны принадлежали к разным вселенным.
В те годы, когда не было ни футонов, ни перин, стаканчик мороженого стоил пять центов. Сейчас такой можно купить за доллар, и это если повезет, причем он будет меньше того, прежнего. Вот к чему в итоге сводится разница между тогда и сейчас: девяносто пять центов.
Я подошла к середине жизни. Эта веха видится мне как определенное место, что-то вроде середины реки или моста, когда половина лежит перед тобой, а другая уже позади. Предположительно к этому времени я уже должна была обрасти балластом: имуществом, обязанностями, достижениями, опытом и мудростью. Я должна была стать солидным человеком.
Вернувшись в этот город, я не чувствую никакой солидности. Мне кажется, я стала легче, словно перелиняла, отбросила молекулы тела, кальций костей, клетки крови; я будто сжимаюсь, наполняюсь холодным воздухом или медленно падающим снегом.
Но при всей своей легкости я не поднимаюсь, а опускаюсь. Точнее, меня тащит вниз, в глубинные слои города, словно в жидкую грязь.
Дело в том, что я ненавижу этот город. Я его так давно ненавижу, что едва помню времена, когда относилась к нему по-другому.
Когда-то полагалось называть его скучным. Первая премия – неделя в Торонто, вторая премия – две недели в Торонто. Торонто Благонравный, Торонто Трезвенный, где по воскресеньям не продают спиртное. Все его жители говорили одно и то же: провинциальный, самодовольный, скучный. Говоря так, мы признавали эти качества и в то же время отгораживались от них.
А сейчас положено констатировать, как сильно он изменился. Одна из мировых столиц – это выражение часто встречается в нынешних журналах (и уже порядком заезжено). Рестораны с кухней разных народов, театры, бутики. Нью-Йорк, но без мусора и преступности. Раньше жители Торонто ездили на выходные в Буффало – женщины ради шопинга, мужчины ради стриптиза и подаваемого допоздна пива. Возвращались они взвинченные, нетрезвые, надев купленную одежду в несколько слоев, чтобы обмануть таможенников. Теперь поток машин по выходным идет в другую сторону.
Я никогда не верила ни тому, ни другому утверждению – «скучный», «мировая столица». Для меня Торонто никогда не был скучным. Скучный – не то слово, которым можно описать в полной мере его беспросветность и его притягательность.
И еще я не могу поверить, что он изменился. Вчера я ехала на такси из аэропорта мимо аккуратных длинных низких складов и фабрик, выстроенных там, где когда-то стояли аккуратные длинные низкие фермы. Многие мили рачительности и утилитарности. А потом – через центр города во всем его блеске, с брусчаткой и парусиновыми навесами над витринами на европейский манер. Но я видела, что он – все тот же. Под приукрашенной видимостью – все тот же город, улица за улицей приземистых краснокирпичных домов, перед которыми торчат веранды с навесами на тонких беловатых столбиках, похожих на ножки поганок. Бдительные, расчетливые окна. Вредные, злопамятные, мстительные, неумолимые.
Когда мне снится этот город, во сне всегда оказывается, что я заблудилась.
Помимо всего этого у меня, конечно, есть настоящая жизнь. Порой мне трудно бывает в неё поверить, поскольку такая жизнь, конечно, не могла бы сойти мне с рук и я ее не заслуживаю. В пару к этому убеждению у меня есть другое – что все люди моего возраста взрослые, а я только притворяюсь.
Я живу в доме с газоном и с занавесками на окнах, в Британской Колумбии – это самая далекая от Торонто точка, куда можно уехать, не рискуя утонуть. Нереальность местного пейзажа меня бодрит: горы как на открытке с курорта (на одной стороне закат, на другой накорябано несколько слов), домики тридцатых годов (сказочные на вид, словно их построили гномы для Белоснежки), огромные слизняки – я не могу понять, зачем слизнякам быть такого размера. Даже дождь в этих местах утрированный, его невозможно воспринимать всерьез. Я думаю, для тех, кто родился и вырос тут, всё это так же реально и так же невыносимо, как Торонто для меня. Но в хорошие дни я все-таки ощущаю себя будто на каникулах или после удачного побега. В плохие же дни я не замечаю окружающих видов, да и вообще мало что замечаю.
У меня есть муж, не первый, по имени Бен. Он никаким боком не художник, чему я очень рада. Он заведует туристическим агентством, которое специализируется на турах в Мексику. Среди прочих положительных качеств Бена – умение доставать дешевые билеты на Юкатан. Из-за работы в агентстве он не смог поехать со мной сейчас: несколько месяцев перед Рождеством – самое горячее время в туристическом бизнесе.
Еще у меня две дочери, уже взрослые. Их зовут Сара и Анна. Хорошие, разумно выбранные, привычные имена. Одна доучивается на врача, другая – бухгалтер. Привычные, разумно выбранные профессии. Я верю в разумный выбор, хотя мне он часто не свойствен. И еще я считаю, что детям нельзя давать экзотические имена. Вот посмотрите, что случилось с Корделией.
В настоящей жизни у меня есть даже карьера, хотя ее трудно назвать настоящей. Я художница. Я даже в анкете на паспорт так написала, расхрабрившись, поскольку иначе пришлось бы писать «домохозяйка». Мне самой не верится, что я стала художницей; бывают дни, когда меня передергивает при мысли об этом. Добропорядочные люди не становятся художниками; только претенциозные, склонные к театральности и аффекту. Слово «художник» приводит меня в замешательство: я предпочитаю называть себя живописцем, это больше похоже на настоящую профессию. Слово «художник» означает тунеядца, ведущего аморальный образ жизни; спросите любого жителя нашей страны, и он с этим согласится. На человека, называющего себя художником, будут смотреть косо. Конечно, кроме случаев, когда он рисует дикую природу или зарабатывает кучу денег. Но я зарабатываю ровно столько, чтобы мне завидовали другие художники, и недостаточно, чтобы посылать к черту всех, кого мне хочется послать.
Но большую часть времени я торжествую. Я думаю о том, что спаслась чудом – все могло быть гораздо хуже.
Именно из-за своей карьеры я сейчас лежу на этом футоне, под этой периной. Мне устраивают персональную ретроспективную выставку – первую в моей жизни. Галерея называется «Ди-Версия» – подобная игра слов когда-то приводила меня в восторг (до того, как вошла в моду). Я должна была бы радоваться этой выставке, но испытываю смешанные чувства: мне неприятно думать о своем солидном стаже и творческом багаже, которые позволили эту выставку устроить. Хотя бы и в альтернативной галерее, которой заправляют женщины. То, что у меня будет персональная выставка, кажется мне маловероятным и зловещим: сегодня выставка, а завтра в морг. Но еще я сердита из-за того, что Картинная галерея Онтарио не захотела проводить мою ретроспективу. В КГО предпочитают мертвых иностранных художников мужского пола.
Футон находится в мастерской, принадлежащей моему первому мужу, Джону. Интересно, что у него тут оборудовано спальное место, хотя живет он где-то еще. Я пока не разрешаю себе обыскать шкафчик в ванной на предмет шпилек и женского дезодоранта. А когда-то я бы именно так и поступила. Но меня это больше не касается. Я сама могу оставить в ванной шпильки, пускай их найдет его новая жена, ходячий бронепоезд.
Возможно, я зря тут поселилась. Слишком много воспоминаний. Но мы с Джоном никогда не переставали общаться – из-за Сары, она и его дочь тоже. Пройдя через фазу крика и битья посуды, мы стали в каком-то смысле друзьями – на расстоянии; это всегда легче, чем бок о бок. Услышав про мою выставку, Джон предложил свою мастерскую. Он сказал, что гостиницы в Торонто, даже заштатные, теперь дерут просто чудовищные деньги. «Ди-Версия» заплатила бы за мое пребывание, но я об этом не упомянула. Я не люблю гостиничной чистоты, отмытых до скрипа ванн. Мне не нравится, когда мой голос отдается эхом в пустоте, особенно ночью. Я предпочитаю линьку, хаос, личную грязь людей вроде меня, вроде Джона – бродяг, перелетных птиц.
Студия Джона расположена на Кинг-стрит, у озера. Когда-то нам не велели ходить на Кинг-стрит, там ничего не было, кроме грязных складов, грохочущих грузовиков и сомнительных проулков. Но с тех пор улица сделала карьеру. Ее освоили художники; точнее сказать, первая волна – художников – пришла и ушла, и теперь Кинг-стрит обживают юридические фирмы с медными табличками и выкрашенными в красный пожарный цвет батареями отопления. Мастерская Джона располагается на пятом, верхнем этаже одного из складов. В теперешнем виде ей недолго осталось существовать. По потолкам расползаются рельсовые светильники. С полов на нижних этажах сдирают старый линолеум, пахнущий полиролем с едва заметными нотками древних блевотины и мочи, и открывшиеся широкие доски чистят пескоструйкой. Я все это знаю, потому что поднимаюсь на пятый этаж пешком: лифт еще не установили.
Джон оставил мне ключ в конверте под ковриком у двери, с запиской, которая гласила: «Благословляю». Это тоже показывает, как он смягчился (или размяк). Раньше он ни за что не написал бы такого. Сейчас он в Лос-Анджелесе, занимается убийством бензопилой, но планирует вернуться к открытию моей выставки.
Последний раз я его видела на выпускной церемонии, когда Сара заканчивала университет. Джон прилетел на наш край континента – к счастью, без жены, так как она меня не любит. Мы с ней не встречались, но я знаю о ее нелюбви. Во время церемонии – сначала всякая торжественная чепуха, потом чай с печеньем – мы держались как ответственные взрослые родители. Потом мы повели обеих дочерей в ресторан, все так же соблюдая приличия. Мы и оделись так, чтобы сделать приятное Саре: я была в платье с туфлями в тон и все такое, а Джон в костюме и даже галстуке. Я сказала, что он похож на похоронных дел мастера.
Но на следующий день мы тайком встретились, чтобы пообедать вместе, и надрались. Это слово, «надрались», рискованное на грани неприличия, напоминает мне о той встрече. Мы предавались воспоминаниям. И я до сих пор мысленно говорю «тайком», хотя Бен, конечно, знал, куда я иду. Но вот он никогда не пошел бы обедать со своей первой женой.
– Ты же всегда говорила, что ваш брак был катастрофой, – удивился он тогда.
– Именно. Чудовищной.
– Тогда почему ты хочешь пойти с ним обедать?
– Трудно объяснить, – сказала я. Хотя, может быть, на самом деле совсем нетрудно. Пусть наше общее прошлое – Джона и мое – больше похоже на дорожную аварию, но оно у нас общее. Мы пережили друг друга и выжили. Каждый из нас был для другого акулой, но в то же время и спасательной шлюпкой. Это немало.
В те годы Джон занимался инсталляциями. Он собирал их из кусков дерева и кожи, которые выуживал из чужих мусорных баков. А иногда он разбивал вещи – скрипки, посуду – и приклеивал куски так, как они упали, когда вещь разбилась. Он называл такие штуки «построения разбиения». Был у него период, когда он оборачивал цветной пленкой стволы деревьев и фотографировал их. А как-то он сделал копию заплесневелой буханки хлеба, которая дышала – втягивала и выдыхала воздух при помощи электромоторчика. Плесень он изготовил из волос – своих собственных и своих друзей. Я думаю, там даже мои есть – я как-то поймала Джона, когда он снимал очёски с моей щетки для волос.
Сейчас он создает спецэффекты для кино, чтобы оплачивать свое пристрастие к искусству. Мастерская завалена недоделанными вещами. На рабочем столе, где Джон держит краски, клей, резаки и пассатижи, валяется резиновая рука с пальцами. Из отруба змеятся артерии. Рука снабжена ремешками, чтобы пристегивать ее к телу. На полу стоят пустые слепки ног и ступней, как подставки для зонтиков, сделанные из слоновьих конечностей. В одной ноге и впрямь торчит зонтик. Есть еще часть лица с почерневшей и сморщенной кожей – актер наденет ее поверх собственного лица. Чудовище, изуродованное людьми и влекомое жаждой мести.
Джон сказал мне, что не знает, стоит ли ему заниматься этими обрубками анатомии. В них слишком много насилия, они не делают человечество добрее. С возрастом Джон уверовал в человеческую доброту, и это разительная перемена. Я даже нашла у него в кухонном шкафчике травяной чай. Джон утверждает, что с большей охотой делал бы милых зверюшек для детских спектаклей. Но, как он сам говорит, человеку нужно есть, а на отрезанные руки и ноги спрос куда больше.
Мне хочется, чтобы Джон был сейчас со мной. Или Бен, или любой знакомый мужчина. На незнакомцев меня уже не тянет. Когда-то главным было возбуждение, риск; а сейчас я думаю только о неловкости, неразберихе. Практически невозможно раздеться так, чтобы это выглядело красиво; и все время обдумываешь, что сказать потом, и эти фразы бесконечно крутятся в голове. Еще хуже – встреча с подробностями чужого тела: ногтями на ногах, дырками ушей, волосами в носу. Возможно, в этом возрасте к нам возвращается брезгливость, какая свойственна детям.
Я вылезаю из-под перины – ощущение такое, что я вообще не спала. Роюсь в пакетиках травяного чая на кухне. «Лимонный туман», «Утренняя гроза». Отвергаю их ради густого, ядовитого кофе, чтобы встряхнуться. Обнаруживаю, что стою посреди мастерской и не помню, как попала сюда из кухоньки. Небольшой временной сдвиг, помехи на экране. Видимо, это джет-лаг; слишком долго не ложилась ночью, а утром как пьяная. Или ранний Альцгеймер.
Я сижу у окна, пью кофе и кусаю пальцы, глядя вниз с пятого этажа. В этой перспективе прохожие кажутся сплющенными, как дети-уроды. Вокруг – море складов, прямоугольных, с плоскими крышами, а за ними – плоская полоса отвода железной дороги, где некогда сновали поезда, когда-то единственное зрелище, дозволенное по воскресеньям. Дальше простирается плоское озеро Онтарио, ноль в начале и ноль в конце, грифельно-серое и до краев налитое ядом. Даже дождь из этого озера – канцерогенный.
Я моюсь в крохотной, нечистой ванной комнате Джона, сопротивляясь желанию заглянуть в шкафчик. Захватанная ванная выкрашена в тускло-белый, что не очень способствует хорошему цвету лица. В чересчур опрятной обстановке Джон не чувствовал бы себя художником. Я щурюсь в зеркало, подготавливая лицо; если надеть контактные линзы, я окажусь слишком близко к зеркалу, а без них – слишком далеко. Я приноровилась делать все, что нужно у зеркала, зажав одну линзу в зубах – она стеклянистая и тонкая, как обсосыш леденца. Можно нечаянно проглотить ее и подавиться – очень унизительная смерть. Надо бы завести бифокальные очки. Но в них я буду выглядеть совсем старухой.
Я надеваю пастельно-голубой спортивный костюм, камуфлируя свою художественную натуру, и спускаюсь по лестнице на первый этаж, стараясь двигаться бодро и целенаправленно. Я вполне могу быть деловой женщиной, которая вышла побегать трусцой. Я менеджер в банке, и у меня выходной. Я направляюсь на север, потом на восток по Куин-стрит – еще одна улица, на которую мы никогда не ходили. Тогда считалось, что здесь обитают грязные пьяницы, синяки, как мы их называли; по слухам, они пили метиловый спирт, спали в телефонных будках и могли наблевать тебе на ноги в трамвае. Но сейчас Куин-стрит полна картинных галерей, книжных лавок, бутиков с черной одеждой и странной обувью. Зазубренное острие тренда.
Я решаю пойти взглянуть на галерею. Я ее еще не видела – все переговоры проходили по телефону и по почте. Я не собираюсь входить, представляться; еще рано. Только посмотреть с улицы. Пройду мимо, окину взглядом, притворяясь домохозяйкой, туристкой, зевакой. Галереи пугают. В них меня оценивают, судят. Я вынуждена стараться, чтобы не подкачать.
Но на пути к галерее я вижу фанерный забор – он скрывает площадку, где сносят дом. На заборе граффити краской из баллончика, вызов отмытому до скрипа городу: «Или бекон, или я, детка». А под этой надписью другая: «Что такое этот бекон и где его берут?» Рядом – афиша. Или не афиша, скорее листовка: агрессивно лилового цвета, с зелеными тенями и черными буквами. «РИЗЛИ В РЕТРОСПЕКТИВЕ», гласит она. Одна только фамилия, как у мальчишки. Фамилия моя. Лицо тоже вроде бы мое. Это фотография, которую я послала в галерею. Только теперь у меня появились усы.
Тот, кто их нарисовал, знал свое дело. Усы закрученные, длинные, словно у мушкетера, и к ним в комплекте идет козлиная бородка. Они подходят по цвету к волосам.
Надо думать, мне следовало бы обеспокоиться по поводу этих усов. Что они такое – каракули от нечего делать, или политический комментарий, или акт агрессии? Отметка «здесь был я» (или «была», ведь я не знаю, кто нарисовал усы – мужчина или женщина) или неприличное слово? Я вспоминаю, как сама рисовала такие усы, и всю ненависть, которую я в них вкладывала, желание высмеять, изуродовать, сознание собственной власти. Будь я помоложе, я бы обиделась на рисовальщика.
Но сейчас я разглядываю усы и думаю: «А неплохо смотрится». Эти усы подобны костюму. Я созерцаю их под разными углами, словно обдумывая, не купить ли себе такие. Мои мысли меняют направление. Я начинаю думать о мужчинах, об усах и бородках, о просторе для маскировки и мимикрии. О мужчинах под прикрытием усов и о том, какими голыми, наверно, эти мужчины себя чувствуют, если усы сбрить. Уменьшенными. Очень многие лучше выглядели бы с усами.
И вдруг меня охватывает изумление. Я наконец обрела лицо, на котором можно подрисовать усы. Лицо – мишень для усов. Лицо – достояние публичности. Лицо, стоящее того, чтобы его обезобразить. Это – достижение. Я наконец кем-то стала. Кем-то или чем-то.
Интересно, увидит ли Корделия этот плакат. Узнает ли меня, несмотря на усы. Может, она придет на открытие выставки. Войдет, и я повернусь ей навстречу – в черном, как положено художнику, с таким видом, как будто моя жизнь удалась, с бокалом плохого, но не очень плохого вина в руках. Я не пролью ни капли.
4
Пока мы не осели в Торонто, я была счастлива.
До этого мы нигде не жили по-настоящему; или жили в стольких местах, что и не упомнишь. Мы много времени проводили в машине, в низко сидящем «студебеккере» размером с лодку, руля по проселочным дорогам и двухполосным шоссе на севере провинции, огибая озеро за озером, холм за холмом, и белые линии летели нам навстречу по середине дороги, а телефонные столбы – по краям. Столбы повыше и пониже, так что казалось, будто провода скачут вверх-вниз.
Я еду в одиночестве на заднем сиденье среди чемоданов и картонных коробок с едой и одеждой, среди сухого химического запаха чехлов. Мой брат Стивен сидит впереди, у приоткрытого окна. От него пахнет мятными леденцами; из-под этого запаха пробивается его собственный – мокрого песка и грифельных карандашей из кедровой древесины. Иногда Стивена тошнит в бумажный пакет – или на обочину, если отец успевает остановиться. Стивена укачивает, а меня нет, вот ему и приходится сидеть впереди. Это его единственная известная мне слабость.
С моего тесного насеста в задней части машины открывается отличный вид на уши всей семьи. Отцовские – торчащие из-под полей старой фетровой шляпы, которую он носит, чтобы сучки, смола и гусеницы не попадали в волосы, – большие и мягкие на вид, с длинными мочками. Они похожи на уши гномов или мелких собаковидных тварей телесного цвета из комиксов про Микки-Мауса. Мать пришпиливает волосы с боков заколками-невидимками, так что ее уши тоже видны сзади. Они узкие, с хрупкими верхними краешками, похожими на ручки фарфоровых чашек, хотя саму мать не назовешь хрупкой. У брата уши круглые, как курага или как у зеленых овальноголовых инопланетян, которых он рисует цветными карандашами. Вокруг ушей, спускаясь на них и на затылок, торчат густые пучки волос, прямых и русых. Стивен не дает себя стричь.
Когда мы в машине, мне трудно шептать брату в его круглые уши. И в любом случае он не может ничего шепнуть мне в ответ, поскольку вынужден смотреть прямо перед собой – на горизонт или на белые линии дороги, медленными волнами бегущие навстречу.
Дороги в основном пусты, поскольку время военное. Хотя порой попадаются грузовики с бревнами или свеженапиленными досками, за которыми тянется шлейф опилок. В обед мы останавливаемся у дороги, расстилаем брезент среди иван-чая и беловатых, словно бумажных, бессмертников и съедаем приготовленное матерью – бутерброды с сардинками, бутерброды с сыром, бутерброды с патокой или вареньем, если ничего другого не удалось достать. Мясо и сыр – в дефиците, их отпускают по карточкам. На самом деле это не карточки, а книжка, с разноцветными штампами.
Отец разводит костерок, чтобы вскипятить воду в котелке для чая. После обеда мы поодиночке исчезаем в кустах, напихав в карманы туалетной бумаги. Иногда в кустах оказываются опередившие нас куски туалетной бумаги, тающие среди папоротника и опавших листьев, но чаще – нет. Я присаживаюсь, держа ушки на макушке – а вдруг медведь? Шершавые листья астр царапают мне бедра. Сделав дело, я заваливаю туалетную бумагу ветками, корой и сухим папоротником. Отец говорит, что нужно все оставлять в таком виде, словно тебя тут и не было.
Отец идет в лес с топором, рюкзаком и большим деревянным ящиком на ремне. Он смотрит вверх, переводя взгляд с одной вершины на другую и обдумывая. Потом расстилает под выбранным деревом брезент, оборачивая ствол. Открывает ящик, который полон стеклянных флаконов на подставках. Бьет по стволу обухом топора. Дерево дрожит; с него сыплются листья, веточки и гусеницы, они отскакивают от серой отцовской шляпы и падают на брезент. Мы с братом наклоняемся, собираем гусениц – они в голубую полоску, бархатные и прохладные, как собачьи носы. Мы суем гусениц в склянки для образцов, наполненные бледным спиртом. И смотрим, как они, извиваясь, опускаются на дно.
Отец смотрит на урожай гусениц так, словно сам их вырастил. Исследует обгрызенные листья. «Прелестное нашествие паразитов!» – говорит он. Его переполняет радость жизни. Он моложе, чем я сейчас.
Мои пальцы пахнут спиртом – холодный и далекий запах, пронзительный, как входящая в тело стальная булавка. Так пахнут белые эмалированные раковины. Глядя по ночам на звезды – холодные, белые и острые, – я думаю, что они должны так пахнуть.
Под конец дня мы останавливаемся и разбиваем лагерь. Ставим тяжелую брезентовую палатку на деревянных кольях. Наши спальные мешки – цвета хаки, толстые, комковатые и всегда будто сыроватые на ощупь. Под них мы кладем брезент, а потом надувные матрасы – когда их надуваешь, всегда кружится голова, а рот и нос наполняются запахом задохнувшихся резиновых сапог или наваленных в гараже запасных шин. Мы едим у костра, который становится все ярче, а тени тянутся к нам от деревьев, отрастая, как новые темные ветви. Мы заползаем в палатку и раздеваемся внутри спальных мешков. Фонарик рисует круг на брезенте палатки – светлое кольцо и внутри него темное, как мишень. В палатке пахнет смолой, капоковой ватой, коричневой оберточной бумагой, в которой раньше был сыр, и мятой травой. По утрам сорняки снаружи палатки покрыты росой.
Иногда мы останавливаемся в мотелях, но только если уже ночь и мы не успели найти место для лагеря. Мотели всегда далеко отовсюду, они стоят на фоне темной стены леса и мерцают в однородной, всё окутавшей ночи, как огни корабля или оазиса. Рядом с мотелем всегда есть заправка – колонки на ней в рост человека, с круглыми дисками наверху, светящимися, как бледные луны или как нимбы святых, только без голов. На каждом диске нарисована ракушка, или звезда, или оранжевый кленовый лист, или белая роза. Мотели и заправки часто безлюдны или закрыты: бензин тоже по карточкам, так что никто не путешествует без крайней необходимости.
Еще мы иногда останавливаемся в домиках, принадлежащих другим людям или правительству, или в брошенных лагерях лесорубов. Бывает, что мы ставим две палатки – одну для себя, другую для припасов. Зимуем мы в городках или городишках там же, на севере – Су-Сент-Мари или Садбери – в квартирах, которые на самом деле просто верхний этаж чьего-то дома, поэтому нам приходится помнить, что нельзя топать в обуви по деревянным полам. У нас есть мебель – мы достаем ее из хранилища. Мебель всегда одна и та же, но каждый раз выглядит незнакомой.
В этих жилищах есть канализация – унитазы, белые и пугающие, в которых всё исчезает вмиг, с рёвом и грохотом. Каждый раз по приезде в город мы с братом постоянно бегаем в туалет, а еще роняем в унитаз всякие вещи – например, кусочки макарон, – чтобы посмотреть, как они исчезнут. Звучат сирены ПВО, и мы задергиваем занавески и выключаем свет, хотя мать говорит, что война сюда никогда не дойдет. Вой- на просачивается к нам из радиоприемника – далекие трескучие голоса из Лондона пробиваются сквозь помехи. Родители слушают с сомнением, поджимая губы; возможно, мы проигрываем.
Брат так не думает. Он считает, что наше дело правое, а значит, мы победим. Он собирает карточки-вкладыши из сигаретных пачек с изображениями самолетов и знает названия всех моделей.
У брата есть молоток, куски дерева и собственный перочинный нож. Брат строгает и сколачивает: мастерит себе пистолет. Он скрепляет два бруска под прямым углом и вбивает туда еще один гвоздь, это спусковой крючок. У брата уже несколько таких деревянных пистолетов и ружей, а также кинжалы и сабли. Лезвия сабель окровавлены – он раскрасил их красным карандашом. Местами кровь оранжевая – там, где кончился красный. Брат поёт:
- «Мы летим, ковыляя во мгле,
- Мы ползем на последнем крыле.
- Бак пробит, хвост горит, но машина летит
- На честном слове и на одном крыле…»[1]
Он поёт весело, но мне кажется, что эта песня – печальная: я хоть и видела изображения самолетов на сигаретных карточках, но до сих пор не знаю, как они летают. Я думаю, что они как птицы, а птица с одним крылом лететь не может. Так говорит отец зимой, за ужином, поднимая бокал, когда на ужин приходят другие мужчины: «С одним крылом не полетишь». А значит, от честного слова, которое упоминается в песне, никакого толку нету.
Стивен дает мне пистолет и нож, и мы играем в вой- ну. Это его любимая игра. Пока родители ставят палатку, разводят костер или готовят ужин, мы крадемся в кустах, за деревьями, целясь сквозь листья. Я пехота, это значит – я должна делать, что говорит Стивен. Он жестом приказывает наступать или отступать и велит не поднимать головы, а то враг меня подстрелит.
– Ты убита, – говорит он.
– Нет!
– Еще как убита. В тебя попали. Ложись.
Спорить не приходится, поскольку он знает, где враг, а я нет. Я вынуждена лежать на болотистой земле, опираясь на пень, чтобы не совсем промокнуть ко времени, когда можно будет ожить.
Иногда вместо войны мы занимаемся охотой – идем по лесу, переворачивая бревна и камни и глядя, что под ними. Там оказываются муравьи, личинки жуков и сами жуки, лягушки и жабы, ужи, даже саламандры, если повезет. Мы не трогаем найденных тварей. Мы знаем, что если их засунуть в баночку и случайно оставить на солнце на заднем стекле машины, они умрут – такое случалось раньше. Так что мы просто смотрим – наблюдаем, как муравьи в панике прячут продолговатые яйца, как змеи утекают в темноту. Потом мы возвращаем бревно на прежнее место. Кроме случаев, когда нам нужна наживка для рыбалки.
Иногда мы ссоримся или деремся. Я никогда не побеждаю: Стивен крупней и безжалостней, и мне нужней играть с ним, чем ему – со мной. Мы ссоримся шепотом или уходим подальше от родителей, потому что если они нас поймают, то накажут обоих. Поэтому же мы никогда не ябедничаем друг на друга. Мы знаем по опыту, что выгоды, полученные от доноса, того не стоят.
Поскольку наши ссоры – тайные, у них есть еще один притягательный момент. Это – плохие слова, которые нам запрещено говорить, например, «жопа». Нас притягивает общая тайна, сговор, заговор. Мы наступаем друг другу на ноги, щиплем друг друга за руки, но следим за тем, чтобы не выдать свою боль. Мы не предаем друг друга даже в ссоре.
Сколько лет мы жили так – словно бродяги, скитальцы по дальним окраинам войны?
Сегодня мы ехали очень долго и начали ставить палатку позже обычного. Мы рядом с дорогой, у безымянного озера с неровными краями. Прибрежные деревья отражаются в воде. Листья тополей желтеют – осень близко. Солнце садится посреди длинного, холодного, тягучего заката – розового, как фламинго, потом как лососина, потом неправдоподобно ярко-красного, как меркурохром. Розовый свет ложится на поверхности, трепещет, меркнет и исчезает. Ночь ясная, безлунная, наполненная антисептическими звездами. Млечный Путь проступает как нельзя более отчетливо – к ненастью.
Но мы не обращаем на это внимания, поскольку Стивен учит меня видеть в темноте, как умеют спецназовцы. Не знаешь, когда это пригодится, говорит он. Фонариком пользоваться нельзя; надо сохранять полную неподвижность в темноте, ожидая, пока глаза привыкнут. Тогда начнут проступать силуэты – серые, мерцающие, нематериальные, – словно сгущаясь из воздуха. Стивен велит мне переступать медленно, каждый раз сохраняя равновесие на одной ноге, и беречься, чтобы не наступить на ветку. Он говорит, чтобы я дышала тише: «Если тебя услышат, пиши пропало».
Он скрючился рядом, я вижу его силуэт на фоне озера – черное пятно на черном. Блеснул глаз в темноте, и брат исчез. Он умеет проделывать такие фокусы.
Я знаю, что он подкрадывается к костру, к родителям – мерцающим, затененным, с расплывчатыми лицами. Я остаюсь одна со стуком сердца и чересчур громким дыханием. Но Стивен прав: теперь я умею видеть в темноте.
Таковы мои портреты мертвых.
5
Мой восьмой день рождения тоже справляют в мотеле. Мне дарят фотоаппарат «Брауни» с ящичным корпусом, черным и продолговатым, с ручкой сверху и круглой дыркой в задней стенке, через которую надо глядеть.
На самой первой фотографии, сделанной этой камерой, – я. Я стою, прислонившись к двери мотельного домика. Дверь у меня за спиной – белая, она закрыта, на ней металлический номер 9. На мне брюки с пузырями на коленях и куртка, рукава которой мне коротки. Под курткой – я это знаю, хотя зрителям не видно, – поношенный свитер в желто-коричневую полоску, с братнина плеча. Очень многое из моей одежды когда-то носил он. Кожа у меня пронзительно-белая, это снимок передержан. Я склонила голову набок. Неприкрытые кисти болтаются. Фото похоже на старые снимки только что приехавших в Канаду иммигрантов. Я выгляжу так, словно меня поставили перед дверью и велели не шевелиться.
Какая я тогда была, чего хотела? Трудно вспомнить. Хотела ли я получить на день рождения фотоаппарат? Скорее всего, нет, но я была рада, что мне его подарили.
Я хочу еще карточек-вкладышей из коробок с пшеничными хлопьями для завтрака «Набиско». Эти карточки – серые, с картинками, которые можно раскрасить, вырезать и сложить. Получаются домики, которые составляют город. Еще я хочу синельной проволоки. У нас есть книжка под названием «Мастерим в ненастный день» – там рассказывается, как сделать телефон из двух консервных банок и веревки; лодку, которая движется вперед, если капнуть в дырку машинным маслом; кукольный комод из спичечных коробков; и разных зверей – собаку, овцу, верблюда – из синельной проволоки. Лодка и комод меня не интересуют. Меня интересует только синельная проволока. Я никогда не видела синельной проволоки.
Я хочу серебряную бумагу из сигаретных пачек. У меня уже есть немного, но я хочу еще. Мои родители не курят сигарет, так что я вынуждена собирать эту бумагу где придется – вокруг заправок, в зарослях сорняков у мотелей. Я привыкла искать сокровища под ногами. Найдя серебряную бумагу, я отчищаю ее, разглаживаю и кладу между страницами школьной книги для чтения. Я не знаю, что сделаю с бумагой, когда накоплю достаточно. Но это будет что-то потрясающее.
Я хочу воздушный шар. Теперь, когда война кончилась, они опять начинают появляться. Как-то зимой, когда я болела свинкой, мать нашла воздушный шар на дне своего корабельного сундука. Должно быть, она спрятала его там еще до войны – возможно, подозревая, что скоро их будет не достать. Мать надула шар для меня. Синий, прозрачный, круглый, как моя личная луна. Резина была старая и гнилая, шар лопнул почти сразу, и я никак не могла утешиться. Но теперь я хочу другой шар – такой, который не лопнет.
Я хочу иметь друзей. Друзей-девочек. Подруг. Я знаю, что они бывают, – я читала о них, но у меня никогда не было подруг, потому что мы никогда не жили подолгу на одном месте.
Погода в основном сырая, пасмурная; низкое свинцовое небо поздней осени. Или идет дождь, и мы вынуждены сидеть в мотеле. Мотель самый обычный: ряд хлипких домиков, соединенных рождественской гирляндой огней – желтых, синих, зеленых. Домики называются «с самообслуживанием» – это значит, что в них есть какая-нибудь плита, пара кастрюль и чайник, стол, накрытый клеенкой. Пол у нашего домика – линолеумный, выцветший, рисунок на нем изображает цветы в квадратах. Полотенца тонкие, куцые. Простыни изношены посередине, протерты чужими телами. На стене в рамке репродукция – зимний лес. И другая – утки в полете. Бывают мотели с туалетом на улице, но здесь есть настоящий санузел со смывным, хотя и воняющим, унитазом и ванной.
Мы живем тут уже несколько недель, что необычно: мы никогда не останавливались в мотелях дольше чем на ночь. Мы едим гороховый суп «Хабитант» из банок, разогретый на двухконфорочной плитке в мятой кастрюле, хлеб, намазанный патокой, сыр. Теперь, когда война кончилась, сыра стало больше. Мы носим уличную одежду даже в доме и спим в носках, так как стены тонкие, без теплоизоляции – с расчетом на летних туристов. Горячая вода – в лучшем случае чуть теплая, и для нашего купания мать греет воду в чайнике и выливает в ванну. «Чтоб только верхнюю корку смыть», – говорит она.
По утрам, завтракая, мы кутаемся в одеяла. Иногда мы видим облачка своего дыхания – даже внутри домика. Все это необычно и слегка отдает праздником. Дело не только в том, что мы не ходим в школу. Мы и так никогда не ходили туда больше, чем по три-четыре месяца подряд. Я последний раз побывала в школе восемь месяцев назад, и у меня сохранились лишь очень смутные и мимолетные воспоминания о том, что это вообще такое.
По утрам мы учимся – выполняем задания в рабочих тетрадях. Мать говорит нам, какие страницы прорабатывать. Потом мы читаем то, что проходят по чтению. У меня – книга про двух детей, они живут в белом домике, у них занавески с оборочками, а перед домом газон и забор из штакетника. Отец ходит на работу, мать ходит в платье и фартуке, а дети играют в мяч на газоне с кошкой и собакой. Эти рассказы совершенно не похожи на мою жизнь. В них нет палаток, шоссе, походов по нужде в кусты, озер и мотелей. Нет войны. Дети никогда не пачкаются. Девочка, ее зовут Джейн, носит хорошенькие платьица и лакированные туфельки с ремешками.
Эти книги описывают чуждую жизнь и тем привлекательны. Когда мы со Стивеном рисуем цветными карандашами, он рисует войну. Обычную и космическую. Все его красные, желтые и оранжевые карандаши вечно сточены до огрызков – эти цвета нужны для взрывов. Золотой и серебряный тоже исписаны – они идут на блестящие металлические корпуса танков и космических кораблей, на шлемы воинов и сложные оружейные установки. А я рисую девочек. Девочек в старомодных платьях с длинными юбками, в фартучках и с рукавами-фонариками, или в платьицах как у Джейн, с большими бантами в волосах. В моем представлении эта элегантность, хрупкость свойственны девочкам. Я не думаю о том, что скажу им, когда на самом деле встречу. Я не захожу в мыслях так далеко.
По вечерам нам с братом положено мыть посуду – «погреметь тарелками», как это называет мать. Мы ссоримся – шепотом, односложными словами, – чья очередь мыть: вытирать посуду мокрым холодным полотенцем не так приятно. Когда моешь, хотя бы руки согреваются. Мы пускаем тарелки и стаканы плавать в посудном тазу и бомбим их ножами и ложками, шепотом крича: «Огонь!» Мы стараемся попасть как можно ближе, но не в саму тарелку или стакан. Эта посуда чужая. Наша игра действует матери на нервы. Если подействовать ей на нервы с достаточной силой, она сама помоет посуду – это задумано как упрёк в нашу сторону.
На ночь мы ложимся валетом в продавленную выдвижную кровать – предположительно из-за этого мы должны засыпать скорее – и молча пинаем друг друга под одеялом или пробуем засунуть свою ногу в носке как можно глубже в пижамную штанину другого. Время от времени в окно падает полоса света от фар проезжающей машины. Полоса движется сначала по одной стене, потом по другой и исчезает. Слышен шум мотора, потом шорох шин по мокрой дороге. Потом тишина.
6
Не знаю, кто меня тогда сфотографировал. Должно быть, брат, потому что мать была в домике, за белой дверью, в серых брюках и темно-синей клетчатой рубашке, укладывала продукты в картонные коробки, а одежду в чемоданы. У матери свой метод укладки вещей; за упаковкой она разговаривает сама с собой, напоминая себе о разных мелочах, и не любит, когда мы путаемся под ногами.
Сразу после щелчка затвора начинается снег, небольшие сухие хлопья сыплются поодиночке с мрачного северного ноябрьского неба. Первому снегу предшествует особая тишина, истома, когда свет убывает и последние листья клена свисают с ветвей, как водоросли. До этого нам хотелось спать. Но при виде снега мы оживаем.
Мы носимся вокруг мотеля – на ногах стоптанная за лето обувь, вытянутые голые руки ловят снежинки, головы запрокинуты, рты открыты, глотают снег. Если бы он лежал на земле плотным покровом, мы бы вывалялись в нем, как собаки в грязи. Снег наполняет нас точно таким исступлением. Но мать выглядывает в окно, видит нас и снег, заставляет вернуться в дом, вытереть ноги ветхими полотенцами. У нас нет зимней обуви, которая была бы нам впору. Пока мы возимся в доме, начинается мокрый снег с дождем.
Отец мерит шагами дом, звеня ключами в кармане. Он всегда стремится поторопить события, вот и теперь он хочет уехать сейчас же, но мать велит ему не гнать лошадей. Мы выходим и помогаем отцу счистить с окон машины ледяную корку, потом таскаем ящики и наконец залезаем в машину сами и едем на юг. Я знаю, что на юг, по расположению солнца – оно теперь слабо просвечивает из-за туч, осыпая заиндевевшие деревья блёстками, отражаясь от ледяных зеркал на дороге и мешая видеть.
Родители говорят, что мы едем в новый дом. На этот раз он будет по-настоящему наш, не съемный. Дом находится в городе, который называется Торонто. Это название мне ничего не говорит. Я представляю себе дом из школьной книжки: белый, с забором-штакетником и газоном, с занавесками на окнах. Мне интересно, как выглядит моя комната.
К дому мы подъезжаем после обеда. Сначала мне кажется, что тут, должно быть, какая-то ошибка; но нет, дом именно тот – отец уже открывает дверь своим ключом. Дом, можно сказать, стоит вовсе не на улице – скорее, посреди поля. Он квадратный, одноэтажный, построен из желтого кирпича и окружен ничем не прикрытой грязью. С одной стороны дома – огромная яма в земле, а рядом – большие кучи грязи. Дорога перед домом тоже грязная, немощеная, вся изрытая. В грязи утоплено несколько бетонных блоков, по которым мы добираемся до двери.
Обстановка внутри пугает еще больше. Конечно, в доме есть двери и окна, это правда, и стены, и отопление работает. В гостиной – панорамное окно, хотя в него видно лишь большое озеро волнующейся грязи. Унитаз действует, но внутри на стенках желто-коричневое кольцо и плавают окурки. Когда я открываю кран, течет слегка ржавая, тепловатая вода. Но полы – не паркетные и даже не линолеумные. Они щелястые, из широких грубых досок. Доски серые от штукатурочной пыли и усыпаны белыми штучками, словно птичьим пометом. В немногих комнатах есть свет; в остальных только провода свисают с потолка. На кухне нет столов, одна только раковина. Плиты тоже нет. Ничего не покрашено. Все покрыто пылью – окна, подоконники, краны, пол. И кучи дохлых мух повсюду.
– Надо нам всем навалиться дружно, – говорит мать. Это значит, что жаловаться не положено. Придется делать все, что в наших силах, говорит она.
Мы вынуждены заканчивать дом сами, потому что строитель, который должен был отделать его для нас, обанкротился. Птичка упорхнула, как выразилась мать. Отец не расположен шутить. Он мерит дом шагами, щурясь и тыча пальцем в разные детали, что-то бормоча и присвистывая. «Собачий сын, собачий сын», – вот что он говорит.
Мать извлекает из недр автомобиля примус и ставит его на пол в кухне, поскольку стола тоже нет. Она принимается разогревать гороховый суп. Брат уходит на улицу; я знаю, что он лезет на гору грязи на соседнем участке или оценивает возможности, связанные с ямой, но меня не тянет к нему присоединиться.
Я мою руки в красноватой воде, текущей из крана в ванной. В раковине трещина, и это сейчас кажется мне катастрофой – хуже любого другого изъяна или нехватки. Я смотрю на свое отражение в запыленном зеркале. Плафона в ванной нет, только голая лампочка над головой, и из-за этого мое лицо выглядит бледным и больным, под глазами пролегли тени. Я тру глаза. Я знаю – нельзя показывать, что я плакала. Несмотря на то, что дом весь ободранный, в нем очень жарко – может быть, потому, что я до сих пор в уличной одежде. Мне кажется, что я в ловушке. Я хочу обратно в мотель, на дорогу, в старую жизнь без корней, без привязи – непостоянную и надежную.
В первые ночи мы спим на полу на надувных матрасах, в спальных мешках. Потом появляются раскладушки из магазина списанных армейских товаров – брезент, натянутый на металлический каркас. Опоры внизу узкие, поэтому если ночью повернешься на другой бок, то падаешь на пол, а раскладушка валится на тебя сверху. Ночь за ночью я падаю вместе с раскладушкой и просыпаюсь на неровном пыльном полу, не понимая, где я. Брата рядом нет, никто не смеется надо мной и не приказывает мне заткнуться – я в отдельной комнате. Сначала мысль о собственной комнате меня завораживает – пустое пространство, которое я могу выстроить как хочу, без оглядки на Стивена, его разбросанную одежду и деревянные ружья – но теперь мне одиноко. Я еще никогда в жизни не оставалась ночью одна.
Каждый день, пока мы в школе, дома появляются новые вещи: плита, холодильник, складной стол и четыре стула, так что можно есть нормально, сидя за столом, а не по-турецки на брезенте, расстеленном у камина. Камин в самом деле работает: его успели закончить. В нем мы жжем обрезки дерева, оставшиеся от строительства.
Отец в свободное время занимается внутренней отделкой дома. Он укладывает полы: узкие дощечки паркета в гостиной, гибкую плитку в спальнях. Новые полы идут в наступление, ряд за рядом. Дом становится похож на дом. Но все это занимает больше времени, чем мне хотелось бы; нам, обитателям острова в море послевоенной грязи, еще очень далеко до штакетника и белых занавесочек.
7
Мы привыкли видеть отца в штормовке, поношенной фетровой шляпе, фланелевой рубашке с плотно застегнутыми от мошкары манжетами, тяжелых штанах, заправленных в шерстяные рабочие носки. Мать одевалась примерно так же, за исключением фетровой шляпы.
Но теперь отец ходит в пиджаках, галстуках и белых рубашках, в твидовой куртке с шарфом. Вместо кожаных ботинок, промазанных для непромокаемости беконным жиром, он теперь надевает галоши поверх туфель. Мать явила взорам свои ноги – в нейлоновых чулках со швом сзади. Прежде чем выйти из дома, она рисует помадой рот. У нее пальто с серым меховым воротником и шляпа с перышком, из-за которого ее нос кажется длиннее. Каждый раз, надевая эту шляпу, мать смотрится в зеркало и произносит: «Я похожа на Эндорскую волшебницу».
Отец сменил работу; это объяснение всему происходящему. Он больше не разъездной исследователь лесных насекомых, а преподаватель в университете. Вонючих баночек и флаконов для образцов, когда-то заполонявших всё, порядком поубавилось. Вместо этого теперь по дому разбросаны пачки цветных рисунков, сделанных студентами отца. Все они изображают насекомых. Кузнечики, еловые почкоеды, гусеницы кольчатого коконопряда, жуки-древоточцы, каждый размером на страницу, все части аккуратно подписаны: мандибулы, щупики, сяжки, грудь, брюшко. Некоторые изображены в сечении, то есть разрезаны, чтобы можно было посмотреть, что внутри: туннели, разветвления, луковички, тончайшие волокна. Эти мне нравятся больше всего.
По вечерам отец сидит в кресле, положив поперек подлокотников доску, а на нее рисунок, и правит его красным карандашом. Иногда он при этом смеется сам с собой, или качает головой, или цокает сквозь зубы. «Идиот, – произносит он. Или: – Тупица». Я стою за креслом, глядя на рисунки, а отец объясняет, что вот этот студент приделал насекомому рот с другого конца, этот забыл нарисовать сердце, а тот не может отличить самца от самки. Но я оцениваю рисунки по другим принципам: они кажутся мне лучше или хуже в зависимости от цветовой гаммы.
По субботам мы грузимся в машину и отец везет нас к себе на работу. Его здание называется «Зоологический корпус», но мы его так не называем. Для нас это просто Корпус.
Корпус огромен. Мы там бываем по субботам, когда он почти пуст; от этого он кажется еще больше. Он построен из темного, обветренного кирпича, и мне кажется, что он снабжен сторожевыми башнями, хотя на самом деле никаких башен нет. Здание увито плющом – сейчас, зимой, листья облетели и остался лишь костяк, сетка жил. Внутри – длинные коридоры с паркетными полами. Паркет истерт и запятнан – поколения студентов топтались по нему сапогами в зимней снежной каше, – но его исправно натирают. Еще в корпусе есть лестницы – тоже деревянные, они скрипят, когда по ним поднимаешься, – и перила, по которым нам запрещено съезжать, и чугунные батареи: они лязгают и бывают либо холодными как камень, либо раскаленными.
На втором этаже коридоры уводят в другие коридоры, где вдоль стен на стеллажах стоят банки с дохлыми ящерицами и глазными яблоками коров. В одной комнате – застекленные клетки, а в них змеи, такие огромные, каких мы сроду не видали. Одна змея – ручной боа-констриктор; если смотритель на месте, он достает ее и обматывает вокруг своей руки, показывая нам, как змея давит свою жертву до смерти, чтобы съесть. Нам разрешают погладить боа-констриктора. Он прохладный и сухой. В других клетках – гремучие змеи, и смотритель показывает, как доит их, чтобы добыть яд. Для этого он надевает кожаную перчатку. Клыки змеи – изогнутые и пустые внутри, а яд, который через них каплет, желтый.
В той же комнате есть цементный бассейн с густой на вид зеленой водой. Там живут большие черепахи – они сидят неподвижно и моргают или неуклюже выбираются на устроенные для них камни и шипят, когда мы подходим слишком близко. В этой комнате жарко и влажно, так надо змеям и черепахам; в ней пахнет по-звериному. Еще в другой комнате есть клетка, полная огромных африканских тараканов. Они белые и до того ядовитые, что смотритель усыпляет их газом каждый раз, когда открывает клетку, чтобы покормить или достать одного.
Внизу, в подвале, стеллажи заполнены клетками, в которых сидят белые крысы и черные мыши, специальные, не дикие. Они едят гранулы из кормушек и пьют из бутылочек, к которым приделаны пипетки. У них есть гнезда из нагрызенной газетной бумаги, где лежат голые розовые мышата. Мыши бегают друг по другу, спят, сбившись в кучку, и обнюхивают друг друга дрожащими носиками. Смотритель мышей рассказывает: если посадить в клетку незнакомую мышь – с неправильным, чужим запахом – другие мыши загрызут ее до смерти.
В подвале воняет мышиным пометом, и эта вонь просачивается вверх, пропитывая весь Корпус. Чем выше этаж, тем вонь слабее. Она смешивается с запахом зеленого средства для мытья полов и с другими запахами – полироля для паркета, воска для мебели, формальдегида и змей.
Ничто из увиденного в Корпусе не кажется нам отвратительным. Нам знакомо общее устройство здешней жизни, если не конкретные детали, хотя мы никогда не видели столько мышей в одном месте; их количество и смрад внушают нам благоговейный трепет. Нам хотелось бы вытащить черепах из бассейна и поиграть с ними, но мы знаем, что нельзя: это кусачие черепахи, они злые, можно остаться без пальцев. Брат хотел стянуть банку с бычьим глазом: подобные вещи впечатляют других мальчиков.
Некоторые комнаты на верхних этажах – лаборатории. У них высокие потолки, а на одной стене доска, чтобы писать мелом. Лаборатории заставлены большими темными партами – скорее письменными столами, за которыми сидят на высоких табуретах. На каждом столе две лампы с зелеными абажурами и два микроскопа – старинных, с тяжелыми тонкими трубками и медной арматурой.
Мы и раньше видели микроскопы, но нас не подпускали к ним так надолго; мы можем возиться здесь часами, и нам не надоедает. Иногда нам дают слайды для просмотра: крылья бабочек, поперечное сечение червя, планарию, окрашенную розовым и фиолетовым, чтобы различить разные органы. В другие дни мы суем под объектив собственные пальцы и рассматриваем ногти – бледные выпуклости, стремящиеся, как холмы, к темно-розовому небу, – и кожу вокруг, зернистую, морщинистую, словно край пустыни. Или выдергиваем у себя волосы и смотрим на них – они жесткие и блестящие, как щетинки на хитиновых панцирях насекомых, а корень волоса на конце – как крохотная луковица.
Нам нравятся болячки. Мы отковыриваем корку – целую руку или ногу под микроскоп не засунешь – и выкручиваем увеличение на максимум. Корка болячки похожа на скалу, она бугристая, с блеском, вроде кремня; или неровная, как лишайник. Если удается отковырять болячку от пальца, мы кладем под микроскоп сам палец и смотрим на то место, откуда сочится кровь, ярко-красная, круглой пуговкой, похожей на ягоду. Потом мы ее слизываем. Мы рассматриваем ушную серу, козявки из носа, грязь, выковырянную между пальцев ног (сперва убедившись, что нас никто не застанет врасплох: мы знаем, не спрашивая, что взрослые такого не одобрят). Предположительно у нашей пытливости должны быть пределы, хотя никто не озаботился точно указать, где они пролегают.
Так мы проводим субботние утра, пока отец занимается делами у себя в кабинете, а мать закупает продукты. Она говорит, что ей удобнее, когда мы не путаемся у нее под ногами.
Окна Корпуса выходят на Юниверсити-авеню с газонами и конными статуями из позеленевшей меди. Прямо через дорогу – здание парламента провинции Онтарио, тоже старое и закопченное. Мне кажется, что внутри оно такое же, как наш Корпус – полно длинных скрипучих коридоров и стеллажей с маринованными ящерицами и бычьими глазами.
Именно из окон Корпуса мы видим первый в своей жизни парад Санта-Клауса. Мы еще никогда не видели парадов. Можно послушать, как его описывает радиокомментатор, но если хочешь все увидеть своими глазами, нужно закутаться по-зимнему и стоять на тротуаре, топая ногами и растирая руки, чтобы не замерзнуть. Кое-кто из зрителей залезает на конные статуи для лучшего обзора. Нам не приходится идти на такое – мы сидим на подоконнике одной из лабораторий Корпуса, спрятавшись от непогоды за пыльным стеклом, и жар чугунной батареи обдает нам ноги.
Отсюда мы видим участников парада, одетых снежинками, эльфами, кроликами, феями Драже. Они маршируют мимо, странно укороченные, поскольку мы смотрим сверху. Оркестры волынщиков в килтах, какие-то штуки на колесиках, вроде больших тортов – на них едут люди и машут зрителям. Начинает моросить. Всем стоящим внизу явно холодно.
В самом конце появляется Санта-Клаус. Он меньше, чем мы ожидали. Пыльное стекло приглушает его голос и мегафонную песню про сани с колокольчиками. Он раскачивается взад-вперед, влекомый упряжкой механических оленей. Он кажется каким-то размокшим. Он посылает воздушные поцелуи толпе.
Я знаю, что это не настоящий Санта-Клаус, а просто человек в костюме. Но все же мое представление о Санта-Клаусе изменилось, обрело новую глубину. С тех пор я не могу представить себе Санта-Клауса, не вспомнив тут же змей, черепах, заспиртованные глаза, ящериц в пожелтевших банках, обширный, гулкий, пряный, старинный и печальный, но в то же время утешительный запах старого дерева, полироля и формальдегида с ноткой далеких мышей.
III. Имперские рейтузы
8
Бывают дни, когда я с трудом вылезаю из постели. Мне тяжело говорить. Я измеряю достижения шагами: один шаг, другой, и наконец удается дойти до ванной комнаты. Каждый шаг – большая победа. Я бросаю все силы на то, чтобы открутить колпачок от тюбика с пастой, донести зубную щетку до рта. Мне трудно даже поднять руку. Я чувствую, что ничего не стою, что не могу принести никакой пользы никому, в первую очередь – самой себе.
«Что ты можешь сказать в свое оправдание?» – когда-то допрашивала меня Корделия. «Ничего», – обычно отвечала я. Я привыкла связывать это слово с собой. Словно я – ничто. Словно на моем месте – пустота.
Вчера ночью я ощутила приближение пустоты. Она была не рядом, но близилась, как взмахи крыльев, как похолодание ветра, как едва заметная поначалу тяга донного противотечения у берега. Мне захотелось поговорить с Беном. Я позвонила домой, но Бена не оказалось, я попала на автоответчик. Я услышала собственный голос – бодрый, деловитый. «Привет! Мы с Беном сейчас заняты, но оставьте сообщение, и мы вам перезвоним, как только сможем». И гудок.
Бестелесный, ангельский голос, плывущий по воздуху. Умри я прямо сейчас, он будет звучать все так же, приятный, заботливый, как в электронной загробной жизни. От него мне захотелось плакать.
– Приветы и поцелуи, – произнесла я в пустоту. Закрыла глаза и стала думать о прибрежных горах. Это твой дом, сказала я себе. Это место, где ты по правде живешь. Среди театральных пейзажей, слишком красивых, как намалеванные съемочные декорации. Там всё ненастоящее – недостаточно плоское, не бесцветное, не унылое. Впрочем, над этим уже работают. Стоит отъехать на пару миль в ту или другую сторону от домов с панорамными окнами, и попадешь в страну пней.
Ванкувер держит первенство в Канаде по числу самоубийств. Движешься на запад, пока не кончится завод. Оказываешься на краю. И падаешь вниз.
Я выползаю из-под перины. Я занятой человек – в теории. Мне предстоит много дел, хотя ни одно из них мне делать не хочется. Я лезу в холодильник, нахожу яйцо, варю его, вываливаю в чайную чашку, разминаю. Я даже взглядом не удостаиваю травяные чаи, а сразу выбираю настоящий, едкий кофе. Мандраж в чашке. Мысль о приближающейся нервной дрожи бодрит.
Я расхаживаю взад-вперед среди отрубленных рук и полых ног и пью черноту. Мне нравится эта мастерская. Я смогла бы тут работать. Она местами грязновата, кое-что сделано на коленке – точно в нужной пропорции. Зрелище распада действует на меня успокоительно: как бы там ни было, я все же в лучшем состоянии, чем это.
Сегодня мы, как говорят галеристы, вешаемся. Неудачно подобранное слово.
Я одеваю себя, ворочая свои руки и ноги так, будто они чужие, принадлежат кому-то малорослому или больному. Сегодня опять пастельно-голубой спортивный костюм: я привезла с собой очень мало одежды. Не люблю сдавать вещи в багаж, предпочитаю запихивать сумку под сиденье в самолете. Видимо, в глубине души я рассчитываю, что, если в воздухе что-нибудь случится, я выхвачу сумку из-под сиденья и грациозно выскочу в окно, не утратив ничего из своих пожитков.
Я выхожу наружу, быстрым шагом иду по улице, слегка приоткрыв рот и мысленно отсчитывая темп. «Мы – веселая компашка, с нами весело, не страшно». Раньше я бегала трусцой, но это вредно для коленей. Если перебрать бета-каротина, пожелтеешь. Кальция – вырастут камни в почках. Здоровый образ жизни убивает.
Торонто уже не пустует, как в былые дни. Теперь он заполнен до краев, он раздулся так, что скоро задохнется, это очевидно. Дороги забиты до отказа; водители гудят, подрезают друг друга, выезжают прямо на середину перекрестка и стоят там, пока не сменится свет на светофоре. Хорошо, что я иду пешком. В этом краю складов каждое здание, которое я миную, словно кричит мне: «Реновация! Реновация!» Впервые увидев заголовок «Рено…» в разделе объявлений о недвижимости в газете, я решила, что речь идет о городе, славном своими игорными домами. Язык уходит вперед, и я за ним не поспеваю.
Я оказываюсь на углу улиц Кинг и Спадайна и поворачиваю на север. Здесь раньше торговали одеждой, оптом. И сейчас торгуют, но старые еврейские продуктовые лавочки исчезают, их сменяют китайские магазины, где можно купить абсолютно всё – плетеную мебель, скатерти с вышивкой ришелье, эоловы арфы из бамбука. Одни уличные указатели дублированы по-китайски – мультикультурность на марше. На других под названием улицы написано: «Квартал моды». Теперь в городе, куда ни глянь, кварталы. Раньше никаких кварталов не было.
Мне вдруг приходит в голову, что на открытие выставки нужно платье. Я, конечно, привезла одно с собой; даже успела погладить дорожным утюжком на углу рабочего стола в мастерской, расчистив его и накрыв полотенцем. Платье черное, потому что черный цвет лучше всего для таких случаев: простое и строгое, как у скрипачки в симфоническом оркестре. Не стоит одеваться пышнее, чем возможные клиенты.
Но сейчас одна мысль об этом платье вгоняет меня в депрессию. К черному прилипает всякий пух, а я не взяла с собой платяную щетку. Я вспоминаю рекламу скотча из сороковых: обмотай руку скотчем клейким слоем наружу, и можно снимать пушинки с одежды. Я представляю себе, как стою в галерее, среди уникальных дизайнерских платьев и настоящих жемчугов, во вдовьем наряде, местами усеянная пухом, – там, где при проходе скотчем пропустила кусочек. Есть на свете и другие цвета, кроме черного. Например, розовый: он, по идее, смягчает сердце врага, ослабляя его волю к победе. Вероятно, поэтому розовый преобладает в одежде младенцев женского пола. Удивительно, что армия до этого не додумалась. Бледно-розовые шлемы с розетками, целый батальон, одетый с головы до ног в розовое, высаживается на берег. И мне, пожалуй, пора переключиться на этот цвет. Капелька розового мне сейчас не повредит.
Я рыскаю среди витрин с уцененкой. Каждая – как святилище, подсвеченное изнутри, с выставленной на всеобщее обозрение богиней – рука уперта в бок, бедро выдвинуто вперед, лица бежевые, непроницаемые. Похоже, пышность опять в моде – банты, сборчатые юбки в стиле фламенко, платья с открытыми плечами без бретелек, с кринолинами, с рукавами-фонариками, надутыми, как тряпочный зефир. А я думала, всё это ушло безвозвратно. И мини-юбки – еще хуже, чем раньше, но тут я провожу черту. Я и в прошлый заход их не любила: трусы чересчур на виду. В сборчатой юбке я буду похожа на капусту, и открытый верх мне тоже ни к чему – ключицы у меня торчат, как обломки кораблекрушения, локти – как куриные лапы. Мне нужно что-нибудь визуально удлиняющее, возможно – с небольшой драпировкой.
Плакатик с надписью «РАСПРОДАЖА» заманивает меня внутрь. Магазин называется «Бутик-Элегант», хотя на самом деле это никакой не бутик – он забит неликвидом, уцененным до минимума. Покупателей полно, и это меня радует. Я боюсь продавщиц и не люблю, когда меня захватывают врасплох при шопинге. Я украдкой перебираю одежду на вешалке с надписью «Уценка», пропуская пайетки, ангорские розы, люрекс, засаленную белую кожу. Я что-то ищу. Мне хотелось бы преобразиться, но это с каждым днем все менее возможно. В молодости мимикрировать легче.
Я забираю в примерочную три платья: лососево-розовое в крупный – с долларовую монету – белый горох, темно-синее с атласными вставками и, чтобы не рисковать, черное, которое меня выручит, если все остальные не подойдут. Больше всего мне нравится розовое, но я сомневаюсь насчет гороха. Я надеваю платье, застегиваю молнию и крючки, верчусь перед зеркалом. Освещение, конечно, плохое. Если бы я держала магазин одежды, то выкрасила бы все примерочные в розовый и потратилась на зеркала с подсветкой: кто знает, что женщины хотят увидеть в зеркале, но уж точно не себя. Во всяком случае, не в таком невыгодном свете.
Я вытягиваю шею, пытаясь разглядеть себя со спины. Может, нужны другие туфли, другие серьги? Ценник болтается, указывая на задницу. По ее необъятным просторам катятся белые горохи. Удивительно, насколько шире выглядишь, если смотреть сзади. Может, из-за того, что монотонность этой холмистой равнины не прерывают никакие другие географические детали?
Я поворачиваюсь обратно и вижу свою сумку – на полу, где я ее оставила. Можно подумать, годы жизненного опыта ничему меня не научили. Сумка открыта. Стены кабинок не доходят до пола примерно на фут, и в этот зазор сейчас бесшумно удаляется рука, сжимающая мой кошелек. Ногти выкрашены зеленым люминесцентным лаком.
Я со всей силы наступаю на запястье руки необутой ногой. Слышится взвизг, потом хихиканье (нескольких голосов сразу). Юность, живущая на всю катушку. Школьницы вышли на охоту. Кошелек падает на пол, рука втягивается, как щупальце, и исчезает из виду.
Я рывком распахиваю дверь. «Корделия, черт бы тебя побрал!» – думаю я.
Но Корделии давно нет.
9
Школа, в которую нас определили, не рядом с домом – путь лежит мимо кладбища, через овраг, по широкой изогнутой улице, застроенной домами старше нашего. Школа носит имя королевы Марии. Утром мы, взяв бумажные пакеты с обедом, пробираемся в новых зимних калошах по замерзшей грязи, через остатки плодового сада к ближайшей мощеной дороге и ждем школьного автобуса. Он несется в гору, подпрыгивая на ухабах и рытвинах. На мне новый лыжный комбинезон. Юбка обернута вокруг ног и распихана комьями по штанинам, которые шуршат на ходу. В школе нельзя носить брюки, положено ходить в юбках. Я не привыкла к этому, и смирно сидеть за партой тоже не привыкла.
Мы съедаем принесенные обеды в холодном, тускло освещенном подвале школы. Там мы сидим под наблюдением учителей на длинных щербатых деревянных скамьях под связками отопительных труб. Большинство детей уходит обедать домой – остаются только те, кто ездит в школу на автобусе. Нам выдают бутылочки с молоком, и мы пьем его через соломинку, проткнув дырку в картонной крышечке. Я впервые вижу соломинки для питья, и они приводят меня в изумление.
Само здание школы, старое, многоэтажное, сложено из кирпича цвета печенки. В школе высокие потолки, длинные зловещие коридоры с дощатыми полами и батареи, которые либо жарят на всю катушку, либо не греют вообще, так что мы либо мерзнем, либо потеем. Окна тоже высокие, узкие, с мелким остеклением, на них клеят разные фигуры из цветной бумаги. Сейчас на них наклеены снежинки, потому что зима. В школе есть парадная дверь, через нее ученикам ходить не положено. Зато в задней стене – два грандиозных портала, украшенных резьбой, с разноцветными вставками над дверями. На них написано округлым, торжественным почерком: «Мальчики» и «Девочки». Когда учительница во дворе звонит в медный ручной колокольчик, мы должны выстроиться в затылок парами, по классам, мальчики в одну колонну, девочки в другую, и каждая колонна входит в свою дверь. Девочки при этом держатся за руки, мальчики – нет. Если войдешь не в свою дверь, получишь ремня – во всяком случае, так говорят.
Меня чрезвычайно занимает эта дверь с надписью «Мальчики». Почему, если ты мальчик, тебе нужна особенная дверь? Что такое за ней скрывается, что, даже случайно увидев это, получаешь ремня? Мой брат говорит, что там ничего особенного – самая обычная лестница. У мальчиков нет отдельной классной комнаты, мы все учимся вместе. Они проходят через дверь с надписью «Мальчики» и оказываются там же, где и мы. Я понимаю, зачем им нужен отдельный туалет – ведь они писают по-другому, и отдельный двор для прогулок – ведь они все время пихаются и дерутся. Но эта дверь приводит меня в недоумение. Мне хотелось бы в нее заглянуть.
Мальчикам и девочкам отведены не только отдельные двери, но и отдельные части школьного двора. С фасадной стороны здания, перед дверью, в которую заходят учителя, – поле из утоптанной земли, посыпанной шлаковой крошкой. На этом поле играют мальчики. С другой стороны школы – склон с дощатыми ступеньками, ведущими наверх, промоинами от дождя и несколькими чахлыми вечнозелеными деревьями по верхнему краю. По традиции эта сторона двора принадлежит девочкам. Старшеклассницы собираются по трое-четверо и шепчутся, сблизив головы. Мальчики временами бросаются в атаку вверх по склону, вопя и размахивая руками. Зацементированная площадка перед дверями с надписями «Мальчики» и «Девочки» – нейтральная территория, поскольку мальчикам приходится ее пересекать, чтобы войти в свою дверь.
В школе мы с братом видимся лишь во время этих построений. Дома мы протянули из окна моей спальни в его окно телефон из двух консервных банок и бечевки – он не очень хорошо работает. Мы подсовываем друг другу под дверь послания, написанные на языке инопланетян, в котором очень много букв х и z. Эти послания нужно расшифровывать. Мы подталкиваем и лягаем друг друга под прикрытием скатерти, сохраняя полную невозмутимость на лице. Иногда мы связываем вместе шнурки своей обуви, чтобы сигналить друг другу. К этому теперь сводится мое общение с братом: дребезжащая жестяная речь, письмо из одних согласных, ножная морзянка.
Но каждый день, как только мы входим в двери, я теряю его из виду. Он впереди, кидается снежками; а в школьном автобусе он сидит сзади, в шумной круговерти мальчиков постарше. Он прошел через драки, положенные новичку, и теперь после уроков ходит, как все, воевать с мальчишками из соседней, католической школы. Она носит имя Богоматери Неустанной Помощи, но мальчишки из нашей школы прозвали ее «Ссаные помочи». Говорят, что мальчишки в той школе совсем отпетые и, когда лепят снежки, засовывают в них камни.
Я знаю, что мне запрещено заговаривать с братом при этих мимолетных встречах и вообще привлекать к себе внимание – его или любого другого мальчика. Мальчиков дразнят за то, что у них есть младшие сестры, или вообще какие угодно сестры, или матери; так же, как за новую одежду. Когда брату покупают что-нибудь новое из одежды, он немедленно пачкает новую вещь, пока ее не заметили; а если ему приходится идти куда-нибудь со мной и матерью, он идет впереди или переходит на другую сторону улицы. Если его дразнят мною, ему опять приходится драться. Было бы предательством с моей стороны заговорить с ним или даже окликнуть. Я это понимаю и держусь изо всех сил.
А значит, я брошена в гущу девочек – наконец-то, настоящие девочки, во плоти. Но я не привыкла к ним и не знаю их обычаев. Мне с ними неловко, я не знаю, о чем говорить. Мне известны неписаные правила, по которым живут мальчики, но с девочками я вечно ощущаю себя на грани какой-то непредвиденной смертельной оплошности.
У меня завязывается дружба с девочкой по имени Кэрол Кэмпбелл. В каком-то смысле это вынужденно, поскольку она единственная в классе, кроме меня, ездит на автобусе. Тех, кто ездит на автобусе и обедает в школьном подвале, а не ходит домой, считают слегка чужаками, так что когда звенит звонок и пора строиться, они могут оказаться без пары. Поэтому Кэрол сидит в автобусе рядом со мной, шепчет мне на ухо, держит меня за руку при построениях и ест свой обед рядом со мной, на деревянной скамье в подвале.
Кэрол живет в доме более ранней застройки, чем наш, по другую сторону заброшенного плодового сада, ближе к школе. Ее дом – из желтого кирпича, двух- этажный, с зелеными ставнями на окнах. Кэрол коренастая, плотная и часто смеется. Она говорит мне, что ее цвет волос называется «медовый блонд», а прическа – «паж», и что ради этой прически она каждые два месяца ходит в парикмахерскую. До того я не подозревала о существовании парикмахерских и причесок «паж». Моя мать не ходит в парикмахерскую. У нее длинные волосы, и она пришпиливает их заколками-невидимками по бокам головы, как женщины на плакатах военного времени. Меня ни разу не стригли.
У Кэрол и ее младшей сестры одинаковые воскресные наряды: приталенные пальтишки из коричневого твида с бархатными воротниками и круглые шляпки коричневого бархата с резинкой под подбородком, чтобы не унесло ветром. А также коричневые перчатки и коричневые сумочки. Всё это мне рассказывает Кэрол. Ее семья ходит в англиканскую церковь. Кэрол спрашивает, в какую церковь хожу я, и я говорю, что не знаю. На самом деле мы не ходим ни в какую.
После школы мы с Кэрол идем домой – не так, как едет утром школьный автобус, а другой дорогой, по окольным улицам и по ветхому деревянному пешеходному мостику через овраг. Нам не велят ходить этой дорогой или спускаться в овраг в одиночку, без взрослых. Как говорит Кэрол, там внизу ходят мужчины. Она имеет в виду не обычных мужчин, а других, призрачных, безымянных, которые могут сделать с девочкой плохое. При слове «мужчины» Кэрол улыбается и понижает голос, словно это особая, пугающая шутка. Мы идем по мостику осторожно, избегая тех мест, где доски прогнили насквозь, и все время начеку на случай появления тех самых мужчин.
Кэрол приглашает меня зайти после школы к ней и демонстрирует гардероб, в котором висит вся ее одежда. У нее куча платьев и юбок, и даже халат есть, в комплекте с пушистыми шлепанцами такого же цвета. Я никогда не видела столько девчоночьей одежды сразу.
Кэрол позволяет мне заглянуть в гостиную, но заходить туда нам запрещено. Самой Кэрол туда можно лишь на время уроков музыки, для игры на пианино. В гостиной – диван, два кресла и занавески из такой же ткани, что и обивка мебели – розово-бежевой, в цветочек. Кэрол говорит, что она называется чинц. Кэрол произносит это слово с благоговением, как некое священное имя, и я повторяю про себя: «Чинц». Оно звучит как название вида ракообразных или как слово из языка инопланетян, в которых играет мой брат.
Кэрол рассказывает, что, если ошибается и берет не ту ноту, учительница музыки бьет ее по рукам линейкой, а мать шлепает ее плоской стороной щетки для волос или туфлей. Если же Кэрол влипла по-настоящему, то ей приходится ждать, пока вернется с работы отец, и тогда он дерет ее ремнем, прямо по голой попе. Всё это – секрет. Она рассказывает, что ее мать – певица, участвует в одной программе на радио, под чужой фамилией, и мы в самом деле слышим, как мать репетирует в гостиной – поёт гаммы громким, вибрирующим голосом. Кэрол рассказывает, что ее отец на ночь вынимает часть зубов и кладет в стакан с водой, стоящий на тумбочке у кровати. Она показывает мне этот стакан, но без зубов. Кажется, она рассказывает мне абсолютно всё.
Она откровенничает, кто из мальчиков в школе в нее влюблен, и берет с меня обещание никому не говорить. Она спрашивает, кто из мальчиков влюблен в меня. Я никогда не задумывалась об этом, но чувствую, что обязана ответить хоть что-нибудь. Я говорю, что пока не уверена.
Кэрол приходит ко мне в гости и подмечает всё – некрашеные стены, свисающие с потолков провода, неотделанные полы, раскладушки – с невероятным упоением. «Здесь ты спишь?!» – спрашивает она. «Здесь вы едите?! Это твоя одежда?!» Одежды у меня немного, в основном брюки и свитера. У меня два платья, зимнее и летнее, а также сарафан и шерстяная юбка для школы. Я начинаю подозревать, что этого недостаточно.
Кэрол рассказывает всей школе, что наша семья спит на полу. Из ее слов создается впечатление, что мы делаем это нарочно, потому что мы приезжие; что у нас такая религия. Когда со склада привозят наши постоянные кровати, самые обычные, на четырех ножках и с матрасами, Кэрол очень разочарована. Она пускает слух, что я не знаю, как называется моя церковь, и что мы едим со складного карточного столика. Но она это делает не в знак презрения, а изумляясь моей необычности. Ведь я хожу с ней в паре, и она хочет, чтобы мной восхищались. Точнее, она хочет, чтобы восхищались ею – за то, что она открыла миру все эти чудеса. Она словно ведет репортаж об удивительных обычаях некоего первобытного племени: невероятных, но истинных.
10
В субботу мы везем Кэрол Кэмпбелл в Корпус. Когда мы входим, она морщит нос и спрашивает: «Здесь твой отец работает?!» Мы показываем ей змей и черепах; она издает звук вроде «Уююю» и заявляет, что не хочет до них дотрагиваться. Меня это удивляет; меня так долго отучали от подобной реакции, что она мне больше не свойственна. И Стивену тоже. Мы с ним готовы что угодно потрогать при случае.
Я решаю, что Кэрол Кэмпбелл – нюня. Но в то же время я отчасти горжусь ее утонченностью. Мой брат смотрит на нее странно: несомненно, с презрением; если бы я что-нибудь такое сказала, он бы меня высмеял. Но в его взгляде чувствуется что-то еще, нечто вроде незримого кивка: словно он давно подозревал нечто, и вот его подозрения подтвердились.
По-хорошему она после этого не должна для него существовать, но он пробует еще раз – показывает ей банки с ящерицами и бычьими глазами. «Уююю, – говорит она. – А если тебе такое за шиворот засунут?» Брат спрашивает, не хочет ли она этого на ужин. Он утрированно жуёт и громко чавкает.
«Уююю», – Кэрол морщится и ёрзает всем телом. Я не могу притвориться, что меня тоже тошнит – брат не поверит. Но не могу я и присоединиться к его игре, когда он начинает придумывать гадкую еду вроде котлет из жаб и жвачки из пиявок. Хотя будь мы с ним вдвоем или с ним и другими мальчиками, я бы вступила в игру не задумываясь. Так что я молчу.
После поездки в Корпус я снова иду в гости к Кэрол. Она предлагает показать мне новый гарнитур ее матери. Я не знаю, что за гарнитур, но звучит это интригующе, так что я соглашаюсь. Кэрол украдкой ведет меня в спальню матери, объясняя, что, если нас поймают, она влипла по-настоящему, и показывает мне гарнитур, лежащий там на полке. Это оказывается комплект из двух свитеров одинакового цвета – один спереди застегивается на пуговицы, а другой нет. Я уже видела миссис Кэмпбелл в гарнитуре, только в другом – бежевом. Ее груди торчали вперед и в стороны, а тот свитер, который на пуговицах, был накинут на плечи, наподобие плаща. Так вот, значит, что такое гарнитур. Я была разочарована, поскольку ожидала чего-то поинтереснее.
Отец и мать Кэрол не спят в одной большой кровати, как мои. У них две отдельные узкие кровати, совершенно одинаковые, с розовыми шенилловыми покрывалами, и одинаковые тумбочки. Это тоже называется гарнитур, и мне непонятно, почему одно слово обозначает совсем разные вещи. Мне очень странно представлять себе, как мистер и миссис Кэмпбелл по ночам лежат в этих кроватях, и только головы у них разные – у него с усами, у неё без, а всё остальное – одеяла, покрывала, тумбочки, лампы, письменные столики – парное. В спальне моих родителей симметрии, а также порядка, намного меньше.
Кэрол рассказывает, что ее мать, когда моет посуду, надевает резиновые перчатки. Кэрол показывает мне перчатки и рассекатель, приделанный к водопроводному крану. Она включает кран и обрызгивает водой раковину изнутри, а также немного пол, по случайности. Тут входит миссис Кэмпбелл в бежевом гарнитуре, хмурясь, и говорит, что нам лучше пойти играть наверх. Но, может, она и не хмурится. У нее углы рта слегка опущены, даже когда она улыбается, поэтому трудно понять, довольна она или нет. Волосы у нее такого же цвета, как у Кэрол, но с холодной завивкой. Это Кэрол объясняет мне, что такая прическа называется холодная завивка. Волосы словно кукольные, лежат аккуратными рядками, будто пришитые.
Чем больше я удивляюсь и теряюсь, тем сильнее радуется Кэрол. «Ты не знаешь, что такое холодная завивка?!» – в восторге восклицает она. Ей не терпится открывать мне новое, объяснять, показывать. Она водит меня по дому, как по музею, словно лично собрала в нем все экспонаты. Мы стоим в прихожей у вешалки-стойки для пальто и шляп («Ты никогда не видела вешалку-стойку?!»), и Кэрол говорит, что я ее лучшая подруга.
У Кэрол есть еще одна лучшая подруга – иногда она лучшая, а иногда нет. Её зовут Грейс Смиитт. Кэрол демонстрирует ее мне, когда мы едем в автобусе – так же, как демонстрировала гарнитур и вешалку-стойку: как объект для восхищения.
Грейс Смиитт на год и на класс старше нас. В школе она играет с другими девочками из своего класса. Но после школы и по субботам она играет с Кэрол. У Грейс нет одноклассниц на нашей стороне оврага.
Грейс живет в двухэтажном краснокирпичном доме, прямоугольном, как коробка из-под обуви, и с крыльцом, крышу которого подпирают две толстые круглые белые колонны. Грейс выше ростом, чем Кэрол, и у нее темные жесткие густые волосы, заплетенные в две косички. Кожа у нее очень бледная, как тело под купальником, но покрыта веснушками. Грейс носит очки. Обычно она ходит в серой юбке на лямках и в красном свитере, усаженном маленькими круглыми шерстяными помпончиками. От ее одежды едва заметно пахнет домом Смииттов – смесью чистящего порошка, тушеной репы, чуть закисшего белья и сырой земли под крыльцом. Мне она кажется красавицей.
Я больше не езжу в Корпус по субботам. Вместо этого я играю с Кэрол и Грейс. Поскольку на дворе зима, мы играем в основном дома. Игры с девочками – совсем другие, и поначалу мне странно, неловко, будто я только притворяюсь девочкой. Но скоро я привыкаю.
Мы играем, как правило, в то, что предлагает Грейс – если мы затеваем что-нибудь другое, она говорит, что у нее болит голова, и уходит домой или выпроваживает нас. Она никогда не повышает голос, никогда не сердится и не плачет; она лишь говорит с тихим упреком, словно ее головная боль – наша вина. Нам нужнее играть с ней, чем ей – с нами, и мы всегда уступаем.
Мы раскрашиваем принадлежащие Грейс книжки-раскраски, изображающие кинозвезд. Кинозвезды в разнообразных нарядах занимаются разными делами – прогуливают своих собачек, в матросках катаются на яхте, в вечерних платьях кружатся на балу. Любимая кинозвезда Грейс – Эстер Уильямс. У меня нет любимой кинозвезды, я никогда не была в кино. Но я называю Веронику Лейк – мне нравится ее имя. Раскраска с Вероникой Лейк предназначена для вырезания. Там есть Вероника в купальном костюме и десятки нарядов, которые можно на ней закрепить, загнув бумажные клапаны у шеи. Грейс не позволяет нам вырезать наряды, но разрешает надевать их на куклу и снимать после того, как сама Грейс их вырезала. Еще она разрешает нам их раскрашивать, только так, чтобы не залезать за линии. Ей нравится, когда книжка раскрашена полностью. Грейс указывает нам, какие части какого цвета должны быть. Я знаю, что сделал бы мой брат – покрасил бы лицо Эстер зеленым, а Веронике приделал бы волосатые ноги, целых восемь штук. Но я воздерживаюсь. И вообще мне нравится наряжать кукол.
Мы играем в школу. У Грейс в подвале есть несколько стульев и деревянный стол, а также небольшая грифельная доска и мел. Всё это стоит под натянутой бельевой веревкой, на которой Смиитты сушат нижнее белье в плохую погоду. Подвал не отделан – пол бетонный, опоры, держащие дом, – голый кирпич, трубы и электропроводка на виду, и пахнет угольной пылью, потому что бункер с углем стоит прямо тут же, рядом со школьной доской.
Грейс всегда учительница, а мы с Кэрол – ученицы. Она задает нам упражнения по правописанию и примеры по математике. Совсем как в настоящей школе, только хуже, потому что нету уроков рисования. Нам нельзя играть, что мы шалим, потому что Грейс не любит беспорядка.
А иногда мы сидим на полу в комнате Грейс с пачками старых каталогов универмага «Итон». Я и раньше часто видела эти каталоги: на севере их вешают в уборной вместо туалетной бумаги. При виде «итоновских» каталогов я вспоминаю вонь тех отхожих мест, жужжание мух в дыре под ногами, ящик извести и деревянную лопаточку, чтобы посыпать известью кучки старых и свежих нечистот самых разнообразных форм и разных оттенков коричневого цвета. Но здесь мы обращаемся с этими каталогами почтительно. Мы вырезаем из них разноцветные фигурки и наклеиваем в альбом. Потом вырезаем всякую всячину – посуду, мебель – и клеим вокруг фигурок. Каждая из нас называет свою фигурку «моя дама». «Моя дама собирается покупать холодильник», – говорим мы. «Моя дама хочет вот этот ковер». «Это зонтик моей дамы».
Грейс и Кэрол смотрят на альбомы друг друга и восклицают: «О, как у тебя хорошо получилось. А у меня плохо. Просто ужасно». Они так говорят каждый раз, когда мы в это играем. Голоса у них льстивые, неискренние; я вижу, что они врут, каждая думает, что ее собственная дама лучше, чем у другой. Но так положено, и скоро я тоже начинаю так говорить.
Эта игра меня утомляет – вся масса, вся тяжесть вещей, имущества, о котором надо заботиться, которое придется паковать, впихивать в машину, потом распаковывать. Я хорошо знаю, каково это – переезжать с места на место. Но Кэрол и Грейс никогда никуда не переезжали. Их дамы живут каждая в своем доме и всегда там жили. Поэтому они не задумываясь добавляют все больше и больше вещей, набивают страницы альбомов гарнитурами для гостиных, кроватями, стопками полотенец, сервизами.
Я начинаю хотеть то, чего никогда не хотела раньше: косички, халат, собственную сумочку. Что-то разворачивается перед моим взором, открывается мне. Я вижу, что существует доселе неведомый мне мир девочек и их занятий и что я могу стать частью этого мира практически без усилий. Не нужно стараться ни за кем поспевать, бегать так же быстро, целиться так же метко, громко кричать «Бдыщ! Бдыщ!», расшифровывать послания, умирать по команде. Не нужно мучиться вопросом, хорошо ли я все это делала, была ли не хуже мальчика. Достаточно сидеть на полу, вырезать сковородки из каталога «Итона» ножницами для рукоделия и говорить, что у меня плохо получается. В каком-то смысле это – облегчение.
11
На Рождество Кэрол дарит мне ароматические соли для ванны «Сад дружбы», а Грейс – раскраску с кинозвездой Вирджинией Майо. Я открываю их подарки раньше всех остальных.
Еще я получаю фотоальбом, к фотоаппарату. Страницы и обложка альбома – черные, связаны между собой чем-то похожим на шнурок от ботинка. К альбому прилагается пакетик черных треугольничков, намазанных клеем, – чтобы вклеивать фотографии. Пока я отсняла только один рулон пленки. Нажимая на спуск, я каждый раз думаю, как будет выглядеть снимок. Я не хочу зря тратить пленку. Когда из фотолаборатории присылают готовые отпечатки, негатив прилагается к ним. Я смотрю его на просвет: всё, что на настоящей фотографии белое, на негативе черное. Снег, например, а также белки глаз и зубы.
Я приклеиваю снимки в альбом черными треугольничками. На некоторых мой брат угрожающе замахивается снежками. На других – Кэрол или Грейс. Я есть только на одной фотографии – на фоне двери мотельного домика с номером 9, давным-давно, месяц назад. Эта девочка уже кажется мне гораздо моложе, беднее, дальше – мой съёжившийся, несведущий двойник.
Еще мне дарят на это Рождество красную пластиковую сумочку, овальную, с золоченой застежкой и с ручкой сверху. В помещении сумочка мягкая, податливая, а на морозе дубеет, и то, что в ней лежит, начинает греметь. Я храню в ней свои карманные деньги, пять центов в неделю.
К этому времени у нас уже настелен пол в гостиной – паркет, мать натерла его воском, ползая на коленях, а потом отполировала тяжелой щеткой на длинной ручке, толкая ее взад и вперед. Щетка при этом шуршит, как волны.
Стены в гостиной покрасили, установили выключатели и ручки дверей, приколотили плинтусы. Даже занавески повесили, только они называются «портьеры». Первым делом закончили видимые посторонним, открытые публике части дома.
А вот наши спальни пока еще отделаны не до конца. Например, портьер на окнах нет. Ночью, лежа в постели, я вижу падающий за окном снег, подсвеченный из окна спальни Стивена.
Сейчас самое темное время года. Даже днем кажется темно; а вечером, когда включают свет, эта тьма заползает всюду, словно туман. Уличных фонарей мало, они отстоят далеко друг от друга и не слишком ярки. Свет из окон жилых домов – желтый, не холодный и зеленоватый, а маслянисто-желтый, тусклый, с коричневым оттенком. Вещи в домах такого цвета, словно к ним подмешали темноты – бордовый, бурый, как шляпка гриба, болотно-зеленый, пыльно-розовый. Эти цвета выглядят грязноватыми, как кирпичики акварели в коробке, когда забываешь мыть кисточку.
У нас дома – темно-бордовый диван, привезенный из хранилища, а перед ним лежит ковер в восточном стиле, бордовый с фиолетовым. У нас есть трехрожковый торшер. В вечернем свете ламп воздух сгущается, как крем при варке: более тяжелые слои света оседают в углах гостиной. Портьеры на ночь задергивают – бесконечные складки материи, чтобы не пустить внутрь зиму, удержать в доме тяжелый тусклый свет, не дать ему сбежать.
В этом свете я раскладываю на блестящем полу вечернюю газету и стою на четвереньках, читая комиксы. В комиксах есть герои с круглыми дырками вместо глаз; другие, которые могут тебя мгновенно загипнотизировать; третьи, скрывающие, кто они на самом деле; четвертые – оборотни, способные придать чертам своего лица совершенно любую форму. Пахнет типографской краской, воском для пола, ящиком платяного шкафа от моих чулок, от которых ужасно чешутся ноги, и к этому примешивается запах грязных коленок, горячий шершавый запах от шерстяного пледа и вонь кошачьего лотка от хлопчатобумажных трусов. У меня за спиной радиоприемник передает откуда-то из приморских провинций кадриль в исполнении «Дона Мессера и его островитян», это прелюдия к шестичасовым новостям. Радиоприемник – в темном полированном деревянном корпусе, с единственным зеленым глазом, который ездит по шкале, когда крутишь ручку. В промежутках между радиостанциями он издает таинственные космические, инопланетные звуки. Стивен говорит, что это радиоволны.
В последнее время Грейс Смиитт зачастую приглашает меня к себе после школы одну, без Кэрол. Она объясняет Кэрол, что этому есть причина – ее мать. Она устаёт, поэтому Грейс сегодня разрешено привести домой только одну лучшую подругу.
У матери Грейс – больное сердце. Грейс не держит это в секрете, как поступила бы Кэрол. Грейс говорит об этом без волнения, вежливо, как попросила бы вытереть ноги о коврик; но в то же время самодовольно, словно обрела нечто, некую привилегию или моральное превосходство, которых мы с Кэрол лишены. Так она относится к фикусу, стоящему у нее дома на лестничной площадке между этажами. Это единственное растение в доме Грейс, и нам не разрешают его трогать. Фикус очень старый, и его нужно протирать молоком, каждый лист по отдельности. Больное сердце миссис Смиитт чем-то похоже на этот фикус. Из-за ее сердца мы должны красться на цыпочках, ходить бесшумно, не смеяться громко и делать то, что велит Грейс. От плохого сердца есть определенная польза: это понимаю даже я.
Каждый день после обеда миссис Смиитт вынуждена отдыхать. Она отдыхает не у себя в спальне, а на диване в гостиной, сняв обувь, вытянувшись и накрывшись вязаным пледом. В этой позе мы застаём ее каждый раз, когда приходим поиграть после школы. Мы входим, стараясь двигаться бесшумно, по ступенькам через боковую дверь на кухню, а оттуда в гостиную, только до двойных застекленных дверей, и вглядываемся через стекло, пытаясь понять, открыты у миссис Смиитт глаза или закрыты. Мы никогда не видели ее спящей. Но вполне вероятно – эту вероятность вложила нам в головы Грейс, тем же деловитым и бесстрастным тоном, – что в один прекрасный день мы найдем ее мертвой.
Миссис Смиитт не похожа на миссис Кэмпбелл. В частности, у нее нет гарнитуров, и она их презирает. Мне это известно, потому что однажды, когда Кэрол хвасталась гарнитурами своей матери, миссис Смиитт произнесла: «Да неужели», но не в смысле вопроса, а давая понять Кэрол, чтобы она заткнулась. Миссис Смиитт не пудрится и не красит губы, даже когда выходит из дома. У нее широкая кость, квадратные зубы с небольшими промежутками, так что каждый зуб виден отдельно, и кожа словно выскоблена дочиста – как будто ее терли проволочной щеткой для картошки. Лицо у миссис Смиитт круглое, ничего не выражающее, с такой же белой кожей, как у Грейс, только без веснушек. Она носит очки, тоже как Грейс, но в стальной оправе, а не в роговой. Волосы у нее разделены на пробор посредине и седеют с висков. Она заплетает их в косы и укладывает в плоскую корону вокруг головы, закрепляя шпильками.
Она ходит в домашних халатах из набивного ситца – не только по утрам, но почти всегда. Поверх халата она носит фартуки с отвислыми нагрудниками – создается впечатление, что у нее не две груди, а одна большая, которая занимает всю грудную клетку спереди и доходит до живота. Миссис Смиитт носит чулки из хлопчатобумажного трикотажа со швом, и кажется, что у нее вместо ног два длинных мешка, набитых тряпками и зашитых сзади. Обута она в коричневые полуботинки. Иногда она вместо чулок надевает тонкие хлопчатобумажные носки, из которых торчат ноги – белые, с редкой растительностью, напоминающей женские усы. Усы у нее тоже есть, хотя и не очень густые – так, россыпь волосков в углах рта. Она часто улыбается, при этом губы остаются сомкнутыми, прикрывая зубы; но она не смеется, в отличие от Грейс.
У нее большие кисти с торчащими костяшками, красные от стирки. Стирки много – у Грейс две младшие сестры, к которым переходят ее ношеные юбки, блузки и даже трусы. Я привыкла наследовать от брата свитера, но не белье. Именно эти трусы, заношенные до серости и почти прозрачности, висят, капая, на веревке у нас над головой, когда мы сидим у Грейс в подвале и играем в школу.
Перед Валентиновым днем нас заставляют вырезать сердечки из красной цветной бумаги и украшать их бумажными кружевами, чтобы потом наклеить на высокие узкие окна. Вырезая своё, я думаю про больное сердце миссис Смиитт. Что именно с ним не так? Я воображаю его – скрытое под вязаным пледом, под волнами фартучного нагрудника, оно ритмично сокращается в плотной, мясной темноте внутри ее тела; что-то запретное, интимное. Оно, должно быть, красное, но с красновато-черным пятном, как синяк или гниль на яблоке. От этой мысли меня передергивает. Меня пронзает мимолетная острая боль, как было однажды, когда брат при мне порезал палец куском стекла. Но больное сердце еще и притягательно. Оно – диковина, уродство. Ужасное сокровище.
День за днем я прижимаюсь носом к стеклу двери в гостиной, пытаясь понять, жива ли еще миссис Смиитт. Такой я запомню ее навсегда: лежащей недвижно, как музейный экспонат, затылок опирается на антимакассар, пришпиленный к подлокотнику дивана, дальше виднеется фикус на лестничной площадке, голова повернута, чтобы посмотреть на нас, ободранное дочиста лицо без очков, белое и странно светящееся в полумраке, как фосфоресцирующий гриб. Она на десять лет моложе меня теперешней. Почему я ее так ненавижу? Почему мне не все равно, что творилось у нее в голове?
12
Снег сходит, открывая на дороге возле дома рытвины, полные грязной воды. На поверхности этих луж за ночь образуются тонкие пластинки льда; по утрам мы давим их каблуками. С крыш падают сосульки, и мы подбираем их и лижем, как эскимо. Мы уже не надеваем варежки – они болтаются на резинках. Идя домой из школы, мы видим на газонах мокрые куски бумаги у корней живой изгороди, застарелые собачьи какашки и крокусы, что пробились через зернистый снег цвета сажи. В канавах течет буроватая вода; деревянный мост в овраге размяк, осклиз и снова запах гнилью.
Наш дом выглядит так, словно по этим местам прокатилась война: вокруг обломки и следы разрушения. Родители стоят на заднем дворе, уперев руки в бока, озирают просторы голой грязи и планируют сад. Пучки пырея уже торчат там и сям. Пырей где угодно будет расти, говорит отец. Еще он говорит, что подрядчик – та самая птичка, что упорхнула, – взял плотную глину из ямы, выкопанной под наш фундамент, и рассыпал ее по участку поверх плодородного слоя земли. «Не только жулик, но еще и кретин», – говорит отец.
Мой брат следит за уровнем воды в огромной яме на соседнем участке, ожидая, когда та совсем высохнет, чтобы устроить там бункер. Брат хотел бы сделать на бункере крышу из палок и старых досок, но знает, что это невозможно – яма слишком большая и ему просто не разрешат. Вместо этого он собирается прокопать туннель вниз через боковую стенку ямы и лазить туда-обратно по веревочной лестнице. Веревочной лестницы у него нет, но он говорит, что сделает ее, если получится достать веревку.
Он бегает с другими мальчишками по грязи; у каждого к подошве прилипла лепешка глины, похожая на дополнительную ступню, и оставляет следы, похожие на следы чудовища. Мальчишки прячутся за деревьями старого сада, стреляют друг в друга и кричат:
– Ты убит!
– Неправда!
– Ты убит!
В другие дни они набиваются в комнату брата, лежат животом вниз на кровати или на полу и читают его огромные залежи комиксов. Я тоже иногда присоединяюсь к ним, наслаждаясь перелистыванием разноцветных страниц и пропитываясь душным мальчишеским запахом. Мальчики пахнут не так, как девочки. Их запах – едкий, кожаный, низовой. Так пахнет старая веревка или мокрая псина. Дверь комнаты мы держим закрытой, так как мать не одобряет комиксы. Мальчишки читают молча и лишь изредка односложно договариваются о мене.
Именно комиксы сейчас коллекционирует брат. Сколько я помню, он всегда что-нибудь коллекционировал. Когда-то крышечки от молочных бутылок, собранные из десятков молочных магазинов; он носил их в кармане пачками, перехваченными резинкой, ставил к стенке и кидал в них другие крышечки, чтобы выиграть ещё. Потом пошли крышечки бутылок из-под газировки, потом карточки из сигаретных пачек, потом – увиденные на дороге номера машин из других провинций и штатов. Но комиксы выиграть нельзя. Ими можно только обмениваться – один хороший комикс на три или четыре менее ценных.
В школе мы делаем пасхальные яйца из цветной бумаги – розовой, фиолетовой, голубой – и клеим на окна. Потом мы клеим тюльпаны, и вскоре зацветают настоящие тюльпаны. Как будто есть такой закон, что вещи, вырезанные из бумаги, обязаны появляться чуть-чуть раньше настоящих.
Грейс достала длинную скакалку, и теперь они с Кэрол учат меня, как ее крутить. Крутя скакалку, мы декламируем хором, нараспев, меланхолично, на одной ноте:
- Саломея танцевала, ноги кверху задирала.
- Ноги кверху задирала, а трусов не надевала[2]
Грейс кладет ладонь на голову, другую руку упирает в бедро и виляет задом. У нее это выходит очень чинно: на ней повседневная плиссированная юбка на бретельках. Я знаю, что Саломея должна быть больше похожа на кинозвезд из наших раскрасок-вырезалок. Мне представляются тюлевые юбки, туфли с высокими каблуками и звездами на мысках, шляпы, украшенные фруктами и перьями, высоко поднятые, выщипанные в ниточку брови; веселье, излишества. Но Грейс со своей плиссировкой и бретельками напрочь убивает подобные чувства.
Еще мы играем в мяч. Мы играем у стены дома Кэрол. Мы бросаем мячи в стену и ловим на отскоке, хлопая и крутясь в такт под присказку: «Простая, подвигушки, хохотушки, с разговорами, одна рука, другая рука, одна нога, другая нога, хлоп спереди, хлоп сзади, спереди-сзади, сзади-спереди, озорная, золотая, реверанс, салют флагу и круговая».
«Круговая» означает, что нужно бросить мяч и сделать полный оборот, прежде чем его поймаешь. Это самая сложная фигура, даже сложнее, чем бросать и ловить левой рукой.
Солнце светит все дольше, а на закате становится красно-золотым. Вербы роняют на мост желтые пушистые шарики; ключики клёна падают на тротуары, крутясь, и мы расщепляем липкое семечко и надеваем лопасти, как очки, себе на нос. Воздух теплый, влажный, как невидимая взвесь. Мы идем в школу в хлопчатобумажных платьях и кофтах, а на обратном пути кофты снимаем. Старые деревья в плодовом саду зацвели белым и розовым; мы залезаем на них и вдыхаем аромат, похожий на запах лосьона для рук, или сидим в траве и плетем венки из одуванчиков. Мы расплетаем волосы Грейс, и они падают ей на спину жесткими темно-каштановыми волнами, и мы венчаем Грейс одуванчиками, как короной. «Ты принцесса», – говорит Кэрол, гладя ее волосы. Я фотографирую Грейс и вклеиваю фото к себе в альбом. Так она и сидит там, чинно улыбаясь, украшенная цветами.
В поле наискосок от дома Кэрол вырастают новые дома; по вечерам кучки детей, мальчиков и девочек, шумно играют внутри, в свежем деревянном запахе стружек, проходя сквозь стены, которых еще нет, и карабкаясь по приставным лестницам там, где скоро будут воздвигнуты ступени. Это запрещено.
Кэрол не хочет лезть на верхние этажи, потому что боится. Грейс тоже не хочет, но не поэтому: она не хочет, чтобы кто-нибудь, какой-нибудь мальчишка, подглядел ее трусы. Нам запрещено ходить в школу в брюках, но Грейс не носит их вообще никогда. Так что они вдвоем остаются внизу, пока я лезу наверх, потом – по балкам потолка, которого нет, а потом еще выше, на чердак. Я сижу на верхнем этаже, пока несуществующем, на крыше воздушного замка, купаясь в красно-золотом закате и глядя вниз. Я не думаю о том, что будет, если я упаду. Я еще не боюсь высоты.
Однажды кто-то приносит в школу мешочек стеклянных шариков, и назавтра они уже есть у всех. Мальчики покидают свой двор и толкаются на площадке перед двумя раздельными дверями; им нужна эта площадка, потому что в шарики играют на ровной поверхности, а двор мальчишек засыпан шлаком.
При игре в шарики ты либо вратарь, либо нападающий. Нападающий должен встать на колени, прицелиться и покатить свой шарик к воротам, как в боулинге. Если попадешь, то шарик вратаря достается тебе, и твой тоже остается у тебя. Если промахнешься, теряешь свой шарик. Вратарь же садится на землю, широко раздвинув ноги, и кладет шарик на трещину перед собой. Шарик может быть обычным, но на такие, как правило, желающих мало, разве что предложишь два за один. Целью, как правило, служит более ценный шарик: кошачьи глаза – прозрачное стекло с расцветающими внутри яркими лепестками, красными, желтыми, зелеными или синими; чистики, идеально прозрачные без изъяна, как подкрашенная вода, сапфиры или рубины; водные, в которых, как в толще океана, подвешены синие нити; металлические «пульки»; «агги», они как обычные стеклянные шарики, только крупнее. Эти сокровища переходят от победителя к победителю. Их можно купить, но это считается мошенничеством; их положено выигрывать.
Вратари выкрикивают названия своих богатств: «Чистик, чистик!» «Водный, водный!» Двусложные слова звучат нараспев, голос понижается, так кличут собаку или зовут потерявшегося ребенка. Крики меланхоличны, хотя кричащие вовсе не грустят. Я и сама так сижу, холодные шарики катятся между моими ногами, собираясь на ткани расстеленной юбки, и я выкликаю: «Кошачий глаз! Кошачий глаз!» с сожалением в голосе, хотя ощущаю только алчность и приятно щекочущий ужас.
Кошачьи глаза – мои любимые. Если я выигрываю новый кошачий глаз, я жду, пока останусь одна, достаю его и рассматриваю на просвет, без конца поворачивая. Эти шарики в самом деле глаза, только не кошачьи. Они принадлежат кому-то неизвестному, но все же существующему: как зеленый глаз радиоприемника или глаза обитателей далекой планеты. Мой любимый – синий. Я кладу его в красную пластиковую сумочку, в безопасное место. Я рискую другими шариками, выставляя их как цели, но этим шариком рисковать не хочу.
Я не набираю большой коллекции, поскольку не отличаюсь меткостью. А вот мой брат бьет насмерть. Он берет с собой в школу пять обычных шариков в синем мешочке от виски «Краун Ройял» и возвращается с набитым до отказа мешочком и набитыми карманами. Выигранные шарики он хранит в выданных ему матерью закручивающихся банках для домашних консервов. Банки стоят рядком у него на письменном столе. Однако он никогда не обсуждает свой талант. Просто выставляет на стол банки.
Как-то в субботу после обеда он кладет все свои лучшие шарики – чистики, водные, кошачьи глаза, все свои сокровища и чудеса – в одну банку. Он уносит ее куда-то в овраг, вниз, под деревянный мост, и там закапывает. Потом он рисует затейливую карту, отмечая на ней, где спрятан клад, кладет карту в другую банку и ее тоже зарывает. Он сообщает мне, что сделал, но не объясняет, зачем, а также не открывает, где спрятал банки.
13
Неотделанный дом в море грязи и соседняя гора земли удаляются от меня; я смотрю на них через заднее окно машины, где сижу, зажатая между ящиками продуктов, спальными мешками и плащами на случай дождя. На мне синий полосатый свитер брата и потертые вельветовые штаны. Грейс и Кэрол в юбках стоят под яблонями, машут, скрываются вдали. Им все еще нужно ходить в школу; а мне нет. Я им завидую. Гудроновый, резиновый запах дороги уже обволакивает меня; но я ему не рада. Меня отрывают от новообретенной жизни, от жизни девочек.
Я осваиваюсь со знакомой картиной – затылки и уши моих родных и летящая навстречу белая разделительная полоса шоссе. Мы едем среди пастбищных земель и ферм с силосными башнями, вязами и запахом скошенного сена. Лиственные деревья становятся меньше ростом, их вытесняют сосны, воздух холодеет, небо приобретает ледянистый оттенок; мы едем из весны обратно в зиму. Вот первые гранитные гряды, первые озера; в тени еще лежит снег. Я подаюсь вперед, опираясь руками на спинку сиденья перед собой. Я чувствую себя как собака, что принюхивается, навострив уши.
Север пахнет не так, как город: чище, прозрачнее. Здесь видно дальше. Пилорама, гора опилок, топка для их сжигания, похожая по форме на вигвам; трубы медеплавильного завода, скалы вокруг них – безлесые, темные, будто выжженные; горы почерневшего шлака; всю зиму я не вспоминала о них, но вот они, и, увидев, я их припоминаю, узнаю, приветствую, словно это – мой дом.
Мужчины стоят на углах, у дверей деревенских универсальных магазинов, небольших банков, пивных с обитыми рубероидом стенами. Руки у этих мужчин засунуты в карманы ветровок. У некоторых смуглые индейские лица, другие – просто загорелые. Они ходят не так, как люди на юге провинции – медленней, осмотрительней; они меньше говорят, и слова их разделены паузами. Отец, беседуя с ними, звенит ключами и мелочью в карманах. Он называет эти разговоры «молоть языком». Он возвращается в машину с пакетом из коричневой бумаги – там купленные продукты, и он засовывает пакет мне под ноги.
Мы с братом стоим на конце ветхой пристани, вдающейся в длинное синее озеро со скалистыми берегами. Вечереет, закат цвета арбуза, утки перекликаются вдали, слышен чей-то долгий крик на повышающейся ноте, похожий на вой волка. Мы ловим рыбу. Нас кусают комары, но я привыкла и даже не смахиваю их. Рыбалка идет без комментариев: забрасываешь, блесна хлопает по воде, жужжит катушка спиннинга, сматывая леску обратно. Мы следим глазами за блесной, чтобы понять, клюнула ли рыба. Если да, мы ее вываживаем как можем. Потом на нее надо наступить, придерживая, оглушить ударом по голове и воткнуть нож за глазами. Я наступаю, а брат бьёт и орудует ножом. Он молчит, но он напряжен, собран, в углах рта катаются желваки. Интересно, у меня тоже так блестят глаза, словно у дикого зверя, в этом розовом закате?
Мы живем в брошенном лагере лесорубов. Мы спим на своих надувных матрасах, в своих спальных мешках, на деревянных нарах, где когда-то спали лесорубы. Лагерь уже кажется очень старым, хотя пустует всего два года. Лесорубы оставили по себе памятки – надписи, имена, инициалы, переплетенные сердца, короткие матерные слова и похабные картинки, нацарапанные ножом или карандашом на дощатых стенах. Я нахожу старую жестяную банку кленового сиропа. Крышка заржавела и приварилась намертво, но, когда мы со Стивеном умудряемся ее открыть, оказывается, что сироп заплесневел. Эта жестянка представляется мне древним артефактом, словно из гробницы.
Мы рыщем меж деревьями, ища кости, холмики земли, которые могли бы обозначать раскоп или очертания жилища, переворачиваем бревна и камни, чтобы посмотреть, что под ними. Нам хотелось бы найти потерянную цивилизацию. Мы находим жука, множество мелких белых и желтых корешков, жабу. Ни следа людей.
Отец снял городскую одежду и опять стал собой. На нем снова старая куртка, мешковатые штаны, мятая фетровая шляпа с воткнутыми в нее рыболовными мушками. Он топает по лесу в старых высоких рабочих ботинках, смазанных беконным жиром для непромокаемости, с топором в кожаной кобуре. Мы движемся у него в кильватере. Лес кишит кольчатыми лесными коконопрядами, такого нашествия не было много лет; отец ликует, гномьи глаза сверкают, как серо-голубые пуговки. Гусеницы повсюду – полосатые, щетинистые. Они свисают на шелковых ниточках с ветвей, образуя висячий занавес, который приходится убирать с пути; они текут по земле ожившим ковром, они пересекают дороги, превращаясь в жирную кашу под колесами лесовозов. Деревья стоят голые, словно после пожара, стволы обмотаны паутиной.
– Запомните это, – говорит отец. – Это – классическое нашествие. Мы еще долго такого не увидим.
Таким тоном говорят о лесных пожарах или войне: почтение и изумление в голосе смешиваются с отзвуком катастрофы.
Брат стоит неподвижно, и поток гусениц набегает на его ступни и спускается по другую сторону, как волна.
– Когда ты был маленький, я тебя как-то поймала, когда ты собирался наесться этих гусениц, – говорит мать. – Ты набрал целую горсть и давил их направо и налево. И как раз собирался засунуть их в рот, но я не дала.
– В некоторых аспектах они все – как единый организм, – говорит отец.
Он сидит за дощатым столом, оставшимся от лесорубов, и ест жареный колбасный фарш и картошку. Все время, пока мы едим, он говорит про гусениц: о том, сколько их, как они хитроумны, и о различных методах их истребления. Он говорит, что нельзя опрыскивать их ДДТ и прочими инсектицидами. Это яд для птиц, природных врагов гусениц, а сами гусеницы, будучи насекомыми, отлично приспосабливаются – гораздо лучше, чем люди, – и они просто выработают устойчивость к яду, так что в итоге птицы вымрут, а гусениц станет еще больше. Он сам сейчас работает над другим средством: гормоном роста, который нарушает внутреннюю регуляцию в организме гусеницы, заставляя ее окукливаться раньше срока. Преждевременное старение. Но в конечном итоге, говорит он, будь я склонен к заключению пари, я поставил бы на насекомых. Они старше людей, у них больше опыта в выживании, к тому же их гораздо больше, чем нас. И вообще, скорее всего, мы взлетим на воздух еще до конца этого столетия, судя по атомной бомбе и по тому, куда дело идет. Будущее принадлежит насекомым.
– Тараканам, – говорит отец. – В конце концов только они и останутся.
Он говорит это бодро, пронзая вилкой картофелину.
Я сижу, ем жареный колбасный фарш и запиваю молоком, разведенным из порошка. В нем я больше всего люблю комки, которые плавают поверху. Я думаю про Кэрол и Грейс, своих лучших подруг. В то же время я не могу в точности вспомнить их лица. Неужели я и правда сидела на полу в спальне Грейс, на ее прикроватном коврике, связанном крючком из тряпочек, вырезала сковородки и стиральные машины из каталогов «Итона» и клеила в альбом? Это уже кажется невероятным, и все же я знаю, что так и было.
За лагерем лесорубов есть большая просека, откуда вывезли все бревна. Остались лишь пни и корни. Там много песка. Всё заросло черникой, как бывает после пожара: сперва иван-чай, потом черника. Мы собираем ее в жестяные кружки. Мать платит нам по центу за кружку. Она готовит черничные пудинги, черничный соус, закручивает варенье, стерилизуя банки в большом заготовочном котле на костре под открытым небом.
Солнце жарит, и жара волнами поднимается от раскаленного песка. У меня на голове ситцевый платок, сложенный треугольником и завязанный за ушами; тот край, что на лбу, уже пропитался потом. Вокруг гудит облако мух. Я стараюсь прислушиваться сквозь этот гул, не слышно ли за ним приближение медведя. Я не знаю, как звучит медведь, когда приближается, но знаю, что медведи любят чернику и что они непредсказуемы. Они могут убежать. А могут напасть на тебя. Если медведь нападает, надо упасть на землю и прикинуться мертвой. Так говорит мой брат. Тогда, говорит он, медведь может уйти; а может вырвать у тебя потроха. Я видела, как потрошат рыбу, и очень хорошо представляю себе эту картину. Мой брат находит медвежий помет – синеватый, крапчатый, похожий на человеческий, – и ковыряет его палочкой, чтобы понять, насколько он свежий.
После полудня, когда слишком жарко собирать ягоды, мы плаваем в озере, в той же воде, откуда таскаем рыбу. Мне запрещают заходить туда, где я не достаю дна. Вода ледяная, мутная; внизу – дальше того места, где песчаное дно уходит круто вниз и начинается глубина, – торчат древние скалы, заросшие слизью, там полно затонувших коряг, раков, пиявок, огромных щук, у которых верхняя челюсть гораздо длиннее нижней. Стивен говорит мне, что у рыб есть обоняние. Он говорит, что они чуют нас и держатся подальше.
Мы сидим на берегу, на камнях, торчащих из узкой полоски прибрежного песка, и кидаем кусочки хлеба в воду, чтобы посмотреть, кого удастся приманить: пока это мальки и редкие окуни. Мы ищем плоские камушки и пускаем блинчики по воде, или тренируемся рыгать по желанию, или прижимаем губы к предплечью и издаем пердящие звуки, или набираем воды в рот и стараемся плюнуть подальше. В этих состязаниях я не столько участвую, сколько играю роль публики; но брат все затеял не ради похвальбы – скорее всего, будь он тут один, он проделывал бы все то же самое.
Иногда он мочится, выводя слова на узкой полосе песка или на поверхности воды. Он очень старается, словно делает что-то чрезвычайно важное. Моча изящной дугой бьет из передней части его плавок, из руки и дополнительного пальца, который он держит в руке. Почерк выходит угловатый – такой же, как его настоящий почерк. В конце он всегда ставит точку. Он не пишет свое имя или плохие слова, в отличие от других мальчишек, чьи подвиги я видела на сугробах. Вместо этого он пишет: МАРС. Или, если чувствует себя в силах: ЮПИТЕР. К концу лета он три раза написал названия всех планет Солнечной системы. Выписал.
Середина сентября. Листья уже меняют цвет на темно-красный, ярко-желтый. По ночам, когда я иду в туалет, в темноте, без фонарика – так лучше видно – звезды острые и кристаллические, и у меня перед лицом висит облачко дыхания. В окне я вижу родителей – они сидят у керосиновой лампы, похожие на далекую картину в раме темноты. Мне не по себе, когда я смотрю на них вот так, через окно, снаружи – внутрь, и знаю, что они не знают, что я их вижу. Будто меня на самом деле нет; или будто на самом деле нет их.
Возвращаясь с севера, мы словно спускаемся с горы в долину. Мы снижаемся, проходя слои ясности, прохлады и ничем не загроможденного света, минуем последний гранитный выступ, последнее озерцо с рваными краями и попадаем туда, где воздух гуще, в сырость и теплую тяжесть, в звон кузнечиков и травяные, луговые запахи юга.
К дому мы подъезжаем после обеда. Дом кажется странным, другим, словно заколдованным. Из окружающей его грязи выросли чертополох и золотарник, наподобие колючей изгороди. Огромная яма и гора земли на соседнем участке исчезли – вместо них теперь новый дом. Как же это? Я не ожидала таких перемен.
Грейс и Кэрол стоят под яблонями, точно на том месте, где я их оставила. Но они переменились. Они совсем не похожи на те картинки, которые я носила в голове последние четыре месяца, изменчивые картинки, в которых постоянны лишь несколько черт. Прежде всего Грейс и Кэрол стали крупнее; и одеты они теперь по-другому.
Они не подбегают ко мне, но прекращают свое занятие и глядят на нас так, словно мы совсем новые люди, словно я тут не жила. С ними еще одна девочка. Я смотрю на нее безо всяких предчувствий. Я ее никогда не видела.
14
Грейс машет рукой. Миг спустя машет и Кэрол. Третья девочка не машет. Пока я иду к ним, они стоят среди астр и золотарника и ждут. Яблони увешаны яблоками, красными и желтыми, но все они в каких-то струпьях. Часть яблок попа́дала на землю и теперь гниет. Пахнет сладко, как в банке яблочного сока, и жужжат пьяные осы. Яблоки хлюпают у меня под ногами.
Грейс и Кэрол загорели, они уже не такие бледные; черты лица словно раздвинулись, волосы посветлели. Третья девочка выше их обеих. Грейс и Кэрол в юбках, а она – в вельветовых штанах и пуловере. Грейс и Кэрол – приземистые, коренастые, а эта девочка худая, но не хрупкая: она гибкая и сильная. Лицо у нее длинное, рот слегка перекошен; верхняя губа как-то кривится, будто ее разрезали и сшили не совсем ровно.
Но когда она улыбается, рот обретает симметрию. Улыбка у нее взрослая, словно выученная и продиктованная вежливостью. Девочка протягивает мне руку:
– Привет! Я Корделия. А ты…
Я смотрю на нее. Будь на ее месте взрослый, я взяла бы руку, пожала. Я бы знала, что сказать. Но дети не пожимают друг другу руки вот так.
– Элейн, – подсказывает Грейс.
Я робею в присутствии Корделии. Я два дня ехала на заднем сиденье машины, ночевала в палатке; я чувствую, что замурзана, волосы всклокочены. Корделия смотрит мимо меня – туда, где мои родители разгружают машину. Взгляд оценивающий, она явно забавляется. Я вижу, даже не оборачиваясь, старую фетровую шляпу, старые ботинки, щетину на лице у отца, отросшие косицы, драный свитер и пузырящиеся колени штанов у брата, серые брюки, мужеподобную клетчатую рубашку и ненакрашенное лицо у матери.
– Ты наступила в собачью какашку, – говорит Корделия.
Я смотрю вниз:
– Это гнилое яблоко.
– Но собачьи какашки бывают такого же цвета, правда? – говорит Корделия. – Те, которые не твердые, а мягкие, которые выдавливаются, как арахисовая паста.
На этот раз ее голос звучит доверительно, словно она говорит о чем-то личном, известном только нам двоим, по поводу чего мы единодушны. Она создает кружок на двоих и принимает меня в него.
Корделия живет еще дальше на восток, чем я, в районе, застроенном домами еще новее нашего. Но ее дом не одноэтажный, а двухэтажный. Столовая в нем отделена занавеской, которую можно отдернуть, превратив столовую и гостиную в одну большую комнату. Еще в нем есть санузел на первом этаже, но без ванны – только унитаз и раковина. Это называется «дамский уголок».
Цвета в доме Корделии – не темные, как в других домах. Оттенки светло-серого, светло-зеленого, белого. Диван, например, яблочно-зеленый. Здесь нет ничего в цветочек, ничего бордового, ничего бархатного. На стене картина в светло-серой раме – портрет двух старших сестер Корделии, сделанный несколько лет назад, пастелью. Обе в платьях-халатах, волосы как перышки, глаза как туман. В доме стоят живые цветы – несколько букетов сразу, в тяжелых, словно перетекающих вазах шведского стекла. Это Корделия нам сказала, что вазы – шведского стекла. Она говорит, что шведское стекло самое лучшее.
Мать Корделии сама составляет цветочные композиции, для этого она надевает садовые перчатки. Моя мать не составляет цветочных композиций. Иногда она втыкает несколько цветков в банку и ставит на обеденный стол, но эти цветы она собирает сама во время прогулок: она ходит, чтобы поддерживать себя в форме, надевает брюки и ходит вдоль дороги или в овраге. На самом деле это сорняки. Моей матери никогда не пришло бы в голову тратить деньги на покупку цветов. До меня впервые в жизни доходит, что мы не богатые.
У матери Корделии есть уборщица. Только у нее из всех наших семей. Впрочем, уборщицу не называют уборщицей. Ее называют «женщина». В дни, когда женщина приходит убираться, нам нельзя путаться у нее под ногами.
– Предыдущая женщина попалась на том, что воровала у нас картошку, – говорит Корделия, понизив голос, будто шокирована. – Она поставила сумку, и картофелины из нее прямо так и покатились по полу. Было ужасно неловко. – Конечно, она имеет в виду, что неловко было ей и ее семье, а не женщине. – Разумеется, нам пришлось с ней расстаться.
Семья Корделии ест яйца всмятку не размятыми в мисочке, а из специальных подставок для яиц. У каждого члена семьи своя подставка, помеченная первой буквой имени. Еще у них есть кольца для салфеток, тоже обозначенные буквой. Я впервые в жизни вижу подставки для яиц и понимаю, что Грейс их тоже никогда не видела, поскольку она про них ничего не говорит. Кэрол неуверенно сообщает, что у нее дома такие тоже есть.
– Съев яйцо, нужно обязательно продырявить скорлупу, – говорит Корделия.
– Зачем? – спрашиваем мы.
– Чтобы ведьмы не могли уплыть на ней в море.
Она говорит небрежно, но с презрением, словно только дураки могут этого не знать. Но возможно, что она просто шутит или дразнит нас. У ее старших сестер тоже такая привычка. Трудно сказать, когда они говорят серьезно. Они разговаривают насмешливо, причудливо, будто подражают кому-то или чему-то, но непонятно, кому или чему.
«Я была на волосок от смерти!» – восклицают они. Или: «Я выгляжу как гнев божий». «Я выгляжу как огородное пугало». «Я выгляжу как Старая Халда». Это уродливая старуха, которую они, судя по всему, придумали. Но они не считают на самом деле, что были на волосок от смерти или что выглядят плохо. Обе очень красивы: одна – темпераментная брюнетка, другая – чувствительная блондинка с добрыми глазами. Корделии не досталось такой красоты.
Их имена – Утрата и Миранда, но так их никто не зовет. Их зовут Утра и Мира. Брюнетка – Утра. Она занимается балетом, а Мира играет на альте. Альт держат в стенном шкафу, и Корделия вытаскивает его и показывает нам. Он лежит, загадочный и важный, в футляре с бархатной обивкой. Утра и Мира вышучивают друг друга и свои занятия, особым тоном врастяжечку, но Корделия говорит, что они одаренные. Для меня это звучит так, как будто с ними что-то сделали, что-то особенное, оставляющее следы. Я спрашиваю Корделию, одаренная ли она, но она только высовывает язык из угла рта и отворачивается, будто занята чем-то другим.
Корделию должны были бы звать «Корди», но ее так не зовут. Она постоянно требует, чтобы ее звали полным именем: Корделия. Все три имени необычные; ни у кого из девочек в школе таких нет. Корделия говорит, что эти имена из Шекспира. Она, похоже, ими гордится, словно мы все должны были сразу их узнать. «Это мамочка придумала», – говорит она.
Все трое зовут мать мамочкой и говорят о ней любовно и снисходительно, словно она – способный, но своенравный ребенок, которому они вынуждены подыгрывать. Мамочка маленького роста, хрупкая и рассеянная; она носит очки на цепочке вокруг шеи и берет уроки живописи. Несколько ее работ висят на лестничной площадке второго этажа – зеленоватые картины с цветами, лужайками, бутылками и вазами.
Сестры сплели вокруг мамочки целую сеть тайн и умолчаний. Они договорились не рассказывать ей об определенных вещах. «Мамочка об этом знать не должна», – напоминают они друг другу. Они просто не хотят ее разочаровывать. Утра и Мира стараются по мере возможности делать все, что хотят, но не разочаровывая при этом мамочку. У Корделии выходит не так ловко – у нее реже получается делать все, что она хочет, и мамочка разочаровывается чаще. Так, она говорит, когда сердится: «Ты меня разочаровала». Если разочарование очень сильное, она призывает отца семейства, а это уже серьезно. В разговорах о нем сестры никогда не шутят и не говорят врастяжечку. Он крупный, грубоватый, обаятельный, но мы слышали, как он кричит наверху.
Мы сидим на кухне, чтобы не мешать женщине вытирать пыль, и ждем, чтобы Корделия вышла поиграть. Она опять разочаровала родителей, не прибравшись вовремя в своей комнате. Входит Утра – пальто из верблюжьей шерсти небрежно наброшено на одно плечо, пачка учебников опирается о бедро. «А вы знаете, кем хочет стать Корделия, когда вырастет? – говорит она хрипловато, наигранно серьезным, доверительным тоном. – Лошадью!» И мы не можем понять, правда это или нет.
У Корделии целый шкаф костюмов для переодевания: мамочкины старые платья, старые шали, старые простыни, которые можно разрезать и обмотать вокруг себя. С этими костюмами раньше играли Утра и Мира, но уже выросли из них. Корделия хочет ставить пьесы нашими силами, чтобы гостиная с занавесом служила сценой. Корделия хочет приглашать зрителей на представления и брать за это деньги. Она выключает свет, держит фонарик под подбородком и зловеще хохочет. Так это делается. Корделия бывала в театре и даже на балете. «Жизель», роняет она, словно мы все должны знать, что это такое. Но почему-то ни одна из наших постановок так и не обретает окончательной формы по задумке Корделии. Кэрол хихикает и забывает свою роль. Грейс не любит, когда ею командуют, и заявляет, что у нее болит голова. Выдуманные сюжеты интересовали бы ее только в том случае, если бы в них участвовали настоящие вещи: тостеры, гладильные доски, гардеробы кинозвезд. Мелодрамы Корделии – за пределами ее понимания.
– А теперь ты должна покончить самоубийством, – говорит Корделия.
– Почему? – спрашивает Грейс.
– Потому что тебя бросили, – объясняет Корделия.
– А я не хочу, – говорит Грейс. Кэрол, играющая горничную, начинает хихикать.
Так что мы просто переодеваемся, спускаемся по лестнице, волоча за собой шали и подолы, выходим на участок, на газон, куда только что подсыпали перегноя. Мы не знаем, что делать дальше. Никто из нас не хочет играть мужские роли, потому что для этого нет подходящей одежды. Правда, время от времени Корделия рисует себе усы Утриным карандашом для подводки бровей и заворачивается в старую бархатную занавеску в последней отчаянной попытке изобразить какой-нибудь сюжет.
Мы вместе идем домой из школы – теперь вчетвером, а не втроем, как раньше. В переулке на полпути домой есть мелочная лавочка – там мы останавливаемся и тратим свои карманные деньги на грошовые жевательные шарики, красные лакричные жгуты, эскимо из апельсинового шербета, и всё это делим поровну. В канавах валяются каштаны, мокрые на вид, блестящие; мы набиваем ими карманы своих кофт, хоть и не знаем, что с ними делать. Мальчишки из нашей школы и католические мальчишки из школы Богоматери Неустанной Помощи кидаются ими друг в друга, но мы этого делать не станем. Так можно глаз выбить.
Немощеная тропа, ведущая к деревянному пешеходному мосту, теперь сухая, пыльная. Над ней нависают ветви – листья уже тусклые, усталые от лета. По краям тропы заросли сорняков – золотарника, астр, лопухов, ядовитого паслёна, у которого ягоды красные, как конфеты к Валентинову дню. Корделия говорит, если нужно кого-нибудь отравить, ягоды паслёна – то, что надо. Паслён пахнет землей, сырой, плодородной, пряной, и кошачьей мочой. Кошки рыскают в зарослях, мы видим их каждый день – они крадутся, приседают, роют лапами грязь, смотрят на нас желтыми глазами, как будто мы их добыча.
Еще в зарослях валяются пустые бутылки от спиртного и скомканные салфетки. Однажды мы нашли кондом. Корделия сказала нам, что он так называется, а ей сказала Утра, когда Корделия была еще маленькая и приняла эту штуку за воздушный шарик. Корделия знает, что ими пользуются мужчины – те самые, которых мы должны остерегаться. Но она не знает, почему эти штуки так называются. Мы подбираем кондом палочкой и разглядываем: он белый, вялый, резиновый, похож на рыбий пузырь. «Фу», – говорит Кэрол. Мы тайком относим кондом в гору и пропихиваем в решетку водостока; он плавает под решеткой на поверхности темной воды, белесый, напоминающий что-то уже утонувшее. Сама эта находка нас пятнает; и то, что мы ее скрыли, – тоже.
Корделия говорит, что ручей в овраге течет прямо из кладбища, а потому вода в нем – это раствор трупов. Она говорит: если выпить этой воды, или наступить в нее, или просто подойти слишком близко, покойники, закутанные в туман, вылезут из ручья и утащат тебя с собой. Она говорит, с нами этого до сих пор не случилось только потому, что мы стоим на мосту, а он деревянный. Мост – надежная защита от ручья с покойниками, такого, как этот.
Кэрол пугается или притворяется испуганной. Грейс заявляет, что Корделия просто дурачится.
– Попробуй, и сама увидишь, – говорит Корделия. – Ну давай, спустись вниз. Слабо?
Но мы не спускаемся.
Я знаю, что все это понарошку. Моя мать ходит на прогулки по оврагу, брат играет там с мальчишками. Они хлюпают в резиновых сапогах по водоспускам, лазят по деревьям, виснут на нижних балках опор моста. Нам запрещено ходить в овраг не из-за покойников, а из-за мужчин. Но все равно мне хочется знать, как выглядят покойники. Я одновременно и верю, и не верю в них.
Мы рвем белые и голубые цветы в зарослях сорняков, добавляем ягоды паслёна и красиво раскладываем всё это на лопухах вдоль тропы. На каждый лопух мы кладем по каштану. Это еда понарошку, но не очень понятно, для кого. Закончив композиции – не то обед, не то погребальные венки, – мы оставляем их у тропы и идем наверх. Корделия велит нам как следует помыть руки, из-за ядовитых ягод паслёна: нужно полностью смыть смертельный сок. Она говорит, что одна капля этого сока превращает человека в зомби.
Назавтра, когда мы возвращаемся из школы, цветочных обедов у тропы уже нет. Возможно, их раскидали мальчишки, они любят разрушать всякие такие вещи; а может, те самые мужчины, притаившиеся в овраге. Но Корделия делает большие глаза, понижает голос и озирается через плечо:
– Это покойники. Кто же еще?
15
Когда звонит колокольчик у входа в школу, мы выстраиваемся парами перед входом с надписью «Девочки» и беремся за руки: мы с Кэрол впереди, а Грейс с Корделией где-то сзади, потому что они на класс старше. Я вижу брата, он в голове колонны мальчиков. Во время перемен он исчезает на дворе мальчиков, там ему на прошлой неделе, при игре в футбол, разбили губу так, что пришлось зашивать. Я рассмотрела стежки вблизи – черные нитки, окруженные распухшим, фиолетовым. Я выразила должное восхищение. Я знаю, что у мальчишек ранения считаются признаком особой доблести.
Теперь, когда я снова ношу юбки вместо брюк, я вынуждена вспоминать, как в них ходят. Нельзя сидеть с расставленными ногами, подпрыгивать слишком высоко, висеть вниз головой, а то подвергнешься осмеянию. Мне пришлось заново усвоить, насколько важно нижнее белье. У него есть собственный гимн:
- Тут и там я побывал,
- Труселя твои видал.
Или:
- Правила по барабану,
- Я трусы носить не стану.
Так декламируют мальчишки, корча при этом обезьяньи рожи.
Мы много рассуждаем о нижнем белье, особенно о нижнем белье учителей; точнее, только учительниц. Мужское нижнее белье совсем не занимает нас. К тому же учителей-мужчин очень мало, и они в большинстве своем пожилые; молодых нет – их съела война. Учительницы в основном старше определенного возраста и притом не замужем. Замужним женщинам работать не положено, это мы знаем от собственных матерей. Немолодые незамужние женщины считаются чем-то странным, подлежащим осмеянию.
На переменах Корделия распределяет нижнее белье: мисс Пиджен, толстой и слащавой, – сиреневое с оборочками; мисс Стюарт – в шотландскую клетку и с кружевами по краям, как ее носовые платки; мисс Хэтчетт, ей за шестьдесят и она носит гранатовые броши, – алые атласные панталоны. Мы не верим, что они в самом деле что-то такое носят, но сами эти мысли доставляют нам злобную радость.
Мою учительницу зовут мисс Ламли. Рассказывают, что каждое утро перед звонком, даже поздней весной, когда уже совсем тепло, она идет в конец класса и снимает рейтузы. Говорят, эти рейтузы темно-синие, из толстой шерсти, издающие запах нафталина и других, более трудноопределимых вещей. Это не слухи и не часть фантазий про нижнее белье учительниц, а факт. Несколько девочек утверждают: когда их в наказание оставили после уроков, они видели, как мисс Ламли снова надевала рейтузы. А другие говорят, что видели эти рейтузы, висящие в чулане. Аура темных, загадочных, отвратительных рейтуз окружает мисс Ламли и окрашивает воздух, в котором она движется. От этого мисс Ламли устрашает еще больше; впрочем, она и без того грозна.
В прошлом году моя учительница была добрая, но настолько непримечательная, что Корделия даже не упомянула ее, когда придумывала учителям панталоны. Лицо у прошлогодней учительницы было как белая булка, кожа цвета бланманже, и она управляла учениками, подлизываясь к ним. Власть мисс Ламли держится на страхе. У нее короткое, прямоугольное тело, так что ее железно-серый кардиган спадает с плеч на бедра совершенно прямо, не делая изгиба на талии. Мисс Ламли всегда ходит в этой кофте и в одной из темных юбок – не может же это быть все время одна и та же юбка. У мисс Ламли очки в стальной оправе, за которыми не разглядеть глаз, черные туфли на каблуках и едва заметная безгубая улыбка. Мисс Ламли не посылает учеников к директору для наказания, а наказывает их сама. Она велит выйти к доске и вытянуть руку перед собой, держа ладонь ровно, и бьет черным резиновым ремнем – резкими, быстрыми, деловитыми взмахами, дрожа побелевшим лицом, а мы смотрим, морщась, и наши глаза наполняются невольными слезами. Кое-кто из девочек начинает всхлипывать, но этого делать не стоит: мисс Ламли ненавидит хлюпанье и вполне может сказать: «Сейчас у тебя будет из-за чего реветь». Мы научились сидеть выпрямившись, глядя прямо перед собой, с ничего не выражающими лицами, поставив обе ступни на пол, и слушать удары резины по содрогающейся плоти.
Бьют в основном мальчиков. Считается, что им это нужнее. К тому же они ерзают, особенно во время уроков шитья. Мы шьем прихватки для горячего, которые потом подарим своим матерям. Мальчики, похоже, неспособны к этому занятию: они шьют большими кривыми стежками и к тому же тычут друг в друга иголками. Мисс Ламли патрулирует проходы между партами и бьет провинившихся линейкой по костяшкам пальцев.
Классная комната – с высоким потолком, желто-коричневая, с доской в передней части, другой доской по всей длине одной стены и высокими узкими окнами с мелким остеклением в противоположной стене. Под окнами расположены батареи. Над дверью в чулан висит большая фотография короля и королевы, и поэтому кажется, что тебе все время кто-то смотрит в спину. Король увешан медалями, королева – в белом бальном платье и тиаре с бриллиантами. Высокие деревянные парты на двоих – с наклонной крышкой и дырками для чернильниц – стоят рядами. Наша классная комната ничем не отличается от других классов в школе имени королевы Марии, но она кажется темнее, возможно – потому, что скудней украшена. Наша прежняя учительница в числе прочих попыток подлизаться к ученикам приносила в школу бумажные кружевные салфеточки, и ее окна вечно кишели бумажной растительностью. Мисс Ламли тоже отмечает смену времен года и череду праздников, но растения, произведенные нами под сверкающим взглядом ее очков в стальной оправе, выходят какими-то чахлыми, малорослыми, так что их никогда не хватает на голые пространства стен и окон. Кроме того, если осенний лист или тыква получились несимметричные, мисс Ламли ни за что не согласится их выставить. Она очень требовательна.
В этом году у нас гораздо больше всего британского, чем в прошлом. Мы учимся рисовать британский флаг с помощью линейки и запоминаем, как выглядят разные кресты – святого Георгия Английского, святого Патрика Ирландского, святого Андрея Шотландского, святого Давида Валлийского. Наш собственный флаг – красный, с «Юнион-джеком» в уголке, но своего святого у Канады нет. Нас учат называть все розовые части на карте.
«Солнце никогда не заходит над Британской империей», – говорит мисс Ламли, тыча в развернутую карту длинной деревянной указкой. В странах, которые не принадлежат к Британской империи, детям отрезают языки, особенно мальчикам. До прихода Британской империи в Индии не было ни железных дорог, ни почты, в Африке пылали межплеменные войны, там сражались копьями и не умели как следует одеваться. У канадских индейцев не было колеса и телефонной связи, и они ели сердца своих врагов в языческом заблуждении, что это придаст им храбрости. Британская империя все изменила. Она принесла народам электрификацию.
Каждое утро мисс Ламли выдувает из камертона-дудки металлическую ноту, мы встаем и поем «Боже, храни короля». Еще мы поем:
- Правь, Британия, Британия, правь волнами,
- Британцы никогда не будут рабами!
Поскольку и мы британцы, мы тоже никогда не будем рабами. Но мы не настоящие британцы, потому что мы еще и канадцы. Это немного хуже, хотя и у нас есть своя песня:
- Во время оно храбрый Вольф
- Пришел с Британских островов
- И флаг британский водрузил
- Среди канадских берегов.
- Вот наша гордость, славный флаг,
- Как птица, рвется ввысь.
- На нем британских три цветка
- Сплелись в кленовый лист.
Когда мы это поем, у мисс Ламли устрашающе дрожит челюсть. Имя Вольф звучит как кличка собаки, но именно он разбил французов. Это меня удивляет; я видела французов, на севере их много, так что он никак не мог разбить их всех. Что же до кленового листа, эту часть канадского флага рисовать труднее всего. Он ни у кого не выходит правильно.
Мисс Ламли приносит газетные вырезки про королевскую семью и приклеивает на боковую доску. Некоторые вырезки – старые, на фото изображены принцесса Элизабет и принцесса Маргарет Роз в форме герл-гайдов, а в статьях рассказывается, как они произносили речи по радио и перед народом во время Битвы за Британию. Такими должны быть и мы, внушает нам мисс Ламли: стойкими, верными, храбрыми, способными на подвиг.
Она приносит и другие вырезки, с фотографиями худых оборванных детей на фоне развалин. Эти статьи должны напоминать нам о том, что в Европе после войны множество голодающих сирот и мы должны доедать все корки хлеба и шкурки картофеля, и вообще все, что у нас на тарелке, потому что выбрасывать еду – это грех. И еще мы не должны жаловаться. У нас вообще нет причин жаловаться, потому что нам очень повезло: дома английских детей бомбили, а наши – нет. Мы приносим из дома старую одежду, и мисс Ламли заворачивает ее в оберточную бумагу и отсылает в Англию. Я мало что могу принести, поскольку моя мать рвет ношеное на тряпки для уборки, но мне удается спасти вельветовые брюки, которые когда-то носил брат, потом я, а теперь они малы и мне, и отцовскую рубашку марки «Вийелла», севшую от неправильной стирки. У меня странное ощущение пробегает по коже, когда я думаю, что кто-то, где-то в Англии, сейчас ходит в моей одежде. Моя одежда кажется частью меня самой, даже та, из которой я выросла.
Все это – флаги, гимны под камертон-дудку, Британская империя, принцессы, военные сироты, даже порка – существует на незримом фоне зловещих темно-синих рейтуз мисс Ламли. Я не могу не думать о них, рисуя британский флаг или исполняя «Боже, храни короля». Существуют они на самом деле или нет? Удастся ли мне когда-нибудь оказаться в классе в тот момент, когда она их надевает, или – еще более немыслимо – снимает?
Я не боюсь ни червяков, ни змей, но боюсь этих рейтуз. Я знаю, если когда-нибудь их увижу, все станет только хуже. Они неприкосновенны, они одновременно святы и глубоко позорны. Возможно, что таящаяся в них гибель суждена и мне: хотя мисс Ламли, конечно, не девочка, но мальчиком ее точно не назовешь. Когда звенит медный колокольчик и мы выстраиваемся у двери с надписью «Девочки», категория, к которой мы принадлежим, включает и ее.
IV. Ядовитый паслён
16
Я иду по Куин-стрит мимо магазинов, торгующих подержанными комиксами, витрин с хрустальными яйцами и морскими ракушками, обилием томной черной одежды. Мне хочется оказаться снова в Ванкувере, сидеть с Беном у камина, смотреть в окно на гавань, пока в огороде за домом гигантские слизняки жуют нашу зелень. Камины и огороды за домом; я вообще не думала о них, когда приходила сюда в гости к Джону – в мастерскую на втором этаже, над оптовой торговлей чемоданами. За углом была таверна «Кленовый лист», где я пила разливное пиво, а в двух кварталах отсюда – художественная школа, где я рисовала голых женщин и ела себя поедом. От проезжающих трамваев дребезжали стекла в окнах. Трамваи до сих пор ходят по этой улице.
– Я не хочу ехать, – сказала я Бену.
– Так не езди, – ответил он. – Отмени всё. Поедем в Мексику.
– Но они уже столько сделали. Ты знаешь, как трудно женщине добиться ретроспективной выставки?
– Какая разница? Твои картины и так продаются.
– Мне нужно ехать, – сказала я. – Иначе будет неправильно.
Меня приучили обязательно говорить «спасибо» и «пожалуйста».
– Ну ладно. Ты знаешь, что делаешь, – он обнял меня.
О, если бы это было в самом деле так!
Вот «Ди-Версия» – между фирмой, снабжающей рестораны припасами, и татуировочным салоном. Дни той и другого сочтены: стоит заведениям вроде «Ди-Версии» появиться в округе, и считай, роковая надпись уже проступает на стене.
Я открываю дверь галереи и вхожу. Сердце у меня падает в пятки, как всегда в галереях. Все дело в коврах, тишине, общей атмосфере фарисейства; галереи слишком похожи на церкви, здесь слишком много благоговения, так и кажется, что посетителям следует преклонять колени. И еще мне не нравится, что мои картины оказались тут – на стенах нейтральных тонов, под рельсовыми светильниками, стерилизованные, выхолощенные, доведенные до приемлемости. Словно кто-то обрызгал картины освежителем воздуха, чтобы заглушить запах. Запах крови на стенах.
Эта галерея не совсем выхолощена, кое-где попадаются остромодные штрихи: торчит наружу труба отопления, одна стена черная. Я не удостаиваю взглядом картины, которые еще не убраны: я ненавижу эти неоэкспрессионистские грязно-зеленые и гниющие оранжевые цвета, пост-то, пост-это. Нынче на всё лепят этикетки «пост-что-нибудь», словно все, что мы делаем, – лишь комментарий к чему-то более раннему, более важному, заслужившему собственное имя.
Несколько моих работ уже распакованы и стоят у стен. Пришлось проследить их судьбу, списаться с владельцами, затребовать у них картины взаймы. Владельцы – не я; и очень жаль, потому что сегодня мне дали бы за мои работы куда лучшую цену. Имя владельца будет значиться на белой карточке на стене рядом с каждой картиной, вместе с моим именем, словно владеть картиной – так же важно, как ее создать. Впрочем, они думают, что так оно и есть.
Если я отрежу себе ухо, подорожают ли мои работы? А еще лучше – сунуть голову в духовку или застрелиться. Богатые коллекционеры любят, приобретая произведение искусства, прикупить вместе с ним капельку чужого безумия.
Лицом ко мне стоит картина двадцатилетней давности: миссис Смиитт, отлично выписанная яичной темперой, с седой короной, закрепленной шпильками, лицом-картошкой, в очках, совершенно голая, если не считать фартука в цветочек с нагрудником, под которым скрывается одна большая сплошная грудь вместо двух. Миссис Смиитт возлежит на бордовом бархатном диване, возносясь в небеса, заросшие фикусами, а в небе плавает луна в форме кружевной салфетки. Картина называется «Фикус: Вознесение». Ангелы, реющие вокруг, – это рождественские наклейки сороковых годов, маленькие девочки в кипенно-белом, раскудрявленные папильотками. Слово «Небеса» написано в верхней части картины буквами из школьного трафарета. Тогда мне казалось, что это остроумно.
Я помню, что мне сильно досталось за эту картину, но не из-за трафаретной надписи.
Я отрываюсь от картины – я стараюсь не смотреть подолгу на свои работы. А то начну находить в них изъяны. И тогда мне захочется схватить нож для бумаги и порезать их, сжечь, ободрать стены. Начать с чистого листа.
Из глубины галереи ко мне идет женщина – блондинистая стрижка иголочками, фиолетовый тренировочный костюм и зеленые кожаные ботинки. Я тут же понимаю, что зря надела свой голубой. Это слишком легковесно. Надо было одеться в монашеский черный, цвет Дракулы, как ходят все приличные женщины-живописцы. Помада цвета крови, засохшей на шее, вместо позорно-трусливого «Розового совершенства». Но тогда я точно выглядела бы как Старая Халда. В моем возрасте лиловые оттенки просто убийственны для цвета лица. Я была бы вся белая и морщинистая.
Но я сблефую с этим костюмом. Притворюсь, что я это нарочно. Почем они знают – может, это я так ниспровергаю устои. Пастельно-голубой тренировочный костюм ни на что не претендует. Когда не гонишься за модой, то модно выглядеть не будешь, но при этом с гарантией не окажешься одетой по моде прошлого года. Этими словами я оправдываю и свои картины; во всяком случае, оправдывала их много лет.
– Здравствуйте! – восклицает женщина. – Вы, должно быть, Элейн! Вы совсем не похожи на свою фотографию.
Что это значит? Что я выгляжу лучше или хуже?
– Мы с вами много говорили по телефону. Меня зовут Чарна.
Раньше в Торонто не было людей по имени Чарна. Мою руку давят в тисках – у этой женщины не меньше десятка тяжелых серебряных колец на пальцах, словно кастет.
– Мы как раз задумались, в каком порядке развешивать.
Появляются еще две женщины. Каждая на вид впятеро артистичней меня. У них серьги с произведениями абстрактного искусства и затейливые прически. Я чувствую себя провинциальной простушкой.
Они заказывают доставку гурманских сэндвичей из авокадо с пророщенными зернами и кофе с молочной пеной, и мы едим и пьем, обсуждая, в каком порядке развесить картины. Я говорю, что предпочитаю хронологический порядок, но у Чарны другие идеи, она хочет, чтобы вещи сочетались между собой в тональности, резонировали и становились высказываниями, взаимно усиливающими друг друга. Я начинаю нервничать – от таких разговоров меня всегда трясет. Я делаю усилие, чтобы молчать, подавляю в себе желание сослаться на головную боль и уехать домой. Мне следовало бы быть благодарной – эти женщины мои союзницы, они запланировали всё мероприятие, они оказывают мне честь, им нравятся мои работы. Но все равно я чувствую, что меня превосходят числом, словно они принадлежат к иному биологическому виду.
Завтра возвращается Джон. Из Лос-Анджелеса, после убийства бензопилой. Я жду не дождусь. Мы за спиной его жены пойдем обедать вместе, и оба будем чувствовать себя коварными хитрецами. Но ведь это простая вежливость – пойти обедать с бывшим мужем по-товарищески; мирный финал после битой посуды и общего хаоса. Мы знаем друг друга с незапамятных времен; в моем возрасте, в нашем возрасте это важно. С того места, где я сейчас сижу, обед с Джоном выглядит как облегчение.
В галерею кто-то входит. Еще одна женщина.
– Андреа! – восклицает Чарна, подкрадываясь к ней. – Ты опоздала!
Она целует Андреа в щеку и подводит ко мне, держа за руку:
– Андреа хочет сделать о вас статью по случаю открытия выставки.
– Мне не сказали, – я чувствую, что на меня бросились из засады.
– Это выяснилось в последний момент, – объясняет Чарна. – Нам повезло! Я вас двоих посажу в заднюю комнату, хорошо? Принесу вам кофе. Это поможет раструбить по свету, как говорится.
Последняя фраза и кривая улыбка обращены ко мне. Я позволяю уволочь себя по коридору. Такие женщины, как Чарна, все еще имеют надо мной власть.
– Я вас по-другому представляла, – говорит Андреа, пока мы усаживаемся.
– Как именно?
– Крупнее.
– А я и есть крупнее, – улыбаюсь я.
Андреа разглядывает мой пастельно-голубой тренировочный костюм. Сама она в черном – одобренном, гламурном черном, а не в обноске шестидесятых вроде моего выставочного платья. Волосы у нее красные, явно и совершенно беззастенчиво крашенные спреем, стриженные шапочкой, как у желудя. Она расстраивает меня своей молодостью: она кажется мне подростком, хоть я и понимаю, что ей должно быть двадцать с чем-то. А она, видимо, считает меня немолодым чучелом с заскоками, вроде своей школьной учительницы. Скорее всего, она хочет хорошенько оттоптаться на мне в своей статье. Скорее всего, ей это удастся.
Мы сидим напротив друг друга за письменным столом Чарны. Андреа ставит на стол фотоаппарат и во- зится с диктофоном. Она журналист в газете.
– Это для раздела «Жизнь», – говорит она. Я знаю, что скрывает под собой это название. Раньше этот раздел назывался «Для женщин». Забавно, что теперь он называется «Жизнь», как будто жизнь интересует только женщин, а другие разделы, например, спортивный, посвящены смерти.
– «Жизнь», говорите? У меня двое детей. Я пеку печенье.
Все это правда. Андреа злобно смотрит на меня и щелкает диктофоном.
– Как вы переносите славу? – спрашивает она.
– Это разве слава, – отвечаю я. – Декольте Элизабет Тейлор – вот это слава. А я – лишь прыщик на газетном листе.
Она ухмыляется:
– Ну хорошо, может быть, вы что-нибудь скажете о своем поколении художников… художниц, об их устремлениях, их целях?
– Вы имеете в виду живописцев. О каком поколении мы говорим?
– Ну, наверно, о поколении семидесятых. Именно тогда женщины… Тогда ваше творчество начало привлекать к себе внимание.
– Мое поколение – это не семидесятые, – говорю я.
Она улыбается:
– Ну ладно, а какое тогда?
– Сороковые.
– Сороковые? – для нее это все равно что античная археология. – Но тогда вы еще не…
– Я росла в сороковые, – объясняю я.
– А, понятно. Вы имеете в виду, что сороковые годы оказали на вас формирующее влияние. Вы не могли бы рассказать, как это отразилось в вашем творчестве?
– Цвета. Цвета в моих работах – это гамма сороковых годов. – Я начинаю смягчаться. Она хотя бы не говорит постоянно «типа» и «это». – Война. Есть люди, которые помнят войну, и те, которые не помнят. Это – точка водораздела, здесь проходит граница.
– Вы имеете в виду войну во Вьетнаме? – уточняет она.
– Нет, – холодно отвечаю я. – Вторую мировую.
Она слегка пугается, будто я только что воскресла из мертвых, причем не до конца. Она не знала, что я настолько стара.
– Итак, – говорит она. – В чем же разница?
– У нас выше устойчивость внимания. Мы доедаем всё, что нам положили на тарелку. Мы сохраняем веревочки. Мы обходимся тем, что есть.
Она удивлена. Я сказала о сороковых всё, что хотела. Я начинаю потеть. Я чувствую себя как у зубного врача, сижу с некрасиво открытым ртом, пока незнакомец с фонариком и зеркалом разглядывает у меня во рту что-то не видное мне самой.
Она бодро и ловко разворачивает беседу от войны опять на женский вопрос, который и интересует ее в первую очередь. Труднее ли приходится женщине, подвергалась ли я дискриминации, недооценивали ли меня? Как совмещать творчество и детей? Мои ответы ей нисколько не помогают: все художники считают, что их недооценивают. Можно рисовать, пока дети в школе. Мой муж просто замечательный, он меня всячески поддерживает, в том числе финансово. (Я не уточняю, какой по счету муж.)
– Значит, вы не считаете, что пользоваться поддержкой мужчины – это унизительно? – спрашивает она.
– Женщины все время поддерживают мужчин. Что плохого, если в кои-то веки поддержка пойдет в другую сторону?
Мои слова не совсем соответствуют тому, что она хочет услышать. Она предпочла бы возмутительные истории. Хотя в ее жизни наверняка ничего такого не было – она слишком молода. И все же людям моего возраста положено иметь в запасе возмутительные истории. Хотя бы оскорбления, унижения. Учителя-мужчины, щиплющие учениц, называющие их «детка», спрашивающие, почему не было великих художников среди женщин, и все такое. Она хотела бы видеть меня разгневанной и старомодной.
– А у вас были женщины-наставники? – спрашивает она.
– Женщины – кто?
– Ну, учительницы или другие женщины-художницы, чьим творчеством вы восхищались.
– А разве не следует говорить «наставницы»? – зловредно подмечаю я. – Нет, не было. Я училась у мужчины.
– Кто это был?
– Его звали Иосиф Хрбик. Он был очень добр ко мне, – торопливо добавляю я. Его история отлично уложилась бы в ее схему, но этого я ей рассказывать не собираюсь. – Он научил меня рисовать голых женщин.
Это выбивает ее из колеи:
– А как же… ну, знаете… феминизм? Ваше творчество многие считают феминистическим.
– Действительно, а как же феминизм. Я терпеть не могу ходить строем. Я не люблю, когда меня загоняют в гетто. И вообще, я слишком стара для изобретательницы феминизма, а вы слишком молоды, чтобы его как следует понимать.
– Значит, для вас эта терминология лишена смысла?
– Мне приятно, когда женщинам нравятся мои работы. Разве это не естественно?
– А мужчинам нравятся ваши работы? – коварно спрашивает она. Она явно подготовилась к этому интервью, знает мои картины с ведьмами и суккубами.
– Каким именно мужчинам? Мои работы нравятся не всем. Но не потому, что я женщина. Если кому-то не нравятся работы художника-мужчины, это не потому, что он мужчина. Они им просто не нравятся.
Я ступила на зыбкую почву, и меня это бесит. Голос у меня спокойный, но кофе кипит внутри.
Она хмурится, возится с диктофоном:
– Тогда зачем вы все время рисуете женщин?
– А кого мне рисовать, мужчин? Я живописец. Живописцы изображают женщин. Рубенс писал женщин. Ренуар писал женщин. Пикассо писал женщин. Все пишут женщин. Разве писать женщин – это что-то плохое?
– Но не так же, – говорит она.
– Как «так»? И вообще, почему мои женщины должны быть похожи на чьих-то еще?
Я ловлю себя на том, что ковыряю кожу на пальцах, и прекращаю. Еще минута – и у меня застучат зубы, как у мышей, загнанных в угол. Ее голос куда-то удаляется, я ее едва слышу. Но вижу предельно четко: рубчики на воротнике свитера, пушковые волоски на щеке, блеск пуговицы. Я слышу то, чего она не говорит вслух: «Ты одета, как чучело. Твои работы – говно. Сиди прямо, не сутулься и не смей дерзить».
– Зачем вы пишете картины? – спрашивает она, и я снова слышу ее абсолютно отчетливо. Слышу, как она теряет терпение из-за того, что я ей перечу.
– А зачем вообще люди что-то делают? – отвечаю я.
17
Теперь темнеет раньше; по дороге домой из школы мы проходим сквозь дым от горящих листьев. Идет дождь, и нам приходится играть в доме. Мы сидим на полу в комнате Грейс – сидим тихо, потому что у миссис Смиитт больное сердце, – вырезаем скалки и сковородки и клеим их вокруг своих бумажных дам.
Но Корделия быстро разбирается с этой игрой. Она догадывается, почти мгновенно, отчего у Грейс дома столько каталогов «Итона». Это потому, что Смиитты, вся семья, так покупают одежду – заказывают по итоновскому каталогу. Вот они все в разделе «Одежда для девочек» – клетчатые платья, юбки на лямках, зимние пальтишки, в которых ходят Грейс и ее сестры, из негнущегося, ноского сукна, с капюшонами, цветов «ирландский зеленый», «королевский синий» и «бордо». Корделия дает понять, что сама в жизни не надела бы пальто из итоновского каталога. Впрочем, явно она этого не говорит. Как и все мы, она хочет быть на хорошем счету у Грейс.
Она проскакивает кухонные принадлежности, листает страницы. Переходит к лифчикам, затейливо кружевным корсетам с эластичными вставками – «корректирующее белье», как это называется в каталоге, – и подрисовывает моделям усы. Модели выглядят так, словно их покрыли тонким слоем бежевой штукатурки. Корделия прибавляет им волос – под мышками, между грудями. Она читает вслух описания, фыркая от подавляемого смеха: «”Прелестная отделка тонким кружевом, с дополнительной поддержкой для зрелой фигуры”. Это значит – для больших буферов. Посмотрите, что тут написано – размер чашечки! Как чайные чашки!»
Груди завораживают Корделию и в то же время кажутся ей омерзительными. У ее старших сестер груди уже выросли. Утра и Мира сидят у себя в спальне, где две одинаковые кровати и все в муслиновых оборочках, подпиливают ногти и тихо смеются; или греют на кухне коричневый воск в кастрюльке и уносят к себе наверх, чтобы намазать на ноги. Они смотрятся в зеркало и делают унылые лица: «Я выгляжу как Старая Халда! У меня эти дела!» Из их корзинок для мусора пахнет умирающими цветами.
Сестры говорят Корделии, что ей кое-каких вещей не понять, она еще мала, а потом все равно ей про это рассказывают. Корделия открывает нам истину, понизив голос и округлив глаза: «эти дела» – это когда между ног идет кровь. Мы ей не верим. Она приносит вещественное доказательство: прокладку, стянутую из Утриной корзинки для мусора. На прокладке – бурая корка, вроде засохшей мясной подливки. «Это не кровь», – с отвращением говорит Грейс, и она права, это совершенно не похоже на то, что бывает, когда порежешь палец. Корделия негодует. Но доказать ничего не может.
Я до сих пор не думала о телах взрослых женщин. Но теперь они открываются в новом, пугающем свете: чуждые и гротескные, волосатые, пухлые, чудовищные. Мы околачиваемся вокруг комнаты, где Утра и Мира сдирают с ног восковые слои; они повизгивают от боли, а мы пытаемся подсмотреть через замочную скважину и хихикаем. Мы их стесняемся, непонятно почему. Они знают, что мы над ними смеемся, и выглядывают, чтобы прогнать нас. «Корделия, а не пошла бы ты к черту вместе со своими подружками!» Они улыбаются чуть зловеще, словно зная, что ждет нас в будущем. «Вот погодите, сами увидите», – говорят они.
Это пугает. То, что случилось с ними – то, отчего они разбухают, размякают, ходят шагом, когда раньше бегали. Им будто надели на шею невидимый поводок и держат в узде – и то же самое может случиться и с нами. Мы незаметно рассматриваем груди встречных женщин на улице, груди наших учительниц; только не наших матерей, это слишком близко и потому пугает. Мы рассматриваем свои подмышки и ноги – не пробиваются ли там пучки волос; грудную клетку – нет ли внезапных выпуклостей. Но пока ничего не происходит. Пока что мы в безопасности.
Корделия доходит до последних страниц каталога, где картинки черно-белые. Костыли, бандажи и протезы. ««Грудной насос», – говорит она. – Видите? Это чтобы надувать сиськи, как велосипедные шины, чтобы они стали больше». И мы не знаем, верить ей или нет.
У своих матерей мы спросить не можем. Нам немыслимо вообразить их без одежды, вообще думать о том, что у них под платьем есть какое-то тело. Они о многом умалчивают. Между нами и ними – пролив, пропасть, такая глубокая, что дна не разглядеть. Ее заполняет немота. Матери заворачивают свои отходы в несколько слоев газеты и перевязывают веревочкой, и все равно капают на только что натертый воском пол. Их бельевые веревки провисают под тяжестью трусов, ночных рубашек, носков, выставляя напоказ личное, запачканное – все, что они выстирали и выполоскали, погружая руки в серую с хлопьями воду. Они все знают о ершиках для чистки унитаза, о сиденьях унитаза, о микробах. Мир полон грязи, сколько ни убирай, и мы знаем, что матери не обрадуются нашим грязным вопросикам. Так что вместо этого мы шушукаемся между собой, и слухи перелетают от одной девочки к другой, становясь все ужаснее.
Корделия говорит, что у мужчин есть морковки между ног. На самом деле это не морковки, а нечто гораздо худшее. Они покрыты волосами. Из кончика выходят семена, попадают к женщинам в животы и там превращаются в детей, хочешь – не хочешь. Некоторые мужчины прокалывают свои морковки и вставляют в них кольца, словно в уши.
Корделия не очень четко объясняет, как семена выходят наружу и как они выглядят. Она говорит, что они невидимые, но мне не верится. Если эти семена вообще существуют, они должны быть похожи на птичий корм или на семена морковки, длинные и тонкие. И еще Корделия не может объяснить, как эту морковку засовывают в женщину, чтобы посадить в нее семена. Очевидный кандидат – пупок, но тогда там должен остаться разрыв или разрез. Вся ее теория весьма сомнительна, а гипотеза, что мы сами появились на свет в результате подобного акта, вызывает возмущение. Я думаю о кроватях, в которых все это предположительно происходит: кровати-близнецы в доме Кэрол, всегда такие аккуратные, элегантное ложе с балдахином у Корделии, темная кровать цвета красного дерева у Грейс, непоколебимо респектабельная под вязаным покрывалом и многослойными одеялами. Такие кровати уже сами по себе – опровержение возмутительной теории, достойный отпор. Я представляю себе мать Кэрол с ехидной улыбкой на губах, миссис Смиитт в пришпиленной короне седеющих кос. Они бы поджали губы, выпрямились с достоинством. Они бы такого не допустили.
«Детей посылает Бог», – говорит наконец Грейс, веско, как она умеет, давая понять, что диспут окончен. Она улыбается застегнутой на все пуговицы, презрительной улыбкой, и мы приободряемся. Лучше, чтобы дети получались от Бога, а не от нас.
Но у меня свои сомнения. В частности, я многое знаю. Я знаю, что эта штука называется не морковкой. Я видела, как стрекозы и жуки летают, сцепившись, забравшись один на другого. Я знаю, что это называется «спаривание». Я знаю про яйцеклады, которыми насекомые откладывают яйца – на листьях, на гусеницах, на поверхности воды; они отчетливо изображены и подписаны на рисунках, которые отец приносит домой для правки. Я знаю о существовании муравьиных маток и о том, что самки богомола съедают самцов. Но пользы мне от этого никакой. Я представляю себе мистера и миссис Смиитт – голых, в чем мать родила, и мистер Смиитт залезает на спину миссис Смиитт и сцепляется с ней. Картина совершенно неправдоподобная, даже за вычетом полета.
Я могу спросить у брата. Но, хотя мы с ним вместе разглядывали под микроскопом болячки и межпальцевую грязь, хотя нас не пугают бычьи глаза, рыбьи потроха и все, что можно найти под корягой, спросить его о таком будет неделикатно и, может быть, даже болезненно. Я вспоминаю слово «ЮПИТЕР», выведенное на песке угловатым почерком – ловким лишним пальцем. Если верить Корделии, этот палец в конце концов покроется волосами. Может, брат об этом не знает.
Корделия говорит, что мальчишки, когда целуются, суют язык девочке в рот. Не те мальчишки, которых мы знаем, а другие, постарше. Она это говорит таким же тоном, каким мой брат произносит в присутствии Кэрол «жучиный сок» или «сопли», и Кэрол реагирует точно так же – так же морщит нос и передергивается. Грейс говорит, что Корделия вызывает отвращение.
Я представляю себе плевки, которые иногда попадаются на тротуарах в центре города; и коровьи языки в мясных лавках. Зачем это делают, с какой стати засовывают язык в чужой рот? Конечно, чтобы вызвать отвращение. Чтобы посмотреть, что ты сделаешь в ответ.
18
Я поднимаюсь из подвала по ступеням, к которым прибиты черные резинки. Миссис Смиитт стоит у кухонной раковины в своем обычном фартуке с нагрудником. Она закончила отдыхать и теперь стоит, готовит ужин. Она чистит картошку; она часто чистит то одно, то другое. Шелуха спадает из ее крупных костистых рук длинной бледной спиралью. Нож для чистки, который использует миссис Смиитт, так сточился, что лезвие превратилось в тоненький полумесяц. Кухня наполнена паром, в ней пахнет костным мозгом и тушеным мясом.
Миссис Смиитт поворачивается и смотрит на меня, в левой руке у нее очищенная картофелина, а в правой нож. Она улыбается:
– Грейс говорит, что ваша семья не ходит в церковь. Может быть, ты захочешь как-нибудь пойти с нами. В нашу церковь.
– Да, – подхватывает Грейс, которая поднялась за мной из подвала. И мне нравится то, что они предлагают. Воскресным утром Грейс будет только моя, мне не придется делить ее с Кэрол или Корделией. Грейс по-прежнему самая желанная из всех нас, мы все хотим заполучить ее себе.
Когда я рассказываю родителям, они начинают беспокоиться.
– Ты точно хочешь пойти? – спрашивает мать. Она говорит, что в детстве ее заставляли ходить в церковь, хотела она того или нет. Ее отец был очень строгий. Ей не разрешали свистеть по воскресеньям. – Ты уверена?
Отец говорит, что он против промывания мозгов детям. Когда вырастут, сами решат насчет религии, которая, кстати, как он считает, несет ответственность за кучу войн и кровопролитий, а также ханжества и нетерпимости.
– Каждый образованный человек обязан знать Библию. Но тебе только восемь лет.
– Почти девять, – поправляю я.
– Ну что ж, – говорит отец. – Не верь всему подряд, что там будут рассказывать.
В воскресенье я надеваю одежду, которую мы с матерью выбрали вместе – шерстяное платье в темно-синюю и зеленую клетку, белые рубчатые чулки, которые подвязками прикрепляются на жесткий белый хлопчатобумажный пояс. У меня стало больше платьев, но я, в отличие от Кэрол, не хожу с матерью покупать наряды. Моя мать терпеть не может ходить по магазинам. Шить она тоже не умеет. Мои вещи – с чужого плеча, их отдает нам какая-то подруга матери, у которой дочь крупнее меня. Все ее платья сидят на мне плохо: у одного подол провисает, у другого рукава сборят под мышками. Мне кажется, что с платьями так и должно быть. Белые чулки, впрочем, куплены, и от них тело чешется даже сильнее, чем от коричневых, которые я ношу в школу.
Я вытаскиваю из красной пластиковой сумочки свой стеклянный шарик, синий «кошачий глаз», и перекладываю его в ящик письменного стола, а в сумочку кладу пятицентовик, который мать дала мне на пожертвование. Я иду по изрытым улицам к дому Грейс. На ногах у меня туфли – для сапог еще не сезон. Я звоню, и Грейс открывает. Должно быть, она меня ждала. На ней тоже платье и белые чулки, а в косах – темно-синие банты. Она оглядывает меня с ног до головы:
– У нее нет шляпки!
Миссис Смиитт, стоящая в прихожей, рассматривает меня так, словно я сиротка, подкинутая ей на порог. Она посылает Грейс наверх на поиски головного убора, и Грейс приносит старую темно-синюю бархатную шляпку с резинкой под подбородок. Она мне мала, но миссис Смиитт говорит, что на этот раз сойдет.
– В нашу церковь не ходят с непокрытой головой, – говорит она. Она делает упор на слове «нашу», словно подчеркивая, что есть на свете и другие церкви, более низкого ранга, простоволосые.
У миссис Смиитт есть сестра, которая тоже идет с нами в церковь. Ее зовут тетя Милдред. Она старше миссис Смиитт и работала миссионером в Китае. У нее такие же красные руки с выпирающими костяшками, такие же очки в железной оправе, такие же косы короной, как у миссис Смиитт, только совсем седые, и волосы на лице тоже седые, и их больше. Обе женщины в шляпках, похожих на кое-как перевязанные свертки фетровых лоскутов с торчащими в разные стороны углами. Я видела такие шляпы в каталогах «Итона» несколько лет назад, но там их носили модели с гладкими волосами, высокими скулами и блестящими темно-розовыми ртами. На миссис Смиитт и ее сестре эти шляпы смотрятся немного по-другому.
Когда все Смиитты надевают пальто и шляпы, мы залезаем в их машину: миссис Смиитт и тетя Милдред впереди, а я, Грейс и ее две младшие сестры сзади. Хотя я все еще боготворю Грейс, в моем обожании нет ничего физического, и мне неловко, что меня так сильно прижало к ней, когда мы втиснулись вчетвером на заднее сиденье ее машины. Прямо передо мной сидит за рулем мистер Смиитт. Он коротенький, лысый, и мы его почти никогда не видим. Та же история с отцом Кэрол и с отцом Корделии: в повседневной жизни семьи они почти невидимы.
Мы едем по пустым воскресным улицам, следуя на запад вдоль трамвайных путей. Смиитты продышивают весь воздух в машине, и он начинает пахнуть чем-то несвежим, как высохшая слюна. Церковь большая, кирпичная; на крыше вместо креста какая-то штука, похожая по форме на луковицу. Она крутится. Я спрашиваю про это – вдруг оно имеет какое-то религиозное значение, но Грейс говорит, что это просто вентилятор.
Мистер Смиитт паркует машину, мы вылезаем и входим в церковь. Мы садимся в ряд на длинную скамью из темного блестящего дерева. Я впервые в жизни попала в церковь. В ней высокие потолки, а с них свисают на цепях люстры с рожками как цветки вьюнка. Впереди – простой золотой крест и ваза с белыми цветами. Дальше – три витражных окна. В среднем, самом большом, изображен Иисус в белых одеждах, с распростертыми руками, и над ним парит белая птица. Внизу написано толстыми черными библейскими буквами, с точками между словами: «ЦАРСТВО·БОЖИЕ·ВНУТРЬ·ВАС·ЕСТЬ». В левом окне Иисус сидит боком, в розовато-красной одежде, и на его колени облокотились двое детей. Под этой картинкой написано: «ПУСТИТЕ·МАЛЫХ·СИХ». У обоих Иисусов вокруг головы нимб. На окне с другой стороны – женщина в синем, без нимба, лицо ее частично прикрыто белым платком. Она несет корзину и тянется вниз одной рукой. У ее ног сидит мужчина с чем-то вроде бинта на голове. Подпись: «НО·ЛЮБОВЬ·ИЗ·НИХ·БОЛЬШЕ». У всех трех окон – бордюры, на которых вьются винные лозы с гроздями винограда и разными цветами. На улице день, и витражи светятся. Я не могу оторвать от них глаз.
Тут слышится органная музыка и все встают, и я теряюсь. Я слежу за Грейс – встаю, когда она встаёт, и сажусь, когда она садится. Когда поют, она открывает сборник гимнов и показывает пальцем строку, но я не знаю ни одного мотива. Потом нам приходит пора идти в воскресную школу, так что мы выходим цепочкой вместе со всеми остальными детьми и спускаемся в подвал.
У входа в помещение воскресной школы висит грифельная доска, на которой кто-то написал цветным мелом: «Здесь был Килрой». Рядом нарисован человечек, выглядывающий из-за забора, у него видны только глаза и нос.
Занятия в воскресной школе, так же, как и в обычной, проходят в классах. Только учителя моложе: наша учительница – подросток постарше в голубой шляпке с вуалью. В классе одни девочки. Учительница читает нам библейскую историю про Иосифа и его разно- цветный хитон. Потом она слушает, как девочки декламируют наизусть то, что им надо было выучить к этому уроку. Я сижу, болтая ногами. Я ничего не учила. Учительница улыбается мне и выражает надежду, что я теперь буду приходить каждую неделю.
После этого все классы собираются в один большой зал с рядами серых деревянных скамеек, вроде тех, на которых мы сидим в школе, когда обедаем. Мы рассаживаемся на скамьях, свет гаснет, и на пустую стену в дальнем конце зала начинают проецировать цветные слайды. Это не фотографии, а картины. Они старинные на вид. На первой изображен рыцарь, едущий через лес; он смотрит наверх, на луч света, падающий в просвет между деревьями. Кожа у рыцаря очень белая, глаза большие, как у девочки, а рука прижата к месту, где под латами, похожими на автомобильный бампер, вероятно, находится сердце. Под большим светящимся лицом рыцаря видны настенные выключатели, часть досок, которыми обшиты по низу стены, и угол пианино.
На следующей картине оказывается тот же рыцарь, только поменьше, а под ним написаны слова, которые мы поём под тяжелое буханье аккордов невидимого пианино:
- Дай мне сил, Христос Господь,
- Искушенья побороть,
- Помоги мне чистым быть,
- Всей душой Тебя любить.
- Муки все претерпевать,
- Слабым, бедным помогать.
- И спасения искать,
- В небеса войти дерзать,
- Где пресветлый облик Твой,
- Где и счастье, и покой![3]
Я слышу, как рядом со мной, в темноте, поет Грейс – ее голос карабкается всё выше и выше, тоненький и пронзительный, будто птичий. Она знает все слова. Она и заданный ей отрывок из Писания тоже знала наизусть. Когда мы склоняем головы, чтобы помолиться, я чувствую, как меня переполняет благость. Я чувствую, что меня сочли своей, приняли в круг. Бог любит меня, кто бы он ни был.
После воскресной школы мы идем обратно в церковь, на заключительную часть службы, и я кладу свой пятицентовик в тарелку для сборов. Происходит нечто, называемое славословием. Потом мы выходим из церкви, втискиваемся в машину Смииттов, и Грейс осторожно спрашивает:
– Папа, а можно мы поедем посмотрим на поезда?
Младшие девочки с показным энтузиазмом подхватывают:
– Да, да!
– А вы хорошо себя вели? – спрашивает мистер Смиитт, и девочки снова кричат: «Да, да!»
Миссис Смиитт издает неопределенный звук.
– Ну ладно, – говорит мистер Смиитт девочкам. Он ведет машину на юг по пустым улицам, вдоль трамвайных рельсов, мимо одинокого трамвая, похожего на скользящий по воде остров, и наконец мы видим вдали плоское серое озеро, а под собой – мы стоим на краю чего-то вроде невысокого обрыва – плоскую серую равнину, покрытую железнодорожными путями. По этой железной равнине движутся в разные стороны несколько поездов. Поскольку сегодня воскресенье и поскольку наблюдение за поездами – явно привычное воскресное занятие для Смииттов, мне начинает казаться, что железнодорожные пути и сонные, тяжело грохочущие составы имеют какое-то отношение к Богу. Еще мне ясно, что на самом деле посмотреть на поезда хочет вовсе не Грейс и не ее младшие сестры, а сам мистер Смиитт.
Мы сидим в припаркованной машине, глядя на поезда, пока миссис Смиитт не говорит, что обед погибнет. Тогда мы едем обратно в дом Грейс.
Меня приглашают на воскресный обед. Я впервые остаюсь на трапезу у Грейс. Перед едой она ведет меня наверх, помыть руки, и я узнаю еще кое-что про ее семью: здесь разрешают использовать только четыре квадратика туалетной бумаги. Мыло в ванной черное и шершавое. Грейс говорит, что оно дегтярное.
На обед – запеченный окорок, фасоль в томате, запеченный картофель и пюре из тыквы. Мистер Смиитт режет ветчину, миссис Смиитт накладывает гарнир, и тарелки передают по кругу. Я начинаю есть, и младшие сестры Грейс смотрят на меня сквозь очки.
– В нашем доме принято воздавать хвалу перед едой, – говорит тетя Милдред, улыбаясь с напором. Я не понимаю, о чем она. У нас дома принято говорить «Спасибо», когда встаешь из-за стола. Но все Смиитты склоняют головы, складывают ладони вместе, и Грейс произносит:
– За все блага, что мы сейчас получим, да преисполнит нас Господь истинной благодарности, аминь.
А мистер Смиитт говорит:
– Ням-ням хорош, питьё хорош, Боженька хорош, давай ням-ням.
И подмигивает мне.
– Ллойд! – восклицает миссис Смиитт, и мистер Смиитт заговорщически хихикает.
После обеда мы с Грейс сидим в гостиной на бархатном диване – на том же самом, где отдыхает после обеда миссис Смиитт. Я сижу на нем впервые, и мне кажется, что меня допустили к чему-то открытому не для всех, вроде трона или гроба. Мы читаем газету, принесенную из воскресной школы. В ней есть история Иосифа и другая, про мальчика, который украл деньги из тарелки для сборов, но потом раскаялся и стал собирать макулатуру и бутылки в фонд церкви, чтобы возместить украденное. Иллюстрации в газете – черно-белые рисунки пером, но на первой странице – цветная картинка с Иисусом в пастельных одеждах, окруженным детьми. Они из разных народов – коричневые, желтые, белые, все чистенькие и хорошенькие, некоторые держат его за руки, а другие глядят на него большими обожающими глазами. У этого Иисуса нет нимба.
Мистер Смиитт дремлет в бордовом кресле, выпятив круглый живот. В кухне звенят тарелки. Это миссис Смиитт и тетя Милдред моют посуду.
Я попадаю домой уже под вечер, в руках у меня красная пластиковая сумочка и газета из воскресной школы.
– Ну что, тебе понравилось? – спрашивает мать все так же обеспокоенно.
– Тебя чему-нибудь научили? – спрашивает отец.
– Мне задали выучить псалом, – важно говорю я. Слово «псалом» звучит как тайный пароль. Я слегка обижена. Оказывается, родители многое от меня скрывали – такое, что нужно знать. Например, шляпки: как могла мать забыть про шляпку? О Боге мне доводилось слышать и раньше – он упоминается в наших школьных утренних молитвах и в гимне «Боже, храни короля». Но оказалось, что этим дело не ограничивается: сколько текстов надо вызубрить, гимнов разучить, пятицентовиков положить в тарелку для сборов, чтобы Бог был по-настоящему тобой доволен! Однако мысль о рае меня беспокоит. Сколько мне будет лет, когда я попаду туда? А что, если я умру старухой? В раю я хочу быть такого возраста, как я сейчас.
У меня есть Библия – я взяла ее взаймы у Грейс, и это не самая лучшая ее Библия, но следующая по порядку. Я отправляюсь к себе в комнату и зубрю: «Небеса поведают славу Божию, творение же руку Его возвещает твердь. День дни отрыгает глагол, и нощь нощи возвещает разум».
У меня в спальне по-прежнему нет занавесок. Я выглядываю в окно, смотрю вверх: вот небеса, вот звезды – там же, где и всегда. Но они больше не кажутся мне холодными, белыми и далекими, как спирт и эмалированные лотки. Теперь мне кажется, что они зорко следят за мной.
19
Девочки стоят в школьном дворе или сверху на склоне, небольшими кучками, они шепчутся между собой, шепчутся и плетут на шпульках. Сейчас это модно – шпулька с четырьмя вбитыми в конец гвоздями и моток шерсти. Нитку наматывают петлей на каждый гвоздь по очереди, на два оборота, а потом пятым гвоздем нижние петли накидываются на верхние. С другого конца шпульки свисает толстый круглый шерстяной хвост, который потом надо закрутить, как раковину улитки, и сшить из него коврик – подставку для заварочного чайника. У меня есть такая шпулька, и у Грейс и Кэрол тоже, и даже у Корделии, хотя ее плетение безнадежно запутано.

