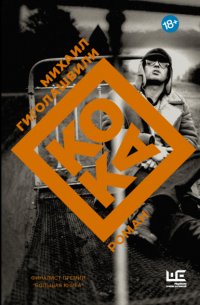Читать онлайн Тайный год бесплатно
- Все книги автора: Михаил Гиголашвили
© Гиголашвили М. Г.
© ООО «Издательство АСТ»
* * *
В 1575 году от девственного Рождества Спасителя царь и великий князь всея Руси Иван IV Васильевич внезапно сложил с себя все титулы, отрёкся от престола, посадил на царство Симеона Бекбулатовича, выкрещенца из татар, потомка Чингисхана, сам же с семьёй на целый год скрылся от людских глаз. Причины сего поступка доселе неясны и туманны.
Николай Костомаров. Русская история
Далече мне с тобою путешествовать, страшный и грозный Ангеле, не устраши меня, маломощного!
Даруй мне, Ангеле, смиренное своё пришествие и прекрасный приход, и тогда я вельми возрадуюсь!
Иван Грозный. Канон Ангелу Грозному, воеводе
Часть первая. Страдник пекла
Глава 1. Град кровопийственный
…Утро начиналось дурно: спал нехорошо, с просыпами, сердечные колотья заели, хребет ныл, шишки на ногах тянули. И сон противный никак не отцепится – будто бредёт он один по дороге, а навстречу – покойный дружок Тишата, мелким шажком, словно что-то расплескать боясь. Его голова разрублена пополам, распадается по плечам. Тишата смыкает руками эти половинки, но сходятся они криво, отчего на косом лице вспучивается странная ухмылка – такая была, когда он, Иван, дикий от багрового гнева, в беспамятстве рубанул топором закадычного дружка и рассёк ему голову…
Тишата, смыкая половинки головы, плаксиво нюнит, выдувая кровавые пузыри:
– За что, государь?..
Он кидается ему помочь – и проснулся.
Серое небо в окне. Тихие разговоры за дверью.
Ох, Тишата… Недаром явился…
Кое-как перебрался к образам, с трудом установив колени. Начал молитву, но что-то мешало ему, кроме болей в спине и коленных мозолей. Это был шёпот, откуда-то несущийся. Мыши шуршат? Нет, для мышей светло, они тьму любят, как и тати ночные, что после войн, холеры и опришни участились на дорогах и проездах. Вопль в ночи – убой! Свет в ночи – налёт! Голоса во тьме – грабёж! А он-то думал опришней разбой усмирить! Какое там! После неё-то всё и разъехалось по швам: целые волости стоят сожжены, людишки разбежались, по весям шатаются, зловредством и воровским обманом промышляя. Опришня вышла из-под надзора, стала творить самовольное бесовство и беззаконие, пришлось окоротить её сильной рукой, ибо он есть длань Господня! Но теперь всё кончено – мир ему не нужен, и он миру ни к чему…
Первые дни в Александровой слободе, отчине покойной матушки, прошли в суетах и хлопотне по устройству – без хозяйского глаза и одёжу не постирают, и слуг не разместят, и летнее по шкапам не спрячут – зима на носу, а у них, суетников, всё по углам навалено, чтобы моль жрала да мышь гадила! Лень им сундуки открыть и туда покласть! Пока семью на бабской половине разместил, пока сам во дворце устроился (дворец – название одно: пристройка к церкви в три этажа, на горницы-кельи разбитая), пока охрану наладил – время прошло, а он устал.
Устанешь тут! От жены Анюши помощи мало – всё сидит возле дочери и вздыхает. И от слуг бестолковых хорошего не жди. Вчера сам охрану по крепости расставлял – хотя зачем она, охрана? Был царь – стал человек. А человеку много ль нужно? И он, Иван, кому нужен? Хватит, отцарствовался. Пусть теперь другие жилы рвут, а он сам по себе будет… Дел много найдётся… В семье, как в державе, всё по нужным местам определить надобно, тогда и крепко будет. А чуть не то – и съедет набок, словно треух с башки упойного писаря, как давеча: отхожее место для стрельцов правильно поставить не сумели – так косо возвели, что нужник, простояв малость, рухнул в выгребную яму, утопив воинника с казённым оружием.
А вчера шёл по двору, видит, какая-то прачка из портомойни вместе с клубом пара выскочила, зыркнула на него – и за угол, как от бешеной собаки. Что за напасть? Все от него шарахаются, будто он идолище поганое. Чуть руку поднимешь – отшатываются, а он крестное знамение сотворить хотел! Чуть пальцем двинешь – ниц падают, а он дитё по головке погладить вздумал, не более… «Вдали от тебя замерзаешь, а рядом – горишь!» – выхрипнул Федька Басман, на плаху всходя в шутовском летнике[1]. «Ты ж не сгорел, а куда уж ближе был?! А меня сжечь хотел в огне адовом, вот и получай, изменщик, душепродавец!» – ответил ему тогда. А ныне сказал бы: «Со мной тепло и хорошо было вам всем, а без меня – холодно и боязно будет!» Пусть, пусть теперь помёрзнут, охолодают и оголодают без него! Узнают, каково с такой махиной управляться, поляка гнать, шведа в узде держать, с татар ясак взимать, крымцов на султана науськивать!..
Прибыв в слободу, собрал дворовых и охрану возле Распятской церкви и самолично сообщил, что с сего мига он – не царь всея Руси, а простой малый князь. А царь сидит в Кремле, его величество Семион Бекбулатович, его почитать, государём величать и всяческие почести оказывать, а перед ним, Иваном, и шапок ломать в холод не надо:
– Ещё занеможете, чего доброго, а мне о вас печься потом, лекарствием поить! Обойдусь без ваших вшивых голов! Я ведь простой княжонок, Иванец Васильев Московский… Кто меня царём назовёт – батогами одарю! Вы свою работу исправно делайте, а я свою буду трудить…
Онемевший люд повалился ниц, не смея поднять глаз. Был слышен перешёп:
– Как не царь? А кто? Княжонок? Шапок не ломать? Какой Бекбулат? Что за напасть, Господи? Работу? Где ж видано, чтоб царь работал?
Переждал и добавил для ясности:
– А ежели прознаю, что царя Семиона татарской собакой, басурманом или ещё каким бранным словом шельмуете – языки враз поотрубаю и псам выкину! И лишнего люда чтоб в крепости не валандалось! Поймаю какого прожигу без дела или праздную шлынду – запорю!
Это всем было понятно. Людишки стали расползаться – кто на коленях задом пятясь, кто и ползком. А самые умные уже вполголоса объясняли, что обижен-де царь на московских бояр, на важных шишей, тиунов, воевод и всяких блудоумов – он их после измен и великого пожара простил, а те опять шебуршиться зачали. Вот он и ушёл от них сюда, в родное гнездовище, где ещё дитём бегал, старики это помнят… Отогреть и обогреть его надобно, а то зело холодно там, на Москве: в Кремле, бают, велики домины строены, где залы огромны, окна стрельчаты и цветны, тысячи свечей горят, а по углам бардадымы усаты и брадаты в два аршина ростом понапоставлены для порядка и услуг.
Шёпот не проходил.
Кряхтя, опираясь о посох, со стоном встал с колен и, в ночной рубахе, босой, приник к двери, без звука приоткрыв её на узкую щель (с малолетства умел, сильно сжав дверь или оконную раму, приказать им не скрипеть – и они повиновались, давая быть подслуху и подсмотру).
Так и есть: слуги – Прошка и его шурин, Ониська, знающий красивопись, закусывают калачами и сплётки про него накручивают. Ониська, новый человек в покоях, слушал, а Прошка разорялся почём зря – да ещё о чём, негодник? О царских болячках! О том, что каждую ночь царь парит ноги в окропе, где растворены горчица, мята, лимон и какая-то алоя, а эта алоя растёт в особой кадке на Сытном дворе и была подарена Салтанкул-мурзой, пока тот, собака, к крымчакам не перекинулся, хотя опосля и был выкран, привезён в Москву и посажен на кол.
– А через день царь в бочке сидеть изволит – там горячая вода с солью из святых палестин… Вода густая, что твоя сметана, шипуча, обжигуча, фырчет и пузырится…
– А чего с ноги? Раны, что ль? – спросил Ониська, подливая себе квас и разламывая калач, на что Прошка важно оживился:
– Какое там! У царя хидагра, еле ковыляет, вскорости ходить не сможет, солями просолился наскрозь… Перчёное да солёное охотно кушал, к этому его прежняя змея-жена Темрюковна, черкеска проклятая, привадила… Она его и на опришню навела! Страм один, говорит, у нас в Кваквазе каждый княжонок своё войско имеет, а у тебя, великого владыки необъятных земель и неисчислимых толп, даже и двух дюжин верных дружинников не наберётся!
Ониська захлопал глазами:
– Где? На ква-ква… Это чего того?
Прошка сгрёб и закинул в рот крошки со стола:
– А! Это там, далеко… где брадатые люди бесчинства творят… Вот с того и пошла эта кутерьма – набрал тьму молодцов: это-де мои верные государевы люди, опричь их мне ни опоры, ни доверия нет. А все другие – земщина, погана и продажна, топчи её, стриги как овцу, полосуй палашами, мордуй по-всякому! Так-то и пошла мясобойня! А ещё царь часто лишаями идёт – на спине гнойник надысь вылупился важный…
На это Ониська перекрестился:
– Господи Иисусе Христе! А чего?
Прошка вытянул ноги на лавку:
– А кто ж его знает! Дохтур Елисей, нехристь, что царя пользует, ну, немчин, звёздная гляделка, без него царь никуда ногой, так тот немчин сказал мне на ухо, чтобы я царскую одёжу сам особо не трогал и только одной какой-нибудь портомое на стирку и полоскалку давал. А почему – не сказывал: так делай, говорит, здоровее будешь. А главное, велел ту портомою ему потом показать. Неспроста сие!
Со двора донеслись скрипы колёс и крики возниц.
Прошка кинулся к окну, поглядел:
– Зерно на мукомольню повезли… – Вернулся на лавку. – Всем хорош наш государь, только вшей не терпит, за каждую по мордасам брязгает… А как их извести, когда их – чёртова пропасть? И площиц, и мокриц, и гладышей, и слепняков, и тараканов! Все они нам Господом в наказание дадены, и как нам теперя? А он – нет, ярится, рубахи меняет по пяти раз на дню… Зело брезглив стал: чуть увидит вошь или клопа – сразу мне по рогам чем попало хлещет, будто я их напускаю! А намедни Федьку-кухаря за таракана в каше тыкнул в лягву ножом до крови и в придачу мышь дохлую сожрать заставил.
– Сожрал, чего? – застыл Ониська, отложив калач.
– Сожрёшь, когда над тобой ослоп громовой завис!
Ониська сказал, что против вшей он защиты не знает, но против тараканов есть верное дело: у них в деревне старик Митрич умеет заговором эту нечисть выводить: берёт берёзовый веник, входит в избу, шепчет что-то, обмётывает пол, стены, вещи. После веник в угол ставит, тараканы на него сползаются, и через ночь веник шевелится, аки пчелиный рой, – его тут же с молитвой надо в печь кидать, он с треском вспыхнет, вонючим дымом обдаст – и всё! Верное дело.
Про тараканов надо запомнить.
Стоять босому стало холодно, вернулся в постели.
Лежал между сном и явью, вздрёмывая и урывками думая о том, что в этих докучных попыхах по устройству день с ночью местами поменялись.
До полудня отсыпался, от постылых дел прячась и веля всех гнать взашей, в Москву переправлять, где оставленная им Удельная дума – Нагие, Годуновы, Курлятевы, Безнины, Черемисиновы – вершила главные дела и следила за Семионом Бекбулатовичем, хотя сия покорная овца никогда не взбрыкнёт – от неё, кроме пуков и рыгов, ожидать нечего. Этот татарский князь, Сеин-Булат-хан, потомок Чингисхана, в крещении Симеон, а царь называл на свой лад – Семион, был выбран им в местоблюстители и посажен на трон как за родовитость, так и за кроткий нрав, добрую душу и верное сердце, не способное на большие подлости, а в малых мы все замешаны…
Но, слава Богу, на Москве потишело, опришные заторщики и подбивалы высланы или казнены, объезжие головы следят за порядком, ночами исправно уличные рогатки замыкают, от разора жителей оберегая, а днями по городу и посадам рыскают, всякое ворьё и грабьё успешно ловя, – в подвалах Разбойной избы уже не повернуться, мест нет, кандальникам снаружи, как цепным псам, под дождём куковать приходится!
Ночами копался в келье, читал Святое Писание, переглядывал бумаги, коих собралось множество за то время, что от царства отошёл и не только престол, но и всё другое покинул, что его к миру привязывало и обузой стало, словно каменюга на шее утопца. Кое-что рвал, кое-что прятал в рундуки и по шкапчикам, а кое-что и сжигал – не всё человечьим глазам видеть надобно.
Летописи истово читал, а кое-где и правил, чтоб потомкам правда досталась, а не писцовая гиль. Одну только Царственную книгу в полторы тысячи листов так обильно обчиркал, что рука чуть не отсохла!
И письма перечитывал, ни на одно не отвечая. А над теми письмами, где с него другие государи и заимодавцы кучу долгов требовали, только посмеивался: «Какой с меня спрос? У вас кто деньги брал – московский царь? Так и идите к московскому царю Семиону – посмотрим, что он вам отдаст, а я ныне – никто, так, сбоку припёка, с меня всё снято, смыто как с гуся вода! Был царь – да весь вышел! Нате, выкусите, пьявкоротые и гадовидые! Нет меня – ни для вас, булычей, ни для врагов, ни для друзей!»
Да и друзей осталось – кот наплакал. И что за друзья? Кто зависть в душе, кто корысть в сердце лелеет, кто изменные подлости готовит. Или просто так, за здорово живёшь, в казне, словно в бездонной бочке, своими воровскими лапами шарит и шурует, тащит что ни попадя. Ох, любят людишки к казне льнуть – батогами не отгонишь! Вот со скрипом сердечным последних лихоимцев и ворюг пришлось на Пасху по плахам разложить – а опять доносят, что всюду покражи замечены… Дашь слабину – тут же ужрут насмерть!
Одно хорошо – с главными злодеями разделался, с опришней за все её подлости, трусости, самовластье, сдачу Москвы, пожар, потачки крымцам, самовольные грабежи, за все её происки и мерзости расчёлся, квит-квитной, и концы обрубил! Ныне надо как бы поумнее вернуть земщине то, что опришней отнято было. Жизней не воротишь, Бог только раз вдувает дух в прах, но добро, домы и сёла возвращать надобно, чтоб не зачахла земля на корню.
Нет больше опришни! И слово такое настрого запрещено! А кто скажет – тут же язык с телом врозь! Пусть земщина из пепла восстаёт и строится, а он будет жить тут, в матушкиных угодьях, вдали от вельзевуловой Москвы – простой слобожанин, княжонок Иван Васильев с чадами и женой Анюшей да с убогими приживалами и юродами. И без греха дни свои закончит. Что ему в миру? Одна мотовня, болтовня трескучая, суета и маета, распри и расплюйство! Уйти скитником – и душу спасти! Ведь и так получернец, в Кирилловом монастыре у владыки рукоположения просил – и получил, вместе с именем Иона и обещанием принять в обитель, когда жизнь мирская опостылеет и до ручки доведёт. Да, чернецом в скит, смирением душу спасти, ещё есть время, авось Бог простит – у него ведь сотня праведников за одного грешника идёт, а уж такой греховодник, как он, за многие тысячи сойдёт!
Да, прошли сытые годы, ныне бремя худых времён настало: пожары, войны, холера, чума, людоедство, ложь, безверие… Всё, хватит! Довольно! Раз тут, на земле, ничего ни кнутом, ни пряником исправить невмочь, то зачем за гранью земной жизни ответствовать за всё это перед таким Судиёй, коего мздой не соблазнить и золотом не купить? Не лучше ли о душе вовремя позаботиться, чем отдавать её бесям? Беси душу крючьями стянут в ад и там, в своём логовище поганом, сытное пиршество из неё устроят! Ежели беси веруют и трепещут перед Господом, то что же людишкам остаётся, хоть бы и царям? Молитва, плач и покаяние – и более ничего. Самые великие мужи от мира уходили, а он их ничем не хуже! Мудрость бежит от мира, жаждет уединения и покоя перед большой дорогой, а грехи нанизываются на душу, как мясо на вертел; сымешь их в исповеди, ходишь чист, а потом опять налезают. Грешить и каяться рождён человек, за Адамов грех отвечая и свои к тому добавляя в изобилии. Только одиночество собирает душу воедино. Речено Исааком Сириянином: возлюби молчание, ибо оно приближает тебя к плоду!
Но сколько бы ни говорил себе, что он – простой человечишка, княжонок Ивашка Московец, что у него нет никаких забот, кроме разбора старинных книг в либерее бабушки Софьюшки, пения на клиросе и хлопот по семье, в глубинах души не мог забыть, что он – богоизбранное существо, скипетродержец, хозяин всего, докуда дотягиваются глаз и слух, что на него взвалено до конца его скорбных дней печься о державе и бить врагов, со всех сторон глазьми злобесно зыркающих… Недаром матушка Елена учила его, восьмилетнего, что ему должно держать в голове две главные мысли: служить Богу и истреблять врагов Руси!..
Уловив из-за двери новые звуки, сунул ноги в мягкие чёботы и прокрался к щели, где стал алчно (как и всё, что делал) вслушиваться в болтовню слуг. Опять Прошка-пустобрёх! Никак своё квакало не зажмурит! Начал теперь о самом уж сокровенном:
– И в омрак падать стал! Ономнясь как стоял – так и грохнулся на мостницы! Я ему скорее ноги кверьху задрал – ничего, отошёл, а то я думал – всё… Ежели увидишь, что он оседает, опадает – тут же ему ноги наверьх задирай…
Ониська перестал жевать: как это – царю ноги задирать? Прибьёт же!
Прошка снисходительно-ласково потрепал шурина по щеке:
– Да не, он в тот миг покорен, как курица под ножом! Сам же не свой, без памяти… Потом ещё «спаси тя Бог» скажет… А ноги кверьху тянуть – штоб кровища от ног к голове прилилась и его в себя вернула! Вот хуже, когда царь сам с собой гутарить начинает – сядет в углу и бубнит, и бубнит, ажно страх берёт страшенный… Тогда к нему не подходи!
– А чего того – бубнёж? Молится? – предположил Ониська.
Прошка объяснил, отламывая от калача румяные бочки́:
– Нет, какое там! Пока в красном угле перед иконами шебуршит и вздыхает – то тих и леп, а как из угла вылезет – так другой делается: на лицо темнеет, бухнется на лавку – и давай сам с собой лопотать. Да так гневно! Меня за дверью дрожь хватает! И руками машет, и на пол что ни попадя кидает! Раз, слышу, кричит: если Ты есть, то почто терпишь меня, пса злосмрадного, и дела мои грешные? Почему не разразишь меня на месте, в столп соляной не обернёшь, как жену Лотову? – Прошка вскочил и замахал руками, рубя воздух. – Почему не расколешь молнией надвое, не рассечёшь небесной секирой, как я, неразумный зверь, рассёк надвое свою державу? Почто прощаешь мне грехи мои тяжкие, скользкие, кровью наболтанные, не казнишь? Всё прах и пыль и суета сует? И ложь, и суесловие, и обманный морок? Если я ещё жив – то Ты мёртв!
«Если тут такое разбалтывает, то и с другими язык на привязи держать не будет! Заткнуть ему глотку навсегда!» – подумал в ярости, однако стерпел. Но чем дальше – тем обиднее выявлялись вещи, в коих сам себе боялся признаться.
– И уставать стал быстро – раньше день-ночь в делах был, а теперя чуть что – присаживается отдыхать, очи смежив. И злобится часто. У него от злости даже наплечные наколы вспучиваться стали…
Тут уж не выдержал, перехватил посох и, распахнув настежь дверь, ринулся на Прошку. Стал рукоятью дубасить его по спине, прикрикивая:
– Ах ты, вошь кровоядная! Вот будет тебе секреты разбалтывать, раб ползучий! Исполнять и молчать должен, а ты языком мелешь, собака иудомордая, всякую чушь несёшь, хабалда! Это кто же немощен и стар? Я? Вот узнаешь, выродок! На ви́ске болтаться будешь, доводчик подлый! Любой пёс своего хозяина любит и бережёт, а не лает, как ты, зломесок, дьяволов оглядчик!..
Бил тяжёлым набалдашником. Прошка катался в ногах, Ониська отпрыгнул к стене. Но посох становился всё тяжелее. Удары – слабее. Вдруг обвалился на лавку, в голос сетуя на то, что новый грех на душу навернул. И так – всё время! Злят и изводят, на дурное вызывают, охальники, клеветники, ироды продажные вредоносные!
Прошка с Ониськой отнесли его на постели, исчезли. Было слышно, как стучат ведром, – Прошка обмывал лицо. О Господи! Не хотел никого обижать – и вот… Сам виноват, поделом пустобрёху!
– Святый ангеле, грозный посланниче, избави меня от суетного жилища сего! О Царице Владычице, сирым питательница и обидимым заступница и больным надеяние, и мне, Ивашке Васильеву, грешному, будь помощница и спасительница!
Постепенно молитва вытеснила ярость. Гнев стал уползать из сердца.
Согреваясь под периной, лежал тихо, уставившись в карту на стене.
Это карта Руси – подарок китайского богдыхана: на буйволиной шкуре из бисера выложены границы, из рубинов – города, из малахита – реки, из раковин – горы, из изумруда – озёра. Только лукавый китаец немного сдвинул границы в свою пользу. Ну ничего, пусть тешится. Главное – всамделишные межи под охраной, а богдыхану будет шиш, если сунется в страну Шибир. Да, преогромный троеперстный сатанаилов шиш тебе, узкоглазый ходя с косицами, а не страна Шибир, куда уже с моей стороны Строгоновы вошли и как голодные псы в землю вцепились – своего не отпустят.
О, хитрое и вкрадчивое Китайское царство! Лучше с ним не якшаться – Бог с его дарами, травой ча, лимонами, шёлком, посудой и безделками! Прибывает раз в год от них посольство – и хватит! Прошлый раз письмена от своего богдыхана привезли, где тот пишет, давай-де объединим наши державы и возьмём в свои руки весь мир. Заманчиво! Да как, если границы на востоке неизвестны: свои ещё кое-как различаем, а уж китайские… Где их державы начало, где конец – неведомо! Как с такой ползучей страной объединяться? И хан Кучум взбунтует! И богдыханы китайские зело злы, себя за богов выдают, а это уж всем ересям ересь! А ну станет такой требовать, чтобы ты перед ним на колени пал, – он же бог, а ты только царь? Нет уж, пусть они своими алтан-ханами повелевают, а мы у себя свои порядки наводить будем. С ханом Кучумом бы справиться, а уж после за дальние межи заглядывать.
Часто стоял перед этой картой, озирая своё царство и пытаясь представить себе, каковы его просторы и пределы на самом деле, какие люди, звери, птицы населяют сии дальнеконные города и веси…
И концы державы лежали в дымке, были размыты, двигались как живые: сего дня – тут, а завтра – уже там, всё дальше и дальше, во славу Святого Креста и Господа Бога, Царя Царей и Господаря Господарей! И он, радуясь величию и обилию Руси, летал мыслью над своей землёй, разглядывая всё подробно и отчётливо, как на ладони.
А потом, улёгшись в постели, вдруг терял это орлиное зрение и видел себя больным слабым одиноким стариком с редкими волосами, с желваками на плечах (особо вспухали к весне и держались до морозов), с болями в спине, с тухлым запахом изо рта (против него были бессильны даже мятные полоскания), с треском в костях, с шумом в ушах, с камчюгой в стопах, кою не брали ни солёные воды из палестин, ни алчные пиявки из Мещерских болот.
Теперь у него другой путь. Не намерен из-за ваших вражьих затей вечные муки терпеть! На Страшном-то суде все нагие стоять будем, души в руках держа, а архистратиг Михаил будет их на весы шлёпать и взвешивать. И какая треть души – Божья, зверья или человечья – перевесит две другие, так тому и быть: если Божья – райские кущи уготованы, зверья – спустят к бесям в ад, человечья – уйдёшь в могилу (хотя мамушка Аграфена, убаюкивая его на сон, иногда шептала, что он никогда не умрёт, ибо душа его после смерти в капле дождя вернётся на землю, капля лопнет, душа выпорхнет и в какого-нибудь красивого и здорового младенца влетит: «И будешь ты опять жить-поживать да добро наживать!» – на его же вопросы, будет ли он опять царь, поджимала губы: «Вот это неизвестно…»).
Воистину дорога человеков – до Страшного суда, за коим не будет ничего, кроме страха во тьме, вечной тьмы страха… Посему смириться и раскаяться надобно – более ничего не спасёт! Вот пророк Иона ослушался Бога, бежал – будто от Бога можно спрятаться… Из чрева китова взывал к совести Бога, а только на третий день додумался в своих грехах раскаяться – и тут же был исторгнут чудесной силой из морского зверя! Кто ты есмь, человече, чтобы укорять Бога? Только стелиться перед ним по земле, аки лист осенний, и молча уши души открывать пошире! Слава Господу, что здесь, в Александровке, родной отчине, я скрыт от всех! И пусть никто меня не беспокоит! И не защитник я ничей, и не хранитель, и не решатель, и не радетель, и не делитель, и не учётчик я ничей, а просто человек! Иванец Васильев с семьёй – и всё, дальше пропасть, край, гиль…
Никого видеть и принимать не следует. Кудесник Тит напророчил в этом году смерть московского царя от стрелы: мститель тайно пронесёт сайдак[2] в церковь и выпустит ядовитую стрелу в государя на молебне. Только коснись она тела – и дело кончено, от яду спасу нет! Пусть теперь в Семиона Бекбулатовича целят – он царь московский, а я так, ни то ни сё, сбоку припёка, княжонок Иванец Московский, никому зла не делаю – зачем в меня стрелять?
Отбросил перину, сел, стал озираться. Без Прошки – что без рук.
Прошка был с ним с малолетства – привязался к их шайке, когда они с Клопом, Малютой, покойным Тишатой и другими озорниками по балчугам да сёлам рыскали, наводя шороху, пограбливая, уводя коней, тиская девок и отнимая у мужиков что ни попадя. А Прошка был спокоен, на всякие бузы не очень охотчив, больше любил резаться в зернь или городки, бабки катать или ещё что безобидное. И всегда оказывался там, где был нужен.
Без Прошки – что без ног. Иногда ночами они переругивались: он требовал того и другого, а Прошке было лень бежать на кухню за едой или в погреба за питьём. А однажды, ещё до Казани, так взбесился на Прошку за болтливость, что, выхватив засапожный тесак, загнал слугу в угол, повалил как барана, голову меж колен зажав и на скулы давя, чтоб рот открыть и язык откромсать. Да вбежала на шум покойница жена Анастасия, стала на руки вешаться, – ослабил хватку, Прошка вырвался и сгинул, с неделю на крепостном валу куковал, пока не нашли.
Без Прошки – что без головы: когда какое снадобье пить, что кушать, одевать – Прошка наперечёт знает, даже грамотой шибко владеет, хотя зачем рабу азбука?
Так привык к Прошке, что прощал ему мелкую наглость и крысятное воровство, зная, что на большое тот не посмеет позариться.
Вот сбежал. А кто еды подаст? Под ложечкой уже сосёт, пора бы овсянку и творог пустой, будь он проклят, скушать.
Выбрался на лестницу и стал кричать наверх, пугая охрану и зная, что Прошка сидит в башенке:
– Иди сюда, валандай, не трону!
– Побожись! – донеслось сверху.
– Вот те крест, дурень худоумный!
Прошка появился, с заплывшим глазом и кровавым ухом. Угрюмо буркнул:
– Вишь чего? И за что?
– А язык свой поганый распускать не будешь! И всякую небыль обо мне пороть! Ты, увалень, должен только хорошее обо мне трезвонить, а ты что? Ежели господин твой дурак – то ты и того хуже. А если господин хорош да пригож – то и слуге его почёт от других!
Прошка глянул затравленно, одним глазом:
– А я – что? Сижу, с шурином брешу, учу его уму-разуму, а ты как зверь лютый кидаешься! Давеча дохтура Елисея так отделал, что тот едва дух не испустил! Лежит теперь лежмя второй день – башка раскроена и глаз не видит. Ты этого колдуна Елисея или убей, или не тронь, а то сглаза не оберёшься. Мало тебе болячек? Новой порчи надобно?
– Молчи. Кашу неси.
Прошка ушёл, чтобы вернуться с едой и сообщить: самочинно, без царёва вызова, явился иноземчанин Хайнрих Штаден, чего-то с глазу на глаз сказать имеет. И пара-тройка служилых бояр у крыльца топчется. И какие-то купцы у ворот шум подняли – их стража без проезжей не впускает, а они заладили, что проездные грамоты вместе с товаром сгинули у разбойников, на них где-то напавших.
Поклевал бессольную кашу и пресный творог и велел вести немца, хотя и добавил, играя агатовыми чётками (подарок бывшего друга и брата, а ныне врага и сатаны крымского царя Девлет-Гирея):
– Известны наперечёт сказания этого Штадена – жалиться будет на взятки, поборы, подати, бояр… И всё-то этим фряжским брадобритцам неймётся – и то им не так, и так им не эдак! Всюду им порядок нужен – а где его взять? Сам жажду навести! Гнал бы их всех взашей, да что делать, если лучше немцев наёмников не сыскать? Немцам я доверяю. Немец если говорит, то делает, а не вертит задом, как иные вруны, в лжи погрязшие. Зови!
Явился наёмник. Еле в дверь пролез, да в полукольчуге, да в медном наплешнике[3], да в кольчатой бармице, будто на бой. Топчется, гремит, на одно колено припасть пытаясь.
– Ты бы ещё пушку прихватил, Хайнрих! Что, воевать меня пришёл? Чего ногами переминаешь, как конь в чалдаре[4]? Без твоих поклонов обойдусь, тебе, вижу, не согнуться. Смотри, какие у него латунные запоны[5] на плечах! Сам делал, что ль? И мисюрка начищена, блистает, словно золотая!..
Немец Штаден нелепо застыл, не решаясь приблизиться:
– Да, сама делаль… Мой цар, дай помош, нету сила эти ужусы терпивать… Иван Тарасовитш…
– Какие такие ужасы?
Хайнрих, не отходя от двери, как пёс от конуры, начал рассказывать, что в Хлебном приказе совсем дьяки обнаглели – он был в походе, не успел своих денег за два месяца получить, так с него теперь требуют десятую часть им отломить, не то грозятся вовсе ничего не выдать:
– Ешели, кафарят, путешь рыпатси – сафсем денги не получиш, в мёртфы книга, в смертны графа запишем – иди патом докази, што жифой!
Но этого мало – оказалось, что и в Кормовом приказе тоже совсем распоясались насчёт иноземцев: если им деньгу не дать – самый плохой липец[6] с патокой нальют или того хуже – крысу дохлую или мышь снулую в бочку от зловредства сунут (Штаден, как все иноземцы, помимо ратной службы, приторговывал у себя в шинке пивом и медовухой, кои покупал оптом в Кормовом приказе).
– А если дать им, проклятым, деньгу?
Штаден возмущённо заколыхался, звеня цепочками и ощупывая железные бляхи на груди:
– А если дать – токта миод кароши… А ешели мноко дать – в келлер[7] пустят, сам миод выпирай, какой хош, пошалуста… «Чтопы делать блин, надо скафаротка маслом мазать», – гафарит всекта Ифан Тарасовитш…
Насторожился:
– И сколько просят… для смазки? Ну, за сороковуху хорошего мёду?
Немец надул губы, считая:
– Полталер для Ифан Тарасовитша… И его хелферу[8] – пять-шесть алтынов…
На это бегло и зверовато улыбнулся (отчего в немце вдруг проскользнуло паническое сожаление, зачем он вообще сюда явился). Чётки застыли в руке:
– На пять алтын дюжину куриц купить можно… Значит, дьяк Соймонов, Иван Тарасович, говоришь? Вот кознодей, казнокрад! Сам Приказом заправляет – и такое молвить не опасается, подлюка!
«Будет ужо тебе вдоволь масла на сковородке, гадина ротозадая, сатаны согласник!» – угрюмо подумал про Соймонова (и отца его, князя Балагура, и дядьёв-служильцев хорошо знал по прежнему житью под Шуйскими, они и тогда чем-то хлебным заправляли). И перевёл неприятный разговор:
– Разберусь. Скажу, чтоб тебя не трогали… Ну а каково тебе ныне ходить верным Христу? Ты ж недавно перекинулся, нашу истинную греческую веру принял?
– Та, мой цар, карашо… Как хотишь назыфай, толки в печи не сашивай…
– Тепло ли тебе во мною даренной шубе?
– И шуба кароши, тёплым жарки… Как птюч небесны, зер гуд чустфуй…
Улыбнулся, представив себе, как этот «птюч небесны» недавно на свадьбе у своего соплеменника, выпив пять кубков медовухи, так разошёлся, что сначала разрубил саблей серебряный талер, потом завалил на стол вестфальца Ральфа, стянул с него панталоны и отрезал кинжалом одно муде – якобы за то, что Ральф обокрал его при каком-то пивном гешефте. Будь пострадавший кастрат москвичом – Штаден был бы наказан. А так – пусть рвут себе яйца, меньше нехристей на свет родится! Видно, в их отчинах таковы обычаи: чуть что – яйца рубить! Да и подумаешь – «обокрал»! А что есть гешефт, если не воровство и обман? Один у другого обязательно что-нибудь слямзить должен, а так – чего без выгоды бодаться?
– А ты что с тем муде сделал? Ну, что на свадьбе отхватил? Съел, чай, сырым? Вкусное было яйцо врага?
Штаден покраснел, щёлкнул налобником:
– Найн, чай не пивал, и много фино пивал… О, стид! Стид фелики! Я на та сфатьба сафсем дик стал… Я Ральфу гросс-сатисфакци платил, десять талер, и мудю отдафал… А Ральф свой яиц спиритус ложил и всем покасал… Этот Ральф тоже Иван Тарасовитшу фсегда платиль, штопи кароши миод в келлере брать… Отин рас мало дал – Иван Тарасовитш зер шлехте[9] миод дафал и ишо денга трепофал за шлехте миод!..
От этих слов защемило в горле, сердце окунулось в горячую печаль – опять! Одно и то же! Хуже чумы и холеры! Надоело! Каждый раз за душу цепляет! Землю из-под ног выбивает! Что делать со мздоимцами, что хуже татар и страшнее ливонцев?
Сидел, понурившись, хотя в жалобах немца не было ничего нового: кто же не знает, что дьяки и их служки отмеривают снедь по своему усмотрению, обвешивая и обдуривая всех подряд, а особенно немых иноземцев: если немчин сдуру принимал что дают – хорошо, а коли нет, так не получал ничего, если не подмазывал. Мало того, по сыску тогда ещё живого Малюты злодеями-дьяками варился двойной мёд – хороший и плохой, и на этом змеино-хитро сберегалась третья часть мёда-сырца. И если иноземец одаривал их чем-нибудь, то сам мог идти цедить пробу изо всех бочек – бери, не жаль, только плати… Да и хуже того делалось: если иноземец умирал или погибал, то эти нехристи в Кормовом целый год продолжали заносить в книги все якобы ему выдачи, кои брали себе. Каково-то трупу мёд пить? Все, все растленны разумом! Сердцем очерствели! Ничего, нахлебаются смолы в аду! Кто там иноземным коштом заведует, кроме Соймонова? Путило Михайлович… Хм, дальний свойственник по батюшке, из малых захудалых Рюриковичей шестого коленца… Ну да что – из-за этого терпеть его наглоту беспредельную?
Забыв о немце, ушёл в себя. В голове гневно мелькало, что терпеть нельзя, что надо их всех там, в Приказах, жизни лишить! И не надо далеко прятать те сковороды, на которых прежних дьяков Кормового приказа братьев Скульских, Олексашку и Ондрюшку, за их подлость невыносимую принародно изжарили на Болоте, сказав им перед казнью: «Не вы ли всё подмасливаться хотели? Вот вам вдоволь!» – а Малюта ковшом на длинной ручке кипящее масло зачерпывал, им на спины лил, приговаривая: «Вкусны будут дьяволу – с хрустящей-то корочкой, с поджарочкой!»…
Штаден стоял навытяжку, как в строю, не смея смотреть по сторонам, уткнув глаза в пол: как и другие, знал, что царь иногда в мыслях уходит в иные миры, куда простым людям хода нет.
Вздохнул, огляделся.
При виде налитых щёк и двойного подбородка Штадена пришла на ум жалоба одного стрельца, что, мол, немцы-наёмники не ложками, как все христиане, а двурогими вилками сатанинскими жрут, а эти вилки для того сделаны, чтобы ими бо́льшие куски из общего котла подцеплять и к себе тянуть:
– А ты, Хайнрих, случаем, не вилкой ешь?
Наёмник клацнул зубами:
– Was?[10]
Объяснил:
– Смотри, вилкой не ешь, это придумка сатаны, кою он вашему Лютору подсказал. Ведь «Лютор» – от слова «лютой», не знал? Эта вилка к нам через проклятых поляков лезет… Вилку дьявол придумал, детей ослеплять и людям рты калечить! Бог дал нам пригоршню, а сатанаил – рога… Ешь ложкой, как христианину пристало!
Штаден хлопал глазами, силясь понять, что надо царю.
Вот истукан! Но и немецкий язык нам тоже известен, в селе Воробьёве пленный пастор в детстве учил.
– Nicht mit Gabel fressen! Nur mit Löffel! Hast du Löffel?[11]
Уловив, о чём речь, Штаден полез за голенище:
– Jawohl, ich habe Löffel! Hier![12]
– Ну и хорошо. Гут, гут! Оставь себе – на кой она мне. Ложкой лопай, а не этой двурогой шайтанкой… Красивая у тебя ложка! Покажи! – Взял ложку, заметив на черенке кириллицей гравировку: «СПАСИ БОГ». – Откуда у тебя?
– В Нофгород…
О, Новгород!
В досаде швырнул ложку на пол. И звон её о половицы вдруг ударил ему в уши, как звон колоколов, бившихся в тот день над Новгородом, пока звонари не были сброшены вниз со вспоротыми животами… Опять это слово! Но Новгород сам виноват – почто не хотел подобру в союз идти? И батюшке Василию, и деду Ивану, и всем прежним московским владыкам столько горя приносил! «Новгородская земля – отчина есть моя, изначала от дедов и прадедов наших, от моего предка, светлого князя Володимира, крестившего Русь, первого великого князя в земле вашей, посему же Новгород – мой по праву!» – писал дед Иван сто лет назад, грозил, что будет казнить, коли Новгород на Москву по старине смотреть начнёт. Нет, ничего не помогало! Новгород бунтовал, чванился, на Москву крысился – мы-де умнее и древнее вас! В Польшу одним глазом косил, Старицких на престоле уставить хотел, большие заявы на московский престол предъявлял! Вечевым скопом править желал, чего не будет на Руси по словам пророка о разделённом царстве, кое обязательно падёт, как Вавилон пал, Тир заглох и Рим остыл! Новгородцы всем учителями быть хотели, такали, такали да Новгород и протакали! Сами виноваты во взвергнутой на них опале. По-хорошему не хотели – а я что? Вторую щёку подставлять должен? Если царь свои ланиты всем подставлять будет, то такое царство вмиг рассыплется в прах. Может, христианину и подобает свои щёки направо и налево раздавать, а вот царю, хоть и христианскому, – совсем наоборот… Да и кто слушаться будет битого царя? «Вот битый царь идёт!» – кричать будут и тухлыми яйцами кидаться…
Штаден зазвенел, загремел, пытаясь поднять ложку, а он, стряхнув с души морок мёртвого Новгорода, добавил поучительно:
– И чужой ложкой никогда не шамай, не то во рту заведутся заеды и зело обжорлив станешь! Ложку клади брюшком вверх – так будет защита от злых бесят. Анастасия, жена моя любимая, всегда на крестинах, поев крестильной каши, бросала ложку через плечо: упадёт брюшком вниз – следующим будет мальчик, брюшком вверх – девица…
Подождал, пока наёмник уколыхнётся, и решил спросить его окольно об одном деле, о коем давно замышлял: ему, Ивану, надо кое-куда отправиться, может ли Хайнрих тайно собрать голов сотню верных немцев для охраны?
– Каждому по пять гольд-талеров тут и ещё столько же – на месте.
Штаден ответил, что собрать можно – все только и ждут, где какая новая война проклюнется, чтобы заработать.
– Да не на войну, а на поездку… В дальнюю страну… А есть ли среди твоей братии опытные корабелы, чтобы укромно и без шума три корабля построить?
На это было отвечено, что были бы деньги, а люди найдутся: полно бездельных голландцев в Болвановке – сидят, трубки курят. Из пленных шведов – многие мастера по кораблям. Да и новые полоняне-полячишки кое-чему научились у себя в Гданьске.
– А можно ли найти верных шкиперов, боцманов? Команду для этих трёх кораблей? Но набрать надо тихо, без шуму и гоготу, чтобы никто, а особо на Москве, не знал!
– Да, мой цар, как нет?
– Bist du sicher? Antwortest du mit dem Kopf?[13]
– Jawohl, bin ich sicher, mein velikij Knese![14]
– Ну, тогда ищи людей, человек сто охраны, а корабелов сюда привези. Ты же по-прежнему на Неглинке живёшь? Ну, иди! Скажу в Приказе, чтобы тебя не трогали! И вилкой не ешь, не то подавишься! А подлые дьяки у меня попляшут! Больше тебя обижать не будут! Иди!
Под грохот сапог наёмника приходили колкие и острые мысли: пора перебрать бояр и дьяков, а то забыли, видать, что такое гнев Господень и как разит крестоносный меч! И тех особо взять к ногтю, кто про сеймы, рады и вече разговорцы ведёт, на московский престол посягая и на раскол державы рассчитывая. Ох, прав был тысячу раз князь-инок Вассиан, говоря: если хочешь быть истинным самодержцем, не терпи возле себя никого мудрее тебя самого и, так поступая, будешь твёрд на своём царстве. А ежели держать около себя мудрейших, то поневоле будешь их слушаться, и расползётся держава, как гнилая ткань, ибо у каждого умника – своя мудрость, сколько голов – столько и умов.
Ну да теперь всё равно, пусть сами, как хотят… Пусть дурацкие рады выбирают и перед своими упырями-маестетами[15] хвостами виляют, казнокрады и куроцапы! А я тут семью устрою и пешком в Кириллову обитель отправлюсь – что человеку надо? Кус хлеба, звено рыбы, чашка кваса… Нет, не увидят меня больше в адовой Москве!
Опять Прошка заглянул:
– Мастер Барма из Москвы приволокся. Совета домогается.
Это имя разожгло приятное и доброе: Барма у него совета просит, а сам – мастер великий от Бога, таких не сыскать ни в отцовых, ни в заморских землях:
– Дадим совет, как не дать! Зови!
Вошёл рослый человек в чёрной бороде, волосы горшком подрезаны, лентой стянуты, как у рукодельцев. Правый глаз раздут и красен.
Ласково мотнул рукой на лавку перед собой:
– Что с глазом приключилось?
Барма приложив руку к сердцу и, глубоко поклонившись, остался стоять, потёр веко:
– Ячмень присел, пыли много на стройке.
– Не три, не трожь, не тревожь, сам пройдёт с Божьей помощью. Варёным яйцом моя мамушка Аграфена лечила. И примочки из календулы хороши. Садись!
Полюбил этого мастера ещё со времён Казани, где Барма возвёл такой великий кремль, что все, увидев его, умом обомлели, словами обмелели – это как земной житель такую небесную красу сотворить в состоянии? Не без чудесного тут, не без ангелов небесных!
Потом в Москве был возведён Бармой Покровский храм – в день Покрова Богородицы была взята Казань. Да не просто построил чудо, а с подковыкой: восемь малых куполов напоминали о восьми минаретах казанской мечети, а большой девятый купол над ними вознесён, как вечный господин! Теперь же, после пожара, учинённого проклятым псом Девлет-Гиреем, храм надо отстраивать почти заново, чем Барма и занят.
Да, Бог даровал такого мастера, что премудр и преискусен в своём деле. И не иноземчанин, а свой, сын Постников, городовых и церковных дел мастер. Ему можно доверять – вон сколько денег через его руки прошло, а ничего не прилипло, а могло бы, ох могло бы! Поди узнай, сколько камня, железа, гвоздей, скоб, щебня, раствора на храм уходит, сколько вёдер щей слопали подмастерья, сколько лопат и молотков потребно стройке!
– Что тебя, Бармушка, от трудов твоих великих сюда, ко мне, многогрешному, отвлекло?
Барма завозился на лавке, раскладывая по коленям руки-клешни:
– Нет сил терпеть! Чего ни хвачусь – всего нет, всё тащат! Недавно ценный камень, пять подвод, завезли – наутро уже нет, пусто, будто бес унёс! И как умудрились так тихо подчистую столько камня спереть – ума не приложу! Надысь доску из севера доставили, хорошую, без жучка, глазков и задоринок, гляжу – на том месте, где доски свалены были, – уголья трепещут. Что такое? «А сгорело всё!» – подрядчик, вражья морда, говорит и шало так смотрит, уже с утра пьян. А я в золе поворошил – там, может, две или три доски сожжены, а остальные где? Покрадены!
Вздохнул: и здесь то же самое! Не приставлять же к каждому камню стража с бердышом! Что за напасть такая, хуже чумы и холеры!
– А где охрана была? Кто покрал? Сам на кого мнение держишь?
Барма развёл ручищами:
– А кто его знает? Может, сама охрана и покрала…
– Кто должен был стройку охранять? Где ваши объезжие головы были?
Барма пожал плечами:
– Я в этих делах не силён. Я там начальник при свете, а как мрак ночи сойдёт – другие в ответе. По мне, так все охранники – на одно лицо! Только мешают, по стройке шастают и что плохо лежит, без присмотру, – тут же тащат. Я свою работу как муравей работаю, по сторонам не зыркаю, кто там палашами гремит. Много стало начальников, всех и не усмотришь. Да те, кто на стройке, ещё ничего, не самые опасные…
Уловил недосказанное:
– А кто – самые?
Барма набычился:
– А дьяки приказные, за весами сидящие! Давеча отдал им просьбу на двести трёхсаженных брёвен, тридцать досок и полтысячи гвоздей, всё вместе ценой в четырнадцать рублёв. А дьяк прямо говорит: «Пиши роспись заново, цену ставь семнадцать рублёв». А зачем? А затем, отвечает, что у меня дети голодные по лавкам сидят, я в год шесть рублёв получаю, а пуд коровьего масла шестьдесят копеек стоит, а за сапоги пятьдесят копеек просят. Посему я себе два рубля оставлю, а один рубль тебе дам. И мне хорошо, и тебе, от трёх рублёв казна не иссякнет. А не напишешь – ничего не получишь, кроме шиша! Так-то рек, Бога не боясь! Я плюнул да и пошёл, доски и гвозди перекупил у артельщиков, что Введенскую улицу мостят!
И снова, забыв спросить, кто сей алчный дьяк, провалился в жерло горьких мыслей. Барма прав, много начальников – конец и стройке, и державе! Расплодились в опришне! И никак им хвосты не прищемить, разлютовались на воровство, на всяческую мерзость хитрогоразды стали! Ах, клятвопреступники, казнокрады, взяткодавы! Они и Иисуса Христа с креста уворуют и татарам в залог снесут, лишь бы шебаршиться всю ночь с блудодейками, бузить с задовёртками! Сребролюбцы, богаты и брюхаты!
– Скажу. Велю. Прикажу. Помогу! – пообещал, доверительно уложив свою длинную ладонь на ручищу мастера. – Как не помочь? Ведь ты – воитель Христов, Божий соловей, домы Господни великие сотворяешь, дела неимоверные творишь. Мы перед тобой – пыль, прах и пакость, от нас ничего не останется, а тебя люди всегда будут помнить. Бармушка! Лей смелей небесный елей в мой улей! – пропел, на что Барма пустил слезу из больного глаза:
– О государь! Ты зело в виршеплётстве силён! И тебя, государь, никогда не забудут, по делам твоим великим! – Был обнят и поцелован и попросил ещё денег на пять дюжин подвод камня на облицовку, полдюжины умелых гвоздарей и толкового камнереза: – А то прежний главный мой, с лесов сверзившись, ноги повредил – ни сидеть, ни стоять не может.
Молча полез в постели за кошелём, отсыпал Барме нужные деньги (тот запрятал их в калиту под холщовой рубахой). Ещё особо дал золотой талер:
– Отдашь семье камнереза, пока им хватит. А сидя он работать не может? Что? Недвижно на спине лежит? Мастер великий? Вот несчастье! На, дай ему ещё, – отсыпал несколько монет вдобавок, крестясь с тяжёлым сердцем, ибо и его дочь уже целое время недвижно лежит, и он знает, какая это му́ка – смотреть на страдания близких.
Поговорили о нуждах стройки – сколько ещё чего требуется, нет ли болезней среди пленных, под бичами храм возводящих, не надобно ли страдным людишкам кошта прибавить и как будет красиво, когда храм встанет во всей красе на благо Богу, людям и потомкам. Храм – это навечно.
Услышав невнятные крики со двора и решив, что это рвутся обобранные купцы, коих не впускают в Александровку без подорожных, спросил у Бармы, как тот добрался до него – ведь велено никого в крепость без пропуска не впускать.
– А дал полушку на воротах – и прошёл, – бесхитростно объяснил мастер, отчего стало совсем тошно и никло на душе («если под боком такое творится – то чего от дальних волостей и уездов ждать?»).
– А кому дал? – без особой нужды и надежды спросил через силу.
– А не знаю, их там целая свора набежала. Сунул – и прошёл…
Удручённо покачал головой и взмахом чёток отпустил Барму – тот, глубоко поклонившись, неторопливо и твёрдо ступая, удалился, отчего в келье стало тихо и пусто.
Не успел справить нужду в помойный ушат в смежной мыленке, как появился Прошка с глазом, покрытым листом капусты. Увидев это, ощутил что-то вроде укола совести или жалости (что было для него одним и тем же), миролюбиво потрепал слугу по загривку:
– Радуйся, что отлупцевал. Не бил бы – убил бы!
– Спаси Бог многажды! Премного благодарен! – с издёвкой поклонился Прошка и сказал, что дикий монах, весьма злобен, к царю рвётся.
Да вот он и сам без приглашения прёт! Большой, рыхлый, нелепый, разлапистый, почти слепой, с обильным белым волосом из-под клобука, в пегой бороде по пояс, протоиерей Мисаил Суки́н стоял на пороге, тяжело отдышиваясь от подъёма и опираясь двумя руками на простую ольховую палку.
Это был его, Ивана, воспитатель и духовник. А прежде – духовник батюшки Василия. А начинал ещё чернецом при деде Иване и деду жизнь спас, когда на молебне толпа сзади вдруг так напёрла и навлеклась, что деда с ног повалила и чуть не затоптала, а Мисаил его из-под тел за амвон уволочь успел прежде всех рынд и воевод.
Схватил было поцеловать старческую руку, но Сукин руку вырвал и сразу приступил к тому, за чем пришёл:
– Почто моих монахов, что в Сергиевом Посаде христарадничали, в подвалы забрал? Чернецов Авраамия Глазатого, Иоасафа и инока Даниила? Они нужное богоугодное делали, на монастырь собирали, а ты их – в острог! За что? Почто людишек бьёшь, тягловое быдло изводишь, за кое ты перед Господом в ответе, человекоядец? Перед Богом змеить у тебя не выйдет! Не спасут тебя от огня адова ни твои молитвы, ни вклады, питуха ты крови человеческой, страдник пекла!
Опешил от такого сурового напора:
– Отче, ничего о монахах не знаю. А прочее всё – прошло! Было – и нету! Заднее забыл – вперёд иду! Ныне я тих и кроток. Не из сердца моего косматого, а из-за измен и татьбы наказывал, чтоб другие знали, что их ждёт… Грешникам ад надо тут, на земле, показать, чтобы неповадно было, – сам же учил!
Но Сукин, нависая над ним своим громадным брюхом, разя по́том и немытым телом, гнул своё, не раз от него слышанное:
– Окстись и ехиднино словоблудие не разводи! Любоначалие никому ещё впрок не пошло! Ты не Господь, чтобы ады на земле устраивать! Если рая не сделал – то ада не надо! Хватит жестоковать! Пожалей народ! Чем он провинился? Зачем резать мозольных людишек, как скот? Разве не пашут они неутомимо и молча? Разве покорно не собирают, не одевают, не обувают, не кормят твоих солдат, чтоб воевать чужие земли? А куда тебе эти новые земли – со своими бы совладать! Чего ты хочешь от своего мужварья, у твоих ног распростёртого? Не то странно, что человек падает, а то, что поднимается! А ты его – сапогом в грязь! За что его кромсать и резать, в клетях на смерть свозить, как ирод Нерон – первых христиан?..
Выбрался наконец из-под стариковской длани:
– Какие клети? Что за Нерон? Дай ответить, отче. Почтения хочу. Послушания. Веры. Любви. Надежды. Но ничего не имею!..
От этих слов протоиерей совсем взбесился:
– Ишь какие иеремиады развёл! Ты эти выкомуры брось! Любовь и почтение возжелал? Какие же будешь иметь, ежели людей египетскими казнями казнишь? Почтение и любовь не кровью и страхом, а добрыми делами добываются! А кровь родит злобу. Довольствуйся малым – получишь бо́льшее. А в гоне за бо́льшим и малое утеряешь! А ты что? Ад устроил! Что за игры твои палачи затеяли? Что? Не знаешь, в какие они игры игрывают? А в такие, чтоб каждому казнь по его имени придумывать!
И Сукин, пристукнув палкой (за ней надо следить, чтоб не получить по спине, не раз бывало в детстве), злым глухим задыхающимся голосом стал говорить, что недобитые опришники в Галиче, Муроме, Вологде и ещё кое-где новое развлечение себе отыскали: делать с каждым то, что в его имени обозначено, при этом зверски жизни лишая. И понеслось! Илию Собакова, избитого до мясного естества, кинули некормленым псам! Двоюродного брата его, Макария Овцына, живьём освежевали, как овцу! Дормидонта Коровьева зажарили на костре, насадив на вертел! Семёна Крошку изрубили на мелкие части и всех угощали, а кто не брал, тому персты отсекали! Служилого дьяка Афоньку Мясного палач разделал, как скотину, – на оковалок, вырезку и голяшки – и кривлялся, будто торгуя этим мясом! Максим Языков через щипцы языка лишился! Подьячего Сытного приказа Савву Холодухина обливали то ледяной водой, то кипятком, а потом, обрубив ноги по колено, спустили в прорубь!
Попытался остановить старика:
– Отче, стой! Дай сказать! Кто это делал – уже наказаны! Это было – и прошло! Отныне всё по-иному! – Пытался объяснить, что опришню вынужденно созывал: – Мой народец таков, что не сожми его в кулак и все соки из него не выдави – так и будет на печи дрыхнуть да молочных рек дожидаться. Что ещё делать, как не дергать, тормошить, гонять? Народец до татар тих и скромен был, не воровал и не бранился, а татары пришли – всё пропало!
Но Сукин ярился, бычился:
– Ты на татар-то не съезжай! Мёртвые не воскреснут и мук своих обратно не получат! Для мук времени нет! Даже иноземцев казнят! Купцу Хольцнагелю[16] загнали под ногти сапожные иглы, а ноги деревянными колодками всмятку раздавили! Пастору Вильдфогелю[17], что якобы римские блудни прилюдно плёл, обрубили обе руки – полетай-ка, дикая птица! А какие блудни – он же латинской веры, раньше не знали, что ли? Чего молчишь, будто не ведаешь про всё это?!
Не молчал – пытался возражать, что всё это творилось теми, кто, себя обманно опришней называя, на самом деле разбойничали и куролесили без его ведома, по своим прихотям и утехам, за что и наказаны. Но куда там! И слова не вставить! Протоиерей даже замахнулся на него палкой, прогремев:
– У, не будь ты царь, неприкосновенная особа, так бы и оттаскал тебя за волосья, ирод! Ты и отца и деда хужее! Те тоже кровопийцы были, но далеко им до тебя! Человечинка-то сластит, небось, а? Сладка, как сахар, а, говори? Человекоядец! Выжималка!
Непочтительные слова про отца и деда взбеленили – выхватил у старца палку и стал кричать в ответ:
– Ты кадык-то не распускай, отче! Охолонись маленько! Да кто ты таков, чтобы мне тычки давать? Забыл, кто я? Что я делаю, что я не делаю – всё от Бога, всё в его воле! Я – царь своей земли и всего, что на ней! И под ней! И над ней! – И напомнил старику, что как Рюрикович – он прямое колено цезаря Августа, через бабку Софью он – потомок ромейских базилевсов, по матушке Елене Глинской – из рода Мамая, ведь первый Глинский, Лексада, в крещении Александр, был родным внуком хана Мамая, а матушкина тётка, Тулунбек-ханум, была в прямом сродстве с Джучи, сыном Чингисхана. – Так что и золотоордынские земли мои, и северные волости, и южный край царьградский, и все царства Римской империи – всё моё, на всё имею право длань свою наложить – вот кто я таков, ежели у тебя память отшибло в твоём монастыре! И люду моему я зело люб – сие тебе весьма известно!
На это Сукин зло вырвал обратно палку и с чавканьем, смачно и обильно, плюнул на пол:
– Любийца нашёлся! А тьфу на всё это! Очи преют на тебя смотреть! Всё цари и базилевсы – тлен и прах перед лицом Бога! Ты – главный зажига, смутотворец, грешник, кровосос, всему злу соединитель! И град твой кровопийственный! Уймись, пока Силы Небесные тебя не окоротили! Ревмя реветь будешь – а никто не услышит! Слезами заливаться станешь – а никто утиралки вонючей не подаст! Говорильней живодёрню не перешибёшь! И моих трёх монахов из подвалов чтоб отпустил, не то прокляну! Прокляну-у, хладодержец окаянный!
Тут уж не выдержал:
– Ябло бы заткнул, отче! Не боюсь я твоего проклятия! Чем щепки из моих глаз вынимать – брёвна из своих очей повыдергивал бы! Сам-то каков? По законам ли живёшь, отче? Сказывали, сидишь у себя в монастыре, как падишах персиянский, и тебе в келью твою, золотом убранную, всякие яства носят, да за едой келари тебя россказнями да прибаутками развлекают, а чернецы на ночь пятки чешут, если не более того! А таково-то в уставе писано, а? Помню, мы с матушкой Еленой, по богомольям ездючи, в Троицкий монастырь случайно прибыли – так нам даже каши поесть не дали: не время, сказали, ждите общей трапезы. Вот каково-то по старым понятиям строго было, даже царице с царёнком в неурочный час еды не давали! А теперь что? Может, ещё и волочаек они тебе туда доставляют, чтобы уже полное угождение чрева и похоти наладить?
В ответ Сукин, попритихнув, буркнул:
– Мои грехи перед твоими – что малые шиханы[18] пред горой Араратской! Чтоб монахов моих отпустил из узилища! – И напоследок с силой хлопнул дверью так, что камень сотрясся (откуда только сил у столетнего!). И полез вниз по ступенькам, щупая впереди себя палкой, ругаясь и отгоняя слуг: – Пшли вон, гадёныши!
Приход Сукина разворотил и всколыхнул всё внутри. Вот старый пень, расчехвостил так, словно тут баламошка какой, малец с Торжка! Сам знаю, что не всё прямо вышло, как задумано было! Нет, и он туда же, кнур столетний, – укоры возводить! Нет чтобы хорошее сказать сироте, без отцовского глаза и материнской ласки выросшему! Только бы сердце рвать и клеймами жечь до боли! И было же приказано – забыть об опришне?! Но нет, не забыто! Цепок ум, злопамятен. О, моя прокажённая совесть! Она не даст мне покоя ни в миру, ни в скиту! И бежать от неё некуда, только с осердием вырвать и псам на съеденье выбросить…
Всполошённо метался по келье, потом сел на пол и начал выкрикивать, задрав бородатое лицо к иконам:
– Великий архангеле, шестикрылых князь и Небесных Сил воевода, соблюди раба Божия Ивашку, избави от всяких напастей и от всякой притчи! Не отдай на съеденье ехиднам! Утаи под своей крепкой силой! Ты же знаешь, как царь я – зол и грозен, а как человечишко – тих и робок! Кто лучше тебя ведает сие? Ты же знаешь это? О, Богоматерь, Владычица душ, дай чудное заступление за сирого раба твоего, яви свой светлый зрак и лик! Научи, как жить дальше! Дай знак! По каким законам жить, по царским ли, по человеческим ли? Господи, вразуми раба Твоего, несмышлёныша, раз уж дал такое бремя, помоги! Видишь, тяжёл мой крест! Раскалена шапка Мономахова!
Но иконы молчат, сурово и мимо. И не понять, почему безмолвен архангел и безответна Богоматерь. Знаков нет.
«Или участь моя уже взвешена? И просто в презрении молчат, ибо конец предрешён и уготован?» – Лёжа на холодном полу, в смутном ужасе перебирал слова, коими его костерил Мисаил: страдник пекла, хладотворец, человекоядец, ирод кровавый, человековыжималка. И трепет страха входил в кости, мешаясь с холодом каменного пола.
…Где он? Что? Куда бредёт одинёхонек по снежной дороге, без шапки и посоха? То ли из саней выпал, то ли своим ходом заплутал… Вокруг леса непроглядны, колючи, белы от снега, черны от логов и берлог… Что-то светится! Волчьи зенки, светляки – не разобрать… Хотя какие светляки зимой? И оружия с собой никакого! Как он так вылупился, словно дитя неразумное, без ножа и кастета?
Вдруг голос:
– Здрав буди, путник!
А, знакомец, холоп Ананий Колтун, торгаш из села Карпово, на нелепых санях в одну лошадёнку тащится, приветливо так говорит:
– Присаживайся, Васильич, по пути будет.
– Бог в помощь! – отвечает, сам на мешки с рыбой взобрался, а от рыбы заскорузлая вонь прёт. – Чего это она у тебя? Порчена?
Ананий, не оборачиваясь, отвечает зло:
– Ага, как же, порчена! А сволота базарная дерьмом облила!
– Чего ж так?
– А зависть человечья больше неба стала, вот отчего. Моя рыба лучше ихней, вот лайном и облили… Теперя назад везу, отмывать…
– Да, зависть трескучая… – Кому и понять, как не ему, под коим крысы подколодные вечно ямы копают!
Так едут не спеша. Ночь вокруг ясная, луна круглая и яркая как солнце – далеко и хорошо кругом видно. Ананий кобылу пристёгивает и своим делится, и всё, что холоп блажит, так понятно, будто сам всю жизнь в мужицкой избе с тараканами куковал:
– Трудновато жить стало, земли мало, хлеб плохо родится, народец зерно прячет, друг другу горсти в долг не даёт, жить нечем, а оброки земские, а подати, а расходы мирские! Подавай исправно и пощады не жди ни от кого!
– А мне каково? – стал возражать. – Оброк собирать с ленивых? Торговых людей понукать? Стряпчих и целовальников проверять? Подати выбивать? На военные нужды с протянутой рукой по князьям таскаться? И что за князья, прости господи! Их отцы и деды ордынским мурзам стремена лизали да своих жён-дочерей на войлоки их смрадные подсовывали, а теперь тоже чванятся – мы-де князья! Голь перекатная, срамотники, а не князья!
Так в разговорах доехали до каких-то огней. Ба, да это же Александровка! Вон и колокольня Распятская высится! Вот оно что! Значит, гулял недалеко, заплутал…
Вдруг Ананий строго говорит:
– Всё, слезай, Васильич. Мне туда нельзя, твоя опришня больно люта стала – всех поперечных мутузят, оглоеды! Слезай, говорю, не то я тебя! – И погрозил кнутовищем.
Опешил от такой грубости, да делать нечего – не биться же на кулачках с холопом, да ещё таким здоровым и мосластым! И с собой, как назло, ни кистеня, ни заточки, ни подковы, ни ножа, даже посоха нет, чтоб наглецу по башке дать!
Слез, отошёл, оглянулся – а саней уж нет! Словно взлетели, как птицы небесные! Да Ананий ли это был? Ананий не смел бы грозить… Нет, какой там Ананий… Ангел суровый, что в человечьей личине промеж людей затесался и приговоры исполняет… Или леший…
Идти надо через снег к первой избе. И ноги задирать, как оленю, чтобы из сугробов выбраться. «Святый ангеле, страшный и грозный воевода, моли Бога о нас! Не устраши меня, маломощного, дай мне, ангеле, смиренное своё пришествие и красное хождение!»
Через ободворок подобрался к избе.
В окнах огня нет. Крыльцо.
Взошёл кое-как по гнилым мягким просевшим ступеням. Сени не заперты. Дверь со ржавым скрипом отворилась. Шагнул в темноту – и рухнул куда-то!
Очнулся в горячей воде. Откуда-то слабый красноватый свет точится… Вода удушливо-сладко воняет… Да не вода это, а кровь – горячая, вязкая… По самую шею в кровь ушёл, руками-ногами сучит, а жар всё прибавляется! И снизу кто-то за ноги хватает, тянет и булькает:
– Дай зарок – кровь не пускать! Дай зарок – не убивать! Дай зарок тихим и смиренным быть! Не то утоплю!
– Даю! Даю! Господи! Ни одной души за мной не будет! Ни за пазуху не спрячу, ни в подмышках не пронесу! Тих и смирен буду! Даю! Господи! Великий зарок! Только спаси!
И как только крикнул это – тут же в своих постелях очутился, оглушён и оглоушен. И всё тихо кругом. Лунный свет по келье стелется. Собачьи перелаи от ворот доносятся.
Ох, грехи наши тяжкие, гроздьями висят, аки вериги адовы!
Чего это кот Мурлыжка из угла лыбится? Мисаилов шум его вспугнул… С пустого в порожнее… Барсучий жир… Немчины доски мёдом облили – а нам расхлёбывать… Вороги и ворюги… Гнус витает… Комары-кровояды… Брысь отсюда, окаянный! Пштт! Прошка! Кошка! Ложка! Мошка! Кот шкатулу царапает! Золото высасывает, казну пустошит! Брысь, сгинь, уймись, серый сатана!
В печатне
На Распятской колокольне пробило «ночь». Крепость затихла. На гауптвахте у ворот ходили горбатые тени, взблескивали блики бердышей. Убрав келью после разгрома Сукина и кое-как уложив огорчённого царя, слуги, Прошка и его шурин Ониська, отправились исполнять царский приказ.
Держась стен, настороженно оглядываясь, юркими перебежками (как бы не попасть под огонь ручниц, открываемый стражей, если ночью что-то живое шлялось по двору) достигли низкого здания в одно жильё, где раньше была книгопечатня, коя после побега мастера Ивана Фёдорова стояла на замке.
– Куды, дядя? – спрашивал на ходу Ониська.
Прошка, со стопкой листов под мышкой, бурчал сквозь зубы, что государь велел кое-что переписать, – как прибыл в Александровку, так ночами пишет и пишет, запершись в книжной каморе: сядет к столу, рядом кресло поставит – и карябает почём зря, и, похоже, думает, что в кресле кто-то есть, – иногда что-то жарко говорит своему безвидному и безгласному собеседцу, пару раз даже пихал кресло ногой до скрежета.
– Кричал при том: «Много ты, дурень, понимаешь?!» А вдругорядь вопрошал так жалобно, ажно плакать хотелось: «Ну, правильно писано?» Кончит писать, сложит листы, помолится, наземь бухнувшись, и спать отползает. Мозоли видал на его коленях? У многострадальной звери верблюди меньше!
– А чего нас… того?.. Писчики есть – нет? Чего мы-то?
Прошка округлил глаза:
– Видать, что-то тайное, раз писчикам не выкатывает, а велит мне и тебе эти листы тайно перебеливать и ему сдавать… И ты молчи о том, что пишешь, не то враз языка лишишься – схватит за зябры и вырвет клещами, как у покойного князя Федота Нилыча! Эх, вообще тут, в Александровке, нас зело много работы ожидает – царь постельничих, спальников, мовников и других разогнал – не гоже-де христианину братьями во Христе помыкать, Христос-де ноги нищим омывал… Ну вот, ему негоже, Христос омывал, а всё на наши загривки взвалится… Такой уж кисмет в кисете!
Вошли в здание. Посреди под рогожей стояла давильная махина, «друк-машине», по стенам – полки с краской, скребками, формами, ящики с литерами, всякий бумажный товар. По углам – ещё разное, чего и трогать нельзя, недолго и перстов лишиться, как это случилось с убиралкой Маланкой, коя здесь зачем-то шастала и в одну из железяк невзначай палец впихнула по своему бабскому любопытству.
– А та механизьма, словно пёс, её и цапнула – полпальца как не бывало! Тут осядем, – Прошка смахнул рукавом пыль со стола (для противней с литерами), Ониська вытащил из сидора письменное: перья, черниленку, песочник.
Прошка разложил бумагу в две стопы, ворча, что ему совсем не нравится писать. Да что поделать, супротив приказа не попрёшь. Сколько ни отговаривался безграмотой – не помогло, царь знает, что Прошка грамотен. И глаз подбитый не спас. Ониська же научился писать в монастыре у родича-протопопа, чему был рад не меньше, чем месту в царских слугах, куда его, своего молодого шурина, определил Прошка, невзначай к царю приведя. А место великое, куда уж выше? Царь редким князьям удовольствовать себя даёт, а тут – Ониська, простой холоп, но чем-то приглянулся.
В одной стопе бумага была темна, тверда и шероховата, во второй – бела, легка, прозрачна.
– Эт чтось? Того… бамага?
Прошка положил руку на тёмную стопку.
– Сюда писать перечень царёвых соколов, кромешников, будь они неладны! Список опришни. Зачем? Да уж надо, раз пишет… – усмехнулся. – Просто так мараться не будет… Мыслю – счёты сводить будет. Списки, вишь, на что-то понадобились! Ну, не наше собацкое дело!
Этого Ониське объяснять не надо – не их пёсья забота, ясно.
– А вторая бамага, чего там… того… как?
Прошка вытащил из сапога баклажку со стакашко́м, куда плеснул сивогара:
– Этим, кто на прозрачные бумаги в перепись пойдёт, царство небесное, вечная память и земля пух-пером! – Опрокинул махом стакашок, потянулся носом в Ониськино плечо – занюхать, после чего, отдышавшись, объяснил, что сюда надо писать тех, кого царь из стана живых изгнать изволил. – Короче, список мёртвых, винно и безвинно им убиенных! – отчего Ониська поёжился:
– А зачем такое? Тоже – счёты?
Прошка с хохотком пристукнул шурина по лбу:
– Ну ты, сердяга, и королобый! С мёртвяков какой спрос? Нет, сей перечень выбывших из жизни нужен, чтобы по ним панихиды справлять… Вот, саморучно писать изволит заголовку: «Синодик опальных царя Ивана… Царь и государь и великий князь Иван Васильевич всея Руси шлёт в Кириллов монастырь сие поминание и велит поминать на литиях и литургиях во все дни сих опальных людей по грамоте царёвой и панихиды по них вести, а коих имена и прозвища не писаны, а только числом отошедших в мир иной стоят – ты, Господи, сам веси имена их…» Ну да, Богу подсказывать – последнее дело. Ты кого перекатывать хочешь? Живых? А мертвяков – того, боязно? – Прошка усмехнулся страхам шуряки. – Они ж бумажные, дурында! Да и писать тебе придётся вдвое моего поболее – живых пока больше, чем мертвяков. Хотя сего дня жив – а завтра, гляди, и того… Тяпнешь?
Но Ониська по молодости и глупости не хотел пить и с косолапой расторопностью принялся переписывать список опришни, а Прошка, засадив ещё два стакашка к первому (как того живоначальная Троица требует), начал корябать синодик, приговаривая:
– Кто не хочет – не читай, а нам писать велено, не отвертишься…
Роспись Людей Государевых[19]
Агафонов Игнашка, Адамов
Гаврило Матвеев сын, Айгустов
Афонасей, Александров
Семейка, Алексеев Илюша,
Аликеев Иван, Андреев Михей,
Аникеев Поздяк, Аннин
Алексей, Арапышев Куземка,
Арапышев Юшко Микитин,
Арсеньева Васюк Григорьев сын,
Артаков Сулеш, Архимандричь
Анисим, Архипов Иванко
Иванов сын, Архипов Ивашко
Васильев сын, Атмашиков
Андрей,
Бабкин Богдан Фёдоров сын,
Бабкин Васка Микитин сын,
Бабкин Игнат Данилов сын,
Бабкин Меншик Гаврилов
сын, Бабкин Микифорец
Микитин сын, Бабкин Никодим
Олексеев сын, Бабкин Павлец
Олександров сын, Бабкин
Романец Григорьев сын, Багаев
Тимофей, Бакланов Микифор,
Балакирев Проня, Бастанов
Васка Володимеров сын,
Бастанов Иванец Гутманов сын,
Бастанов Ишук Иванов сын,
Бастанов Ларка Гутаманов сын,
Бастанов Нагай Иванов сын,
Бастанов Осиф Гутманов сын,
Бастанов Пентей Власьев сын,
Бастанов Сергей Володимеров
сын, Бастанов Темеш Иванов
сын, Бастанов Янклыч
Володимеров сын, Батурин
Семейка Михайлов, Батюшков
Пятой, Баушов Третьяк,
Безобразов Васка Михайлов
сын, Безобразов Васка Шарапов
сын, Безобразов Володимер
Матвеев сын, Безобразов Гриша
Микифоров сын, Безобразов
Елка Володимеров сын,
Безобразов Захарья Иванов сын,
Безобразов Иван Михайлов сын,
Безобразов Меркур Иванов сын,
Безобразов Митка Шарапов
сын, Безобразов Михайлов
Игнатьев сын, Безобразов
Михалко Володимеров сын,
Безобразов Олёша Иванов сын,
Безобразов Онтон, Безобразов
Осипко Игнатьев сын,
Безобразов Романец Фёдоров
сын, Безобразов Семенец
Володимеров сын, Безобразов
Степан Осипов сын…
Синодик Опальных Царя[20]
После ноября 7075 года:
Раба своего Казарина
Дубровского, да двух сынов
его, 10 человек его тех, кои
приходили на пособь, Ищука
Ивана Боухарина, Богдана
Шепякова, Ивана Огалина,
Ивана Юмина, Григоря
Темирева, Игнатя Заболоцкого,
Фёдора Еропкина, Истому
Кузьмина, князя Василия
Волк Ростовского, Василия
Никитина Борисова, Василия
Хлуднева, Никифора, Степана
Товарыщевых, Дмитрея
Михайлова, Ивана Потапова,
Григоря Фомина, Петра
Шестакова, князя Михаила
Засекина, Михаила Лопатина,
Тихона Тыртова, Афонася инока
старца, что был Ивашов.
После 22 марта 7076 года:
Митрополичьих: старца
Левонтия Русинова, Никиту
Опухтина, Фёдора Рясина,
Семёна Мануйлова.
«Дело» боярина
И.П. Фёдорова:
Владыки Коломенского
боярина Александра Кожина,
кравчаго Тимофея, Собакина
конюшаго Фёдора, да владыки
Коломенского дияка владыкина.
Ивановы люди Петрова
Фёдорова: Смирново
Кирянова, дьяка Семёна
Антонова, татарина Янтоуган
Бахмета, Ивана Лукина,
Богдана Трофимова, Михаил
Цыбневского, Троуха Ефремова,
Ортемья седельника.
В Коломенских сёлах Григорий
Ловчиков отделал Ивановых
людей 20 человек. В Губине
Углу отделано 30 и 9 человек
Михаила Мазилова, Левонтия
Григорьевых, Бряха Кафтырёва,
Никиты Левашёва.
Глава 2. Человекоцарь
Утро всходило ядрёное, яркое. Оконные слюды искрились жарко и трепетно.
Утро-то было ярое, да он был духом весьма не силен из-за странных вещей.
Ночью, в холодной сумрачной тишине, сев на постелях, вдруг увидел, как лавка у стены подпрыгнула на месте, начала судорожно, мелкими порывками двигаться в серёдку кельи.
Спрятался под перину.
«Чего только не привидится… Воистину ночные помыслы человека в пустыню увести хотят, в пропасть столкнуть…» – скомкано думал, съёживаясь под периной и опасливо выглядывая из-под неё.
Вещи не унимались – теперь и шкап стал вздрагивать и урчать. Стол зашатался малой дрожью. Лавки дребезжат и дёргаются, как шальные. Даже тяжеленный сундук ухает глухо и злобно, силясь вспрыгнуть.
Тогда начал молитву:
– Молю тя, посланниче Божий, ангел сильный, яви мне в нощи свой светлый зрак! Воззри на меня, окаянного! Не отверни от меня очей своих! Напои чашей спасения от нечисти нечестивых!
Но не помогало. И даже вытянутый из-под ночной рубахи нательный крест бессилен: скамейки и стол принялись подскакивать выше, с потолка понеслась тихая беготня мышиных мелких ножек – будто карлы суетятся. Блеяние, гав, тяв, гомон, будто скотный двор за стеной. О Господи!
Вдруг – мерный мрачный стук! Карта на стене стала трепетать и наливаться багротой. Кровавая калюжина на стене! Рана рвана! Рвана рана!
Попытался крикнуть – но изо рта выползало только тихое шипение.
Лавки пляшут с сухим стуком. Рундуки подскакивают неуклюже. Иконы начали стекать по стенам, оставляя блестящие и скользкие, как от слизней, следы…
Опять стук! Размеренный, уверенный, неторопливый!
Онемел от страха. Только смерть может так стучать! Знает, слепая, что никто не в силах отказать в последнем гостеприимстве!
Вдруг створки шкапа распахнулись, выпустив рои чёрных искр. А из умывального таза, навстречу им, взметнулись огненные точки. По келье закружился огневой рой, отчего вспыхнули рясы и кафтаны на гвоздях. Запахло палёным.
– Пожар! Горим! – вскочил на постелях, но был уложен слугами: ничего не горит, просто выпала свеча из подсвечника, дымит, все ещё спят, надо и ему изволить – чего в такую рань подыматься?
Плошка сонного взвара довершила уговоры.
Лежал в полудрёме, путаясь в колких мыслях, из коих возник Саид-хан.
Почему ещё нет этого алтайского мурзы? Всегда же вовремя приходит со своим караваном и доставляет опийное зелье. Пора бы! Тело требует покоя, а дух – уединения. Война ли, мир, мор или чума – а Саид-хан дважды в году с караваном из десяти верблюдов являлся на Москву, напрямик к своему знакомцу, Буге-хану, бывшему баскаку[21], выкресту из казанских татар, что давно жил на Москве и служил в тайных «проверочных» толмачах. Его делом было на переговорах с послами незаметно стоять в толпе вокруг трона и перепроверять чужих толмачей, а заодно и подслушивать, о чём те со своими хозяевами шепчутся; всё замечаемое тут же шёпотом доводилось до царя.
Буга перетолмачивал беседы с турками, ногаями, крымчаками, трухменами и другими, причём кто каким языком говорил – тот язык Буга чудесным образом и знал, что однажды вызвало подозрение царя: «Как так может быть?» Но Буга ответил, что все эти языки – наречия одного, туркского, отчего же их не понимать? Смысл ему ясен, а мелочи не так важны. За это получил вздрючку от царя: «Как это – мелочи не важны? Как раз в мелочах вся соль!» – и покорно согласился, пообещав переводить и мелочи, буде это в его силах. А царь после того разговора приставил и к нему, Буге, тайного проверяльщика (тот, однако, за целый год не обнаружил ничего крамольного).
У Буги на подворье Саид-хан день отдыхал, а наутро, перегрузив мешки с опиумом и подарками в телегу, ехал в Кремль, где царь принимал его в тайной комнате.
Но Саид-хана нет. Может, уже и пришёл на Москву, а сюда, в Александровку, ещё ходу восемьдесят вёрст. Ничего. Если важные особы и послы как миленькие ездят, то и мурзе с баскаком прискакать недолго – не самому же ехать их искать?
Опий от душевных тягот и телесных болей – лучшее снадобье. Называемый «ханка», он прятался в укромный подвал, в большой железный короб, чтоб крысам неповадно было его грызть, а то раз уложили изрядный кусман в берёзовый ларь, а крысы с мышами прогрызли дерево и нажрались зелья так обильно, что весь пол был усеян их трупами.
…Услышав шум со двора, кое-как проковылял до окна, осторожно выглянул.
Возле крыльца толпился всякий люд. Келарь Савлук и повар Силантий разбирались с посылами и поручениями.
Отдельным скопом стоят люди в немецком платье, в шляпах с перьями. С опаской, но свысока поглядывают вокруг. Послы. Ох, не любил иноземцев – разоделись в будни, как петухи, много о себе думают, а сами такие же, как и мы, только пёстрым прикрыты! Дождались однажды, довели до ярости, когда их храмы в Москве в пепел обратились, – с тех пор ведут себя тише воды, ниже травы, попритихли, псы алчные.
Тогда, по молодости лет, поверил пленным фрягам[22], ливонцам и полякам, выведенным на Москву, разрешил возвести два костёла, свою веру справлять. Но скоро из-за их гордыни, тщеславия, происков, измен и обманов оба храма в одночасье были разрушены, домы, шинки и подворья разорены и отобраны, а сами они, побитые, изгнаны прочь в чём мать родила: нагих, зимой их гнали пешим ходом до Тверского тракта, а там усадили вповалку в телеги, завезли в лесные чащобы, да и выбросили там, а что дальше с ними сдеялось – про то Господь ведает. Что им за грехи послано – то и вышло… Говорят, нашли потом куски тел, истерзанных зверьём, но иные кое-как до сёл дотащились, однако и тут их не лучшее ожидало – их за леших принимали (голые, дикие, лепечут непонятное): кому – кол в сердце, кому – члены прочь, кого – в омут с камнем! Лучше б уж медведям в лапы попасть и сразу умереть, чем кровавых пыток перед смертью натерпеться!
Да делать нечего – надо этих, что под окном, принять, не то попрутся к Семиону, а тот, чего доброго, им такой брехни налепечет, что не отмоешься потом, хоть и приказано ему язык за зубами держать и без разрешения слова не молвить, тем более иноземцы и так всё увиденное и услышанное на Москве тут же по всему миру бухвостят, бесчестят и иначат.
Прошке было велено готовить баню. Слуга украдкой сунул было флакон с пахучей водой, но этим же флаконом и получил по хребту:
– Воду греть! Не хватает перед послами захухрей вонючим явиться!
Сидя в бочке с душистой мыльной водой, обдумывал, в какой очереди принимать послов.
Первым вызвать итальянца Джиованни Тедальди – купца-посла, хитрую лису с нутром волка и алчностью льва. Только пусть один идёт, без прихлебаев, с толмачом. Я – один, и он – один, так-то лучше.
Толстый, круглый, как каравай, в рыжей бороде, в широкополой шляпе, с кружевным воротом на богатой рясе, на поясе – финтифлюшечный золотой крест, свисающий до колен, Тедальди вызывал чувство гадливости, словно жирного червя голыми пальцами ворошишь, когда начинал свои обычные речи о том, что ему, государю московскому, будет-де куда выгоднее с папой объединиться, латинскую веру принять и вместе турков побить, не то папа один побьёт Оттоманскую Порту – ведь abducet praedam, cui occurit prior[23], не правда ли, государь?
На это обычно без злости, как дурачку-ребёнку, отвечал, что готов к союзу с папой, только пусть вначале папа нашу греческую правильную веру примет, а то сел на престол, как Навуходоносор, и все ему поклоняться должны, а таковому ли учил, гол и бос, учитель наш Иисус Христос? Своих татар мы и так уже с Божьей помощью побили, без папских пьяных наёмников. А против главного врага – туркского султан-паши – папа и сам бессилен, так чего зря в замятню лезть, препираться и рассусоливать сие сусло? И вообще – ad poenitendum properat, cito qui judicat[24], не так ли, многомудрый Джиованни, как тебя по батюшке? Паоло? Иван Павлович, стало быть? Аха-ха, очень красиво!
И про либерею бабушки Софьи, из Константинограда вывезенную, кою вы, папские прихвостни, всё норовите у меня выменять или отнять, – больше не спрашивай! Нет её у меня, пропала! Крысы сгрызли, водой залило, татары спалили – в сожжённой Москве бешбармак свой бараний варили, дров не хватало, вот они и побросали в огонь свитки, пергаменты и скрижали из подвалов. Не верите – ваше дело.
Знали бы, дурни латинские, что у меня не только бабушки Софьи либерея, но и книжная казна Ярослава Мудрого из скарбницы Софийского собора, и арабские и персидские рукописи из Казани и Астрахани, и древние книги из Новгорода вывезены и надёжно упрятаны! Много ещё чего есть, что вашему папе очень бы хотелось в Ватикан переволочь, где он всю мудрость мира собрать вознамерился, да вот ему кукиш – троеперстие сатанинское, папе зело известное! В Москве, а не в Риме мировую мудрость собирать будем! Мудрость из Рима в Москву перекочевала, всем известно, только до вас ещё не дошло!
Как всегда, приняв от Тедальди очередное папское послание, на твёрдой бумаге с золотым обрезом, небрежно проглядел его и кинул под лавку, почесал в бороде и сердито воззрился на посла:
– И зачем мне эти писульки носишь? Отдавай в Посольский приказ, мне не надо! Папа, видно, зело писать любит – вон сколько накатал! Да и ты, стало мне известно, тоже любитель вирши кропать, тоже словослагатель… Вот с руки спросить – ты кто вообще? Купец и малый посол, так? А зачем про нас книжку пишешь?
Погрозил длинным перстом с кровавым перстнем, отчего итальянцу стало жутко. Нахмурил брови. Стал говорить, что всё известно, что именно он, Тедальди, доносные писульки папе пишет. Что пишет? А то пишет этот врун обманный: якобы иноземные послы сидят в Москве взаперти за высоким тыном, к ним ни слуг, ни врачей не пускают и самих никуда не выпускают; в Московии нет ни школ, ни академий, ни чего иного для учёбы, народ читать-писать не умеет и никакие языки, кроме своего, не понимает, оттого тёмен и в Святом Писании ничего не смыслит; царь у них обожествлён, как идол, а угодничество и раболепство впитано с молоком матери; царь их лют и грозен и забирает себе все богатства, какие награбит, – из Казани, говорят, пятьсот подвод с золотом, серебром и утварью вывез и спрятал где-то; страна после опришни лежит в руинах и зело поредела; своих мастеров и рукоделов в Московии нет, а все болезни лечатся водкой с перцем или калёным железом; только за одни разговоры с иноземчанами царь казнит своих рабов, а у тех, кто бежит от его тиранства, вырезает всю семью до седьмого колена; и вообще россы-московиты ведут свои роды от скифов, оттого дики, злы, ленивы и к учению мало способны.
– А вы-то сами хороши! Продажей грехов торгуете, харемы содомские держите, свои нечестивые книги на пергаменте из кожи младенцев пишете! Торговлю трупами развели под видом святых мощей! Это же уму непостижимо, чем вы торговать умудряетесь! Даже Иуде бы такое в голову не пришло! Молоко Богородицы! Слёзы Богоматери! Свечка из яслей, где родился Иисус! Последние вздохи Иисуса в ларцах! Даже палец Святого Духа вам удалось толедскому епископу продать! Даже, говорят, местами в пургаториуме[25] торгуете – это до чего же ваша алчность горючая доходит? Покайтесь, пока время есть! Очистите души свои, заблудшие в катакомбах ереси! Не то спросится с вас на Страшном суде за все ваши гадости – не обрадуетесь!
Тедальди по своему хитростному обыкновению ничего не возражал, в пол смотрел и на ус мотал, что ему худосочный толмач в рваной шляпе в ухо нашёптывал, – а что сказать, когда и вправду всё это писал папе? Но как об этом узналось? Всего только его писарь и знал! И его подкупили, значит, чтобы копии снимал с писем…
Отогнав толмача, схватил посла за кружевной воротник, закричал ему в ухо, как глухому:
– А крепости мои ты зачем описывал? И сколько там солдат, да какие где укрепления и оружия стоят, да как россы воюют? Знаю я ваши злокозни – через меня хотите перешагнуть, чтоб в Индии да Китае свои порядки наводить и свою ересь папёжническую проповедовать! Но не будет сие – так и передай своему папе! И тебе запрещаю на бумаге пустозвонничать и клеветные словеса плести, не то плохо тебе будет! Нашёлся повытчик! Папе ответ будет, да позже, не до него теперь. От твоего папы пользы, как с козла молока! Ты пробовал козлиное молоко? Что? Нет у козлов молока? Ещё как есть! У меня в тиргартене[26] козёл Бахруша живёт, так у него и сосцы с молоком, и елдан с молофьёй, коим он коз кроет будь здоров, даже на ослицу взлезать умудрялся! И коз пояет, и молоко даёт, из сосцов так и брызжет, особенно после случки… А молочко-то с семенем смешанное! Полезно, говорят, натощак! Не слышал, нет? Хочешь попробовать? Сей же час идём в зверинец, напою за милую душу! Заодно и осетра столетнего покажу! И сома волжского, что в ушате лежит и усами шевелит!
Но Тедальди не хотелось смотреть ни козла, ни сома, верил великому князю на слово и явно намеревался скрыться, но слышал дальше что-то уже совсем непонятное, чего и толмач осмыслить не мог:
– Нет, погоди ужо, я велю масло с того козлова молока сбить и папе в твоём черепе послать! Он же любит мозги до корочки выедать – пусть моего масла отведает! И ещё кой-чего могу ему послать, от чего у него глаза на лоб вылезут и волосья дыбом встанут!
Хотел добавить, мол, вам, собакам-нехристям, ждать недолго – скоро, скоро соберёт он огромный крестовый поход, пойдёт в Палестину, перебьёт басурман, освободит Гроб Господень и всё, что найдёт, перевезёт на Москву, и станет после этого владарём всего христианского мира, всходным кесарем, Москва превратится в Третий Рим, а ваш папа вместе с Лютором сгинут, но решил пока заветных мыслей не открывать и только с громкими нарочитыми всплесками ополоснул руки в умывальном ведре, как делал это всегда после разговоров с латинянами. Но если в Кремле для этого была заготовлена золотая чаша, то тут – ведро: ну да не взыщите от простого человека, Иванца Васильева, чем богаты…
– Мой разговор с тобой окончен. И не забывай, что в клетку с медведем войти легко, а выйти – ой как трудно… Видно, ты, вьюн кусательный, начитался вашего любимого ордо амориса[27], коий святой Августин, на старости лет с ума соскочивший, в городе Медиолане накропал?.. Знаю, по указке любить трудно, но не забывайте, что на востоке, в бескрайней Руси, правит царь Иоанн Базильевич, потомок ромейских базилевсов! Он ни вам, ни немцам, ни галлам спуску не давал, не даёт и давать не собирается! Посему люби́те его и народ его, как Христос заповедовал: истинно, всей душой, а не так, как ваш, прости господи, мордо заморис велит: этого ближнего люби, а того, кто подалее, любить не надо, не обязательно, и так сойдёт, даже вредно! А дальнего ближнего – так вообще ненавидеть можно! Вот и допрыгались вы с такой глупой делёжкой до ересиарха Лютора, коий всех в один котёл смешивает и выборочно «любит», да иной раз так сильно, что у любомого все кости трещат и кровавый пот течёт…
Видя, что у посла и толмача кружатся головы от этого словесного водоворота, усмехнулся и движением чёток отпустил было обоих, но не совладал с собой и, с неожиданной силой цепко ухватив золотую цепь с крестом, сорвал её с Тедальди:
– Негоже, когда ваш дурной косой крыж[28] ниже елды висит! Чтоб мои глаза такого сраму не видели! – Побледневший посол стоял навытяжку, не смея вздохнуть. – И своему папе скажи, чтобы он меня в письмах не величал «возлюбленнейший сын» – я ему не сын и тем более уж не возлюбленнейший! Папа нашёлся! Да я сам – его папа! Это не его, а мои предки с цезарем Августом через брата его Пруса, отца братьев Рюрика, Синеуса и Трувора, в прямом родстве состоят! Знаем мы, кто ваш папа таков есть, откуда поднялся! И ты меня больше не донимай своими докуками, не на того напал! Aquila non captat muscas[29], так это по-вашему?
Тедальди молча кивком подтвердил: да, так, государь.
Это ещё более раззадорило.
– Чего глаза прячешь? Скажи папе своему, да хоть деду, хоть прадеду, что мне ваши задумки наперечёт известны: через мою державу в Персию и Индию идти свою ересь распускать, заодно и торговлю ладить в обход меня, налогов не платя! Но не будет вам на то моего согласия, никогда! Лучше я с татарвой бездомной и луговой черемисой дохлого коня делить буду, чем с вами, инквизистами, людей мучителями, якшбу водить! Надоели вы мне своей патристикой! Пора вам в бараториум[30], чтоб народ не смущали! Всех учить Христу хотите – вона, уже до Китая добираетесь! – а сами каково-то живёте? Скоро в злате и разврате утопнете! Забыли, как Спаситель наш в худой тожке на хромом осляти в Иерусалим въехал? А вы? В роскоши да неге купаетесь, а ваш другой ересиарх, Лютор, в словоблудие и магию погружён! Хотя удивляться нечему – где «лют», там и Лютифер тут как тут! – И рявкнул: – Ваш Лютор из книг Ветхого Завета отобрал для своих прихожан всего тридцать девять, а остальные семь куда-то на помойку выбросил! Это дело?
Тедальди потупил глаза:
– Так он ересиарх, какой с него спрос… – но, услышав гневное: «Иди с глаз моих, не доводи до греха!» – быстро дал знак толмачу, и оба исчезли, как тени после захода солнца, а он всё продолжал гневно бормотать и махать руками:
– Он – еретик, а вы кто?.. Что бы вы, нехристи во Христе, без нас делали? Если б не Русь, татары грабили б Европу раз в год и она была бы такова, какова ныне Русь… Если бы не кровь наших предков, валяться бы Европии в копытах монгольских лошадей!.. А вы, поганые, вместо благодарности на нас Мамая натравили! Не получится больше! Теперь мой черёд на вас хана Кучума напустить – поглядим, как запляшете!..
Пока ходили за крымским послом, он, сидя на лавке, угрюмо думал, что в писаниях Тедальди было много верного, о чём и другие ему доносили. О том, например, что ведут себя московские послы во фряжских странах недостойно: всем недовольны, брюзжат и выкобениваются, якобы силу показывая, хают латинскую веру, вымогают царёвым именем у вельмож подарки, да в казну не сдают – вот недавно Артемий Шевригин, посол в Италии, дары венецийского дожа (две чаши, несколько золотых безделух и даже мраморного идола) утаить умудрился, за что был отозван и сослан на север. До того дошло, что послы начали возить с собой знакомцев-купцов, чтобы те торговали икрой и мехами, а им, послам, за это отступное отстёгивали. Всё это следует пресечь. У больших и сильных держав и послы спокойны и достойны бывают, а у слабых и хлипких – трепетны и егозливы. Негоже так себя ставить. Только я тут сижу, а они – там, как за всеми уследить? Был бы я там – ни грошика бы не утаилось, а тут поди узнай, что они там моим именем выклянчивают, тиуны брюхатые! Ведь не только взяткобравцы молчат, но и взяткодавцы немы, как рыбы морские!
Но в доносах Тедальди было и такое, что обрадовало: купец писал, что россы храбры, самоотверженны, выносливы, жёны воюют не хуже мужей, не щадя жизней своих, поэтому победить их трудно, почти невозможно: на место одного павшего тут же трое новых встают и разят врага дальше, до победы… Это так, это правда, особливо если царь впереди всех в бой идёт…
Однако же где Саид-хан, не ограблен ли по дороге? Саидка всегда привозил самое лучшее опийное зелье – оно как раз к осени поспевало, да ещё коренья «шень-жень», от коих жизнь ключом бьёт, а елдан многие радости доставляет. А то скучно стало, на женскую половину не тянет. Раньше, бывало, пойдёшь туда, мигнёшь молодке, коя подвернётся, – они там все дебелы, дородны и пышнозады, – а она и знает, что надо скорей бежать в государеву трубу, что из крепости в слободу под землёй ведёт. Там есть тайная горница с обширным ложем, коврами и печью, кою всегда держит натопленной Ортвин Шлосер, пленный немец, много лет живущий при крепости, мастер на все руки.
А про опиум надоумили волхвы, леча от болей в спине и видя, что от их усилий ни проку, ни толку нет, хотя чего только не делали! Вспомнили – есть-де от болей одно зелье, но оно на севере не растёт, ибо до крепкого солнца охоче. Называют его по-всякому: и ханка, и сон-трава, и чар, и шит, и папавер, – а это есть сонный цветок, он боль съедает и в райские кущи уводит…
Слыша по лестнице шаги, крикнул страже через дверь:
– Пусть один, без толмача, заходит! Он по-нашему хорошо умеет! – А сам вытащил из сундука шлем с надписью «Аллах Мохаммад», взятый в Казани, водрузил на себя и, когда Ахмет-хан неслышно вошёл, крикнул:
– А, пожальте! Видишь, какой подарок мне сделали? – Крымский посол, пожилой плюгавый сморщенный человечек в красной феске, приложился к руке, взял с благоговением шлем, даденный для поцелуя. – Как дела твои, Ахмет-хан? Всё яхши мисан? Не впал в немилость у брата Гирея?
– Яхши, яхши! Алла-у-ахбар! Всё хорошо! – Посол, отложив шлем на лавку, с поклоном протянул письмо.
Не распечатывая, небрежно кинул его на стол.
С этим крымским послом много говорить не надо – ведь известно, чего крымский царь Девлет-Гирей хочет и чего мы не хотим, так чего зря базлаться? Вы наше не принимаете, мы тоже, чалму напялив, хадж совершать не собираемся. Но надо всё-таки сказать послу, пусть передаст двору и Гирею, что московский царь согласен пропустить его, Гирея, до Литвы: пусть там делает что хочет – грабит города, уводит людишек в рабство, – но и сам пусть потом уходит, а мы после него займём эти города, своими людьми заселим и будем править, ибо всё это – наша земля по святому праву предков. Там, на севере, добыча знатная – разве она не интересна Девлет-Гирею? Но крымскому царю севера без нас не взять, так не лучше ли вместе полакомиться: вначале вы – добычей, затем мы – властью?
На это посол довольно смело отвечал, не лучше ли будет сделать наоборот: пусть великий князь берёт литовские города, а крымский царь будет потом держать эти пашалыки[31] в узде?
– Аха-ха, пусти кошку к мышам в гости, как же! Такая помощь нам не надобна – грабить мы и сами умеем не хуже вашего! – усмехнулся, в душе думая, что крымчаки после пожара, учинённого в Москве, обнаглели вконец, пора их на место посадить, да нет пока должных сил.
Вспомнив пожар Москвы, взбаламутился душой. И не так щемило от самого пожара, сколько от видения: Девлет-Гирей сидит, как хозяин, в трёх верстах от горящей Москвы, в Симоновом монастыре, под шатром, пьёт шербет, лапает пленных баб и считает добычу, пока его орды дожигают и грабят несчастную, брошенную всеми – войсками, опришней, царём – столицу…
Но чего без дела собачиться? Если крымский царь оставит в покое Рязань, если заплатит за ущерб московского пожара, якобы без его приказа случившегося, если вернёт награбленное – тогда и приходи на переговоры, а пока нет вам ответа, кроме как в последний раз в Кремле, ты сам видел (а видел тогда Ахмет-хан, как царь во время переговоров для острастки, как бы невзначай, подвёл его к окну – на дворе как раз вешали, связками по трое, татарских пленников).
– Тут я тебе киятров показывать не буду – двор, видишь, мал, заставлен всякой всячиной, для плах и виселиц места нет! Тут у меня дела делаются без пышноты и шумливости, по-простому, как и подобает… А если тебе шуметь и перелаиваться охота – иди к Семиону в Кремль, а меня в покое оставь, не то кирдык тебе будет! Жалости нет у меня к плохим соседям, жалости йохтур! Иди к Семиону, пусть он с тобой оборачивается!
Посол молчал, не понимая, куда клонит царь. Про этого татарина, Семиона-предателя, известно, что он свою веру мохаммеданскую, правоверную, на вражий крест сменял и ныне куклой у московского деспота служит. Зачем к кукле ходить?..
Побродив по келье, он замер около крымчака и, уставившись тому в переносицу, угрюмо и глухо вопросил, сколько его пленных у них в Тавриде сидит.
Ахмет-хан сморщил безволосое личико – не знаю: тысяча, может, и две, а может, и поболее… Это только сам царь Гирей знает.
– А сколько за каждого просите? Тоже не знаешь? Что это ты ничего не знаешь, что ни спроси?
Отошёл в дальний угол, порылся в ларцах. Вернулся с горстью перстней. Присовокупив к ним крест, отнятый у Тедальди (однако сняв с цепи, а цепь накинув себе на шею), высыпал перстни на стол перед послом:
– Эти камни тысячи стоят. Вот, вишь, алмазы? Яхонты, смарагды? Отдай всё с поклоном брату Девлет-Гирею, пусть моих полонян отпустит, сколько следует. И напиши мне подробно, сколь человек у вас в плену! Яхши?
– Яхши-ол, великий государь! – встрепенулся Ахмет-хан, завернул перстни в тряпицу и собрался идти, но ему было приказано высыпать перстни на стол для последнего пересчёта:
– Всё отдать Гирею, проверю! Да смотри у меня, харамзада[32], не замени их другими! Знаю я вас, послов! Если что украдёшь или недодашь – прямиком в джаханнам[33] последуешь, а там несладко тебе будет! Тут шесть перстней, больше нет, йок… Первыми пусть выпустит тех, кто познатней. А крест этот латинский себе бери! Дарю! Делай с ним что хочешь! Мне их крыжи позорные не нужны! Помни мою доброту!
– О, фелики гаспадин царь явуз! О, фелики спасипо, косутар! – Схватил Ахмет-хан его руку – целовать. – Я тфой ферный собак!
Отдёрнулся, махнул чётками:
– Иди уже, старина. Потом ещё дам, а пока больше нет – твой царь всё моё царство выпленил, казну пожёг – чего вам от меня, сирого да босого, ещё надобно? Обнищал я через твоего царя, Ахметка, еле-еле душа в теле теплится! Не знаю, как завтра калачи печь – мука́ дорога… Деньги – йохтур, даже ясак Девлет-Гирею платить нечем!
Услышав про ясак и поняв, зачем его вызывали – предупредить, что дани пока не будет, – но радуясь золотому подарку, Ахмет-хан с поклонами тихо исчез за дверью, прикрыв её без звука.
От этого малого, но хорошего дела на душе стало спокойнее. Да и вообще тут, в Александровке, он чувствует себя куда лучше, чем в Кремле, где всё напоминает о мороках детства, а каждый угол смердит страхом. А главное – в Александровке нет скопищ людей, кои с годами стали пугать, злить и раздражать, – а раньше упивался властью, порой, правда, искренне недоумевая, почему все подчиняются его слову? И казнят, и умирают, и ходят в походы, и женятся по его приказу, даже без слов, токмо по движению бровей. Да будь он на их местах, давно бы такому кровососному зверю глотку где-нибудь на большой дороге перегрыз и царский обоз с казной в леса увёл. А они – нет, скачут вокруг колымаг, охраняют, служат…
У Ваняты Шигоны все шурья казнены, а он мне верен по гроб! У князя Свирида Муромского опришники устроили в доме погром, перенасилили дочерей, у сыновей отрезали муде и запихнули в рот князю, от чего тот задохся, – а племянник его Васята в покорных слугах у меня! Я бы отмстил, как отомстил проклятым Шуйским и иже с ними! А эти – нет, молчат, пятки лижут, даже не жалуются!
Так думал – и вдруг перепугался: а ну все в один день по сговору перестанут повиноваться?! Как в том сне, что посещает его: он кричит, разоряется, приказывает, аж пена с губ летит, а людишки стоят – и хоть бы хны, только в усы ухмыляются, бороды оглаживают, в затылках чешут, потом зады показывают и уходят, а он остаётся один, с разинутым в крике ртом…
Ну, всё. Иноземцев принял, а свои пусть или уезжают, или ждут – не сахарные, не растают.
Высунулся в окно и велел нескольким оробевшим шептунам-боярам из Думы, куковавшим возле крыльца, отправляться обратно в Москву:
– У вас, глупендяев, в Кремле свой царь, Семион Бекбулатович, а я тут при чём? Пошли прочь! Не до вас!
Велел Прошке нести обед и подать свежее исподнее – прежнее провоняло от пота, обильно вышедшего в ненужных разговорах. Что-то потеть зело стал – по утрам даже бородёнка мокра… Только из мытной бочки вылез – а опять потен весь… Батюшка Василий тоже перед смертью потел сильно – ещё, помнится, Мисаил Сукин, от ложницы не отходя, уксусными тряпками ему лоб оттирал…
Были рыбные дни. При виде варёной осетрины вдруг вспомнил, что надо наказать повара Силантия, коий, сказывали, недавно съел звено от осетра, а это царская рыба и есть её мужицким ртам запрещено под страхом плахи, что всем с малолетства известно.
– Где Силантий?
– Какое? – притворился Прошка.
– Такое – дружок твой Силантий, что царскую рыбу посмел сожрать? Не ведаешь? Иди тогда на кухню, скажи, чтоб дали ему двадцать батогов.
Прошка, как и ожидалось, начал защищать закадыку:
– Не многовато ли, государь? Не выдюжит он, хлипок на тело. А повар отменный! Да и не жрал он той рыбы, кошка её стащила, а на Силантия сказали…
Оборвал Прошку, обмакивая кусок осетрины в гранатовую выжимку (так его научила покойная жена, черкешенка Мария Темрюковна):
– Я лучше знаю, кто что съел. Десять батогов оглоеду – и ни палкой меньше! Взяли дело приказы херить! Я вам, скотам, голытьбе фуфлыжной, покажу, как своего хозяина на позорище выставлять! Радуйтесь, что зарок дал кровищи не пускать, не то… А? Вот уже послы в своих наветах по всему миру меня ославляют! Пошёл на кухню исполнять! – Запустил в Прошку мягким чёботом (подарком карельских прихлебал). – И не смотри на меня колом, смотри россыпью, не то глаз лишу!..
Прошка исчез, а он подкрался к окну, чтобы проследить за слугой. Всё надо проверять! Вот пойдёт Прошка на кухню сказать про батоги – или обманет? Всё самому. Да что делать? Бог так возжелал, чтобы он был для своего народа и защитник, и судия, и заботливый отец, и хозяин. Скипетродержец. Веригоносец. Отреченец? В скитники собрался, а сам – белорыбицу наворачивать и братьев своих батогами потчевать! Таково-то нам Христос велел? Не по-христиански выходит, а по-вражески!
А с ним кто по-христиански обходился? После гибели батюшки и ядоубиения матушки Елены проклятые Шуйские пинками загнали Ивана Телепнева-Овчину, единственного защитника, в подвалы Разбойной избы, обвинив в том, что он якобы во время чумы не жёг дома целиком, как было Думой приказано (занедужил на дворе один – запирай ворота и жги весь двор скопом, не разбирая, больной ли, здоровый), – и этими поблажками чуме содействовал. Посадили Телепнева в каменный шкап и не давали ему пить и есть, отчего тот вскорости своим ходом и отдал Богу душу.
А мамушку-кормилицу Аграфену Челяднину грубыми ножницами обкорнали и в крестьянском возке в дальнюю морозную обитель сослали за то, что она с матушкой Еленой близка была и детей, Ивана и Юрия, только хорошему и богобоязненному учила…
Не отослали б её – так, может, и вышел бы из меня богобояз какой богомольный. А так – получайте, что заслужили, скоты боярские, столько зла сотворившие, что не рассчитаться с вами до Страшного суда, а там ужо посмотрим, чья возьмёт! Даже щенка любимого Игруню Шуйские придушили – он-де ножки у лавок грызёт и на персиянские ковры гадит. А чьи эти лавки да ковры? Ваши? Нет, мои!
И ныне покоя нет. Вся держава – на одной моей шее! Границы беречь, с врагами воевать, столы праздничные накрывать, кого куда на кормление посадить, кого отсадить, кого осадить! Да есть ли у папского посла, будь он неладен, в его московском дому тёплое отхожее место, приличествующее его персоне, тоже мне обдумывать! Сколько голова одного страстоносца всякой мирской гили и сора вместить может?
Всё, всё самому проворачивать надо! А кому поручить? Недосмотрят, недоглядят, украдут – что, не знаю? Крадун-народ! Ни топор их не устрашает, ни пряник не прельщает! И ведь немцы или шведы тоже крадут, но немец украдёт – и в дело вложит, чего-нибудь мастерить, печь-варить примется, а наш стырит – и скорее в шинок, к скоморохам, дударям, гусельникам, проблудам! Или тому же немцу вроде Штадена спустит за четверть цены в кабаке, а проспится – и давай опять тащить, что плохо и хорошо лежит!
Недаром же говорил князь-инок Вассиан, что врач должен быть без сомнений – если у больного гангрена, то ногу надо отрубать! А если начинает впадать в тлен целый народ, то гнойники надо безжалостно выжигать, а это значит хватать учинителей и зажиг, тащить на лобное место и казнить их страшными казнями, дабы у остальных волосы от страха по всему телу шевелились! Чтобы неповадно было красть и грабить, чтобы потом на плаху не всходить, где их всегда будет терпеливо поджидать хмурый топор-мамура[34], угрюм и пузат, и сестра его, петля, худа, скучна и молчалива…
И это говорил Вассиан, мухи не обидевший! А Мисаил Сукин, наоборот, говорит, что людей своих жалеть и прощать надо, – тогда и народ свою любовь выявлять будет. А мало ли он, Иван, по молодости и прощал, и жалел, и любил, когда с чаровником Алёшкой Адашевым и попом Сильвестром водился? И что получил за то якшанье? Одни измены и подлости, новгородскую ересь, козни, распри, много чего всего ещё худого, и не перечесть! Вот и взвешивай теперь на весах: прощать или карать? Как человече я всех могу понять и простить, а как царь – никого! Не имею права, так уж исстари заведено! Начнёшь прощать – тут же на голову лезут. Как человече я – тих и робок, как царь – зол и грозен, ибо по-другому правления не удержать! О Господи! Укажи, как дальше жить: душу ли свою нетленную горючим смирением спасать? Или дыбы на площадях возводить?
Скоро Прошка вернулся, прогундосил, глазной синяк щупая:
– Батоги завтра Силантию отвешают. А к тебе янычарь явилась. Саидка с баскаком Бугой. Возле ворот стоят, со стражей говорят. Стрельцы их охрану, троих нехристей в шапках с лисой, пропускать не желают.
О! Это радость! Как раз о них думал и ждал!
– Пусть в башенку идут, ждут, – приказал, а сам пошёл прятать в тайник золотую цепь Тедальди.
Вот шаги наверх, в башенку. Разговоры мимо двери.
Да, это голос баскака Буги. Этот молодой татарин явился на Москву после взятия Казани – тогда по всем улусам полетели царские грамоты, в них на службу к московскому владыке приглашалась не только казанская знать, но все подневольные чёрные ясачные люди: пусть идут к государевым бирючам на запись, не боясь ничего, а кто лихо им будет чинить, того Бог накажет; но и сами они пусть лиха не делают и исправно подати платят, а уж царь позаботится, чтобы их деньги никто не украл, чтобы пошли они на добрые дела, а не в боярские ненасытные стомахи, кои всю державу с потрохами переварят, если им слабину показать…
Буга прибился толмачом к Торговому приказу, где его и заприметили: приглянулся смелостью речи, хотя, когда толмачил, говорил по-татарски куда дольше, чем было говорено государем; когда же был спрошен об этом, то объяснил, что в глупом татарском языке нет многих слов, какие есть в великом языке россов, посему этим тёмным татарам надо всё по десять раз объяснять. «Да и отупели они совсем от ханки!» – добавил Буга в сердцах, а царь, вспомнив, что слышал недавно это слово от волхвов, спросил: «А что это такое – ханка? Говаривают, от болей зело помогает и в райские кущи переносит? Есть у вас?» Буга перевёл татарским послам, те закивали шапками с лисьими хвостами: есть, есть у нас ханка, как не быть? – и обещали принести. Среди послов был и Саид-хан. Самый молодой, он быстрее всех успел сбегать в караван-сарай и, встав перед царём на колени, подал ларец с чем-то тянучим, пахучим, тягучим. «И шикатулика пирими, велики кинясь и цар!» – «Конечно, приму, отчего не принять?»
Тотчас было сделано так, как научил Саид-хан: проглотить кусочек горького зелья и запить горячим сбитнем. И скоро боли улетучились из костей, а сила духа прибавилась сполна, да так, что он, окрылённый, поспешил в церковь, встал на клиросе и долго пел вместе с певчими, пока не поперхнулся от пересохшего, как русло в теплынь, горла. Потом ушёл к себе, где до утра лежал без рук и ног, а дух его витал в дебрях, куда раньше никогда не забредал. Под утро явилось страшное: преогромный дуб цвёл кровавыми головами, а ствол древа вырастал из чрева лежавшей навзничь в грязи матушки Елены…
Назавтра вызвал Бугу и велел забрать у послов всё зелье, а Саид-хану поручил возобновлять для него запасы ханки – для сего была выдана проходная беспошлинная грамота с царской печатью на все посты.
Саид-хан был молод и смирен, заботился только о барышах и купле молодых девок на вывоз, на государя глядел с подобострастием, говоря: всем в мире известно, что царь Иван Васильевич – самый великий, мудрый и могучий. «Что, и вашего Чингис-хана Темучжина величе и мудрее?» – хитро спрашивал, на что Саид-хан отвечал так же хитро: «Темучжин из рода Борджигинов мёртв, а ты, великий царь, жив, да продлит Алла дни твоей жизни!» – «Ваш-то Алла мои дни укоротить хотел, да не вышло, а вот наш Бог пока милует. Да я сам Чингизид через матушку Елену, коя была в сродстве с Тулунбек-ханум, а та – жена самого хана Тохтамыша! Ну, показывай, что привёз, что увезти думаешь».
И печалился, когда Саидка бесхитростно говорил, что увозить из Московии, кроме воска, пеньки и сушёной рыбы, нечего, а этого ему не надо. «Ничего, и у нас всё будет, дай Бог от бед очухаться, шведов одолеть, от немца отбиться, поляка усмирить и ваших татар, кто ещё не замирен, на место поставить. Врагов кругом прорва, завистников и нахлебников неблагодарных – тьма, со всех сторон все от державы куски оторвать норовят!»
Ну, пора.
В башенке Буга и Саид-хан топтались у стены без обувки под неприязненными взглядами охранных стрельцов. Их войлочные сапожки стояли в сторонке, возле большого мешка, перетянутого верёвками из верблюжьих хвостов, и кисы поменьше.
Башенка была разделена на две части: в одной умещён громадный стол, взятый в Новгороде вместе с другой утварью, громоздкие стулья с длинными спинками и дубовое разлапистое резное кресло – его матушка Елена привезла с собой из Литвы. В другой части на толстом ковре набросаны подушки-мутаки, лёгкие стёганые матрасы. Когда на поклон являлись фряги, то бывали приняты за столом, когда с востока – на полу, на подушках возле круглого низкого столика-дастархана.
Статный, черноусый, с замысловатой бородкой и бараньими глазами, Саид-хан в своём белоснежном халате с золотым шитьём смотрелся белой вороной среди серых каменных закопчённых стен. И небо за бойницами тоже было сине-серо, в изрезах чёрных туч.
«Как же так? – смутно мелькнуло в голове, когда неслышно вошёл в башенку. – Только азиатец тут светел – а мы темны, выходит?»
Татары бросились на колени, схватили по руке, поцеловали.
Разрешил им сесть на подушки, продолжая рассматривать халат Саид-хана, и даже потёр ткань пальцами:
– Ткань знатная, лепая, красивая. Откуда? Камка, что ли?
Саид-хан тут же стал стягивать халат, зная порядок: если царь что-нибудь хвалит или просто смотрит на вещь – сразу снимать, отдавать, дарить.
Отмахнулся:
– Не надо. Шёлк китайский хорош! Играет! – Знал толк в красивых вещах: в рундуках и сундуках – прорва шитых окатным жемчугом кафтанов, ферязей с золотыми набойками, горностаевых ермолок, мурмолок на норке, дорогих шуб, бахил – хотя сам ходил в монашеской рясе, коей вполне хватает грешное тело утеплить.
Саид-хан с новыми поклонами ответил:
– В Кашгари халата покупила…
Засмеялся:
– Э, да ты никак по-нашему не научишься, Саидка! Посадить тебя в яму к колодникам – живо балакать станешь! В темнице ученье впрок идёт, особливо ежели палкой подкреплять… А? Хочешь в застенок? – Видя, что Саид-хан от страха изменился в лице, успокоил: – Это так, для смеха говорю. Расскажи, где был, что привёз? Ханка где?
Татары подтянули мешок, стали развязывать тугие верёвки. Обнаружился – в белом чистом плате – шар смолы с младенческую голову. Шар был тёмен, ровен, блестящ – его явно долго катали чьи-то заботливые руки, пока не довели до шелковистой гладкости.
Оживившись и втягивая большими ноздрями хищного носа пахучий терпкий запах, ткнул шар пальцем:
– Вот так колобок!
Шар покатился по ковру, Буга, поймав его, бережно положил на низкий столик.
Запах возбудил. Сковырнул длинным ногтем мизинца кусочек и отправил в рот (Буга бросился подавать настой иван-чая из заварочника, поставленного Прошкой на две свечи, чтобы не остывал).
– Горький… – поморщился, катая шар по столу и приговаривая: – Колобок мой, колобок… без тебя я изнемог… ты лечитель всех тревог… счастья исток… блаженства глоток… радости сок…
– Чем горче – тем лучше, государь, – поспешил напомнить Буга, разливая настой по пиалам.
– Без тебя знаю. А ты, Саидка, получишь за него, как всегда, пяток соболей и рубль. Иди завтра с Бугой в Пушной, бери. – Отмахнувшись от очередного поцелуя руки, отхлебнул из пиалы. – Где быть изволил? Что повидал? – Услышав, что Саид-хан ездил по торговым делам в Китай и заехал в Кашгар за ханкой и тканями, спросил: – Ханка разве не у тебя на Алтае растёт? Нет? А где?
Саид-хан объяснил, что этот опий собран в Белуджистане, в вилайете Гильменд, у пуштунов, где родится наилучший в мире мак и откуда идёт караванами, морем и сушей в разные стороны:
– А моя зинакоми купца мине в Кашгари давал харош тафар.
Подбросив шар на ладони, оценил:
– Фунта три, не меньше…
Саид согласился:
– Да, китайц весил, сиказал – тиридцать шесть лян вес…
Пересчитав в уме, подтвердил:
– По-вашему, по-алтайски, тридцать шесть лян – это одна десятая китайского кхала, – чем поразил Саид-хана: «Откуда царь всё знает?». – Да уж знаю… Я всё должен знать. Яхши?
Татары зацокали, а он, ощущая радостное расслабление в руках и ногах, а в душе – лучики беспричинного веселья, отщипнул от шара ещё немного и запил настоем, интересуясь, как живут люди в этом хвалимом Кашгаре:
– Я-то сам никуда за пределы моего царства не хожу, негоже мне по соседям шастать. А каково живут люди в других царствах – любопытно знать. А ты завертай его обратно! – выкатил шар Буге в руки.
Баскак начал заворачивать опий в тряпку. Остановил его, достал из чёбота нож и, откромсав кусок от ханки и спрятав его в тайный корманец, сам раскатал зелье в ровный шелковистый шар, отчего руки у него стали пахнуть резко и буйно-пряно, как поле в сенокос. Шар был завёрнут в плат и спрятан в мешок.
Когда все отпили из пиал, Саид-хан поведал, что шёл в Кашгар через землю Бадахшан, где много городов и сёл, народ храбрый, молится Мохаммаду; потом поднялся в горы, лучшие в мире пастбища видел: самая худая скотина жиреет там в десять дней, и диких зверей множество, а более всего там больших баранов, у коих рога толщиной в три ладони, из рогов тех пастухи выделывают чаши и кубки, из них едят и пьют. А птиц нет совсем оттого, что высоко и холодно. И от мороза огонь не того цвета, как в других местах…
– Каков же он?
– А сини, как неби.
Потом Саид-хан шёл через земли, где людей приносят в жертву идолам, а жители злы и дики: кроме лука, стрел и каменных ножей ничего не знают, но очень сноровисты, живут охотою и рыбой, одеваются в звериные кожи и на пардов с одним ножом ходят. А Кашгар – большой и знатный город, народ там торговый, сады есть и виноградники, и хлопок родится, товара на базарах много, и ханка дешева и убойна, а бабы все распущенны и продажны – за одну деньгу все с тобой ложатся, и делай с ними что хочешь. И много голых людей по улицам валяется, милостыню просят или так лежат, без дела. И душнота стоит неимоверная от жары. А народ тамошний хоть и богат, но скуп – ест и пьёт скверно.
Это развеселило: богатые – а пьют и едят скверно! Зачем тогда богатство? С собой не унесёшь, в последней рубахе кишеней[35] нету!
Вспомнил:
– А то, что люди голы по улицам валяются, так это у них в жарких странах обычай таков! Ещё Афонька Никитин, что при деде Иване в Индию угодил, сказывал, что в Индии простой люд наг ходит, волосы в косу заплетены, только у тамошнего князя одна фата на голове, а другая на срамном месте. А простое бабьё голым ходит, и гулящих девок много, и они тоже зело дёшевы: за одну деньгу – хороша будет, за две – очень хороша и свежа, а за три – красавку или чёрного-пречёрного мальчика получишь… Где жарко – там дорога до греха коротка. Протяни руку – и наткнёшься на нагую плоть, а бесям только того и надобно, они любят перси и ляжки уминать. А с нашей барыни пока шесть панёв стащишь и пять нагольных рубах задерёшь – умаешься ещё до главного дела да плюнешь!
Саид-хан вытащил из-за пазухи свёрток:
– Шень-жень…
Поворошил сухие крепкие отростки:
– А, бабья радость… Что хочешь за него?
Саид-хан что-то зашептал Буге на ухо.
– Что? Что?
Буга ответил:
– Саид говорит, что всю жизнь будет возить тебе без мзды и корысти всё, что пожелаешь, только соизволь ему малую, самую малую деревеньку с самой малой толикой людишек подарить, тут где-нибудь, под Москвой, а то когда он приходит с караваном, то и сапоги некому стянуть…
Усмехнулся:
– Он же к тебе, Буга, в гости приходит? У тебя что, слуг нет, чтоб с него сапоги стягивать? Ишь чего захотел! В обмен на ханку – живых людей заполучить? Губа не дура!
Саид-хан вдруг засуетился, развязал кожаную кису и извлёк оттуда увесистый ларь в две ладони толщиной. В нём – какие-то разноцветные бруски: серые в красную крапину, жёлтые с черными выпуклями, прослойчатые, узорные:
– Эта, фелики касутар, разни персидки силадость… Сами лючи в мир… В лёде вёз, лёду менял…
Отщипнул от печёного:
– Аха-ха, ну, сладенькое я люблю, да зубов уже нет. – А Саид-хан, указывая поочерёдно на куски, объяснял: вот пахлава с орешками и кардамоном, это яр-дар-бехешт из рисовой муки и розовой воды, а тут тахинная халва из сахара, шафрана, фисташек и миндаля.
От съеденной пахлавы ханка зашевелилась в животе. Пошло нутряное разжжение, благостные струи стали омывать тело. Отколупнул ещё от печения, забросил ощипки в рот:
– Рахмат, катта рахмат, лады. Скажи ему, скоро буду перебирать уезды, присмотрю для него в подарочек сельцо какое-никакое… А вот пусть он лучше скажет, как дошёл сюда, когда Волга перекрыта из-за холеры и всюду мои дозоры стоят? – вспомнил вдруг.
Саид-хан смутился, стал что-то шептать Буге, уставившись встревоженными глазами тому в ухо.
Услышав знакомое слово, вцепился в Бугу:
– Что? Он сказал – бакшиш? Бакшиш?
Буга подтвердил:
– Да, государь, он давал бакшиш – стража брала и пропускала его… Говорит, что за бакшиш в Московии куда угодно пройти можно…
Благости как не бывало. Вот оно, проклятое несчастье! Курочка по зёрнышку клюёт, а весь двор в помёте! Зачем Саидка давал – понятно: хотел пройти, а вот зачем стража брала, когда им известно, какие кары могут их настичь? Эту ржу надо корчевать! Но как? Что толку в указах, если они не исполняются, а людишки только о брашне, барыше да бакшише думают?
Гнев стал заливать изнутри. Ком чёрной ярости толчками просился наружу. Взбудоражившись и вскочив на ноги, велел страже приволочь стрелецкого воеводу Илию Зазнобина – этот пёс как раз в крепость с отчётом явился, главный ответчик за сторожевые дозоры на дорогах, на кои помесячно из казны большие деньги выдаются. А пока ждал, то ходил, как зверь в клетке, ступая мягко, твёрдо, упористо (от ханки все боли прошли), мимо оробевших татар, туда и обратно, а те уже не рады были, что сболтнули про бакшиш, рассердив этим государя.
Когда пухлый, весь какой-то жухлый и тухлый Зазнобин с сальным от еды ртом был доставлен из трапезной, его встретили удары посоха:
– Так ты, свинья злосмрадная, мои приказы блюдёшь? Так от холеры народ бережёшь? У тебя под носом люди с верблюдами по закрытым путям шныряют, бакшиш давая, а тебе хоть бы хны! Жрёшь, аж за ушами трещит! Мастер Барма за мзду проходит! Рыцаря Хайнриха за полушку пустили! Этот целый караван привёл! А если лазутчики придут меня убивать – их тоже пустишь за тридцать сребреников, ирод иудомордый? Разожрался! Стомах в три обхвата, зараза холерная! Куда от моего гнева спрячешься? Из-под земли достану, а потом, после мук, обратно закопаю! Эйя! Взбутотенить его как следует! – крикнул он охранникам.
Те сплеча начали оглаживать виновного плётками.
Зазнобин повалился на пол, заверещал по-бабьи:
– Спаси тя Бог за науку! Учи нас, неразумных! Спаси Бог за учение, государь!
Попинав воеводу и приказав отправить его в подвалы до разбора, немного попритих, но вырвал у Буги пиалу и выплеснул жидкость на Зазнобина:
– Проклятники, изменники! Никак их не обуздать! А всё вы, татаре, виноваты! После вас народ вороват и мздоимен стал! Захрума на вас, проклятых нехристей! – Воздел руки: – О Господи! С Божьей помощью от татар избавились, а вот от самих себя избавиться не в силах! Из-под татарской палки под свою дубину угодили! И вот как, скажи мне, хан, такими-то людьми править?
– Я – чито? Тих-тиха Алтай сишу… – начал оправдываться оробевший донельзя Саид-хан.
Не слушая, выкрикивал своё:
– Всё делаю для них, дни и ночи не сплю, а с них как с гуся вода! Мало, видать, кнутом потчую! Небось при татарах народ смирен был, на чужое рот не разевал! Боялся воровать – у татар разговор короткий: украл – аркан тебе на шею, и на дерево пожалуй! О Господи! Уж мозолина от молитв взошла, а им всё нипочём, кознодеям! – хлопнул себя по лбу, где темнела шишка, набитая при молениях. – Ох, тяжко! Безысходно!
Татары сидели, не смея поднять глаз.
А ему стало жарко. И начало казаться, что у гостей пованивают ноги, чего он терпеть не мог, и даже отправил из-за этого (но под другим предлогом) в монастырь одного из своих двоюродных дядьёв, любившего повторять вслед за татарами: «Кто смывает с себя грязь – тот смывает с себя счастье».
Решил отпустить татар, сказав, чтобы Саид-хан пришёл к нему через пару дней на беседу. Не успели они влезть в свою обувку, как из-за дверей раздался Прошкин голос:
– Государь, вызванного брита Глетчера привезли.
– Ах, брит! – вновь стал закипать: «Объявился на свою голову, нефырь усатый! Ну, держись! Попляшешь у меня!» – Тащи этого клеветника, только одного, без своры! Вы пока там прижукнитесь! – приказал татарам, сам же перешёл в другой угол.
Сел в кресло, взгромоздил ноги на стол, и стал возбуждённо оглаживать лицо и бороду. Когда появился Глетчер с Аглицкого подворья – большой, испуганный, рыхлый, с рыжими усами, в камзоле и ботфортах, – не спуская ног, сухо осведомился, как его высокоблагородное здоровье:
– Всё ли в порядке в дому, подаренном мною тебе от великих моих щедрот? Как живётся-можется, драгоценный словолюбец?
Глетчер начал что-то лихорадочно лепетать на смеси языков, а он смотрел в упор, наливаясь злобой на этого наглеца, посмевшего хулы воздвигать на его державу и народ, коий может выслушивать поучения только от своего царя, но не от бритов, немцев и других фрягов. Казалось бы, чего ещё надо? Принят царём, поживился обильно от царской милости, заимел двор с лавкой, людишек довольно, разрешение на торговлю своей бритской бормотухой, «брендя» по-нашему называемой. С царём обедает в праздники. Красаву-девку завёл. Чего ещё? Нет, неймётся ему! Беси под руку толкают – пиши гадостную ложь!
Ощущая горячие приливы зелья, резво соскочил с кресла, встал вплотную перед Глетчером:
– Ты на Москве жил с десяток лет, жировал как подобает аглицкому посланнику? Получил от Кормового приказа приказные записи на варку пива? Так? Так! Потом прятался у меня в Коломенском, чтобы пересидеть гнев своей королевы за то, что нагадил ей зело в торговых делах? Так? Так! Я тебя приютил, обогатил, денег, мехов понадавал? Понадавал. А почто ты, лжец фряжский, нами с ног до головы обласканный, ни с того ни с сего напраслину и клеветные турусы на меня валишь, что воняют хуже кала?
Глетчер испугался до синевы в брылях:
– О майн гад[36]! Не понимай…
– Сей миг поймёшь!
Метнулся к поставцу, порылся в грамотах и письмах – тут, в Александровке, их не прятал, как в Москве, а держал открыто под рукой. Нашёл измятые листы из Посольского приказа, где вскрывали, читали и, если надо, переводили всё выходящее из Московии (потом ушлые дьяки искусно обратно все тамги и подписи подделывали):
– Вот, перетолмачены твои писульки… Ты в слепоте своей непомерной клевещешь на наших купцов: ты якобы видел, как они, разложа свой товар, всё оглядываются, ибо боятся, нет ли поблизости кого из царских начальников, стрельцов или сынков боярских, отбивающих у них выручку или товар. А ещё что Московия – нищая страна, где народ предаётся лени и пьянству, не заботясь ни о чём, кроме дневного пропитания, ибо знает, что сильные мира сего его всё равно оберут и ограбят… Что же это такое, как не хула, не поносные, издёвочные слова? У вас говорят: нет плохих народов, есть плохие правители. Значит, я таков, худ и плох, каким ты меня тут представляешь? Да? Таков я? Каков хан, такова и орда, а? – надвинулся вплотную.
Глетчер, кусая губы и моргая рыжими ресницами, попытался возразить, что это писано приватно, знакомцу в голландский Утрехт.
Но царь, разгораясь и не обращая внимания на бубнёж и мычание, продолжал:
– А вот дальше хулы твои непереносимые о том, что из-за притеснений купцов главные товары Московии – воск, сало, кожи, лён, конопля – добывают и вывозят за границу гораздо меньше прежнего, ибо народ, будучи стеснён и лишаем всего, что приобретает, теряет всякую охоту к работе… И работают россы худо, если их не сечь, как скотину, а из бедности иногда продают своих детей в рабство… Где это ты видел такое, а?
Глетчер, дрожа нижней губой, развёл руками:
– Не панимай…
Но не отвлёкся на это, буравя брита злыми почерневшими глазами:
– Всё ты понимаешь, пёс! Вот уж правду говорят: язык мой – враг мой, прежде ума рыщет, беды ищет! И найдёт, будь уверен! Ты, собака, зачем под меня подкоп делаешь и перед всеми поносишь? Сколько можно такого позора терпеть? По Москве сказ ползёт, что ты вынюхиваешь повсюду, сколько у государя дворцов, да где его казна спрятана, да каково его войско, – это на что тебе знать, скажи на милость, а, Джек? Как тебя по батюшке? Слыхали, как Джек Джонович шпионит и лазутит? – крикнул татарам, те неодобрительно покачали головами, хотя ничего не понимали. – Ходит, ехидна асейская[37], по Москве, с непотребными людишками якшается, выспрашивает! Или разбойников в мои дворцы напустить хочешь? А? Или крымскому хану открыть, где на Москве ещё грабить осталось? Смотри, Джонович, не доводи до греха! Брось пакости демонские, писульки поносные на меня писать и меня перед её королевским величеством моей сестрой Елизаветой позорить! Не уймёшься добром – спознаешься с топором! Что за иудино окаянство на всех вас напало? Поветрие, что ли, такое – меня ложью и клеветой обкладывать?
Глетчер бормотал, утирая слезы:
– Ноу, ноу, нет, не псулька… не квинн[38]… не ветрие… я так… для один знакоми мэн из Утрехт…
– Да? Для знакомого? А вот эти пагубы дальше тоже для знакомого? Зачем пишешь, что из Московской Тартарии все умные люди сбежали? Что от Московии все умные страны отвернулись, бросили её на растерзание тирана и теперь ждут его смерти, чтобы разорвать Московию на части: север – шведам, запад – полякам да литовцам, юг – туркам, восток – татарам и китайцам? А? Чего? Тут написано! – Потряс листом, сильно хлестнул им Глетчера по щеке. – Да знаешь ли ты, что у моей Московии есть один, но главный заступник – Бог всемогущий! Он наш водитель и вожатый! Он нас одарил верой и правдой и благами земными и не даст сгинуть! А другие, кто нашу веру не примет, подохнет в огне, и капища их будут разорены, и самоидолы спадут с тронов!
Глетчер, схватившись за битую щёку, вскричал:
– Ноу, нет! О майн гад!
Это разъярило вконец:
– Гад? Гад? Мы гадов давим, а вы гадам поклоняетесь, нехристи, собаки! – С размаху ударил Глетчера посохом по ступне (тот с воплем рухнул на половицы), ухватил брита за волосы и стал рвать их, одновременно отпихивая его ногой для упора; по-разбойничьи свистнул татарам: – А вы чего? Ялла! Налетай на гада! А ну, татарча мылтык, гноби его! Янычарь его! Гой-да!
Татары, подскочив, принялись пинать брита, крича что-то по-своему, Глетчер выл, стараясь закрыть лицо. На шум ворвалась охрана, Прошка кинулся хватать за руки, крича и оттаскивая:
– Государь, государь! Опомнись! Чужак! Нельзя!
Татары, не зная, что делать, крутились как псы, пока Прошка не крикнул стрельцам:
– Тащи брита прочь! – И те за шиворот, как куль с ненужным барахлом, со стуком поволокли по ступеням стонущего Глетчера.
Излив свой гнев, отступил, утробно урча и хищно озираясь и радуясь, что натравил татар на брита, тем самым уязвив Глетчера ещё больней: одно дело получить по морде от царя, а другое – от диких торговцев. Ничего, будет ему, вору словесному, проучка, как клеветные наветы развешивать! И королеве своей не пикнет жаловаться – она на него сердита!
Наткнувшись на Саид-хана, схватил его за рукав халата:
– И ты давай балахай снимай! Мне как раз впору будет! Взяли обычай – без подарков к царю являться!
Саид-хан, пугливо и поспешно стягивая халат, стал лопотать, что его подарок царю был под Астраханью отнят дозорными, хоть Саид-хан и кричал, что это государева вещь. А была в том подарке птица серебряная из Китая: если ей в задок ключик вставить, крутиться, головкой кивать и петь начинала.
– Тебе в задок вставить – тоже запоёшь, – буркнул примирительно, напяливая с помощью Буги халат поверх рясы, но тут же строго переспросил: – Что? Отнят? Мой подарок? Кто посмел птицу мою отнять?
Буга ответил за Саида:
– Воевода Фёдор Вихря, в Астрахани сидка его… Он всех иноземцев, будь ты фряг или татарин, сам тягает на допросы и что может отнимает…
«А, Вихря… Змея злоподлая! Поставлен порядок блюсти, а сам чем занят? Конца и края этому нет! Сожрут державу за здорово живёшь, если им рук не рубить и за ноги не подвешивать! Ох, зря зарок на кровь даден, рано!»
Сев за стол, набросал несколько строчек и кликнул посыльного рынду – отправить в Астрахань приказ: дом воеводы Федьки Вихри обыскать, особо найти китайскую серебряную птицу, имущество изъять, в казну доставить, а самого Вихрю посадить в кандей на дознание, предварительно поставив за взяточные деньги на правёж, чтоб все, им обиженные, могли проведать о его греховодстве. Закон остр, что твой меч-акинак! Кто его преступает – попадает грудью на лезвие!
А потом пригорюнился:
– Что толку? Покараю одного – другой мздоимец всходит, третий, четвёртый… Такой собацкий обычай взяли… А всё вами, татаровьём проклятым, народ подпорчен! На вас все вины возлагаю! Пошли отсюда вон с глаз моих!
Татары, услышав такое, тихо попятились к стене, опёрлись о неё задами и, не отводя глаз от царя, начали ощупью надевать сапоги. А он, видя их страх, приостыл, схватил серебряную ендову, кинул Саид-хану:
– Держи, мурза! Не сердись! Хороша вещь! Дарю! Мир! Приходи через время, потолкуем про дальние страны!
Алтаец подхватил подарок, пал на колени, ендову поставил себе на голову и что-то залопотал. Буга начал переводить, но был остановлен:
– Благодарности приносит, понятно. Яхши, дружок, мархабат! Теперь всё, пора вам, гяльбура! Идите со своим аллахом!
Когда татары ушли, решил перепрятать от греха подальше привезённое зелье, а не то, чего доброго, украдут невзначай, как уже случилось однажды: забыл кусочек ханки на столе, а вечером стрельца, двери охранявшего, нашли без памяти; три дня мёртвый лежал, уже хоронить хотели, но очнулся и признался, что съел этот кусок, под дверями подслушав, что это – волшебное целебное снадобье от всех болезней… Еле в себя пришёл. Да, не всякому ханка по разуму! Недаром от слова «хан» произошло: кто её поймёт, тот и хан своей жизни, владетель своей души, от всех болей телесных избавлен и многоумным ходам обучен.
Спрятал сладости в поставец, прикрыв их блюдом от мышей и тараканов. «Надо снести заморские заедки в ледник, не то растекутся в тепле». Свёрток с корнем шень-жень сунул в секретный ящик. Подхватил мешок с опиумом и, отгоняя тычками посоха слуг, самолично поволок по лестнице в подвалы, где было много схронов, известных ему с детства, когда они с дружком Никитой Лупатовым лазили по подземельям, обыскивая ниши и углы, разводя костерки, жаря на палочках голубей и уминая их с толокном, краденным из кухни.
По пути в подвал подвернулось на ум, что надо написать одно жалкое секретное письмо Семиону да так его передать, чтоб оно стало в Думе исподтишка известно. Вот хотя бы Буге поручить снести его в Посольский приказ, а там уж дьяки сами знают, что делать, – небось со всех переписей тайные списки снимают и своим людям в Думе продают, казнокрадные люди! Ох, любит, любит всяк подьячий калач горячий! За деньгу всё продать готовы, ибо с сызмальства только и слышат от отца и матери: у рака-де мощь в клешне, а у богатея – в мошне, посему хватай что можешь – завтра будет поздно!
В подвале, надёжно запрятав ханку в сухой сундук рядом с коробами шафрана и кардамона, задул свечу и полез назад, чувствуя, как от ханки шатаются мысли и морщится дух, словно танцующий над какой-то страшной, но этим притягательной бездной.
На лестнице тёрся келарь Савлук в шапке-аблавухе[39].
– Тебе что? – подозрительно ткнул келаря в бок, одновременно мельком ощупал его спину (нет ли ножа?). – С тела чего-то спал, охудал?
Савлук, ворочая оловянными глазами, стал гнусаво шептать: в питейном подполе недосчитано двух сороковуш с морсом и пяти бочат с сычёным мёдом:
– Под охраной были, а ныне словно дух святой упёр!
– Не до морса! Руку подай, помогай!
Но Савлук не унимался и успел гнилым шёпотом сообщить, что, говорят, давешней ночью все людишки в Александровке увидели один и тот же сон: будто в слободу явились медведи, стали драть скотину и рвать людей, но возник какой-то суровый святой, громовым голосом отчитал зверей и хворостиной, как гусей, угнал их обратно в лес.
Отмахнулся:
– Глупотень на плетень! За важным следи, на дурьё не западай! Иди за мной!
В келье сел в кресло, велел подтащить мутаку и уставил на неё ноги, чтоб на холодном полу не морозить. Савлуку приказал отойти подальше, не смердеть бараньим тулупом и взять на полке бумагу, чернила, перо:
– Писать будешь!
– Чего писать? – оторопело переспросил Савлук. – Про медведей? Или про мёд? Донос?
Усмехнулся:
– Сдрейфил? От доноса до поноса – близко! Нет, письмо. Сам бы писал, да руку в локте тянет.
– А чего, писари… того? – стал озираться Савлук, но услышал приказ.
– Начинай! Гусьи лапки открывай. «В 7083 году великому князю государю Семиону Бекбулатовичу подали сию челобитную князь Иванец Московский и детишки его…»
Савлук сглотнул ком, исподтишка обалдело покосился на царя – не ослышался ли? Какой такой Иванец Московский? Дети? Челобитная? Кому? От кого?
Но нет, слышит дальше ещё закомуристее:
– «Государю великому князю Семиону Бекбулатовичу всея Руси Иванец Московский со своими детишками Иванцом и Федорцом челом бьют, чтобы ты разрешил бояр, дворян, детей боярских и людишек дворовых поделить. Некоторых разрешил бы ты, государь, тебе отослать, а некоторых милостиво разрешил бы мне от тебя принять. И с твоими государевыми приказными людьми разрешил бы обмениваться грамотами. И милостиво дал бы нам выбирать и принимать из всяких людей, кто к нам придёт. И разрешил бы ты нам, государь, отсылать прочь тех, кои нам не нужны…»
– Надёжа-царь! Мало что у татарина милости просить, ещё и с полдюжины раз жалкое слово рядить? К чему сей частокол? – не выдержал Савлук, не успевая строчить это змеиное шипучее «разрешшшил», то и дело вылетавшее из царских уст (он не боялся перечить царю, младенцем тетёшкал его в слободе, да и знал: чему быть – того не миновать, царь дельному слову внимать изволит, а задолизов и подмазников не особо жалует).
Он откликнулся несколько смущённо:
– Не твоего ума дело, старый хрыч! Пиши как велено! – Не объяснять же Савлуку, что эта словесная мотня, жалобная мишура должны показать смирение и почтение – как ещё малый князёк Ивашка Московец должен писать великому царю Семиону, если не причитая, не припадая ниц и не прося разрешения? Но полдюжины раз – это да, лишнее. – Ничего. Поправим. Гони строку дальше. Гусьи лапки… «Когда же мы, государь, переберём своих людишек, мы принесём тебе их поимённые списки и уже с того времени без твоего государева ведома ни одного человека к себе не возьмём. А показал бы ты, государь, милость: запретил бы у тех людишек, коих мы примем к себе, отнимать вотчинишки, поместьишки, деньжонки и всякое их рухлядишко…»
– Хе, вот трясогузкин язык! Деньжонки! Рухлядишко! – мотнул головой Савлук. – Словно детям на усладу! Иль для пущего сраму, что ль? Языком изъязвить?
Назидательно пристукнул посохом:
– Для порядка. Чтоб царю Семиону покорство и послушание выказать. Корябай далее… «И разрешил бы ты, государь, тем людишкам, кои захотят быть у нас, быть у нас без опалы от тебя, и запретил бы ты отнимать их у нас. Да окажи, государь, милость, укажи нам своим государевым указом, как нам своих мелких людишек держать: записывать ли их нашим дьякам или брать на них у тебя полные грамоты? Окажи милость, государь, пожалуй нас ответом! Об этом мы бьём тебе челом. Иванец Васильев со своими детишками Иванцом и Федорцом».
Савлук вошёл в смешливый раж:
– Может, «бьём челобишком» писать? Так и так, бьём челобишком, окажи милостишку, дай грамотишку?
Вяло погрозил посохом:
– Молчи, скорохват! Перечти!
При чтении удовлетворённо кивал головой: да, верно, истинно так! Письмо с первого вида простое, даже будто шутейное, но из него придётся Семиону и боярам в Думе узнать, что грядёт новый делёж людей и передел земель, пусть готовятся и не ноют потом, что их врасплох застали. Что моё – то моё, а что не моё – то подлежит разделу. Так-то!
Савлук, посыпав песком бумагу, пробормотал:
– Писал, писал, а чего – непонятно! Кого делить? Зачем? Какие людишки?
Но ответа не получил и был отослан с приказом разузнать про сон, медведей и святого – кто таков был? Нет ли там волшбы или колдунства? А пропажа бочат с мёдом будет разыскана, и очень не поздоровится тому, кто их покрал, а особо – Савлуку, если выйдет наружу, что он сам их слямзил, а теперь на Духа Святого сваливает, у коего рук нет, а небесного нектара вдоволь – зачем ему земной мёд?
После письма и горячего ночного питья ослабел: остатки ханки растворились в утробе и залили тело счастливой истомой, рукой не шевельнуть. Был раздет и уложен слугами без молитвы.
Засыпая, урывками думал, что вот если Савлук – вор, то его надо наказать, а как же быть с прощением? Даже разбойный убойца Варавва был прощён, не то что Савлук с мёдом! Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас… Но как, Отче, если душа топорщится на недругов, сердце восстаёт на врагов, тянет на обиду ответить обидой?
А сколько он, Иван, за свою строгость осуждаем был! И боярами! И Собором! И причтом! Как Филипп Колычёв донимал его своими криками, что царь-де демонским глаголом народ на плохое разжигает! И никак было не объяснить опальному митрополиту, что грядёт 7077 год конца света, для чего люди должны в земных мучениях, на дыбах и кострах, очистить свои души, дабы встретить Судный день чистыми и безгрешными. Для того и опришня была к жизни вызвана. И пыточные му́ки из древних книг выписаны. И палкачи всяким выкрутасам обучены. А люди не понимали, думали – государь жесток, развёл зверское царение! От плах и виселиц бежали врассыпную, не понимая своего блага: мучаешься час – а блаженствуешь вечно! Да, в 7077-м второго пришествия не было, Бог миловал – ну и что? Не бойтесь, все ваши муки не напрасны, все вам зачтены, для мук и страданий времени нет, посему, раньше или позже, ваши души голубиную чистоту возымеют – для Всевышнего нет времени и места, всё едино в Нём!
– О Господи, прости, помилуй и образумь народ мой, сделай его послушным и покорным, ибо пуста власть царя без исполняющих!.. Ежели мне никто не повинуется – то какой же я тогда царь?.. Пресвятая Богородица!.. Спаси меня, раба грешного твоего, дай знак, как жить мне: по-людски или по-царски? Хуже нет холопа в собольей шубе… Человекоцарь разрублен, не собрать воедино… Дураки думают, что меня Иваном зовут, а имени моего не знают… А оно мне от Бога тайно дано – Тит Смарагд…[40] Камень с души не сваливается… Птица серебряна… Воры всюду и подлюги… – стало мешаться в голове, и так, постепенно угасая мыслями, затих.
В печатне
После полуночи, проводив Бугу и Саид-хана, проболтав с ними на крыльце и выпросив привезти вдругорядь чего-нибудь сладкого, весьма Прошкой любимого, слуги отправились в печатню.
Работа ждала их на столе, никем не тронута, – они привязали к листам волоски, чтобы узнать, не шныряют ли тут беси или духи. Но нет, всё чисто, даже мышьего кала нет, хотя по углам полно катышков – мыши доедали остатки переплётов.
Когда сели к работе, Ониська вдруг сказал, что ему противно писать списки разбойцев, уж лучше он за мертвяков возьмётся, но Прошка возразил: списки должны быть писаны одной рукой.
– Какой начаты – той и кончены! Ни убавки, ни прибавки, слово в слово, а не так – тяп и ляп, как кура клювом, туды-сюды, царь этого не любит! А те мертвяки, кто в синодик угодили, – так это их же вина! Не надо было государю перечить и претительных докук чинить!
Ониська не понял:
– До каких кук?
Прошка наставительно пересказал многажды слышанное в покоях:
– А неслухи, маркотники негораздые, непослушны зело! Не хотят его царскую длань признавать, хоть государь наш от самого кесаря Августа произрастает! Жили б тихо-спокойно – и ничего бы с ними не было. Так нет! Туда же, Ганзу им подавай, где якобы денег поболе и народ чище живёт. А от грязи ещё никто не умер! И тот плох, кто своей обвонью брезгует! Если свою отечеству любишь – то и дерьмо его люби, не брезгуй, ибо это твоё, родное, родимое! Вот и получили предатели-бояре за свои рады и сеймы по первое число! И правильно – что это будет, если чернь скопом править вздумает? Для того цари и короли имеются!
И добавил, что он при царе состоит с юношества, во дворах вместе в игралки бегали, всякое видел, но главное – царь неправды не терпит, измены искореняет, сам честен как святой и от других требует: если я-де могу жить в усердии и покаянии, то и вы обязаны.
– А те, ехидны, прохиндеи, ухорезы, лиходеи, упираются, не хотят по-хорошему, вот и огребают по-худому. Хлебнёшь?
Ониська не хотел (после сивогара он писать не мог, склоняемый ко сну), а Прошка, опрокинув стакашок, утёрся шапкой и веско заметил, что самое худшее, что может случиться на свете, – это разозлить государя:
– Тогда пиши пропало – никому не будет спуску!
И стал вспоминать, как крымский царюга Девлет-Гирей своим поджогом Москвы огорчил государя до слёз – тот плакал, крестился на церкви с расплавленными, словно железные оплывшие муде, немыми колоколами и клялся в голос, что отомстит. И через год при Молодях так дал под дых собаке Гирею, что тот, как паршивый пёс от пинка, бежал до своей Тавриды с великим визгом и скулёжом, армию потеряв, конных ногаев утратив и мамулюков-наёмников лишившись! Ещё бы! Наш государь собрал тьму наймитов – алеманов, зело страшных на вид и звук, да тысяч пять казаков-пластунов, крайне злых, до крови дюже охочих, да своих стрельцов многие тысячи! И так вломил басурманам, так вломил, что у крымцев оказались перебиты все янычары и мурзы, сын Гирея зарублен, внук Гирея взят в плен на обмен, а зять Гирея пойман, на кол посажен, на тележку водружён и без возницы вслед убегавшим крымчакам запущен.
– Стойте, мол, куда вы, своего зятька забыли! Таково-то государя обижать! Никому не дано! – заключил Прошка, раскладывая бумаги для письма, радуясь обалдению наивного шуряки и думая, чем бы ещё его удивить (что было совсем не трудно из-за Ониськиной простодушной молодости). – А хочешь знать, загузаха, почему государева рать победила тьму татарскую?
Ониська ахнул: да как не знать, ведь государь – самый великий володарь?
Но Прошка с язвинкой напомнил: сожгли же татары Москву, а где был тогда великий володарь? Сбежал с царским обозом под Вологду и сидел там, казну карауля и хвост поджав.
– Нет, победа сия – гуляй-города заслуга! Знатная придумка – град-обоз, вагенбург по-немчински! – И он пером набросал на обороте листа каракули с кривыми кругами, объясняя, что гуляй-город сделан пленными немцами из толстых щитов на колёсах так искусно, что эти щиты можно везти куда угодно и двигать как хошь, скручивать змеёй или разворачивать в ряд как защиту от стрел и пуль, а самим в ответ через бойницы стрелять; всем этим хозяйством гулявый воевода верховодит, у него свои городовики и мостовики – щиты латать и за колёсами следить.
– А растянут обоз бывает на версту! Идёт на врага стеной – что ты с ним поделаешь? Один вид этого вагенбурга диких ногаев в бегство обратил: их лошадёнки на дыбки повставали – и ни в какую! Янычарь, врага не видя, сама себя от ярости рубить стала! Ополоумели басурмане, прочь кинулись! Так-то государь за Москву отомстил!
И Прошка, допив из баклаги за здравие гулявого воеводы и всего военного люда, кто от нехристей и сарацинов державу защищает, с большой неохотой взялся за писанину, завистливо поглядывая на Ониську, борзо шуршащего пером: зелёный сопленос, здоров как бычок, а тут руки ноют, ноги стонут, день работай – ночь пиши, да кому жалобу подать? Кто пожалеет? Пиши – и всё! Видать, не все братья во Христе – кто-то Христовой роднёй только прикидывается!
Роспись Людей Государевых
Вавилин Суворец, Вавулин
Осипко Григорьев, Ванеев
Третьяк, Ванеев Фуфляй,
Вантеев Безсон, Васильев Агей,
Васильев Богдан, Васильев
Брага, Васильев Василей,
Васильев Гаврило, Васильев
Гриша («Истопники сто-
ловые»), Васильев Гриша
(«Уксусники»), Васильев
Девятой, Васильев Ждан
(«Колпачники»), Васильев
Ждан («Подключники»),
Васильев Ивашко («Государевы
царевичевы стадные конюхи»),
Васильев Ивашко («Стадные
конюхи»), Васильев Илейка,
Васильев Исачко, Васильев
Истомка, Васильев Куземка,
Васильев Максимко, Васильев
Матюша, Васильев Матюшка,
Васильев Мелех, Васильев
Михайло, Васильев Ондрюшка,
Васильев Онтонко, Васильев
Петруша, Васильев Петрушка
(«Свечники восковых
свечь»), Васильев Петрушка
(«Стадные конюхи»), Васильев
Потапко, Васильев Пронка,
Васильев Серёшка, Васильев
Сидорко, Васильев Старой,
Васильев Фетко, Васильев
Филат, Васильев Фомка,
Васильев Шемела, Васильев
Шестак, Васильев Ширяй
(«Подключники»), Васильев
Ширяй («Портные мастеры»),
Васильчиков Иванец Олексеев
сын, Васильчикова Борисовы
дети – Григорей, Назарей,
Васильчикова Ондреевы дети —
Григорий, Илья, Ватутин
Замятница, Вахрамеев Образец
Семёнов сын, Вахромеев
Ивашко Михайлов сын,
Вахромеев Михайло Васильев
сын, Вахромеева Семёновы
дети – Иван, Лёва, Ведерка
Ивашко, Вельяминов Останя
Ощоров, Верещага Иван
Никитин, Верещевской Ондрей,
Верхоглядов Бощашко Юрьев,
Весяков Иван, Ветошников
Ондрюша, Висков Афонасей,
Власов Васка, Власов Ивашко,
Власов Микитка, Власов
Петруша Иванов сын, Внуков
Всячинка Васильев сын, Внуков
Ивашко Васильев, Внуков
Никифор Васильев сын, Внуков
Осипко Васильев, Воеводин
Филка, Воейков Баим Васильев
сын, Воейков Богданец Борисов
сын, Воейков Данилко, Воейков
Десятой Мамышев сын, Воейков
Звяга Тимофеев сын, Воейков
Иван Васильев сын («по 15 руб-
лёв»), Воейков Иван Васильев
сын («по 40 рублёв»), Воейков
Иванец Борисов сын, Воейков
Игнашко Звягин сын, Воейков
Матвей Васильев сын, Воейков
Митка Звягин сын…
Синодик Опальных Царя
В Матвеищеве отделано
84 человека, да у 3 человек по
руке сечено.
Григория Кафтырева, Алексея
Левашова, Севрина Баскакова,
Фёдора Казаринова, инока
Никиту Казаринова, Андрея
Баскакова муромца, Смирнова
Терентия, Василия Тетерина,
Ивана Селиванова; Григоря,
Иева, Василия, Михаила
Тетериных, да детей их
5 человек, да хозяина брата;
Осифа Тетерина, князя Данила
Сицкого, Андрея Батанова,
Ивана Пояркова Квашнина,
Никиту, Семёна Сабуровых,
Семёна Бочина. Хозю Тютина
с женою, да 5 детей, да Ивана
Колычёва, Ивана, сына его;
Ивана Трекоса, Никиту
Трофимова; Ивана Ищукова
Боухарина; князя Володимера
Курлятева, князя Фёдора
Сисеева, Григоря Сидорова,
Андрея Шеина, сына его
Григоря и брата его Алексея.
В Ивановском Большом
отделано 17 человек,
да у 14 человек по руке
отсечено.
В Ивановском Меньшом
отделано 13 человек
с Исаковского женою,
Заборовского и с человеком,
да у 7 человек по руке
отделано.
В городищи Чермневе отделано
3 человека, Тевриза, да
племянника его Якова.
В Солославле отделано
2 человека.
В Бежицком Верху отделано
Ивановых людей 65 человек,
да у 12 по руке отделано. Андрея
да Григория Дятловых, Семёна
Олябьева, Фёдора Образцова,
Ивана Меншика Ларионова,
Ивана Ларионова, князя Семёна
Засекина Батышева, князя Ивана
князя Юрьева сына Смелаго
Засекина, Петра Шерефединова,
Павла племянника Ишукова,
Елизаря Шушерина, Фёдора
Услюмова Данилова, Дмитрея,
Юрия Дементиевых, Василя
Захарова с женою да 3 сыны,
Василия Федчищова, Ивана
Болышово Пелепелицына,
Ивана Меншово – Григориевы
дети Пелепелицына, Григория
Перепечина, Андрея Боухарина.
Глава 3. Зелье алтайского мурзы
Который уже день он лежал обеспамятован – Прошка даже пару раз прикладывался к царёву запястью: тёпел ли? Тайком заглядывала охрана, глазела на исхудавшего владыку в болезни. Портомои судачили возле корыт, чего ждать. Караульные слонялись без дела, а какие-то даже уходили рыбачить на речку, отделявшую слободу от крепости, уныло сидели на каменистом берегу, обсуждая, почему эта речка называется Серая, что приключилось с царём и не погонят ли их на войну с ногайцами, шалившими у границ.
А приключилось то, что зелье алтайского мурзы утихомирило тело, лишив гнёта веса, но оставило свободными дух и слух, кои витали в тех пределах, куда нет доступа чужому глазу и чёрному сглазу, где тепло и безопасно.
Движением губ просил у Прошки пить. Тот бежал заваривать иван-чай в старом походном сбитнике. Поил, поправлял постели, укладывал поудобнее подушки, иногда по приказу ослабшего пальца подавал из ларчика кусочек ханки, тут же отправляемый в рот и запиваемый свежим сбитнем.
После нового кусочка душа умиротворялась настолько, что переставал понимать, о чём можно просить Богородицу, когда ему и так всего достаточно – и блаженства по горло, и счастья через край. Чего же ещё человеку надобно? От добра добра не ищут – зла чтоб не найти. А даже и найти! Не искупавшись во зле, не облачиться в добро, не ощутить его душистых оков!
Время от времени спускал ноги в чёботы, плёлся, опираясь на Прошку, до помойного ушата, кое-как, по капле, справлял малую нужду, сетовал, что никак не может сходить по-большому, и тащился обратно под перину, где можно беззаботно блуждать детской мыслью в кущах Коломенского, где он увидел свет. Или обниматься с вечно любимой женой Анастасией – горячей, трепетной, терпкой, нежной, временами такой страстной, словно блудные беси в неё вселились… Только с ней бы жил и жил, других баб не любя…
Сквозь дрёму больше по нюху, чем по слуху, по сладкой обвони от всяких трав узнавал приход Елисея Бомелия – тот, шаркая, покашливая, приглушённо говорил кому-то, что ныне нужно слепить десять шариков мал мала меньше и давать их по нисходящей, довести до горошины, до изюмины, до крохи малой – тогда возврат царя из сонных объятий papaver somniferum’а[41] обратно к земной жизни будет не так болезнен; если же отнять сразу, то душа царя от внезапного горя может невзначай рухнуть туда, откуда возврата нет.
Слыша шёпоты проклятого мага, хрипел высохшим ртом, чтобы Бомелий убирался к своим колбам и ядам и не базлал тут своим писклявым языком – по нему, колдуну, и так костёр плачет:
– Иди отсюда, гадина, ворожец, козоёб! Прошка, гони прочь эту елдыгу костлявую! Да и котяру заодно вышиби! Вон Мурлыжка на столе по ендове языком елозит, шебуршун!
– Какое там – котяра! Сдох лет десять назад Мурлыжка, кошачьей мяты объевшись, в саду ещё хоронили, – отвечал слуга, подтыкая перину и поправляя вышитое покрывало – подарок персидского шаха, но для вида лихо притоптывая ногой. – Брысь, брысь отсель, оторва оглоедова! Пшёл! Счас я веником! Пшшт!
Бормотал:
– Пусть убирается, колоброд, спать не даёт! А ну матушка войдёт, она зело кошек не терпит, расчихается, больна станет…
Прошка, слыша про кошку и матушку, пригорюнясь, прикрывал за собой дверь и шипел на слуг в предкелье, чтоб не шумели – государь сильно не в себе, почивать изволит. А он оставался наедине с матушкой, с её чихами и охами, играл с кошачьим хвостом и не понимал, отчего матушка плачет – ведь всё так ладно и спокойно! Ему так уютно тут, в постельке возле её ложа! Смотреть на зелёную слюду в окне и ждать, когда придут девки спрашивать, какую кашу желает царёнок – манницу или овсяницу?.. А чего государыня изволит?.. Может, пирога с тельным?.. Или горячих калачей?.. Или оладий с мёдом?..
Иногда лежал, вытянувшись донельзя, сложив по-покойницки ладони на груди и представляя себе, каково это будет, когда откроется последняя смертная дорога – мерзкая, склизкая, бурая, в золе и кровавых пятнах, с гниющими обочь трупами зверей. По ней телепается без возницы колымага о двух клячах, а он идёт за ней, хоть и не хочет идти, словно привязан без вервия. Не сбежать, не упрятаться. Крепкая сила ведёт в последний путь…
…А вот он уже на псарне, где мальчишкой часто прятался по невзгодным дням от злыдней-бояр. На псарне – крепкая, с ног сшибающая обвонь; чадят факелы, в тёплых закутах лежат щенные суки; в конурах ярятся кобели; гавкает молодняк из общего загона; где-то гремят вёдрами кормщики, а два псаря на дубовой колоде рубят чёрным щенкам-мордашам уши и хвосты.
Вначале псари не замечали, кто это к ним таскается, потом стали косо перешёптываться при его приходе (бояре запретили приваживать сироту царевича), затем слепилась драка с одним наглым псаришкой – тот попытался сорвать с царевича золотой крестик, получил за это свинчаткой по пальцам, поднял дикий ор, набежали взрослые, погнались, камни кидали в спину, но он, Иван, успел скрыться и больше на псарню не ходил, месть затаив. А когда начали с Малютой, Клопом, покойным Тишатой и другими буслаями озоровать по-серьёзному, то и на псарню наведались: псарей избили цепями до неузнаваемости, а псаришке, кто камни кидал, на одной руке все пальцы по одному поотрубали – пусть все знают, каково будет тем, кто будущему царю боль причинять вздумает! Сиди теперь в куте да пестуй муде беспалой лапой, лопух безродный!
А когда подрос – к дворовым девкам повадился. Те его привечали за высокий рост, чёрные глаза и толстый мехирь и прикармливали, когда он, вечно голодный, к ним являлся. И смеялись, и щекотали, и давали сиськи тугие трогать, и иное меж лядвей показывали, шутя прибаутками: «Вот мои вкусняшки – ляжки да голяшки! Поищи-ка, дружка, чего найдёшь – полушка!» А он – что? Он и рад: заберётся к ним и давай какую-нибудь молодку в углах тискать и лапать и елдан куда ни попадя ховать – до бурного испускания похоти.
Да, девки-то уж точно знали, что он царёв сын. А одна, загузаха задастая, Алёнка, даже понести от него вознамерилась, для чего уводила в дальний чулан то шитьё принести, то готовое унести, там быстро и молча задирала испод, ложилась навзничь на мешки с тряпьём и его прямо-таки силой на себя натягивала, чтобы он в неё сверху поглубже вонзался и семя понадёжнее и подалее вливал… Думала, дура, таким образом великой княгиней стать и царство обрести! Ну и обрела. Только не земное, а небесное. А что было делать? «Я на сносях, от тебя дитёночек будет». Как сказала – так и подписала себе приговор. Исполнить взялся дружок Гришаня Скуратов, которого потом Малютой прозвали, и вовсе не за малый рост, а за то, что в казематах только и слышал от пытомых: «Молю тя… Молю тя…»
Этот Малюта – Григорий Лукьянович Скуратов-Бельский, крестовый брат, был родом из Калуги. В юности приходил с обозами на Москву, где случайно, после драки москвичей с пришлыми калужанами, сдружился с молодым царевичем, а позже вместе с братьями Третьяком и Нежданом был вписан задним числом в Дворовую тетрадь. О том, что у царя с Малютой давнее знакомство, мало кто знал (а кто знал – того уже нет в живых, царство им небесное, а кому и бесное!).
Ох и крутили они тогда дела, грань между злом и добром на прочность проверяя – накажет Бог или нет? Можно или нельзя? Грех сие или так, мелочь, на исповеди снять можно? Пока вот Бог милует: он тут, в постелях, живой лежит, Клоп (ныне князь Мошнин) при Разбойной избе в сыскных начальных дьяках состоит, все увёртки и уловки разбойничьи с детства назубок зная. Малюта, правда, геройски пал при взятии замка Виттенштейн, но был отомщён: жителей замка перебили, коменданта Ханса Боя с другими шведами и немцами привязали к кольям и зажарили до смерти. А вдова Малюты Марья вместе с единым пособием в четыреста рублей удостоилась получить пожизненную обеспеку, чего ещё никогда на Руси не было. Но зачем деньги, если нет рядом Малюты?
Чего только раньше с Малютой не творили! Учились ножи бросать в живых людей – привязывали к дереву и кидали так, что только кровавые ошмётки в разные стороны летели. Ещё спорили – попаду в глаз? в лоб? в сердце? Бывало, что и в мёртвого ещё продолжали кидать, пока от трупца одно алое сочиво не оставалось. Или загоняли людей в баню, под неё клали порохи и взрывали – и покойники летали по небу как птицы. Или запирали пленных татар в овечьих загонах, а сами на конях охоту на них, как на кабанов, устраивали, стрелами разя и копьями протыкая. Или учились стрелять из лука по привязанным к столбам жертвам – пускали стрелы до тех пор, пока мёртвое тело не начинало напоминать игольчатого ежа.
А ещё было: как-то с Малютой и Клопом не поленились выкрасть четырёх косолапых в медвежатном селе Логовищи, где звери недвижно сидели в тесных, не повернуться, клетях (чтоб сподручнее было у них из печени по берёзовым стокам лекарственную желчь выкачивать), отчего зело злы и бодливы были. Перетащили клетки на телеги, рогожей накрыли, всякой дрянью закидали и в Москву отвезли, а там в базарный день в толпе на торговой площади клетки тайком открыли и отбежали. Медведи кинулись на людей. Поднялся ор и грай, все бросились врассыпную, а они кружились в толпе и кастетами на ходу, в толкотне, людей незаметными ударами ухайдакивали насмерть.
…Иногда полошился, вскакивал в постелях, озирался:
– Эй, кто там! Прошка, ерпыль поганый! Где люди? Куда все? Рынды? Где Федька Шишмарь?
– В Польшу услан, соглядатайствовать… Скоро прибудет, невидаль…
– А Родя? Биркин?
– По княжествам ездит, вынюхивает… Явится на неделе…
– Нагие где? Афанасий?
– Все на местах, свою работу справляют, как тобой велено…
– Ну, хорошо, – успокаивался, опрокидываясь обратно. – Подай водицы кислой со льдом!
…«А тут что такое? Какое такое это?» – стал с тревогой вглядываться в угол, где копошилось что-то тёмное и гадкое, гладкое, блестящее… И псиной мокрой как будто понесло… Да это та чёрная собака – первая из тварей, им убитых, – что была сброшена с башни. Вот она. Жива? Зачем явилась, убогая?
Слабо позвал её без имени, мыслью: «Сюда! Поди сюда!» – и собака боязливым ползком подобралась к постелям. Подала зубами малый колоколец.
Взял его. Знатная работа! Цвета золотого, а по ребру что-то витиеватое набито. Дёрнул, чтобы звук услышать, – вдруг от звона из-под стен начала выползать мелкая нечисть, змеи, жабы. Вот пол кишмя кишит: шевелятся, шипят, слюна аж до постелей долетает. И на стене стала проглядывать чья-то бездонная харя – хмурится, жмурится, мерными вздыбами идёт. А чёрная собака передними лапами на постель влезла, пасть раскрыла, а оттуда неземным смрадом понесло.
…И не пасть это собачья вовсе, а сумеречный храм! Тёмный амвон. Свечи смоляные трещат. По углам вязки летучих мышей копошатся. На иконах – звериные морды в колпаках. На амвоне – дымная чаша, из неё мохнатые скорпионы, ногастые пауки, рыбозмеи, жабокрысы, черви аршинные выползают, тянут голые шеи. Перед амвоном жирный поп в красной ризе кадит чем-то дерьмовым, а у самого по плечам зеленоватые блестящие слизни ползают, скользкие дорожки оставляя. Лицо у попа чёрно, глаза алы, изо рта дымок валит, а пальцы будто обуглены. А вот и паства по углам шебуршит. Какие-то уроды с себя носы, уши и губы обрывают и в ржавое ведро кидают. И полное ведро это идёт само собой по воздуху в руки к попу, а он туда свою морду суёт и начинает чавкать так смачно, что слизни с него опадают, на пол с гулким чмоканьем шлёпаются…
…Взмахнул колокольцем – от истошного звяканья храм тотчас исчез, а нечисть с пола стала спешно уползать под стены.
В испуге так и сидел с согнутой рукой, осматривая свои пальцы. Что это было? Или не было?
– Святый ангеле, прежде страшного твоего пришествия умоли Господа о грешном рабе твоём! Возвести конец мой, да покаюся дел своих злых! Да отрину от себе бремя греховное! – начал он спешно бормотать.
И постепенно дух его, успокоен молитвой, отошёл от бренных мук в иные пределы, где светло и морозно, как небо в тот день, когда он был венчан на царство и весь мир поклонился ему…
О, то был лучший день жизни: январский, морозный, колюче-бодрый, ясный. Колокола разрывались от радостного переливчатого перезвона. Над куполами метались стаи ошалелых птиц. Гомонили толпы в новых одеждах, с детьми и слугами. А в Успенском соборе на семнадцатилетнего Ивана возлагались бармы и шапка Мономаха, утверждая его власть над державой предков. И он, сидя на троне, с захваченным духом думал о том, что его власть – от Бога, и всё, что он будет отныне делать, будет делать не он, а через него – Всевышний: захочет Он карать или миловать, отнимать или одарять – его руками будет сотворяться. Он, Иван, отныне – не человек, а длань Господня, Божий выполняла! Так думал тогда в просветлении, хоть и мучаясь от жара, дыма свечей, тьмочисленной толпы, ёрзая задом по неудобному трону и не в силах пошевелить ногами в новых жмучих сапожках, кои то ли по глупости, то ли по умыслу напялил на него постельничий (ибо не все – ой, не все! – были рады видеть его на престоле!).
Временами стал приходить в себя – Прошка делал, как было велено Бомелием: уменьшал катышки ханки, поил урдой[42], усаживал повыше, подкладывал под исхудавшую спину – позвонки наперечёт – подушки и мутаки, растирал ступни и кисти.
В одну из прорех в сонном блаженстве наяву увидел жену Анюшу. Тоже исхудалая и несчастная, она не решалась подойти к постелям, от двери стала плаксиво гундосить, что он их совсем забросил, что много чего надо по семье, что доченьке Евдоксии совсем худо: и так бездвижна, теперь умолкла вовсе, губами шевелит – а слова изо рта не вылазят, один хрип да шип.
Морщился, вздыхал, прятал глаза, зная, что немощь дочери – его вина: как-то, раздражённый её плачем, в гневном порыве гаркнул: «Чтоб тебя черти взяли!» – дочь в испуге заикнулась раз – и стихла, да так с тех пор и лежит недвижным пластом и под себя ходит. А ныне вот онемела…
Слабо взмолился:
– Не реви. Не рви душу, Анюша. Болен – видишь? Как встану – отправлюсь по монастырям. Отвезу дары, отслужу молебны о здравии. Выпишу из Англии новых докторов. Что ещё в моих слабых силах? На всё воля Божия. Иди сей час, оставь меня, я не в себе, телом болен и душою чахл. Сам мучаюсь, как в треисподней[43]!
Но жена не уходила, начала о сыне, царевиче Иване, гнусавить, утирая слёзы, – скверно, мол, у него: пьёт что ни попадя, буйствует на своей половине, жену новую начал поколачивать почём зря, а всё из-за того, что от безмерного пития маловолен по мужской части стал, о чём недавно Бомелию жалился и о чём Бомелий, дав ему какого-то пойла, ей тотчас же и сообщил.
Гневно завозился в постелях:
– Да как он, щенок, смеет на жену руку поднимать?! Свои слабины на других срывать! Маловолен! Да я ему! Посох подайте! – Но Прошка с Ониськой уложили его обратно, а жена поспешила сгинуть, чтобы не попасть под скорую руку, крикнув от дверей, что передаст Ивану гнев батюшки.
– Да, передай! И скажи, как от болезни оправлюсь, так с ним разбираться буду самолично! Вот сопливец, смотри на него! Только и может, что меж чужих трупов ходить и бошки им палицей проламывать, сукоедина! Дождётся у меня!
О Господи, за что Ты меня таким божедурьем наградил? Нет, скорее от них всех в затвор, в скит бежать, сбросить с себя этот мир, собрать в одиночестве свою душу в кулак! Но на кого страну оставлять? На вот этого старшего сынца Ивана, слабого пьянца? Если на бабу сил нет – то как державу поять будет? На младшего Феодора? Тоже не ахти – постник и молчальник, бессловесен как собака, душой слабоват и рыхловат, головой малоумен – как ему такой державой, как беспокойная Русь, владеть, где даже самая грозная длань бессильна? Нет, Феодор-блаженник более для кельи, чем для власти, рождён…
Ах, если бы Дмитрия, первенца, проклятая доилица не утопила при погрузке на корабль, из рук упустив! Если бы Василий не помер во младенчестве от корчей – то ли иголку проглотил, то ли скипидару напился, так и не узнали, отчего преставился. Вот они могли бы править. А эти?..
Дочерь на престол возводить? Невиданное дело будет! Да и кого? Две после рождения Богу души вернули. Третья жива, ни рыба ни мясо. Вот как будто взрослая девка, а всё в куклы играется, умом малость граблена, от людей подальше в Коломенском содержится. А младшая, Евдоксия, лежмя лежит. Вот оно, где грехи наши боком вылезают! Эдакое ли потомство должно быть у Рюриковичей? У князя Владимира пятнадцать детей было, у Всеволода Большое Гнездо – двенадцать, у Мономаха – четырнадцать, а у меня что?…
О Господи! В какой зазор влезть? Куда скрыться? Почему язык мой так невыдержан, что и дочь, мала и безгрешна, через это страдать и хизнуть должна? Мыслимо ли: собственное чадо в лапы нечистой силе посылать – «чтоб тебя черти взяли»?! Вот и взяли Евдоксию, и полонили, и обездвижили, назад не отдают. Или такой выкуп запросят, что невмочь будет платить!
И чего он только ни делал, чтобы умилостивить Создателя! Возле дочери и Евангелие читал, и пел тихим голосом, и ручки-ножки растирал, и куклы-обереги дарил, и на пальцы тряпичных Петрушек и Емель насаживал, киятры показывая и ища хотя бы улыбки от дочери – и ничего не находя, всё тщетно! Глаза ребёнка смотрели сурово, а тельце было недвижно.
«Сатана, царь мрака! К тебе взываю – меня возьми, а дочь отдай! Зачем тебе она? Что тебе пользы от её невинной души? Отпусти её!»
Не успел про то подумать, как вдруг испустил газы – да с таким оглушительным треском, что Прошка присел от неожиданности, бормотнув:
– Во! Выздоравливает, слава те, Господи!
Стал смущённо оглядываться, как бы спросонья. Мысли, лишённые полёта ханки, были пока вялы, квёлы, снулы, шевелились с натугой, то замирая, как в столбняке, то вылезая из мозговых нор и расселин, куцые и сходные с осенними мухами в морозном бору.
Попросил манницу с сахарком и пряничка медового.
Прошка, принеся еду, сообщил, что явился слесарь-немчин Шлосер, чего-то про осетрюгу лопочет:
– То ли зверюге худо, то ли ему – не понять его загогулин…
– Пусть ждёт, я ем, – приказал и начал медленно черпать ложкой сладкую кашную жижу, вяло думая, что надо Шлосеру и что могло случиться с осетром, жившим в садке в зверинце.
Да, если бы не Ортвин Шлосер, не было бы в Александровке ни зверинца-тиргартена, ни книгопечатни, ни водовода, по коему вода в мыльни поступает, ни школы пения, где немцу было вменено инструменты настраивать, смазывать и протирать, ни пекарни, куда он хитрую печь наладил, где уйму калачей, саек и баранок зараз выпекать можно… А кто повсюду тайных глазков понаделал, чтобы можно было подслушивать и подсматривать за слугами и охраной? А кто бабушки Софьюшки книжную казну, либерею, спрятал, да так ретиво, что ныне не всегда и ходов к ней найти? А кому подходы к казне на Соловках минировать доверено? А кто кастет с алмазами сделал, так хитро камни в железо усадив, что от удара по морде одни кровавые дребезги летят и любого одним махом до смерти растворожить можно? (С детства любил такие игрушки: у него когда-то была нагайка из китайского шёлка со вшитыми рубинами, золочёный дручок, хитрый выкидной нож.)
Из балтийских немцев, бывший наёмник-канонир у ливонцев, Шлосер много лет назад был пленён у Озерищ и всей своей простой душой отдался царю, служит верой-правдой и в самых трудных делах помощник и советчик: ведь своего в Московии мало, всё у фрягов-брадобритцев закупать или выкрадывать приходится, тут Шлосер и помогает разобраться, какой рычаг куда вставить, какая трубка зачем нужна да где каких наболтов не хватает.
Если бы не Шлосер – никогда бы Иванке Фёдорову свою печатню не собрать. Печатный станок царёвы шпионы тайно из типографии германского города Майнц выкрали, разобрали и по малым частюлям, под разным товаром, на Москву отправили, а вот собрать на месте никто не смог – воеводы и бояре сидели, смотрели как бараны на новые ворота, чесали в затылках, вздыхали, судили-рядили, пока Шлосер не свинтил воедино печатное чудо, «друк-машине», и не объяснил, как оно трудится. Помог отлить славянские литеры, кои уже потом Иванка Фёдоров с Петром Мстиславцем успешно в строки набирали, покуда подлые писчие дьяки, осерчав, что их переписное дело через печатню гибнет, не сожгли всю мастерскую со станком и готовыми книгами, а сам Фёдоров туда сбёг, куда и остальные, – в Литву, будь она неладна! Теперь там книги шлёпает и его, царя, прилюдно проклинает, хотя царь при чём? Разве он станок пожёг? Он, наоборот, тех монахов иродомордых за самоуправство перевешал – что ещё в его силах было?
А кто, как не Шлосер, соорудил из дуба и железа гигантский садок для огромного осетра пудов в десять, что запутался в сетях возле Астрахани и был отправлен в особом возке живьём на Москву, куда издавна свозили со всех земель разных диковинных чудищ вроде собаки с копытами, бородатой бабы в жёсткой шерсти, четырёхногого мальчика с обезьяньим хвостом, телка-двуголовца и других уродов. Раз даже сдвоенных в бедре младенцев приволокли, да Малюта, недолго думая, рассёк их саблей надвое, отчего те, прожив пару дней, померли.
Из Москвы в Александровку осётр был перевезён на замысловатом поло́ке[44] с водой (сделан тем же Шлосером с таким замахом, чтобы позже в нём можно было чудище по городам возить и на торжках простому люду за деньги показывать). В тиргартене осётр был пущен в огромный дубовый садок, где и пребывал в неге и довольстве.
Зверь-рыбу осетра величали Дремлюгой и кормили плотвой, червями, улитками. От жранья и бездвижья он разжирел так, что не мог уже плавать: лежал на брюхе и лениво шевелил узорными плавниками или надувал игольчатую щетину на хребте. А жабры имел толстые, выпуклые, округлые, словно налитые жиром щёки бояр Кормового приказа. Под садок был хитро подведён трубный подогрев, дабы осётр не помёрз на зимних холодах.
Иногда приходил к Дремлюге, тыкал в него посохом, осётр лениво делал хвостом полукруги, кланяясь на свой манер. «На мою свадьбу прямо в этом садке тебя и сварим!» – забавлялся ласково, щекоча посохом плавники и дотягиваясь до жабр, а люди вокруг не знали, шутить ли царь изволил или задумал ещё раз жениться (в шестой, кажись, али в седьмой раз, народ со счёта сбился, хотя, конечно, на всё его царская – а значит, и Божья – воля!).
Лет пять назад, в разгар опришни, когда в Александровке жило целое войско, с Волги доставили столетнего сома-альбиноса. Шлосер соорудил для него другой садок, а Малюта решил прикармливать отрубленными пальцами, носами и ушами, за что сом получил кличку Обжора. Ещё Малюта заставлял Шлосера соорудить над садком крюк, чтоб на него можно было вешать пытаемых и ноги их в пасть вечно голодному Обжоре опускать – пусть чудище их объедает своими острыми и частыми зубками! Но царица упросила этого не делать, и сом продолжал жрать что попало, от рыб и мышей до пауков и тараканов, и мелкой кошачьей падалью не брезгуя, кою украдкой подкидывали в садок подвыпившие стрельцы.
– Прошка! Зови немчина!
Вот появился Ортвин Шлосер в ботфортах, одет в особое платье со множеством прорезей, куда инструмент удобно прятать. Лица круглого, белого, безбородого, волосы коротко стрижены. Без долгих предисловий начал:
– Мой цар, над-до про осет-трин каварить… У осет-трин понос-са был-ла, какой-то гнил-лой мыш-ша кушаль, целы день калит-тся…
– Что, понос? Утробу смыло? Ну и что? Пусть себе серит, жалко тебе?
Шлосер всколыхнулся:
– Как, мой цар? Она будет умир-рать… Она чисты фиш, она заубер вассер[45] нужно… Я пять разоф менял, опять гриазны… Вассер шмучиг, гриазны…
– А от меня чего надобно? – не понял.
– Дфа мушик надо вас-сер носит-ть… И нофы садок надо, в стары садок дырк фелики есть, вассер тих-тих каплется, огню тушит, осет-трин замёрзла… Надо нов-ви садка делать. Над-да шелеза, кламмер[46], уголоки, дуб для унтерзаца[47], разный вешшь. Осетра – риба зер чист и умны, когд-да свой им-мени слыш-шит – жабра шурш-шит и глаз шурит. Ему зер заубер вассер над-до… А где вассер брать? Дай два мушика, вассер таскать!.. Осетра пять разоф понос-са делаль – я пять разоф вассер мениал…
Пошарил под подушками, кинул ему мелкий золотой:
– На тебе за труды. Посчитай, сколько дерева и чего ещё надо, отпишу в Приказ… И мужиков дам из слободы…
Немец попытался поймать царёву руку для поцелуя, но тот схватил его за шершавые грубые пальцы:
– Это твоя длань достойна похвалы, ты мастер на все руки…
– О майн готт, что ты говор-риш, мой фелики цар-р! Ты полмир хоз-зяин, а я свой малы мышелофка сижусь…
Затем Шлосер сообщил, что пёс Морозко печален стал, прутья в клетке грызёт и целый день злое «мастурбирен» делает, чуть псиный срам сам себе не откусил.
– И ты бы Дуньку Кулакову гонял, посади тебя в клеть… Сидел бы в куте и мочалил муде! Да ты, поди, это хорошо умеешь, а? – засмеялся, вспомнив, что Шлосер – бобыль и байбак, ни с кем не якшается, рядом с ним баб замечено не было. Подумав, добавил: – Ему надо суку, самчиху… Но какую? Простые пёсицы ему не подойдут – порвёт их, зело велик.
Дело было в том, что рядом с сомом стояла клетка, где сидел подарок маньчжурского мандарина – собаколев-мастиф, помесь пустынных львов и горных псов, которые ещё с Буддой по земле ходили, наводя страх на людей и зверей. Страшного красношёрстого Морозко ростом с телёнка и гривой, как у взрослого льва, боялись все, кроме Шлосера, который кормил его, чесал густейшую рыжую шерсть, от чего Морозко урчал, заставляя тигра Раджу отзываться с другого конца тиргартена утробными рыками. Покойный Малюта не раз предлагал стравить для потехи тигра и пса, но жаль было – ведь погубят друг друга клыками и когтями!
Тигр Раджа, забранный тигрёнком из ханского дворца в Казани, жил в Александровке в кованой клетке, где ему при опришне время от времени подбрасывали жертву, с коей он какое-то время играл в смертные игры, а потом пожирал живьём – потроха уже тянулись в тигриную пасть, а человек, всё ещё жив, молил о пощаде, обезумев от боли и не понимая, что это конец.
Ну да теперь всё в прошлом: опришня закрыта и запечатана, земщине отнятое возвратом идёт, а верховоды чёрного братства, на царёвы указы плевавшие и по своей воле волости грабившие, на колах да в петлях жизни свои оставили, упокой Господи (или сатана) их души! Да и зарок дал он Богу, что больше никого пальцем не тронет, на смерть не пошлёт, греха на душу не возьмёт, что никогда не будет стоять над Александровкой – да что там, над всей Московией! – трупная обвонь и людской стон.
– Кде так-кой сам-мка для Морозк-ко есть? Кде взятем так-кой?
– Жаль, ты мне раньше не сказал – у меня алтайский хан гостит, он для меня звёзды с неба достанет, не то что собакольвицу… Ему поручу.
Помявшись, Шлосер сказал дальше, что надо из Фрягии части для башенных часов выписать – стрелки на часах Распятской церкви заржавели, и два главных маховика истёрлись, и на шестернях проплешины появились, а замены нету.
– Сам не можешь сделать?
– Нет, друг-гой металль надо, у нас нет-ту…
Ну да, старая песня: чего не хватишься – ничего-то у нас нету! Всё в Неметчине закупать! И почему это так? Ведь и мастеров выписывали, и дома им давали, и прокорма на них не жалели, и всего вдоволь они получали – ан нет, всё равно бегут, неблагодарные, обратно – кто в Польшу, кто в Швецию, кто в Ливонию, кто в Голландию. А фряги ничего – ни чертежей, ни частей – в Московию не дают, чтобы Московия у них только всё готовое втридорога покупала. Закупай – или воруй, как с печатным станком!
Помнится, давно, когда с Сильвестром и Алёшкой Адашевым в связке был, поручил саксонцу Шлитте привезти ремесленников, художников, лекарей, аптекарей, механиков, пушкарей, печатников, языкознатцев, зодчих и разных других розмыслов, чтобы всё это на Руси на ноги поставить. А чем дело кончилось? После протестов проклятой Ливонии сенат ганзейского Любека арестовал Шлитте и его людей и не пустил их в Московию, да ещё и злой указ издал: никого из мастеров в Московию не посылать, чтобы её обуздать, в невежестве держать и только готовые товары туда продавать, да и те только, кои нам самим уже не нужны, перестарели: «Нам – новое, а в Московию – старое! Мы без их шкурок и мёда проживём, а они без нас – никак!»
Вспомнив тот конфуз, напрямую с раздражением, словно это Шлосер клепал запреты, спросил у слесаря, почему его сородичи-фряги заговоры плетут и не хотят помогать Московии на ноги встать? Разве это им не выгодно? Или как?
Честный немец, сделав печальные глаза, объяснил, что заговоры происходят оттого, что Московия не хочет латинскую веру принять и папе поклониться, поэтому фрягам выгодно всё, что помогает погрузить Московию во тьму и хаос, лишить её корней знаний и семян наук, обречь на кабальное прозябание. Другое – это то, что не доверяют во Фрягии славянам, а особенно московитам, говоря: «Дай московским тартарам цеха по металлу, научи строить пакгаузы и верфи, обучи литью и всякому ремеслу – потом хлопот не оберёшься! Московиты наделают себе оружия, пушек, мушкетов, нахлынут ордой и твоими же науками тебя и прихлопнут, благо народу в Московии много, есть кого на смертные битвы посылать!»
Озлился, мрачновато поиграл чётками:
– Ну да, заговоры – что же ещё? Жертвенному барану в рот ещё и соли насыпать, прежде чем глотку перерезать! Ничего, я вам соль-то эту верну сторицей! По уши в соль закопаю – посмотрим, каково-то вам будет солоно! Дождутся они у меня, потом жалеть будут – да поздно: с варвара какой спрос? – Кинул Шлосеру ещё пару алтын с обещанием, что напишет послу, чтобы тот стрелки эти треклятые прислал; видя, что Шлосер, сунув монеты в прорезь, нерешительно топчется и скребёт в затылке, спросил: – Чего ещё выроешь из своей черепухи?
– Эт-то… Пом-мнишь, фелики цар, два маленьки цыплята, сынк-ка павлинки пропал-ла?
Нахмурился. Птенцы павы? Павчата? Как не помнить! Всем двором искали, не нашли, а до этого нарадоваться не могли, когда у павлиньей пары, присланной мелким ханом с юга, народились цыплята: росли и глаз ласкали, даже дочь Евдоксия улыбалась, на них глядючи, когда её в тиргартен выносили. Подросли. И вдруг недавно два курчонка пропали, как сквозь землю провалились.
– Что, нашлись? А то павлин скорбен был, ночами кричал…
Шлосер заторопился подтвердить:
– Да-да, фатер-пфау[48] так кричаль, свой цып-плёнки искаль… И муттер-пфау плакиваль, и яйцы ногам в разны сторон кидаль… Вот, я узнал: эти цыплёнки унзер золдат Мишка Моклок себе на обед кушаль… Пьян быль, взяль и жариль и кушаль…
– Что? Мишка? Моклоков? Как? Ощипал, сожрал? Эй, кто там! Васка! – Вздыбился на постелях и крикнул заглянувшему стрельцу, чтоб Мишке Моклокову всыпать три дюжины батогов, но, когда дверь закрылась, опять позвал, уже тише: – Васка! Васка! Стой! Три дюжины – многовато, негоже за птицу человека казнить… Влепи ему дюжину горячих, и пусть отныдь клетку с павами каждый божий день метёт. Таково-то будет ему, бездушнику, царских птиц хитить! А ты, Шлосер, молодец! Хорошо за моим добром смотришь, даром что немчин! Вот тебе и помощник нашёлся, Мишка Моклок! Он и стрельцом не особо ретивым был, не жаль… Держи, – кинул ещё монету, – с тем поделись, кто тебе про это сказывал, – пусть и ему выгода за ретивость и преданство будет… А кто это был? Кто тебе про Мишку рассказал?
Шлосер сделал удивлённое лицо:
– Как кто? Сам Мишк-ка сказаль… Кому монет-т давать?
Усмехнулся:
– А… Ну-ну… Я же говорю – осёл на двух копытах твой Моклоков! Гадость сделал – и сам же о ней и раззвонил, как же не петый дурень? Монету себе оставь, пригодится! И всё, что услышишь, мне доноси! Понял? Сразу ко мне беги! Ну, иди теперь! И сапоги-то эти дурацкие поляцкие сними, стрельцов не дразни… А то, не ровён час, и пульнуть могут по старой привыке! Иль ты тоже сбежать задумал? А? А ну говори! – Вдруг вперился в Шлосера косо, по-птичьи, правым глазом (коий был явно крупнее левого), отчего у немца внутри всё потемнело: всем известно, что царь просто так ничего не говорит…
– О найн, найн! Майн готт! Найн! Нет! – попятился Шлосер и, ткнувшись спиной о дверь, застыл как чурбан, нащупывая рукой задвижку и не отрывая взгляда от царя.
А тот, обхватив голову рукой, растерянно и скорбно произнёс:
– Странно сие… Странно зело… Странны такие их повадки… Почему не хотят фряги со мной в мире жить? Ведь от меня больше пользы будет, если со мной по-доброму, а не так, по-собачьи… И что я – чужой для них? Да я – один из них! В моём роду, куда ни глянь, – одни цари и базилевсы, хоть через Рюриково колено, хоть через Цезаря, хоть через Палеологов…
– О, я, я, Палеолог, бабуленка Софьяшка, либерей, бибилиоте́к… – благоговейно возвёл глаза Шлосер, радуясь, что царь ушёл мыслями от его мнимой измены, на что тот досадливо отмахнулся чётками, стащил с голого черепа скуфейку и отёр ею лицо.
– Да не только! Знаешь ли ты, что я к Палеологам ещё и другим боком прилегаю? Не только через бабушку Софьюшку, мать моего отца Василия, – её я не видел, она до моего рождения умерла, но и через другую бабушку, баку[49] Аку, мать моей матери Елены. Бака Ака меня растила, кормила-поила, когда вся моя родня упокоилась… Она мне и любимую Анастасию в жёны нашла… Я баку Аку больше всех люблю… – И поведал, что эта бака Ака, сербская княжна Анна Якшич, происходит из славного рода Якшичей, породнённого с родом сербских королей Бранковичей, а те в свою очередь – в близком сродстве с Палеологами. – Так выходит, что я и с другой стороны к Палеологам примыкаю!
– Унд во ист етцт[50] эта Ака? Умирал-л?
Твёрдо ответил:
– А как же? На земле никто не останется! Усопла! – повторил и, решив правдой загладить ложь, сообщил, понизив голос: – А главное – эта бака Ака была в сродстве с самим Владом Цепешом Дракулом через его сына Михню!
Шлосер зацокал языком, сделал вежливые удивлённые глаза:
– Тот Дракул-л много люд-ди на кол посажив-вал… кровь пил… Да? – хотя не раз слышал и о баке Аке, и о её родстве с Владом Колосажателем.
Отмахнулся:
– Глупотворство! Никакой крови он не пил! Цепеш был великим человеком! От одного его имени турки калились от страха… А Дракулом прозван, потому что его отец состоял в ордене Дракона, по-ихнему Дракула… На кол сажал – это да, было, любил. Но кого сажал? Врагов, турок! При нём чалматые собаки на Балканы нос не казали, а у меня вон Москву сожгли… Я бы их тоже всех на колы попересажал, попадись они мне! Нет, Дракул был хитёр и смел, малыми силами всегда побеждал!
И рассказал, что всё это колосажание началось с того, что Влад с братом были взяты в юном возрасте к туркскому султану в заложники, чтобы их отца, валашского князя, усмирить. Да не просто взяты, а прямо в детский харем сунуты, где их драли в задний оход почём зря так борзо, что у бедных братьев в гузнах от многих содомских соитий старая кожа стиралась, а новая капустой нарастала. А когда Влад хитростью оттуда вырвался, то поклялся, что всякий турок, встреченный им, будет посажен на кол, что исправно и делал до смерти…
Далее Шлосер, простодушно хлопая глазами – чего только великий царь не знает! – услышал, что первое колосажание произошло с отрядом в три тысячи турок: Дракул подстерёг их в засаде, пленил и рассажал на колы прямо на дороге, где они были пойманы, сохранив их строй: мурзы и муллы сидели впереди на самых высоких – и самых мучительных – колах. Когда туркские лазутчики в поисках пропавшего отряда попали на эту дорогу, то в ужасе кинулись прочь, а султан, услышав эту весть, пришибленно прошептал: «Невозможно отобрать страну у мужа, способного на такие деяния!» – дал команду на отступление и после этого долго не решался домогаться владений князя Влада Казыклы[51].
И был сделан вывод:
– Турки только силу уважают! Чем злее, сильнее и жесточе с ними – тем они лучше понимают! Да и не только они! – с чем Шлосер и был отпущен.
Угрюмо завернувшись в покрывало, стал впадать в нехорошие грёзы. Видел фрягов-иноземцев: вот они, за казнями наблюдая и в ладоши хлопая, меж собой ухмыльно переглядываются, разодетые в цветные шелка, словно вечный праздник у них. Взирают свысока на его народ, как на скот…
Вспомнилось письмо от фряга Юхана, нового королишки шведского, что брата своего удавил, сестру в башне извёл, а её дочерей, своих племяшек, обесчестив, к себе в покои поместил. И даже мать, свою родительницу, в проруби якобы случайно утопил, узнав, что она в другой раз беременна, – чтоб соперника на престол в нерождённом виде уничтожить! Вот каков мерзавец прощелыжный! А отец его и дядья саморучно баркасы с рыбой разгружали – пристало ли это королям? А бабка его, прелюбодеица, в зазорном доме сводней была. Вот какие теперь короли пошли – баркасы разгружают и блудням ноги моют, смехота одна! Кубышки, полные сранья, и больше никто они!
Но каков дерзец этот Юханка подлый! Чего захотел, студень! Кто ты есть, выскочка, собачий сын, рыболов, куроцап, простолюд? Ты кто мне – брат, сват? И ты, самозванец, пёс и скалдырник, просишь, чтоб царь с тобой прямым ходом сносился, грамотами обмениваясь? Не бывать этому, пока я жив!
Распалялся мыслями до дрожи телесной. И почему-то всё время тянуло чесаться – тело так и зудит, словно по нему гниды ползают, хотя сего дня уже два раза относили в мыленку, сажали в бочку с душистой водой, где он, не открывая глаз, сладостно чухался сам, а куда не доставали руки, чесали уже слуги: Прошка драл спину, а Ониська расчёсывал ступни, иногда в благоговении украдкой целуя суставчатые пальцы – ведь если даже навоз царёвой лошади целебен, то чего уж тут о целовании рук и ног говорить?
Но что-то особо сильно чешется муде. Оно и раньше мучило, но теперь стало свербить невыносимо – рвал его ногтями, даже ложкой пытался ковырять.
Откинул перину, задрал ночнуху, начал чесать елдан – и вдруг вычесал на свет божий прыщ с копейку-московку: язва сидела на елдане, прямо на самой плюшке[52], была плотна на ощуп и перламутрена на вид, но сколь её ни дави – не лопалась и гноя не испускала. А вкруг этой набухлой язвины кружевным воротом притаилась цепочка мелких гнойничков, из коих точилась светлая мокрядь.
С животным ужасом, с опаданием сердечным вперился во вставший елдан, у коего словно щёку раздуло на одну сторону. «Господи, помилуй меня от новой напасти! Что это? Что за кара новая взвергнулась на мои плечи? За что мне, присмирелому, ко злу снулому, такое?»
И раньше там, в мудях, возникало разное: и лёгкий гноишко сквознячком попрыскивал по утрам, и рези бывали при сцании (травами сняла одна ведунья), и мелкая насекомая гадь случалась (сбритьём волос и примочками вылечили), и иная слабостная хворь нападала, а в юных годах так вообще чуть не окочурился.
Тогда их шайка решила вспороть брюхо кобыле на сносях, чтоб поглядеть, каков там жеребёнок: Малюта спорил, что уже жив и побежит, а Клоп думал, что нет. Но чтоб вспороть брюхо, кобылку надо привязать. В этой кутерьме и было влеплено ему копытом в пах, с коих пор елдан болеть и противно пахнуть начал, по утрам белую накипь из себя выкапливая. Надо было к знахарке идти. Бабка Глафира ощупала муде, посмотрела накипь на просвет, после чего дала красный порошок, велев его в цветочном взваре разводить и этим елдан полоскать, а потом этот взвар обязательно пить давать кому-нибудь, на кого болезнь и перейдёт, – а по-другому не избавиться никак!
А кому такое дашь пить? Кто такое пригубит? Разве что колодники? Тогда велено было слуге Фильке носить взвар в острог и по четверть копейки платить тому, кто выпьет, и следить, чтобы пили, а не на пол лили. И что? Носил якобы. А потом вдруг из окна было увидено, как Филька, царство ему небесное, воровски озираясь и деньгу за щеку спрятав, с крыльца взвар выплеснул, проваландался малость и, придя как ни в чём не бывало, соврал, что колодники-де всё выпили, «спаси Бог» сказали и ещё просили, за что и был жестоко отмутужен подсвечником.
Но бабка Глафира, узнав об этом, сильно всполошилась: если ленивый слуга всё время взвар на землю выливал, то злая болезнь теперь на всю державу переметнётся, а как же! Надо виновника наказать! Филька был согнан в скотники, где его скоро бешеный бык забодал, после чего дело пошло на поправку: дурной запах притих, а белая наледь сама собой пропала.
А теперь вот это новое наказание.
«Ну, пройдёт…» – решил, заглотнув шарик ханки, но всё ж таки велев Прошке тайно вызвать лекаря асея Ричарда Элмса, умевшего держать язык за зубами – не то что лиса Бомелий, коий наверняка разнесёт про блудни старой плутни – у государя-де язва от греховных совокуплений, горе, горе всем нам!
Вдруг вспомнился подслушанный недавно разговор Прошки с Ониськой – мол, Бомелий говорит, чтоб царёвы портки только одной портомое мыть давать… К чему бы это говорено? Неспроста! И раньше бывали прыщи, свищи и нарывы, как без них, правда, не на елдане и не такие здоровенные, как этот гнойный струп! Почему Бомелий сказал «только одной портомое давать мыть»? Просто так старая лиса ничего не говорит… Плохо!
Растревоженный, с головой, полной гудящих пчёл, приказал Ониське потащить его к помойному ушату, а на обратном пути осторожно дошаркал до двери, выглянул в щель. «Так и есть, опять припёрлись!» – недобро подумал при виде вытянутых лиц пятёрки бояр-шептунов, безмолвно сидевших вдоль стен.
У, морды собачьи, рыла свиные! Кто вас звал сюда? Тут сидят скромно, смотрят умильно, что твои серафимы, а как за порог – так рожи корчить и замыслы плести, по глазам бесстыжим прочесть можно!
Раздражённо схватил поданную Прошкой рясу:
– Чего ты мне этот бабский выношенный салоп подаёшь, чурбанча безмозглая?! Вот я тебя, шкура! – Хлестнул ею слугу, а потом швырнул на пол и начал топтать, крича: – Я вам покажу, как надо мной изгаляться! Покажу, какова я баба! Всех перевешаю как бешеных собак! Забыли, скоты, старое время? Давай ту, с тёплой подволокой!
Одевшись, ткнул дверь посохом и высунулся в щель. Бояре прямо со скамей молча сползли на колени, уткнулись лбами в пол.
– Отзыньте отсель! Челобитьё на столе оставьте… – Бояре с шорохами и охами – «живи долго и невредимо, государь», «счастлив будь, наш царь и великий князь» – сложили на столе бумаги и, попятившись, исчезли. – А ты, Арапышев, зачем притащился? – спросил у думного дьяка Разбойной избы, скромно стоявшего на коленях поодаль от других. – Что? Дел много собралось преважных? Так иди к Семиону, он теперь решатель, а у меня дел нет, кроме о душе своей бессмертной печься…
– Без тебя ничего не решаемо на Руси, – говоря это, Кузема Арапышев, румяный, видный, окладистый, с собольей шапкой в руке, ворот шубы – козырем, открыто и покорно смотрел с колен царю в глаза.
– Аха-ха… Ну, заходи, хоть и не до тебя… И фигуры расставь, в чатурку[53] сыграем. Или в тавлу[54] хочешь? Нет, давай в чатурку, она меньше от судьбы зависит… Мудрецы сказывают: кто на этом свете за чатуркой умрёт – тот на том свете вечность будет с Буддой в эту игру резаться!
– Как прикажешь, честь великая с тобой во всякие игры играть, – с наигранным воодушевлением стал мять шапку Арапышев (всем известно, что играть с царём опасно: проигрывая, он серчал, бесился, драчлив бывал и мог всякое сделать при проигрыше – ножом пырнуть, доской по башке заехать или вообще пальцы оттяпать, как у того незадачливого подьячего из Посольского приказа, умудрившегося шесть раз подряд выиграть у царя в тавлу, несмотря на кашли и безмолвные глазные предупреждения воеводы Мстиславского, при той игре случившегося, пока царь, взмокший от бешенства, не велел подьячему руку на стол положить и не полоснул кинжалом – якобы за обманство – так сильно, что пришлось два пальца на полу искать).
Вернулся в постели. Арапышев, осторожно войдя следом, без стука и звяка уложил на пол посох, прикрыв рукоять шапкой, придвинул низкий мозаичный поставец к постелям и, встав на колени, начал расставлять фигуры на большой клетчатой доске.
Глядя на дьяковы холёные руки в перстнях, опять вспомнил про письмо шведского королька Юхана. Нет, но чего удумал, выпь безродная, – напрямую со мной сноситься! Много чести для холопа! Что я, ровня тебе, колупаю брыкливому? Вы, шведчане, завсегда отчиной моих отцов и дедов были – и будете, аминь, дай только зиме пройти!
Арапышев, разложив фигуры и потупив глаза, смиренно ждал, склонив белое лицо к полу и рассматривая свои руки.
Ответ на наглое письмо Юханки начал вспухать в мозгу: слова кружат, роятся, стягиваются в цепочки, катаются, словно капли по слюде. И сколько ни отмахивайся от них, спасу нет: словесная мошкара, гладоносна и кусача, жалит до тех пор, пока, вытащив из-под постелей бумагу и туркский кара-даш, чёрный грифель, не стал избавляться от слов, выбрасывая на лист тельца букв, кои оживут при чтении и будут так же жалить, терзать и грызть Юханку, как ныне жалят и кусают его мозг. Да превратится словесная саранча в камни! Да прольётся этот камнепад на голову никтошки Юханки, сокрушит и удавит его!..
Отписав кусок, немного поутих, отложил лист и, не выпуская кара-даша, цепко пробежавшись пальцами по своим фигурам, приказал:
– Делай ход, Куземка.
– Как же? У меня ить чёрные?
– Ну и что? И чёрные, бывает, вперёд белых выбегают.
– Как прикажешь, государь.
Не смея перечить, Арапышев передвинул пешку.
Какое-то время играли молча. Вид доски успокаивал его – чудилось, король ему кивает, королева подставляет резное ушко, белые ангелы-пешки ровным рядом выстроены к смертному бою, слоны готовы врубиться во врага, а ладьи, словно башни, с двух сторон охраняют королевскую рать.
Эти чатурки – подарок индийского раджи. В послании было присовокуплено, что именно этими чатурангами их бог Будда с великим змием в джунглях играл и выиграл у змия мир. И живого слона Бимбо раджа прислал в придачу. Жил слон на Москве в ангаре, за цепь к столбу прикован, на радость детям и нищим (простой люд к слону гулять ходил, по полушке за посмотр платил). А во время чумы кто-то по Москве слух пустил, что все беды и заразы – от слона и его надсмотрщика. Ну, индусёнка сожгли в бочке с маслом, а слона никак не могли убить: и в сердце пытались пикой попасть, и из луков по глазам стреляли, и здоровущие камни с тына пускали – всё впустую. Потом кто-то надоумил связки на ногах палашами перебить, отчего зверь на бок завалился, а псари, слоновьи ноги арканами связав, у полуживого зверя бивни вырубили и на царский двор снесли; там они так и валялись, пока остатки мяса не сошли и один голландский стряпчий их не купил, чтобы уволочь в Амстердам, – из них, говорят, великий мастер Ван Бомм прекрасную птицу феникс вырезал. А слоновью тушу резали всем миром и давали собакам, и нищие с калеками, говорят, этой убоиной не брезговали, хоть и заразна она была якобы… Да что там слонину – в голод и мертвечину ели! И как перед Господом отвечать, если спросит, почему такой голод в державе допустил, что народ человечины не чураться стал? И кто виновен, как не царь, что люд от голода мрёт, когда у царя в закромах сотни пудов ржи и пшена напрятано, хотя, видел Господь, это для войска и войны припасено было?
Глядя одним глазом на доску, а другим – в недописанное письмо, продолжал набрасывать в уме ответ выскочке Юханке, усмехаясь про себя словам из письма христопродавца Курбского, что он-де, Иван, пишет не как царь, а как конюх и неуч, канонов не блюдя и слова базарные вкрапляя. А как хочу – так и пишу, тебя не спрашиваю, свинья злосмрадная, каин, искариот! Тебе ли указывать, как писать, невежде, перебежчику? Да и кто вообще мне тут, на земле, указчик? Слова надо такие брать, чтоб они молотом били, а не с экивоками да приседаниями лебезили, как это ты у своих гнилых поляцев научился, перед ними на задах прислуживая на пару с другим душепродавцем – Васькой Сарыхозиным! И если ты, сума перемётная, свой злобесный лай в воздушные словеса облачаешь, в виршевых согласиях яд пряча, то я рублю тебя моим гордым словом наповал, до лядвей, до мудей, как покойный Малюта Лукьяныч с врагами делывал!
Да знаешь ли ты, аспид гнусный, отщепенец и клятвопреступник, что меня грамоте сам Мисаил Сукин обучал? Строг был, ошибку по сту раз переписывать заставлял и розгами не брезговал, но главное – учил, чтобы своим природным языком изъясняться и писать. А тем дурням, кто наш говор иноземщиной пачкать будет, – ноздри рвать и язык резать!
В гневе откинулся на подушки, с неодобрением задержал взгляд на дьяковых пальцах в перстнях:
– Кольца не жмут? В носу ещё не хватает, как у медведя! Почто припёрся? Что за пожар? Чего зенки выпучил, словно хрену объелся?
Арапышев уважливым шёпотом донёс, что дел много сгрудилось и все какие-то крюкозябрые, без государя не осилить, а на замечание: «А Семион на что?» – с жаром повторил, что без царя ничего не решаемо в державе.
– Ну, начинай! – разрешил со вздохом. – Не знаешь, с какого конца клубок дёргать? С худого, с какого ещё? Индо у вас в Разбойной избе иные концы бывают?
Арапышев, оставаясь на коленях и вытащив из-за пазухи стопку бумаг, пересмотрел их и принялся мерным ровным голосом говорить о том, что третьего дня по доносу слуги в доме чучельника Ляпуна Курьянова на Орбате («того, что медведей для Кремля шкурил, знатный мастер») было найдено три мертвяка, а сам Ляпун в диком виде, кровищей измазан, в подполе аки зверь обретался. После допроса вывернулось на свет божий, что года три назад чучельникова дочь Лада двенадцати лет от роду была выдана замуж за паренька повзрослее. Пока девка дозревала, с этим мужем-мальцом, как водится, тёща, то есть жена Ляпуна, сношалась. Ляпун знал про то, но молчал, ибо сам небезгрешен был по снохачеству. Но вот дошло до того, что дочь, эта Лада, подросла и тоже стала с мужем жить, а её мать, то бишь Ляпуна жена, стала ревновать и, за что-то придравшись, сковородой так огрела дочь по голове, что убила насмерть. Ляпун, увидев это, кинулся душить жену, а когда молодой зять пришёл ей на помощь, то Ляпун прикончил и его, и её огромным шкурным шилом, а сам в безумии в подпол уполз, где выл и скулил по-собачьи, пока слуги его оттуда не выволокли.
Нахмурился: сколько ни борись с этим птичьим грехом – ничего не помогает! А ведь даже в Судебник записали, что не дозволено тёще жить с зятем в ожидании, пока жена-малолетка подрастёт, как это в стародавние времена принято было. Ан нет! Всё равно по-старому делают, ибо всем хорошо: девка зреет без беспокойства, муж её сопливый с тёщей разным постельным премудростям обучается, а хозяину без присмотра от обрыдлой жены по молодкам всласть ходить дозволено. И все при деле! Истинно говорят: псовая болезнь – до поля, а бабья – до постелей… И вот чем кончается! До чего доводит плотская похоть! Три трупа! Теперь такого искусника-мастера наказывать надо – а кто чучелы делать будет?
Перекрестился:
– Светлая память убиенным! А судить там некого, кроме чучельника? Может, помогал ему кто? Потатчики какие есть?
Арапышев удивлённо развёл руками:
– Да долго ли – шило воткнуть? Ран на телах и не видно было – так, точки красные! А у дочери, да, сковородой череп раскроен…
Утёрся скуфейкой, перебрал чётки:
– Ты видел этого Ляпуна – лыс он аль волос на башке есть? Есть? А лишить его чести[55], а потом пусть сидит до сосков – он и так наказан, семью потеряв! Да и мастер своего ремесла! Медведей так знатно сделал! Как живые стоят! Италийский посол чуть не обделался от страха, их завидя… Да, до сосков хватит, – решил (а Арапышев сделал пометку – чучельнику сидеть в каземате, пока волосы до сосков не дорастут).
Второе дело было похуже: слухачи донесли, что два царёвых рынды[56], в кабаке сидючи, сговаривались шапку Мономахову украсть, когда царь её во время большой трапезы рядом с собой на лавку положит, дескать, один пусть словно без сил в омрак упадёт на лавку, а другой пусть шапку в суматохе схватит.
– А потом, дескать, из неё сверкательные камни выковырять и в Литву сбежать! Даже, говорят, уже пробовали, как бы эту гадость сотворить половчее, на лавку за треухом бросались…
Это насторожило. Если уж рынды, кои, ангелам-хранителям подобно, должны за спиной стоять и охранять, стали недоброе замышлять, то чего от других ждать? Не то что шапку – голову потерять недолго! Дал алебардой в суматохе по затылку – иди потом разбирай!
– А кто слышал сие? Может, выдумки, навет, награду урвать? Шапку-то эту я напяливаю раз-два в году!
Арапышев раскрыл пальцы:
– Нет, государь, стукачей двое было, оба слышали. И оба видели, как рынды какого-то пьянца, заместо царя на лавку посадив и рядом заячью драную шапку положив, приноравливались, как бы сие половчее сотворить…
– Кто эти рынды?
– Дружина Петелин и Тимоха Крюков.
Швырнул скуфейку на пол:
– Вот псы поганые! И чего я только Тимохе не надавал! И сайдак с шитьём, и шубу горностаеву под белой каёмой, и шапку с песцовым исподом! А как я Дружину одаривал! Ему и два кушака кызылбашских, и безрукавную япанчу из верблюжьей шерсти… А когда у него отец помер – так и смирную одёжу дал на похороны: шубу под чёрным атласом, сапоги сафьяновые. А они вот корону слямзить задумали! Туда же их, в каземат! Допросить, кто с ними ещё в стачке был! И бирючам громогласно объявить на площадях, за что посажены. Враз бы бошки поотрубал, да зарок не позволяет! Ничего, я это дело проясню! Да знаешь ли ты, что моя Мономахова шапка цены не имеет?
И важно поведал притихшему Арапышеву, что сия золотая шапка – дар ромейского базилевса Константина Мономаха своему внуку, киевскому князю Владимиру Мономаху, а к ромейцам она попала из Вавилона, где её нашли вблизи гробницы Трёх отроков среди прочих сокровищ царя Навуходоносора:
– Понял, куда ветви тянутся? – значительно почёсывал бороду и перечислял, что на сей шапке имеется: крест золотой гладкий, по концам его – четыре яхонта, наверху шапки – четыре изумруда, два лала в золотых гнёздах, двадцать пять зёрен гурмицких[57], под соболей подложен атлас червчатый, а влагалище деревянное, оклеено бархателью травчатою, закладки и крючки серебряные…
Третье дело было совсем уж диким: бывший опришник Тит Офонасьев, напившись вдрызг, самолично содрал живьём кожи с двух пленных татар, отдал скорняку, тот кожи обработал, продубил, бухтарму[58] дёгтем смазал, подшил подоплёку из меха, приделал кляпыши[59] – и вышел кафтан. И ходил чванился этот Офонасьев по кабакам в эдаком кафтане, где на плечах уши человечьи топорщатся, а сзади, на спине, носы плюснутые татарские торчат!
Угрюмо покачал головой:
– Да он, видать, не в себе… Очумел, что ли? Умом тронутый дурачок – кто ещё такое содеять может? С глузда съехал народишко! Умом попятился! С живых людей кожи снимать и кафтаны лепить! – Но вдруг заметив, что Арапышев прячет глаза, цепко схватил его за плечо своей длиннопалой крепкой рукой. – Чего молчишь? О чём думаешь? Об опришных временах? О том, что я, изверг, тоже с людей кожу сдирал? А? А? Так я если и делал такое, то лишь чтоб другим неповадно было предательствовать и клятвопреступничать, во страх и назидание! И на себя кафтанов с ушами не пялил!
Дьяк обмяк и обомлел, под гневными пальцами мысли его обмелели: уж ему-то про опришню было многое известно. Да и как не знать? Весь клан Арапышевых был в опришниках (царь поодиночке не брал – сразу всю охапку мужчин из семьи), а ныне он, Кузема, один остался: отец умер, оба брата повешены за налёт на Богородицкий монастырь, а шурину отсекли голову в Твери за самоуправство. А что скажешь? Ничего. Молчать и радоваться надо, что сам пока жив.
Решил:
– Этого людоядца Офонасьева закуй в рогатку[60] и отошли в Пустозёрск – пусть там в ледяной тюрьме посидит! И скорняка, что кафтан с ушами шил, туда же, во льды, на кандалы! Что задумали – из людей одёжу шить! Что, татаре не люди? Прежде наших отцов тут царствовали будь здоров… Да само слово «отец» от татарского «оте»!.. И Чингисхан весь мир бы взял, да погиб от бабьих подлых рук… Коротка и подла душа у бабы, только рядится цветно… Давай, твой ход!
Арапышев, удивившись, что царь оказался столь милостив к душегубцу Офонасьеву, медлил, мялся, что не ускользнуло:
– Ну! Чего мнёшься, как баба?
Дьяк вкрадчиво крутанул на пальце перстень:
– Государь, места этих рынд… ну, Дружины и Тимохи… освободятся… Нельзя ли моего племяша туда взять? Хотя бы и подрындой? Он парень видный, рослый, честный, уже пять лет в московских стрельцах состоит, ничем себя не запятнавши, все только доброе о нём говорят. А так – с тобой будет, вечным светом осиян… Себя за него в залог ставлю!
Вперился в дьяка, как хищная птица в мышь:
– Вот оно что… Племяш, говоришь? А ты, случаем, не для племяша ли место расчищаешь, моих рынд оговаривая?
Арапышев побледнел:
– Что ты, что ты, государь! Как можно! Не я один ведь этих соглядатаев опрашивал, со мной и Клоп… то есть князь Мошнин, был… Он всё слышал… И писец там был, писарь…
Но это мало что значило. Клоп был – ну и что? Арапышев мог Клопа попросить подтвердить, чтоб племяшу поспособствовать. Не в службу, а в дружбу, так сказать… Вполне – что Клопу какие-то рынды? И разве лет десять назад, придя в ужас от царимого повсеместно казнокрадства, не стали на каждое начальное место по два дьяка сажать, чтоб те друг за другом следили? И что вышло? Оба начинали тащить на пару, вместе и вдвойне!
Больше того – он, по совету Бомелия, цепную поруку учредил, заставляя бояр друг за друга поручаться, да не по одному, а парами: за этого поручаются эти два, за этих двух – те четыре, а за тех четырёх – вот эти шестеро… И если кто-нибудь из цепи сбежит, нагрешит или иные гадости сотворит, то вся четвёрка или шестёрка поручателей отвечает: домами, имуществом, сынами, шурьями, а иногда и жизнями. А как иначе? И сын за отца отвечает, и дядя за племяша, и тёща за деверя – небось в едином дому одной семьёй живут, всё слышат и видят, не глухие, чай! Значит – все однодельцы! Все грешны! Все в сговоре, в стачке!
Но и эти цепочки не помогли: как изменяли, воровали, подличали, бежали – так и продолжают, ибо своя рубашка всего ближе к телу, на то она и подлость, чтобы законов не почитать и слово Божие забвению предавать… Да и Клоп ему с детства известен: на всё способен, хотя сыскарь мировой. Так что надо разобраться с рындами поглубже. Поэтому решил по-другому:
– Дружину и Тимоху пусть ко мне привезут, сам их допрошу, а племяша твоего куда-нибудь пристроим… А вообще, Куземка, скоро мне ни рынд, ни стрельцов не надобно будет, меня другое ожидает, – добавил печально, что ввело Арапышева в сомнение (уж не задумал ли государь чего с собой – или с Московией – сделать?) и заставило, опустив глаза, глупо сказать:
– Слушаюсь, государь!
Игра шла вяло: фигуры переставлялись без огонька, Арапышев, опять явно чего-то недоговаривая, напряжённо перебирал бумаги. Помявшись, рассказал, что три рядских купца из Замоскворечья, сговорившись к польскому королю отпасть, скупили много разного ценного – монеты, кубки, утварь, – уже в телегах тайники заготовили, да царёво око и под землёй видит:
– Тут, государь, надо построже – негоже из державы бежать да ещё золото вывозить, его в нашей земле нет… – осмелился от себя добавить Арапышев. – Да ещё и ругались на тебя и твою родню: «Да кто был-то этот варяг Рюрик, которым великий князь так кичится? Ворюга и ворог – вот кто он был! Вот от кого наш царь начало берёт – от разбойника, чему тогда удивляться? Куда игла – туда и нить! Гедиминовичево колено куда как поспокойнее будет, даже и Мономаховичи сойдут на худой конец!»
Пропустив это мимо ушей, злорадно переспросил:
– Нету, говоришь, у нас золота? А ты поищи как следует под постелями! Поищи, поищи, говорю тебе!
Арапышев, не понимая, всё-таки начал шарить под постелями, наткнулся на кожаный тючок, откуда вылупилось нечто, во влажные тряпицы завёрнутое. Развернул. И глаза на лоб полезли: острым блеском вспыхнул самородок размером с кошку, тяжёлый, видом ярко-жёлтый.
– Что это, государь? Откуда? Золото?
С хвастливым торжеством ответил, что этот кусман золота, запрятав под всякий хлам, три месяца тайно везли из страны Шибир от купцов Строгоновых два козака, коим было строго-настрого поручено доставить находку прямо в руки царю.
– Всё, всё у нас есть в изобилии, только извлекать не умеем, зело темны ещё, за немчинами да фрягами не угнаться. А всё из-за татарья проклятого! Им-то, порожденьям адовым, ничего, кроме лошади, нагайки и сырого мяса, не надобно, а нам – всего мало! Прячь золото назад! А купцов этих кнутами наказать, имущество в казну забрать, а самих – на север, – на что Арапышев, заворачивая самородок, робко заметил:
– Повесить бы надобно прилюдно, пусть бирючи объявят, за какое предательство сии купцы казнены. Дело-то зело серьёзно. Что же будет, если каждый за межу полезет и злато в мешках тащить будет?
Напоминание о «тащить» и злате в мешках неприятно кольнуло душу – подёргал бородку, сухо и едко возразил:
– Они же не тащили, только хотели! Их Бог рассудит, а я от смертных дел удалился, – чем ещё более, чем самородком, удивил дьяка: как это – «удалился»? Но слово царёво – закон. Удалился? Будем ждать, когда возвратишься, на всё твоя и Божья воля!
Вздохнув, дьяк уныло порылся в бумагах, оттягивая самое трудное и делая ладьёй ход, но мало думая – так недобро смотрел на него государь, что внутри всё сжималось и ёрзало. А что делать? Надо говорить. Вот собрался с силами:
– Государь, Белоулина видели в Костроме…
Вот этого никто не ожидал. Вот те раз! Белоулина! Как же могли его видеть, когда он – главоотсечён? Ох, плохое время подбирается, ежели покойники в Костроме оживают.
– Пить подай! Там сыта́ в плошке! – враз высохшим ртом приказал, со злобной досадой ткнув Арапышева ногой в плечо и, пока дьяк вставал с колен за питьём, не чуя от страха тела, замер, а в голове чья-то рука перебирала краткие пугливые мысли: «Да как? Зачем? Неужто? Откуда? Каким макаром? Казнённый Белоулин по земле ходит! Не по мою ли душу явился, выползень адов?»
Арапышев, подав плошку, вернулся к доске и, неслышно встав на колени, исподтишка поглядывал на царя, хорошо понимая, что творится у того в душе. Тогда ведь, год назад, не только царь, а и все, кто был на казни, от страха чуть не померли, даже митрополит бросил Библию и, подобрав рясу, кинулся наутёк, крича что-то несусветное, за ним народ повалил, а первым умчался на коне сам царь, прокричав на ходу, чтоб остальных осуждённых отпустили восвояси…
Случилось то страшное дело в день большой стрелецкой казни на Пожаре, на второй неделе по Пасхе. С раннего утра стояли у плах палачи и псари, чтобы казнить по росписи тех государевых слуг, кои, будучи в опришне, злотворничали и самоуправства творили, и тех, кто татарскому налёту на Москву споспешествовал, и тех, кто трусливо от татар бежал.
Когда прибыл царь – на злом жеребце, в чёрно-золотой кольчуге, – начали не спеша. Семерых казнили, отрубив головы, а восьмым был этот купец, Харитон Белоулин по кличке Харя, обвинён в стачке с крымскими купцами, такой высокий, здоровый и могутный, что его никак не могли на плаху уложить и рот заткнуть, чтоб не орал благим матом на царя «кровопийца» и «зверь». А когда наконец кое-как отсекли ему башку, то она продолжала прыгать по земле и кричать что-то громкое, а труп на плахе вдруг вскочил на ноги и принялся трястись, словно в танце, руками трепеща! И никак его было не свалить! Кровь, струёй бия из шейного обрубка, обливала всех кругом, а на землю упадая шевелилась как живая, светясь, играя, словно алая ртуть, шипя по-змеиному и не поддаваясь тряпью и мётлам в руках пытчиков-вертухаев. Так-то было…
Швырнув плошку на пол, уставился в доску:
– И… И в каком… виде его узрели? Без главы? Или как?
Арапышев утёрся рукавом от брызг:
– Да нет, с головой… Стоит себе на торжище с мелким скобяным скарбом как ни в чём не бывало, кричит: «У широкой Хари и плошки глаже!» Власька-стукач говорит, что лицо у него такое румяное, довольное… И всем громогласно объявляет, что он – тот самый купец, святой Харитон, что после казни восстал… Народ дивится и товар его зело бойко раскупает.
От этих слов стало полегче.
– А, хвалится, хвастает – значит, самозванец! Оживший святой принародно хвастать, петушничать и торговать не будет! Конечно, быть того не может, чтобы ожил… Что тогда с телом сделали?
Арапышев подтянул рукава шубы:
– Как обычно – в скудельницу свалили. А голову в ведре, землёй засыпав, в яме схоронили. Прах к праху… Её тогда псарь едва поймать сумел, ведром накрыв… Под ведром только и затихла…
Поморщился:
– Помню без тебя. А руки-ноги у трупа поотрубали? Нет? Плохо! – Помолчал, потом решил: – А послать в Кострому людей, пусть его сюда приволокут!
– Уже послал, – перебрал Арапышев бумаги, – а как же?
– Ну и ладно. Сколько у тебя по мою душу заготовлено? – с недовольным подозрением кивнул на листы. – Уморить меня сего дня вздумал?
Дьяк пожал плечами: что делать, за долго собралось. Выдавил осторожно:
– Государь, вот ещё одно, последнее, но очень худое…
– Что ещё на мою голову? Мало мне худого?
Арапышев со вздохом всколыхнулся:
– Обозы твои с пушным ясаком около Владимира ограблены, стража перебита, меха пропали… А живым оставшийся стрелец говорит, что перед разбоем петуший крик слышен был! Да не один, а со всех сторон! Словно, говорит, адовы петелы закукарекали! – И значительно поглядел на царя.
Оба молча смотрели друг на друга.
– Вот оно что… Петуший крик! Это похуже Белоулина будет… Подай там с поставца шарик бурый, лекарствие моё… Там и вода должна быть, если какая тварь не вылакала…
Проглотив ханку, дрожа от внезапного мороза в ногах, влез под перину, стал глубже заворачиваться в неё. Арапышев ждал, стоя на коленях и вперившись в доску.
Петуший крик – это очень плохо. Это хуже всего. Это значит, что опять объявился Кудеяр, его старший брат, великий князь Георгий Васильевич, Соломонией Сабуровой, первой и законной женой батюшки Василия, в суздальском Покровском монастыре рождённый. Выросши где-то в лесах, в тайном скиту, Кудеяр уже много лет буйствует и разбойствует на больших дорогах и даже, говорят, перед недавним пожаром тайные переправы и сакмы[61] на Москву татарским бекам подсказал. А недавно у крымского царя Девлет-Гирея в Тавриде объявился, в холе был принят, негой облит и во всеуслышание, при дворе, гостях и послах, бахвалился, что он – истинный царь россов, не только старший по возрасту, но и по праву, ибо брак отца Василия с фрягской врагиней Еленой Глинской был незаконен, отчего нынешний злой дурачок Ивашка выходит чистый самозванец, прощелыга, прохиндей и прохвост, с боку припёка, от незаконной блудни Еленки-наложницы прижит, гадёныш и выблядок, власть силой захватил и из народа соки сосёт, Москву профукал – чему Девлет-Гирей много смеялся, кубышку с золотом подарил и помощь пообещал, если Кудеяр пойдёт на Москву младшего брата-самозванца скидывать и себе своё царство по старшинству и роду возвращать.
Слышали мы эти басни про незаконство! И того, дураки, не понимают, что мы не жиды, чтобы по матушке ребёнка вести, судить и рядить, а христиане, где отец – главное! Каков отец – таков и сын! У Владимира Красное Солнышко мать тоже хазаркой-рабыней была – и что? Перестал он от этого быть Рюриковичем? Нет, а только власть над всей Хазарией приобрёл! Отец мне – великий князь московский Василий Третий, сие бесспорно! А кто из царских детей старше, кто когда на трон сядет – для царствования не важно: ежели нет старшего, то правит младший, ежели, не дай Боже, не будет моего старшего Ивана, то на царство сядет младший, Феодор! Так-то идёт испокон века, не нам менять сие!
Арапышев, сжавшись, переждав самый опасный миг и видя, что царь его не трогает, а сидит, выпялив глаза и скребя в бороде, осторожно добавил:
– Но его никто не видел. Только крики. Может, это и не он?
– Аха-ха… В чистом поле на большой дороге – петухи! Как же! Может, и седало[62] там было? И несушки яйца клали? Нет, он это, он! Опять притащился! И небось с своей разбойницей Анной? С блудной дщерью Дуняшкой и деверем Болдырём? А?
Арапышев напомнил, что Кудеяра никто не видел, только слышали петушиный крик: тот выживший стрелец, из пищали поражён, в беспамятстве лежал, а когда очухался – никого уже не было, охрана перебита, следы от копыт, телеги без лошадей, сундуки без товара:
– Ведь хитёр и опытен зело: как обоз ограбастает иль купцов пощёлкает – так сквозь землю уходит! Нигде ничего не тратит, не продаёт, не спускает. И общий розыск делали, и стукачей по весям рассылали, и приманные обозы по большим дорогам пускали, со стрельцами под попонами, – ни в одну ловушку не сунулся, ни один капкан не задел… Уходит, как вода в песок!
От этого стало даже гордо на душе – ещё бы, хитёр и умён, даром что одной крови! А то, что выблядком ругает, так не он один: второй-то брак отца Василия с матушкой Еленой церковью не был принят и освящён, в этом вся докука, и он, Иван, выходит, незаконный самозванец, что ему вечно в строку ставилось боярами, по всем углам кричавшими, что великий князь Василий на вражьей литовской бабе женился, да ещё, как нехристь, бороду сбрил по её приказу, пока он, Иван, всем говорливым бренчалкам и пустомелям глотки свинцом не позаливал и бошки не поотрубал…
Надо крепко думать, как от этой напасти раз и навсегда избавиться, а то из-за Кудеяра он не только стал часто впадать в страх и дурные грёзы, но даже сторонился больших трактов, предпочитая малые лесные дороги, – а по ним и ездить плохо, и отряды водить трудно. Но не могут сыскари выловить разбойника, хоть ты тресни! Куда им за таким резвуном угнаться! Ведь царских кровей – значит, мудр, хитёр, опасен! Чую, придётся самолично этой ловлей озаботиться!
Рассматривая чётки, выдавил:
– Куда же он девается после татьбы? Может, к ногаям в степи уходит? Или в свои керженские леса уползает? Или за Волгу кидается? В Пермию к язычне? Чего молчишь? Не знаешь? А вы на что? Почто вас содержу на кормлении? Чтобы вы вовремя всё знали, а не с разинутыми ушами сидели и ждали, когда Кудеяр на Москву двинет и с собой крымцев, ногаев, табасаранцев, черемису, татар и других нехристей приведёт! Иль ты с ним заодно? Небось, деньги берёшь и отпускаешь? А? Говори, иродомордец!
И, в гневе схватив пригоршню фигур, швырнул их Арапышеву в лицо – тот не посмел уклониться, только забормотал слезливо:
– Спасибо за науку… От разбойника деньги?
Но удержу уже не было:
– А это что у тебя на руке? Не тот ли перстень, что Кудеяром с убитого воеводы Можайского снят был? А, собака?
Арапышев закрестился, смаргивая слёзы:
– Нет, нет, что ты! Вот те крест, это от отца мне перешёл, по заднице[63]!
И слёзы не трогали, ярился дальше:
– Врёшь, пёс! Весь в перстнях и злате, аки базилевс ромейский! Негоже дьяку Разбойной избы в алмазах красоваться, как бабе продажной! А ну сымай все кольца, блуда твоя мать! Ну! Вон в тот ларец кидай! Не то с пальцами отрублю!
Видя, что царская рука тянется к кинжалу, Арапышев стал спешно стягивать перстни с пухлых пальцев, кидать в ларец, а царь угрюмо следил, чтоб ничего не осталось:
– И цепь с шеи! И рукоблуды эти! – Дотянулся ножнами до браслета с камнями, блестевшего из-под рукавов дьяковой ферязи. Подождал, пока Арапышев стащит всё с рук, захлопнул ларец и поставил возле себя на постели, прикрыв периной. – Вот так-то лучше, надёжнее…
Обобранный Арапышев бормотал:
– Спасибо, государь, впредь умнее буду… Спаси тебя Бог, что уму-разуму нас, дураков, учишь…
Пристукнул кинжалом по ларцу, глухо звякнувшему под периной, отчеканил строго и веско:
– Вот тебе моё последнее слово. Если керженского вора Кудеяра сюда в кандалах со всей его шайкой не притащишь – плохо тебе будет! Из фуфали в шелупину живо перекину! Даю время до Михайлова дня. Нет – пеняй на себя! Секир-башка! Иди с глаз моих!
Арапышев поднялся с колен, взял посох, шапку, стал задом пятиться и пропал.
Спустив дрожащие ноги в домашние чёботы, попытался дойти до помойного ушата, но куда там! Всё вокруг шаталось, кружилось, морщилось: Ляпун с топором, купцы-изменщики, подлые рынды, безглавое тело в жутком танце, и всклокоченный Кудеяр, и страшные крики петуха перед новой зарёй, коей уже не будет для него – убогого, бедного, оболганного, всеми угнетаемого, убитого…
Опустился на пол и затих.
…Ночью сидел в постелях, набрякнув телом, обуреваем ужасом и дрожа, как квашня в крынке. Обволакивал сильный страх, нападавший с детства и пробиравший до дрожливого столбняка. Страх бывал разный: бояр, расправы, мальчишек, мести, смерти – но всегда сильный, неодолимый, до нутра костей.
Пытаясь спастись от этой душевной хвори, бормотал в голос, утирая слёзы и взывая к тому главному великому Существу, к коему редко решался обращаться напрямую, а только через ангелов и Богородицу, как простой воин к воеводе – только через сотника:
– Господи Боже, всесильный владыко жизни и смерти, внемли, рассуди! Ты лучше меня знаешь, как я пытался наставить мой народ, пугал и казнил, наказывал и миловал, любил и холил, угрожал и истреблял – всё впустую, всё тщетно! Отныне снимаю с себя ярмо ответчика, ибо народ мой неисправим, предан праздности, лени, обману, скотскому непотребству, я же сам – тих, ласков, нежен, добр: почему же должен гореть в геенне огненной, в тартарах адовых? Ведь всё, что делал, – только по воле Твоей… Но тщетна вера без любви… Кому не по челу терновый венец – собачью шапку носи… Больше не в ответе… Отрекаюсь от своего народа и от всех его невзгод – пусть сами расхлёбывают! А то что выходит? Всегда я один виноват? И если птица Симаргл кудесит в лесу – то я при чём? Русалка где хвостом всплеснула – а я виноват? И если медведь-губач невинных козлищ загрызает – опять я голову клади на плаху? Как же уследить за всем миром? У меня, кроме пары глаз да ушей, ничего и нету более… Реки льдом укрыты, спят – а я бодрствуй, сторожи? Если скот не плодится, хлеб сгнил и урожай сгинул – за что же меня на правёж под кнуты? Каково такую державу в обзоре держать? Орёл-четырёхглав и то не уследит, не то что сраный человечишко… Человекоцарь? Царечеловек? Разве я сороконожец, чтобы всюду поспеть? Сил лишился я через всех – и ухожу! Рёк пророк: горе мужу тому, коим управляет жена. А Московия – это жена моя, а я – муж её и отец! А каково женой управляемым быть? Нет, не бывать тому! Всего народа по монастырям да казематам не рассадить – значит, мне одному, самому, уходить надо, а они как хотят, пусть так и живут! Иноком, схимником, пещерником, затворником! Дай знак, Господи, тут же исполню! Плохо чёрной овце в белом стаде, но куда хуже белому безвинному овну в чёрной стае грешников, а я таков – безвинен, и кроток, и богомолен, и тих, и скромен…
Снаружи слышны голоса и скрипы. Взлетало тявканье собак, глухо и коротко отзывался Морозко. И что-то тёмное вкрадывалось в келью, шарило по углам, коготками постукивая и мышей пугая. «Вот он, Кудеяр! Вот она, смерть моя!» – лепетал про себя, летя в пропасть страха вверх тормашками.
Так и сидел в постелях, старый худой человек – борода всклокочена, глаза воспалены, череп блестит в поту, – и безотрывно смотрел на свечу, и свеча вдруг начала дёргаться и погасла, словно изнемогши под его стопудовым взглядом.
Но и в темноте не умолкал страстный шёпот:
– Боже, а как я хотел привести людей моих радостными и довольными в райские Твои кущи! Как бы я хотел сесть вместе с ними у ног Твоих и сидеть вечность, камешки перебирая! Но не дано мне такое блаженство! И нет у меня больше выхода, как уйти пещерником в схиму. Или на чужбину бежать, где ждёт меня жалкая участь. Чернец, беглец, подлец! О, как темно и холодно, Господи, в царстве моём! А я света и тепла алчу! И последний пастух счастливее меня! Он свободен, а я скован, стреножен, обречён!
Тени бродили по стенам, перекатываясь по образам, иногда попадая на карту из буйволиной шкуры, и тогда карта ёжилась и трепетала как живая.
В печатне
Прильнув к стекольчатому окну и проводив опасливым взглядом Арапышева, ушедшего валкой походкой на санный двор, Прошка велел Ониське поторапливаться – надо лететь в печатню; не больно-то хочется, но нужно, ибо лучше самому в себя осиновый кол вогнать, чем царёва приказа ослушаться.
В печатне, отодвинув бумаги, выложили на стол нехитрую снедь – холодные заплывшие шаньги, сыр и половину варёного петуха, раздобытого в кухарне у Силантия. Была и баклажка. Прошка отхлёбывал из неё, наказывая Ониське, чтобы тот был внимателен, букву в букву списывал бы даденное – царь ошибок не терпит, говоря: «правило – от Бога, а кривило – от чёрта», всегда сам всё проверяет, все имена, отечества, прозвища наизусть помнит и, главное, хорошо знает, с кем на каком языке говорить: на простом – с голытьбой и дрянь-людишками, на бранном – с боярами и воеводами, на закомурном – с умниками и богословами, на кучерявом – с послами:
– Сдаётся мне, что он и звериные перелаи и птичьи писки понимает! Сколь раз искали скопом по дворам да закоулкам – царевич-де куда запропастился? – а он с колдунами на засеках ночи коротает!
Но Ониська возразил, что он, того-этого, слыхивал, как царь одного знатного иноземца честил по-чёрному: и сукоединой, и дудкой, и кисляем любодырным. Прошка был снисходительно согласен:
– Это другое. Это ежели он на кого зол, будь то сам папа латинский – нож в сердце врежет не моргнув…
И рассказал: поймав на воровстве тороватого умника-боярина Семёна Олябьева, большого из казны таскателя, но о душе всегда много вещателя, царь так сильно озлился, что разорвал на нём кафтан, исподнее, ударом ножа взрезал ему грудь и стал рыться там, крича: «Где, где она, твоя душа? Покажи! Не вижу! Не могу найти! Нету её у тебя, паскудника, и не было!»…
– Господи! Прямо – и того? – Ониська застыл с куском сыра.
– А что, спрашивать будет кого? Рассёк одним ударом, как куру… Все и всё – его! Он волен и казнить, и миловать… Да что там Олябьев – он слона приказал изрубить на мелкие кусочки, когда сия великая зверь не встала перед ним на колени!
Ониська положил шаньгу:
– Чего? Колена? Как?
А так! Царю из пленной Казани прислали в подарок слона, при всём честном народе подвели носатую зверюгу к Красному крыльцу, где на выносном троне восседал царь, и погонщик похвастался, что слон-де тоже хочет встать перед всевеличайшим владыкой на колени. Царь милостиво махнул рукой, а слон заартачился – и ни в какую! Какое там – на колени! Наоборот: затрубил, на дыбы вздёрнулся и елданом двусаженным размахивать начал! На задних лапах идёт и восставшим елданом туда-сюда помахивает! Царь отпрянул, но от толчка трон покатился по ступеням, царь выпал из трона, чуть под тот карающий елдан не угодив, и тут же, не вставая, велел стрельцам изрубить слона на куски.
– Но как подступиться к такой махине? Кое-как, пока зверь на задних лапах гарцевала, её таранным бревном свалили наземь, а там уж с разных сторон накинулись саблями полосовать и пиками колоть… Страсть кровищи вылилось, до колен хлюпала!
Довольный испугом шурина, Прошка доел за ним петушиную ногу и, не торопясь к писанию, будь оно неладно, сказал, что потом выяснилось: царю по подлому наущению прислали из Казани слона-палача, махаунт-наездник приказал – слон и кинулся на царя!
– Да слон – это ещё что! В Опричном дворце такое ли ещё бывало! Как это – какой дворец? Не слыхал? Ну и дубина! Был дворец на Москве, да сгорел!
И Прошка поведал, что царь, поссорившись с боярами, построил на Петровке особный Опришный дворец, страшный на вид и такой крепкий на деле, что татары даже не сумели в него проникнуть, снаружи закидали горшками с гремучей смесью. А жаль! Красив стоял, как град Божий! Самим царём по книге пророка Иезекииля задуман был сей дом, где встреча человека с Богом произойдёт! По башням – четыре литых орла, очи из яхонтов! На воротах – львиные морды, глаза из зеркал! Стены глухи и гладки, без бойниц, сплошняком, чёрного камня! А внутри дворца всяких припасов, нужных для жизни, не счесть, провизии и питья на три месяца в погребах! Скоморохам и дудочникам сарай отведён. И пытошная башня без дела не стояла. А пороховые тайники под землю так искусно утоплены были, что даже при пожаре не взлетели на воздух – это потом их свои же мужички подорвали по глупости, когда пепелище растаскивали. И подземные ходы были, и схроны, и даже для мельницы воду из реки отвели.
– А вместо зёрен иногда чьи-то грешные руки-ноги меж жерновов попадали!
– Чьи… того? Ноги? Кого?
Прошка равнодушно скривился:
– А тех ослушников, что против государя шли… Руки-ноги молоть – на это покойный Григорий Лукьяныч Скуратов, Малюта, был мастак и умелец… Строго было, не то что теперь! А! – Прошка возбуждённо встряхнулся: – Вон видал – царь какой уж день валялся без головы от зелья этого треклятого, а где это видано, чтобы государи мёртвых котов гоняли или кукарекали? Ну давай, пишем…
Роспись Людей Государевых
Гаврилов Григорей, Гаврилов
Гриша, Гаврилов Дениско,
Гаврилов Тренка, Гаманин
Ондрюша, Гарасимов Кузма,
Гаютин Девятой, Герасимов
Смирной, Гиневлев Богомил
Богданов сын, Гиневлев Гриша
Михайлов сын, Гленской Иван
княж Михайлов сын, Гневашов
Гриша, Гнидин Якуш, Годунов
Борис Фёдоров сын, Годунов
Яков Афонасьев сын, Головин
Григорей, Головин Ондрюша
Меншой, Головин Якуш,
Головленков Василей Григорьев
сын, Головленков Иван Васильев
сын, Головленков Офонасей,
Голубин Дружина, Голчеев
Всполох, Гомзяков Семейка,
Горбунов Безсон, Горбунов
Васюк, Горбунов Ивашко,
Горбунов Тренка, Горемыкин
Митка Некрасов, Городетцкого
Иван Сеитов, Горяинов
Верещага, Горяинов Ивашко,
Горяинов Третьяк, Горячкин
Юрьи, Готовцов Васка Вазаков
сын, Готовцов Васка Ураков
сын, Готовцов Давыд Ураков
сын, Готовцов Митка Фёдоров
сын, Готовцов Фецка Фёдоров
сын, Готовцов Сенка Фёдоров
сын, Готовцов Фетко Фёдоров
сын, Граворонов Васка, Греков
Михайло, Грешной Володка
Клементьев сын, Грибанов
Василей, Грибанов Известной,
Григоръев Ивашко, Григорьев
Володка Иванов сын, Григорьев
Гриша, Григорьев Замятня,
Григорьев Истома, Григорьев
Лешук, Григорьев Матюша,
Григорьев Мещанко, Григорьев
Микифорко, Григорьев Митка,
Григорьев Михайло, Григорьев
Олёша, Григорьев Олёшка,
Григорьев Ондрюша, Григорьев
Онтонко, Григорьев Офонка,
Григорьев Пётр, Григорьев
Сенка, Григорьев Соловко,
Григорьев Тренка, Григорьев
Третьяк, Григорьев Фадейка,
Григорьев Федко, Григорьев
Филка, Григорьев Шарапко,
Гриденков Гаврило, Гриденков
Кузма, Гришин Ерёмка,
Громоздов Первуша, Губарев
Семейка, Губастого Иван,
Губастого Митя, Гунин Девятко
Семёнов сын…
Синодик Опальных Царя
6 июля 7076 года:
Отделано 369 человек и всего
отделано июля по 6-е число.
«Дело» И.П. Фёдорова:
Андрея Зачесломского,
Афанасия Ржевского, Фёдора,
Петра, Тимофея Молчановых
Дементиевых, Гордея
Ступишина, Ивана Измайлова,
князя Фёдорова сына Сисеева,
Ивана Выродкова и детей его
Василия, Нагая, Никиту, дочь
его Марью, внука Алексея,
да два внука, да Иванову
сестру Федору. Да Ивановых
братьев Ивана Выродкова:
Дмитрея, Ивана, Петра детей
Дмитриевых, Веригу, Гаврилу,
Фёдора, да двух жён: дочь его да
внука Выродковых же, 9 человек.
Ширяя Тетерина и сына
его Василя, Ивана, Григоря
Горяиновых Дементьевых,
Василя Колычова, Андрея,
Семёна Кочергиных, Фёдора
Карпова, Федора Заболоцкого,
Михаила Шеина, князя
Володимера, князя Андрея
Гагариных, Афонасия,
Молчана Шерефединовых,
Ивана, Захария Глухово,
Ивана Товарыщова, Фетку
Бернядинова, Михаила
Карпова, Фёдора, Василия
Даниловых детей Сотницкого,
князя Данилу Чулкова
Ушатого, князя Ивана, князя
Андрея Дашковых, Григория,
Семёна Образцовых, Афонася
Обрасцова, Молчана Митнева,
князя Фёдора, князя Осипа,
князя Григория Ивановых, детей
Хохолкова Ростовского, Роудака
Бурцева, Михаила Образцова
Рогатого, Иосифа Янова,
князя Александра Ярославова,
Василия Мухина, Петра
Малечкина, Ивана Большого,
Ивана Меньшого, Василя
Мунтовых Татищевых, князя
Фёдора Несвицкого, Дмитрея
Сидорова, Утоша Капустина,
князя Андрея Бабичева, Карпа
Языкова, Матфея Иванова
Глебова, Фёдора, Ивана
Дрожжиных, Андрея, Григория
Кульневых, Ивана, Третяка,
Ивана, Григория Ростопчиных,
Ивана Измайлова, Семёна,
Ивана, Фёдора, Елизара, Ивана
Каменьских.
Глава 4. Дрянь Господня
Постепенно он отстал от опийного зелья: пришёл день, когда не дали ни крошки ханки, вместо этого по совету чародейца Бомелия обманом опоили крепким сонным отваром и привязали к постелям, чтобы во сне перенёс самое болезное. Спал без просыпу дня два, а потом начал приходить в себя.
Но чем больше здоровел телом, тем больше дух его впадал в панический бесперебойный страх – страх всего и перед всем. Сердце закатывалось под самое горло, мороз лил по костям, в зобу спирало – не продыхнуть. И не было вокруг никого, кто мог бы помочь, ободрить, выявить сочувствие – все только смотрели либо ему в руки, либо себе под ноги. И Федьки Шишмарёва, любимого рынды, весельчака и скосыря, всё не видать из Польши, куда был послан присматривать за послами, а также разузнать поближе, что за человек будущий король Стефан Баторий, – зело, говорят, лют и охоч до наших городов. И Родиона Биркина нет. И Нагие забыли. Даже Годунов носа не кажет…
А ныне с утра начались страстные шёпоты за спиной: обжигали шею, облетали голову, вползали в уши, вылезали изо рта: «Госссподди, помилуй мя, грешшшшнаго…» И никак не расслышать связных слов, одно змеиное шипение: «Шшшш… Шшшш…» Уверен был, что это ссорятся его ангелы, хранитель с губителем. И втягивал лысую голову в плечи, закрывался периной, безнадёжно ожидая рокового конца их ссор.
И целый день так было. За окном рокотал гром, небо тужилось, но дождём не испускалось. Засыпал и просыпался – шёпоты возникали и пропадали.
А к вечеру, под серый свет из слюдяных окон, что-то страшное начало вспучиваться в послеобеденном сне (во снах он всегда был мал, слаб и беспомощен). Росло и розовело, пухло и рдело, как вымена той поросой свиньи, кою они с кремлёвскими ветрогонами когда-то умудрились затащить на башню и скинуть оттуда, а потом, со свистом и улюканьем сбежав вниз, рассечь у подыхающей хавроньи брюхо, выволочь гадостные зародыши и растоптать их до праха.
Особо буйствовал Клоп. Мрачный и широкий, с вывернутыми губами, сын мясника Сытного приказа, он прибился к шайке князевых детей и, зная о своей ущербности смерда, жестоковал более других, желая себя показать, никому спуску не давая и воруя у отца разные ножи и топоры, тут же пускаемые в ход и проверяемые на какой-нибудь живности, будь то скот или человек. Злобы Клоп был лютой, но при молодом царе оседал на задние лапы, всем своим видом показывая покорство, в коем, однако, имелись сомнения – с ним надо держать ухо востро.
Да, не только та поросая свинья, но и многое другое из тварей бессловесных было скинуто с башен и стремнин. Первую кошку сошвырнули вниз, чтобы узнать, правда ли, что кошки всегда падают на лапы. Но какое там! Башня высока! Кошка лежала на боку, щеря клычки в посмертном оскале. Потом затащили чёрную собаку (что давеча являлась с того света с колокольцем), сбросили, она и гавкнуть не успела, но на земле ещё дышала, отчего Клоп перепилил ей шею огромным ножом-пальмой из мясобойни.
А когда один залётный парень по прозвищу Сидело выиграл у них три раза сряду в кости, то его повели на башню – якобы расплатиться, там деньги спрятаны, – и невзначай, в ссоре, перевалили сообща через поручни. На земле парень лежал, как пьяный после попойки – косо раскинувшись, а вместо головы – красный бобон с багровыми лепестками…
Скольких лишил жизни самолично – не знал, после десятого со счёта сбился. Первого, князева сына Тишату, зарубил топориком, когда им обоим было по двенадцать лет. На задворках Кремля повздорили из-за зерни – Тишата, прозвище получивший за своё хитрое тихоумство во всём, что делал, раз за разом выигрывал, да ещё потешался, шептал на ухо соседу: мол, какой он будущий царь, когда даже в зернь выигрывать не в силах? И довёл своими попрёками до белого каления: Иван совлёк с пояса топорик и, с первого раза попав Тишате по плечу, другим ударом разрубил ему череп так, что открылась серая складчатая мешанина, вроде мелких кишок. И от неожиданности онемел, и так бы и стоял перед тельцем Тишаты, что дёргалось в последних судорогах, если бы не деловой Клоп – тот, вырвав топорик и кровавую руку при этом поцеловав, велел остальным побыстрее отволочь ещё полуживое тело в угол и завалить камнями – скоро вместо Тишаты в грязном мусорном углу прибавилась куча щебня, поди разбери, кем и когда насыпана!
В тот же день, когда все были возбуждены от крови, ещё один замухрыжистый баляба, обычно тихий Степанка, сперва довёл их своими выкрутасами до гнева, а потом зачем-то приволок странный кувшин, набитый чёрным жёстким волосом, что вызвало страх у молодого царевича, панически боявшегося всякой ворожбы и колдовства. Страх перешёл в ярость, и он со всех сил хватил Степанку кастетом по виску – тот сложился вдвое, не пикнув, Малюта с Клопом дорезали его заточками-подковами, а тело сволокли в недорытый ров.
Понял тогда: раз я не был поражён Богом за человекоубийства, то можно распоряжаться жизнями рабов по своему усмотру и хотению, ибо Бог водит моей рукой во всём – и в хорошем, и в плохом! Если убивает – значит, так Ему угодно, сердце царёво в руце Божьей! Если милует и награждает кого – и это токмо в Его власти! Да за что Бог должен карать меня, если Сам же сделал меня царём, дал в полное владение всё вокруг и сказал: «Ты не убивец, ты судия, карающий крамолу»! Ведь учила же сызмальства меня мамушка Аграфена, светлая ей память и земля пухом:
– Это всё – твоё! Ты – царь, хозяин всего сущего вкруг тебя!
– И домы мои? – спрашивал. – И Яуза? И Кремль с боярами?
– И домы, и река. И Кремль с потрохами. И дьяки, и целовальники, и воеводы.
– И зверьё в лесах – моё?
– И зверьё, и рыбьё в реках, и птицьё в небесах, и все поля и луга – всё твоё! Вся земля, все людишки – твои.
– И девки все мои?
– И девки, и бабы, и старухи с дитёнками – всё твоё. Всё, что живёт, дышит и шевелится, – всё твоё! Ты царь!
Ей вторила бака Ака на своём ломаном наречии:
– Како един орлан царуе на небу, лев – в пустиню, риба-кит – в океану, так царь един правит на мире, без чужого сказа, подсказа и совету! – После чего мамушка Аграфена читала на ночь Голубиную книгу:
– Ночи черны от дум Господних, зори утренни – от очей Его… Ветры буйные от Святаго Духа… Дробен дождик от слёз Христа… Помыслы людские – от облац небесных… Кости крепкие – от камней… Мир-народ – от телес Адамия… Цари в земле – от главы Адамовой, а первый над всеми царями царь – Белый царь, а это ты, Иванушка… Спи, золотце… Завтра будет новый день…
И маленький Иван на всю жизнь уразумел: раз всё его – значит, со всем этим можно делать всё, что захочется. А хотелось многого…
Прошка внёс овсянку с мёдом, свежие калачи, икру, масло и настой из травы ча – подарок китайского богдохана: напуганный движением россов по стране Шибир к границам своей Жёлтой империи, богдойский царь то и дело посылал в Московию всякие всячины: то пару солдат из красной глины в рост человека (их выставили в Кремле напоказ рядом с чучелом громадного медведя), то искусно сотворённый из серебра дворец (ушёл в казну), то порох особый, что влаги не боится и не сыреет (загрузили в подвалы Оружейной башни, где он всё равно отсырел). А вот сухая чёрная трава ча – бросишь щепоть в плошку, зальёшь окропом – и пей, набирайся сил и свежего дыхания, и зубы лимоном чистить не надо (лимоны присылались тоже из Китая, лично царю, поштучно). Напиток ча никому не давал пить, а пойманного на этом кухаря Агапошку окунул мордой в таз с горячим киселём, чему тот был рад и хвастал потом с красной волдырной рожей, что хоть и ошпарен, но жив, а мог бы за ослушание в петле болтаться!
Недобро проводив глазами Прошку, через силу спросил:
– Сам кашу из котла брал, как я велел? И мёд? И калачи?
– Сам, сам зачерпнул, – ответил слуга, следуя приказу во избежание яда брать для царя еду только из общего котла, будто бы для себя, – а кому надо Прошку травить? Наоборот, Прошке, царёву слуге, с уважением лучшие куски подкладывали – а те шли царю, да без яду, коего он боялся всю жизнь.
Но всё равно!
– Пробуй, лежака! – Сам стал давать слуге понемногу от всей еды на ложке и ноже, а потом кинул их в миску для грязной посуды.
Пригубливая горячий ча, стал смотреться в малое зеркальце (осталось от матушки), удивляясь тёмному цвету кожи. И шишак мозолистый на лбу как будто вырос – был с ноготь, стал с палец. И колени никак не проходят. И ноги ноют так, что мочи нет, – на ступнях пальцы поскрючивало, суставы в буграх и шишах. И поясницу не разогнуть. Тело отказывалось служить духу, а разве стар он так сильно? Ещё эта срамная язва навязалась на елдан!
Истинно говорят: что прошло – то в памяти затаилось, что течёт – то умом созерцаемо, а грядущее душу нашу мечтами опутывает, тешит, холит, нежит… Сорок пять лет минуло с того мига, как он самодвижно, ранее времени, одним нетерпением вытащился из чрева матери, и помнит, помнит, как при рождении его снаружи звала какая-то светлая ангелица – дескать, быстрее, сюда, брось пуповину, за ту жизнь не держись, здешняя жизнь лучше, тут свет, а там тьма; а чёрная баба с крыльями его обратно в чрево втаскивала, крича, чтобы он этого не делал, что пожалеет об этом, ибо тут тихо, тепло и влажный покой, а там, снаружи, – сухая мерзость и пустой хаос… Да, куда лучше было бы в той тьме оставаться, чем по миру шлёпать, в грехи обутому да в блуд одетому!
Сидя в постелях, мрачно озирался. Ничего бы не видеть! Не слышать! Дайте покою, занемог и духом, и телом! Душой стреножен, телом обездвижен – куда уж дальше!
– Прошка, полугар подай!
Взял принесённую бутыль хлебного вина, отпил из горлышка немало – а что делать, приходится вино пить, если ноги не ходят, даже в церковь тащиться сил нет. Домовую церковь, как и приёмный зал, уже давно приказал запереть, обставу зала – столы и лавки – в чехлы поместить, чего им зря пылиться? Ему для молитв икон в келье хватит, а другие пусть идут в Распятскую церковь или в Троицкий собор – зря, что ли, там прорва монахов содержится?
Вино начало мелкими волнами растягивать тело изнутри, раскладывать мысли в голове. Но нет, какое там! Ничего не ладно, только кожа на лбу от мыслей вспучилась. Одно маячило: спасаться надо! Недаром всю ночь матушка Елена снилась в виде кошки, коя прыгала по горнице и мяучила, ища выхода. И Бомелий предупреждал, что большое горе маячит в звёздах московского царя в этом году. И слепая волхитка напророчила недоброе по требухе петуха. И все кругом, кто защищать должен, к врагам переметнулись и смерти его желают, переветники сучьи, как те подлые рынды. И Белоулин из мёртвых восстал. И Кудеяр объявился, а это самое опасное: ему Александровку взять – пара пустяков! Небось, и стража вся моя уже им подкуплена! Недаром каких-то пришлых чужаков видели в слободе! Одно к одному. Бежать. Да не в Тверь или Суздаль, там всюду достанут, а за пределы державы! А тут гори всё белым пламенем, по словам пророка о Содоме и Гоморре! Не хотели иметь доброго и мудрого царя – пусть выбирают себе в водилы кого желают: хоть из Старицких – если найдут, конечно, кого в живых, или из Воротынских, или из поредевших Шуйских, или Семиона-дурачка, или из польских собак, или сына Ивана, или самого дьявола-папу! «Мне всё едино! Не хотели сладкого – жрите теперь горькое, псы неблагодарные!»
Была и ещё одна причина бежать за межу – его странная болезнь на муде, что мучила всё сильнее.
Давеча врач и аптекарь Ричард Элмс осмотрел елдан и срочно позвал Бомелия. Долго рассматривали срамную язву под лупой, украдкой морщась от тухло-солёного запаха, что исходил от разбухшего гнойника, мялись, взглядами перекидывались, боясь ему в глаза смотреть, латинскими и другими словечками обмениваясь (“casus extraordinarius…”, “clavus clavo pellitur…”, “di meliora velint…”, “ulcus durum…”[64], “yes, it looks like a chancre…”[65]), и наконец с охами, ахами и экивоками высказали, что похоже это на новую хворобу, шпанцами завезённую, – от неё пухнут суставы, гнойники разбегаются по телу, печень умирает, а плоть сгнивает.
– Из Америки эту болезнь привезли головорезы Кортесовы. Они там без женщин с ламами жили, вот от них и захватили… – объяснили доктора.
– Ламы – это кто?
– Вроде ослов…
– Это что же, болезнь таким макаром переходит? Да? Тогда… Тогда и жена Анюша тоже больна? И девки все другие? – со страхом уставился на врачей.
Доктора ответили, что с того времени, как болезнь засела, все могут быть заражены, но неизвестно, когда она внедрилась в царя. А вообще, честно говоря, ничего об этой новой болезни толком пока не известно, кроме того, что через соитие переползает и даже на тех может накинуться, кто твоё бельё стирает или твою еду доедает…
О Господи! Ещё новый грех, новая кара! Вот почему Бомелий велел тогда Прошке отдавать стирать царское бельё одной и той же прачке! Знал, что ли, уже, собака, что я недужен? Или догадывался? Или сам заразил нарочно? Но как? Мы с ним в постелях не кувыркались!
Схватил Бомелия за отворот лапсердака:
– Ты, что ли, меня этой гадостью удостоил? Зачем Прошке говорил – одной портомое давать мою одёжу стирать? А?
Бомелий замер, как мышь в лапах кота, пролепетал высохшим ртом, что он ни при чём, он с царём соитиями не занимался, а одной портомое давать – чтоб знать, с кого спрашивать, если бельё будет худо или нелепо постирано.
– У, пёс лживый! – отпихнул Бомелия, понимая, однако, что колдун тут вряд ли виновен – он ближе, чем на вытянутую руку, не подходит, ибо весь пропах травами, серой и иным, чего царь, имея тонкий нюх, зело не терпел.
Отстав от Бомелия, воззрился на доктора Элмса:
– Что же делать? Как жить, бабу не трогая? И как лечить?
Тот пожал плечами, кивнул на Бомелия: мол, да, надо одну выбрать, какую не жалко, с ней сожительствовать, а там дальше как Бог даст!
Это разозлило – легко ли говорить: выбери кого на жертву! Даже если на такое злое пойдёшь, то что потом с ней делать, когда она язвами и волдырями покроется? Другую убивать? Третью? Так полдержавы перемрёт – ведь они, заражённые, тоже с разными мужиками сношаться будут – похоть раньше человека родилась – и этим мужикам своё смертоносное болево передавать начнут! Нет, это надо пресечь! Хорош государь, коий свой народ язвой-шанкрой гробит!
– А лечить это можно? – спросил с последней надеждой.
Выяснилось, что лечить можно, но трудно: нужны редкие лекарства, особая ртуть, сулема, жидкое серебро, хинный корень, ещё bungarus multicinctus, viscum album и другие благотворные яды, которых в Московии ни за какие деньги не купить. Где есть?
– England! В Англия есть! – с гордостью сказал Элмс, запрятывая лупу, щуря слабые глаза и говоря, что в Англии самые лучшие врачи на свете, ибо им известны медицины всех стран, Британией под крыло взятых, – а таких много! Ведь повсюду свои премудрости и полезности, оттого бритские врачи такие умные и опытные!
Бомелий пообещал, что сделает из козьих кишок чехол, чтоб на елдан натягивать и елдан тот обутым в баб совать, – так можно заразу остановить.
Доктора поспорили, может ли против язвы помочь Aspergillus niger, грибок, живущий в мумиях: Элмс утверждал, что это придумано торговцами-шарлатанами, а Бомелий был уверен, что может помочь. Но пока сошлись на том, что шанкру надо высушить примочками из календулы, чтобы снять воспламенение, потом мазать ртутью и по мере сил воздерживаться от девок и трения язвы.
Отпустив лекарей, залез обратно в постели.
Ну, одно к одному! Значит, судьба! Чтобы выжить – надо ехать в Англию! Заодно и дочь лежачую вывезти – об этом Элмс ещё раньше говорил. Решено!
Будто предчувствуя все эти несчастья, год назад послал в Лондон в дары королеве четыре куска персидской золотой парчи, белую мантию из серебряного штофа, громадный туркский ковёр, четыре связки чёрных соболей, шесть рысьих шкур, две белоснежные шубы из горностая. Королева приняла подарки милостиво и ответила большим посольством: царь сидел на Красном крыльце в Кремле, а перед ним вели быка, зоб висел до самых колен, рога позолочены, ошейник из зелёного бархата с изумрудами, далее псари тащили на поводках свирепых аглицких псов-бульдогов, а следом уже везли на телегах золочёные алебастровые вазы, особые пистоли и самопалы, запас разных лекарств, нити жемчуга, блюда…
Воодушевлённый, отправил в Лондон посла Андрея Совина, чтобы тот не только осмотрел королеву, какова она из себя, но и подписал бы с ней уговор о взаимном убежище при опасности, где было прямо сказано: «Если кто-нибудь, Иван или Елизавета, по несчастью своему вынужден будет оставить свою землю, то может жить в государстве другого без опасности, пока беда минует и Бог переменит его дела». Перед отъездом самолично наставлял Совина:
– Смотри в оба, какова она, мне хворые не нужны. Дородна ли? Сочна? Мяса в достатке на костях? Свои ли власы на голове имеет или заёмные? Не то говорят – лыса королева вкрутую, а на балде обманные волосяные нашлёпки носит, коих у неё сотни две по рундукам припрятано.
Не дождавшись ответа, некоторое время назад в припадке страха после измен опришни, минуя открытую почту, направил с аглицким толмачом Антониусом королеве Елизавете ещё одно, тайное, письмо с просьбой об убежище в случае крайней нужды – неужто она великого князя московского с семейством (а в крайнем случае – и без оного) не приютит?
Писал письмо страстно, с трепетом сердечным, без писарей, сам, ночами, провидя в мыслях своё жалкое будущее гонимого беглеца и предвидя смерть, ежели останется тут: в кубке с ядом, в куриной ноге с иглой, в ноже любого, кого перекупят или заставят убить, в мести кого-нибудь из обиженных, коим несть числа, в удавке постельничего или в топоре плотника, что недавно оконницу в трапезной чинил и с колуном всё вокруг да около похаживал, пока его не погнали.
«А сестра-королева даст мне охрану, ежели я к ней явлюсь? – спросил себя, сам же ответил: – Да какое там! Охрану! Пока даже на письмо не ответила! А от моего сватовства лицемерной отпиской отлынивает – мол, решила остаться в девстве, ибо обручена со своим народом, как пеликан, вырывающий из своей груди куски мяса, чтобы накормить голодных птенцов – вот символ её жизни во имя своего народа! Пеликан! Нет, надо самому за дело приниматься, сей же час, не то поздно будет!»
Выгнав Прошку: «Пошёл отсюда, балахвост, нечего валандаться!» – и закрыв дверь на щеколду, взял перо, чернильницу, бумагу, решив ещё раз написать королеве.
Если на прежнее письмо ответа не было (или проклятый толмач Антониус не довёз, или королева не соизволила ответить), то ныне надо писать поползучее, поласковее и письмо передать понадёжнее, не через Приказ, а через своего человека… Но где они, надёжные люди? В былые времена имелись друзья – а где они днесь? Разлетелись, как брызги из лужи, когда в неё падает камень! Каждый, узнав о письме, тот же час по секрету всему свету разнесёт, что царь с аглицкой королевой тайно сношается, в Англию позорное бегство задумал!
Внезапно на ум пришла бака Ака, не раз говорившая, что если нужно что-нибудь тайное сделать – иди к жидам, у них повсюду сети раскиданы, что угодно куда надо в целости доставят по своим укромным путям, пантофлевой почтой называемым, и верны будут до гроба, ибо, как псы побитые, всегда у правителей защиты ищут, понимая, что лучше кормить самого властного (и самим вокруг него кормиться), чем с иными другими связываться.
С одним ушлым и хитрым жидом Шабтаем, сборщиком цдаки[66], как-то было об этом невзначай говорено – надо-де кое-что кое-кому без огласки отослать. Шабтай обещал переправить всё в сохранности хоть на край света и служить царю верой и правдой, но в обмен просил не высылать семью из Москвы вопреки царёву приказу, что все люди жидовского живота должны покинуть пределы Руси.
На эту просьбу тогда дал согласие – пусть живёт и называется Савватей Петров, беглый от османов болгарин из Варны. И Малюте-кнутобойцу приказал не трогать Савватея, ибо тот может понадобиться для денег или чего другого.
Да, жидовин тогда клятвенно обещал доставить всё в самый короткий срок. И самое правильное будет теперь сделать именно так – поручить ему доставку письма в Англию. А если, не дай Бог, письмо будет перехвачено, то его же, Шабтая, можно обвинить в подлоге.
Но была ещё закавыка. Недавно, в весьма злом расположении духа из-за самоуправства аглицких купцов, написал королеве Елизавете другое, открытое письмо, где позволил себе кое-что, что не могло королеве понравиться, а именно: угрозы перекрыть пути в Персию и забрать у бритских торговцев все разрешительные грамоты, данные ранее.
Стал рыться в футляре, где были копии со всех его писем. Их делал для него немой чистописатель Кафтырь, присланный Мисаилом Сукиным. Кафтырь писарь был кремень: работал свою работу, брал плату и уходил, чтобы раз в неделю тайно явиться, списать копии для учёта, взять одну московку и раствориться в тёмном вечере.
…Снаружи угрожающе-захлёбчиво забормотал гром.
Открыл окно: дождя нет, небо тёмно, иногда озаряется безмолвными зарницами – предвестницами Божьего рокотного гнева.
Вот оно, письмо, где он грозит королеве всякими карами. Не надо было его писать, да ещё открытой почтой посылать! Но что делать? Оторванное яблоко обратно на яблоню не привесишь, в семя не вгонишь! Вначале грубо отчитывает её, будто она не королева, а портовая воровка, за то, что печати на её грамотах всё время разные, а это непорядок и неуважение… Это её-то учить, коя полмиром владеет и сама государей научает, как печати прикладывать?!
Потом упрекает в том, что она-де брезгует встречаться с его послами, что она не властительница в своём королевстве, – а что может быть хуже такого упрёка? Вот: «Мы надеялись, что ты в своём государстве хозяйка и сама заботишься о своей государской чести и выгодах для страны, поэтому мы и затеяли с тобой эти переговоры. Но, видно, у тебя помимо тебя другие люди заправляют делами, и даже не люди, а мужики торговые, которые не заботятся о чести и выгодах для страны, а ищут своей торговой прибыли. А ты же пребываешь в своём девическом чину, как есть пошлая девица…»
Это уже прямая брань – и не хозяйка у себя, и мужика рядом с тобой нет, ты и пошлая, ты и простушка, и труперда[67]… Осталось только курвой болотной назвать… Да, истинно учил Мисаил Сукин: есть слова-блохи – не избавиться; есть слова-мухи – гоняешься, не прихлопнуть, они назло тебе летают; есть слова-шмели – врываются смело, их все боятся; есть слова-трутни – сами в руки летят; есть слова-шершни – жалят без разбора…
Ну а в конце прямо угрожает: «А торговую грамоту, которую мы к тебе послали, ты прислала бы к нам обратно. Даже если ты и не пришлёшь ту грамоту, мы всё равно не велим по ней ничего делать. Да и все наши грамоты, которые до сего дня мы давали о торговых делах, мы отныне за грамоты не считаем и назад отберём. Московское царство и без аглицких товаров не скудно будет…»
Что делать? Пролитую воду не собрать, но попробовать можно. Надо написать по-другому – помягче, покрасивее, словно печальную синичку гладить, ибо умный словописец схож с удачливым птицеловом: в каждом силке – дрозд, под каждой сетью – соловей, во всякой западне – сова иль дятел…
Это же для неё почёт и уважение, ежели он, московский государь, будет жить в Англии! Сам великий царь Московии, озлившись на свой непокорный и негодный народишко, соизволил гостить у своей сестры Елизаветы… Хм, сестры… К сёстрам не сватаются, а он сватался – через посла Дженкинсона.
А почему бежать в Англию?.. Ну а куда? Не в Китай же, их дураковатые щебеты слушать? Не к немцам же, сиволапым цуфускам[68], не к ляхам же подлым, змеям подобным? Только появись у них – схватят, османам на потеху продадут!.. Не в Африкию же, где жарко зело, му́рины[69] чёрны в песках живут и людоядцы попадаются? Не к папе же, в дьяволов Рим?.. Куда отпасть, где искать защиты? Нет, достанут везде на суше!.. Один выход: на остров к бритам уходить, водой от изменников отделиться, защиту искать за стенами замков, подальше от всех докук!.. Там и шанкру лечат, и дочь на ноги поставят, а что дороже семьи?..
Громыхнуло с неба. Принял это за хороший знак.
Начал письмо королеве. Неясные шорохи отрывали его – вскакивал к дверям, приоткрывал, ничего подозрительного не находя.
Но один раз при писании кто-то положил ему горячую руку на плечо, говоря:
– Опомнись! Охолонись!
Не посмел оглянуться, только вжал голову в плечи и так сидел, замерев и затаив дыхание. А когда собрался с силой и оглянулся – по келье витал светлый душистый тающий дымок, а под потолком порхали хлопья, похожие на белую сажу… Был ли то ангел-хранитель? Или ангел-хулитель, души и тела губитель? Оба с детства преследуют его.
– О, явись мне, милосерд, святый архангеле, и не отлучайся от меня, скверного, но просвети светом неприкосновенным! – забормотал в ужасе, вспоминая, что такую же белую сажу видел уже однажды, давно, когда, хмельной и разудалый, бражничал с попом Сильвестром и Алёшкой Адашевым, его тогдашним мовником (светлая ему память, хорошо стелил постели и мыл в бане!).
В ту пировню все были тяжело пьяны, били слуг, швырялись кубками в иконы, митрополита заставляли петь петухом, богохульничали, приказали стрельцу-охраннику на их глазах снасилить большегрудую служанку. Вдруг откуда ни возьмись – молодой человек, всем как будто знаком с лица, усадил и усмирил всех строгим взглядом и, говоря странным, старинным, едва понятным языком, доказал им бытие Божие так ясно и зримо, что все только рты пораскрывали да так и сидели, пока тот человек, печально на них поглядывая и не прерывая речи, заставлял взглядом ковши по столешнице кататься, ковриги хлеба летать по воздуху, а кубки один в другой самостийно складываться. Так он им, убогим, свою святость показал, велел не грешить и ушёл, оставив после себя такой вот сладкий дымок и такую же светлую сажу. А позднее узнали его по иконе в церкви – был это Кирилл Чудотворец!..
Писал, отхлёбывая хлебного вина и пытаясь вложить в каждое слово вес, и смысл, и скорбь, и печаль, и жалобы на измены, заговоры, вражбу, ворожбу и предательства, коими оказался окольцован и скован, полонён, почему и просит, как равный равного, как брат сестру, о временном прибежище и защите. И страх кровавыми кусками вис на душе, в кипучем взваре застилая разум. И голый человек трепетал в нём, голосил, а царский глас совсем умолк, ибо дело шло о жизни и спасении, а не о венце и всякой ерунде…
При письме иногда замирал, воочию представляя себе нелепость задуманного: он, великий государь, просит убежища, где ему надлежит жить, как псу в будке. Что бы на это отец и дед сказали? Для того ли они эту махину Московию по крупицам собирали, чтобы он бежал, как заяц от собак, неведомо куда, свою страну на произвол судьбы бросив?
Да вот ещё, как с бритами там, в Англии, говорить? Язык их неведом. Значит, толмача тащить? Или королева даст? Если того Антона, то всыпать ему по первое число! Всыпать? Кому ты там всыплешь? Какие права будешь иметь против местных? Смотри, чтоб ещё этот Антон рожу тебе не растворожил! Тебя там каждый дерьмочист лайном обольёт, ибо ты там не длань Господня, а рвань Господня – беглец презренный, трус и предатель, коему первый кнут…
Если одному ехать – то как с семьёй быть? С сыновьями? С бездвижной дочерью? С Евдокией Сабуровой, что в монастыре по его воле мается под именем инокини Александры?.. Её любит всех сильней. Здесь в любой миг увидеть может, а оттуда, из Англии?.. Как он там, в этой Англии, без её лица ангельского, кроткого, любимого, жить будет?.. Без её очей огнежгучих?.. Без её ножек, кои земли словно из милости касаются?..
Что-то ещё теребило его.
Лунный свет!
Лунный свет пробивался сквозь слюды, что-то призывно шептал и с детства заставлял во сне ли, наяву вставать с постелей и бродить взад-вперёд, пока бака Ака или мамушка Аграфена не укладывали его, приговаривая, что надо давать дитю «сонное», чтобы спал.
Открыл окно, стал вглядываться в трупный лик немой луны.
Нет, лучше бежать одному, без никого – переодеться купцом, пробраться в Холмогоры, сесть на бритский корабль, в Англию попасть, а там видно будет! Бежать одному, без семьи! И посмотреть, что тут начнётся. Все могут быть замешаны – и сваты, и браты, и дети. Показали же новгородские высидки под пытками, что вместо него, Ивана, Божьего помазанника, на трон его сродича, роднюка, князя Владимира Старицкого загнать намеревались? И сын Иван может в каше замешан оказаться – ведь после него шапка Мономаха как раз ему, царевичу Ивану, впору по старшинству… О Господи, все дети завистники, а мои – тем паче: если боярским чадам домы и другая ерунда достаются, то моим – вся держава, есть где развернуться!
И что, разве не слышал однажды, когда в бреду лежал, как бояре в соседней горнице, его ещё не похоронив, вполголоса Старицкого на трон посадить собирались: его, дескать, выберем, отчего он нам подвластен будет?!
Да что там вполголоса – и открыто уже всякое говорят! Ведь набрался же наглости польский перевёртыш Федька Воропай через подмётные письма объявить на Москве, что польская рада желает иметь королём младшего царёва сына, Феодора! Вместо того чтобы ему, главному царю Ивану, предлагать польский трон, они его малолетнего отпрыска себе желают, чтоб им крутить-вертеть как заблагорассудится! А он, Иван, может быть, оттого ныне и отрёкся от московского престола, чтобы себя для польского трона освободить – Семиона-куклу в Кремль посадив, сам ушёл в тень, втайне надеясь, что поляки после смерти Сигизмунда Августа ему корону преподнесут…
Были такие надежды и слухи. Были, да сплыли. Никто трона не предложил.
О Господи! Как я устал от злолукавства! Тело изнемогает, болезнует дух! Струпья телесные и душевные умножены! Богоначальный Иисус, чем провинился? Ведь делал только то, что шептали мне в уши ангелы, Твои слуги! Без Твоего наущения и волоса не спадёт с последнего бездомного пса, что обитает в помоях! А сейчас что? Разве я длань Господня? Нет, я – дрянь Господня, хуже червя и подкожной скнипы!
Ему вдруг стало предельно ясно, что времени больше нет тянуть и ждать, пока Штаден наймёт мастеров-корабелов, будут построены судна, собрана команда да взята казна, чтобы плыть в Англию открыто в гости – нельзя. Чем быстрее бежать – тем вернее жив будешь! Сей же час ехать к Шабтаю, отдать письмо, а самому, одному, запастись платьем и другим, что купцу положено, и, не мешкая, тайно сесть на шхуну, идущую в Англию. Авось к тому времени, когда туда прибудет, и письмо подоспеет, и королева будет знать о его приезде. А то, чего доброго, и не поверит, что это он, сам, своей персоной, грозный царь Московский, в купеческом тряпье к ней явился и что-то непонятное лопочет, как холуй ледащий…
И много писать не надо. Главное уже написано. Ещё предупредить, что пишу коротко, ибо нахожусь в смертельной для тела и души опасности, ищу защиты у тебя на время – и всё.
Наскоро закончил письмо, поставил подпись, скрепил двумя печатями и стал метаться по келье, собирая то ценное, что можно унести с собой.
Но что брать? Что может унести один?
Вспотел, стал суматошно оглядываться, словно смерть сию минуту ждала его за дверью.
На пальцы колец не натянуть – суставы разбухли; недавно перстень прямо на руке резать пришлось, для чего был вызван шотландец-золотовар с пилкой, коей накипь с золотых монет обрезается.
Где гребень, зеркальце, поясок – три вещицы, особо хранимые, талисманы?
Малое матушкино зеркальце перегородчатой эмали, с отбитым уголком, – в него смотрелся ещё в колыбели. Гребень батюшки – им духовник Мисаил Сукин наряжал батюшку последним причесанием в гробу. Если чесаться этим гребнем – мысли сами собой разложатся по уму (хоть и нет уже волос на голове, а он всё равно каждый день скребёт череп этим гребнем). Шёлковый поясок навсегда любимой жены Анастасии: обвяжи им лоб – уходит боль и затухает хворь…
Побросал вещицы вместе с письмом в котомку.
Деньги не брать – звону и весу много, а пользы мало. Только камни и кольца.
В котомку были ссыпаны из двух ларцов перстни и кольца.
Сдвинул карту на стене – открылась ниша. Извлёк оттуда шкатулу красного дерева с рубинами на крышке, полную диких алмазов, сапфиров, изумрудов. Отправил всё в котомку.
Да, но как же без подарков к королеве являться?
Из неприметного рундука вытащен был завёрнутый в мешковину «Апостол» – первая книга, в золотом переплёте с каменьями – подарок печатника Ивана Фёдорова. Это королеве должно понравиться.
Подумав, полез под постели, вытащил самородок. Его тоже следует забрать – какому государю не будет приятно иметь такое? Сорвав с лавки покрывало, завернул в него золото, сунул во вьючок.
Вышло три куска: котомка с письмом, кольцами и шкатулой, узел с «Апостолом», вьючок с самородком.
Что-то внутри гнало поскорее из кельи. Явственно казалось, что за дверью замерла неслышная толпа людей, готовых ворваться. Толпа лишь ждёт сигнала!
Быстрей отсюда по чёрной лестнице – авось там проскочить удастся!
Напялил в лихоманке прямо поверх ночной рубахи рясу с куколем, потом – овечью безрукавку, на неё – кожух. Кое-как влез в тёплые сапоги. Натянул на голый череп тафью. Сверху – тёртый треух по глаза: до Шабтая, до Москвы ехать неблизко и холодно! А в Москве есть тайные места, где можно собраться для поездки: заготовить липовые подорожные, достать купецкую одёжу, накладные волосы, может, даже бороду сбрить.
Прихватив посох, плевком затушив свечу, неловко повернулся и задел узлом помойный ушат. Крышка с грохотом слетела, загремела по полу, нечистотами залило ступню.
Застыл в стыде и страхе: «О Господи Боже велик, могуч, справедлив!» Но внутри что-то отчаянно взвизгнуло: «Беги! Беги!» – и он, перехватив покрепче поклажу, выскочил на чёрную лестницу, ужасаясь плохому знаку. Вот чем воняет его бегство – сцаками и калом!
Гулким холодным переходом выбрался на санный двор, где стояли возки, сани, телеги. Пофыркивали лошади, шурша сеном, отряхиваясь и позванивая в темноте.
Охранник, крикнув было:
– Кого нелёгкая несёт? – вдруг узнал и осёкся.
– Чего глаза напучил? Отъехать надо! Какие лошади для почтаря готовы? Почтарь пусть после едет! – И пошёл садиться туда, куда повёл онемевший от удивлённого страха стрелец, привыкший видеть царя в парче и соболях, а тут – старик в дряхлых пимах и рваной рясе, кожух сверху, один, с узлами – ну, кухариха в торговых рядах! Только и сказал:
– Государь, дорога раскисла, ехать трудно… Ночь…
Опять в небе громыхнуло.
Подозрительно косясь на охранника, упрямо мотнул головой, молча кинул поклажу в телегу, укрылся полостью и вытянул кнутом лошадок.
Сонные стрельцы, схватив шапки с голов, распахнули ворота.
Уже выехав из крепости, хватился – ни ножа, ни кастета с собой! Но не возвращаться же! И так плохих примет полно!
Дальше пошло ещё хуже – на переправе через реку на неравных брёвнах заднее колесо вдруг истошно крякнуло и дрыгнулось, отчего с задка сорвалось ведро для дёгтя и с треском шлёпнулось в Серую. Ну одно к одному!
Проехав тёмную пустую слободу и оказавшись на росстани, некоторое время раздумывал. Ехать по большой дороге? Она лучше укатана, но опасна! Ехать по малой лесной, в колдобинах и ямах, зато безопасной? На большой дороге Кудеяр поджидать может! Небось знает, что он, Иван, в Александровке, – а ну вьётся тут где-нибудь поблизости, его поджидаючи? Да и грабить привык Кудеяр на больших трактах, где ценные обозы идут, – а на малых какая ему выгода?
Нет, лучше ехать по малой, лесной, боровой.
Из-под колёс летели брызги грязи. Лес стоял хмур и тёмен.
Подстёгивал лошадей, приподнимая треух и прислушиваясь, но, кроме дребезга узлов, ничего не слышал. Того, что в узлах, должно хватить на первое время – а там видно будет. Надо будет – займу у королевы под залог всей Московии, ведь не откажет же горделивица: залог-то знатный?! В шкатуле камней достаточно, только вот ценят их сейчас в Англии, по словам доктора Элмса, не очень высоко: своих, из Индии выкраденных, вдоволь наволокли, на вес продают, словно горох или пшено…
Стал представлять себе бритов, как их описывал посол Совин: коротконогие, широкие в груди и брюхливые, или длинные как жерди, но все рыжие, красноглазые, злые, а бабы распутны и уродливы, и девки блядисты зело, и еду кушают отвратную – пудины какие-то трясучие и рыбу-полужарку… Господи, и среди эдаких уродов жить?..
А кто попытается взобраться на московский престол после его бегства? Где главные предатели и изменщики гнездятся? Их всегда предостаточно. Многих уже нет среди живых, но новые народились. Да вот оттуда, из Англии, как раз и услышим, кто свои щупальца к трону потянет!
Да уж, правду говорят: куда лучше иметь в друзьях мёртвых, чем живых: мертвец гадостей не делает, а от живого жильца всякой пакости ежевременно ожидать возможно… От живых забот не оберёшься, а с мёртвых какой спрос? Из всякого каземата можно сбежать, только из могилы обратного хода нет… Ну, до Страшного суда дотянуть бы, а там откроется, кто какие козни чинил и измены замышлял!
И почему-то только ничтожный жид Шабтай, иноверец, ростовщик и меняла, виделся главным спасителем и помощником. «От свои луди жди пакость и злобность, а от жиды докук нехе, ако им не увредиши» – так учила бака Ака. А как у них деньги забирать, если не «увредить»? Самовольно-то никто и полушки не отдаст! Как ни крути, всё равно обижать приходится, а жиды не только зело обидчивы, но и злопамятны, о чём мамка Аграфена предупреждала: держись, мол, от них подальше, они нашего Бога предали и продали, то же и с тобой сделают, если выгоду для себя в том усмотрят…
Да, и продадут, и предадут, и не простят ему того, что он с их единоверцами в Полоцке десять лет назад сотворил. А мог он поступить иначе, чем отец и дед?
Тут вспомнил, что не помолился перед выездом, не присел на дорожку. Нет! Сдвинул иконы, святотатец, хапнул камни и перстни – и всё! О земном подумал, а Небесное – упустил, храпоидол! И стал креститься, в уме читая молитву, – она и в молчании до Бога доходит, если Тому это угодно, Господу слышать голос человеческий не надобно – голоса души хватает: «Царь Небесный, Утешитель, приди и вселись, и очисти от всякой скверны, и помоги мне, грешному, совершить начатое, ибо не я, жалкий человече, сие затеял, а Ты, Вседержитель, на это меня наставил и надоумил!»
Молитва успокоила. И даже заяц-беляк, перебежавший через дорогу, не вызвал обычного страха – ну перебежал, не останавливаться же сейчас? Поплевать через левое плечо, постучать по дереву – и хватит!
Вдруг сзади начал настигать стук копыт, скрип колёс, крики. И скоро его обогнали две тройки с бубенцами, в лёжку забитую какими-то горлопанами. Что это – ночью на свадьбу едут? Или с поминок вертаются?
Вот и след простыл, только со второй тройки что-то швырнули на дорогу и крикнули во всё горло:
– Куда, пень, на ночь глядя!
«О Господи, их ещё не хватало! Когда же я буду в Москве?» – начал было высчитывать, но осёкся, вспомнив поучения Сукина о том, что в начале пути никогда не спрашивай и не думай о конце, чтобы мысли твои не услышали чуткие беси, – если уловят, то обязательно захотят надсмеяться, поизгаляться, нагадить, какую-нибудь дохлую свинью подложить; потому в дороге думай только о самой дороге и не забывай: человечишка предполагает, а Бог – располагает!
Мысли вернулись к Шабтаю, к их последней тайной встрече.
Тогда из Ливонии пришли известия, что денег в войсках нет, наёмники бунтуют, солдаты сидят без кошта и огневых припасов. Но казна после войн пуста. Делать нечего, надо брать у жидов.
И самолично ночью, под скрытым лицом, отправился к Шабтаю, чем привёл в ужас домочадцев, вповалку спавших на полу. Морщась от застарелого чесночно-рыбного духа и спёртой сонной обвони, строго и коротко потребовал у Шабтая сто тысяч золотом, иначе завтра же вся их тайная община выкрестов будет перевешана или перетоплена, вместе вот с этими курчавыми малютками, что смотрят изо всех углов! И сделает это не он, московский царь, а поляки и литовцы, кои вот-вот возьмут Москву, если не дать им отпора. А как его дашь, если средства на войну иссякли? Кому, как не вам, знать, как горько жить в чужом плену, да ещё без денег! Так что раскошеливайтесь, братья по несчастью, не то вам – крышка! Для вас сто тысяч – пустяк! Вы племя жестоковыйное, выдюжите!
Шабтай, не попадая ногой в патынок, наполовину босой, егозил вокруг него, заверяя, что деньги будут через три дня, надо собрать. Не зная, куда усадить грозного гостя, совсем ополоумев, повёл его в комнатку, где на высокой постели храпели Шабтаевы родители.
– Зачем они мне? Они что, золотые? – засмеялся и, ущипнув под периной чей-то ойкнувший зад, ушёл к дверям, где потрепал Шабтая по толстой щеке. – Вам, левитову колену, доверяй, но проверяй! Ухо востро держи! Вы почему на Иисуса хулы возводите?
Шабтай прошептал:
– Наш закон – Пятикнижие Моисеево, там нельзя изменять ни буквы, а Иисус хотел всё изменить.
На это было, что ответить, любил такие споры:
– А ты не думал, если Господь послал своего Сына, то, значит, Господь решил изменить своё слово, а то зачем бы Он это делал – посылал Иисуса? Я тоже даю грамоты и посулы, но если всё меняется, могу и грамоты отозвать, и посулы изменить. Так и Бог поступает. Его руке нельзя противиться!
Шабтай примирительно сказал:
– Когда придёт Машиах, он объединит языки, все будут единоверны, все протянут друг другу руки, и лев ляжет рядом с ягнёнком…
Жёстко прервал его:
– Знаю, ваша судьба незавидна, да не мной сочинена! И дальше нелегко будет. Вы обречены на вечное ожидание. Ваши десять колен, запертые в Гоге и Магоге, ждут вернуться домой, чтобы уже там, на родине, ждать Страшного суда! Так-то Бог решил, а мы перерешать не в силах. А знаешь, почему Бог на вас опалу наложил, в вечное ожидание ввергнул? Сам подумай: чем торгует ростовщик? Деньгами? Нет, временем! Чем больше времени проходит – тем больше он берёт выгоду. Но Господь создал мир и время для всех живых тварей, поэтому вы, жиды-ростовщики, – воры и тати, захватчики времени, лабазники лжи, коловраты греха! Странно, что ещё воздусями или солнечным светом не торгуете. Господом дарованное оборачиваете для себя с выгодой! И если мы обкрадываем друг друга, то вы обкрадываете самого Бога! Вот почему Господь взъелся на вас. Негоже так поступать!
Шабтай плаксиво начал оправдываться – он ткнул его посохом в кадык:
– А ещё хуже, что вы эту выгоду, барыш, только с нас, грешных глупцов, взыскиваете, ибо брать прибыль со своих собратьев вам запрещено. Не во Второзаконии ли написано: «С иноземцев взыскивай, а что будет твоё у брата твоего, то прости ему»? Аха-ха, выходит, иноземцев обдирай как липку, а своих не трожь? Какие вы умные! Ну так не взыщите, когда иноземцы с вас тоже время от времени шкуру спускают и взыскивают вами украденное в наказание за обиды, чинимые вами Господу!
Шабтай стал отнекиваться:
– Нет, государь, мы тихи и скромны! Иудеи хотят мира и добра…
Зло отозвался:
– Добро мира они хотят к рукам своим загребучим прибрать – вот чего они хотят! Нет, не бывать этому в моей земле, не дам её обирать! Если хотите тут обитать – должны креститься и жить как мы! А других не потерплю – хватит! Земля наша и так кишит басурманами, вас ещё не хватало! Живите как все, под нашим законом, верой и крестом! Живите как мы! Или никак не живите!
Шабтай, преданно уставившись на царя чёрными глазами навыкате, заторопился с ответом:
– Государь, нам нельзя жить как все – тогда мы исчезнем! Всем известно: мы раскиданы по народам. Если мы будем жить, как эти народы, то кто тогда будут иудеи? И где они будут? И как они будут? Нет, их не будет, они исчерпаются и пропадут в людской пучине! Наши пророки говорят: чтобы не пропасть, надо держаться вместе и идти вперёд, быть всё лучше и лучше – если сего дня ты заработал сто дирхемов, то не трать их, отложи, а завтра заработай уже двести…
На это засмеялся, погладил Шабтая по чёрной головной нашлёпке:
– Ну ты и заядлый жид! Не прибедняйся! Плаксивых рож не строй! Вам палец дай – всю руку враз отъедите! Самые смачные куски выковыриваете, деньги у себя собираете, людей в нужде и кабале держите! Знаю вас, упырей! Сам говоришь: ныне сто дирхемов, завтра – двести, а послезавтра – тысячу! Да таким макаром вся денежная власть к вам перейдёт! Из-за этого дед мой Иван и пожёг вас, узнав на своей шкуре, какие беды вы державе наносите!
Да, в царствование деда Ивана жиды, придя на Русь со свитой литовского князя Михаила Олельковича, весьма расплодились в Новгороде, а оттуда расползлись по всей державе, особливо просочившись в Москву, где обсели деда Ивана плотно, как саранча, окольцевали туже змеи питоновой. Но дед Иван, имевший одним из прозвищ Правосуд, был крут и умён, вовремя вывернулся, созвал Собор, где и было постановлено сжечь всех раввинов, остальных жидов изгнать, отобрав всё добро, а кто не уйдёт – предать мечу и удавке.
И батюшка Василий тоже запрещал всякое пребывание жидов в Московии: по его приказу были принародно сожжены товары иудеев-купцов из Польши, а когда их польский король осмелился напомнить, что раньше московские великие князья свободно впускали всех купцов из Литвы и Польши, будь то христиане или жиды, то Василий самолично отписал ему твёрдо, что-де не можем разрешить иудейскому племени находиться в нашей державе, поскольку хотим жить в покое и без всяких смут, а мерзкие деяния жидов-заторщиков всем известны.
Нет, не успокоились жиды, царского слова ослушались, стали опять приходить на Русь, словно там мёдом намазано, да ещё осмеливались тихо роптать, что Русь-де – это их земля, потому что это бывшая Хазария, каганат, а хазары жидовской веры были – мол, в древних книгах написано, что одно колено иудейское прямиком из плена вавилонского отправилось за Понт Эвксинский, чтоб там расплодиться и назваться кузарим[70]. И что матерью святого Владимира Крестителя была рабыня – жидовка Малуша из города Любеч, посему все Рюриковичи – жиды. Слыханное ли дело? Мало что литовцы, поляки, татары, турки, немцы и всякие иные свои алчные лапы на Московию наложить хотят, ещё и жиды туда же, богоубийцы проклятые!
Он, Иван, терпел-терпел эту наглоту непомерную, да и поднял по примеру отца и деда на христопродавцев крестоносный меч, когда любое терпение – что царское, что человеческое – истекло. Решил начать проучку с Полоцка, где жиды были особливо злокозненны и всеми правдами и неправдами плотно втёрлись к тамошним князьям в доверие, открыто кричали против Христа, зельем палёным под видом польской «водовки» народ спаивали, давали взятки тиунам, а бояр склоняли к изменам: отпадать-де пора от гнилой Московии, к Ганзе приплетаться, ибо там дела идут хорошо, товаров навалом и денег быстро прирастить можно, а тут, в Московии, одни невзгоды, препоны, топоры да плахи, и лучшего никогда не будет.
Была лютая зима. Взяв Полоцк и заняв кремль, посадил князей гуртом в подвалы, а всех жидов с семьями повелел согнать на берег Двины так, чтобы князья из темницы могли смотреть, каково смутьянам будет. Жители, надеясь тем самым отвадить от себя государев гнев, зная всех жидов наперечёт, сами стали тащить их к реке: кого за ноги волокли, кого за волосы, а кого и на аркане, как скот, – царёвым слугам по дворам и ходить не пришлось. Шум, гам, свисты, улюлюканье, стоны, вопли, плачи, крики…
Собрали всех, числом три сотни, выгнали на лёд реки голых и босых, продержали их там полдня, пока царь после обеда отсыпался, а потом обрубили со всех сторон лёд, и льдина с людьми постепенно стала уходить под воду. А тех, кто до берега доплыть пытался, били баграми, вёслами, долбнями, кололи копьями, дрекольем отпихивали обратно в ледяную воду… Так и были все потоплены (спаслись только два ребёнка, забранных с собой, чтобы вырастить из них надёжных менял).
Сделал это не из злобы, нет. Надо было прилюдно показно наказать, чтоб неповадно было глупым князьям и боярам с жидами якшаться, а жидам – своей болтовнёй державу подтачивать и смуту в людских головах рождать!
С тех пор иудеи поутихли, но не исчезли, а попрятались. А некоторые в Астрахань сбежали и там не успокоились, принялись тамошних воевод подкупать и на всякие каверзы подбивать: хвалили Оттоманскую Порту, сулили горы золотые, если Астрахань от Московии отпадёт, и даже хотели, аспиды, сам город из Астрахани в Хаситархан переназвать, как это якобы при хазарах было!
Но тогда, в разговоре с Шабтаем, он решил смягчиться и примирительно рассказал, что и он, Иван, один раз по-ихнему, по-жидовски, поступил – от ангела выгод добиваться вздумал:
– Ангел явился перед Казанью и рёк мне: если я поставлю церковь за один день, то Казань будет моя. А я возразил, как дурачок: «Сперва дай взять Казань – там поставлю!» Ничего не ответил ангел, заплакал и ушёл, но дал захватить Казань, где я и поставил церковь! Но было зело стыдно мне за торг с ангелом.
На это Шабтай ответил смиренно, что в царе есть то, что чаще встречается у иудеев, чем у других народов, а именно – почитание книжной мудрости, поэтому ангел, наверное, и не разозлился на царя. Желая польстить дальше, Шабтай зачастил скороговоркой:
– Ты на нас похож, у тебя наше имя, самое лучшее![71] Ты свинины не ешь. Откуда вестимо?.. Все знают, в Москве что скроешь?.. Но главное, ты тем на нас похож, что ты – великий уважитель слова, при тебе книги умножились, в переплёт пошли! – Осмелев, Шабтай продолжал: – Ты и с лица наш: нос у тебя горбат и велик, как и должен быть у мужа, дабы беду или деньги издали чуять, а у москалей носы курносы. У тебя – глаза черны, насквозь прожигают, как и должны быть у владыки, а у москалей глаза пустоцветны и водянисты. Лицо у тебя длинно, а власы черны…
Пригрозил:
– Но-но! Какие власы? Лыс стал как колено! Смотри у меня! – но не спорить же с жидом, тем более если надо у него срочно сто тысяч отнять?
Шабтая, конечно, можно повесить или утопить, но тогда исчезнет курица с золотыми яйцами. Однажды уже было такое: по молодости разрешил патриарху собрать всех знатных иудеев по Москве, окрестить их в мыльнях на берегу Яузы – кого по-добровольному, кого и силком, а потом запалить эти мыльни с четырёх сторон. Вот разрешил, а потом жалел: где деньги брать, когда надо? Кто быстрее жидов нужное доставит? Кто на ухо важное подскажет? Кто тайное принесёт, скрытное унесёт?..
Перед уходом всё-таки повторил, что он – не Соломон, у коего в храме цвели золотоносные деревья, плодящие золотые яблоки, что деньги нужны быстро и скоро:
– Три дня тебе, чтоб мою цдаку собрать, как в главе Дварим велит вам Господь: «Заповедую тебе: раскрывай руку свою брату твоему, беднякам твоим и нищим твоим»! Ничего, раскошеливайтесь! Наклад с барышом угол об угол живут, сами знаете. А не будет денег – велю придушить, а тело в свиной шкуре в навозной куче закопать – будешь там своего Машиаха дожидаться… Знаешь, в чём отлика нас, христиан, от вас, богоубийственных жидов? Нас Иисус в Нагорной проповеди учил: «Как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». А у вас в Ветхом Завете сказано: «Не делай другому того, что ты бы не хотел испытать на себе»! В нашем разе значит, что христианин должен сам доброе делать, а в вашем разе – что иудеи должны только тихо сидеть в стороне, как жид Евер при стройке Вавилонской башни, и ничего не делать, кроме как выгоду блюсти и прибытки подсчитывать. Разницу чуешь своим покляпым носярой?
– Чую, государь, сохрани тебя Господь, всё сделаю, деньги будут, соберу… – спотыкался Шабтай о свои спадающие патынки, пытаясь ухватить царёву руку для поцелуя. Но не дождался этой милости…
…Гнал лошадей, торопясь поспеть в московский пригород. Да куда там – дорога совсем плоха, лошади сбавили бег и оступались в скользкой грязи. А леса кругом стояли молчаливы, черны, с серебряными поседелыми верхами. Только бы до Сергиева Посада дотянуть, а завтра оттуда до Москвы добраться, в жидовское подворье, письмо, купцова одёжка, сани, товар – и на аглицкую баржу! Шабтай и одёжу принесёт, и сани снарядит, и товаром их наполнит – куда он денется?..
Не успел подумать про это, как в вышине зло гаркнуло, крякнуло. С рваным хрустом шальные молнии раскроили небесную гладь. И в их слепящих узорах вдруг ясно почудились границы его державы – вот они, чётко очерчены шипящими блескучими зигзагами!
Небо выждало и грохнуло таким громовым молотом, что взлетели птицы и посыпался снег с елей.
Лошади дико рванули. Повозка подпрыгнула, с треском лопнула ось, и всё полетело кубарем на обочину, путаясь, брыкаясь и ржа…
…Лежал в беспамятстве, пока Господь не вернул к жизни, не заставил из последних сил выбраться из телеги в грязь.
Колымага свёрнута набок. Одна из лошадей лежит, дёргаясь. Видно при лунном свете, что задняя нога сломана – белые кости светят из тёмного мяса. Лошадь смотрит с бессильным укором. Вторая лошадёнка сумела устоять, но была понуро скособочена натянутыми постромками. Заднее колесо отлетело, а ось вонзилась в грязь так, что не вытащить.
Попихал ось, попытался посохом приподнять повозку – напрасно. Да и на трёх колёсах всё равно не уехать… Сам виновен! Чего было на ночь глядя переться, да ещё на заезженной почтарской колымаге, да по плохой дороге?
Бестолково оглядывался вокруг, словно со сна.
Делать нечего, надо дожидаться рассвета. Авось кто проедет, возьмёт с собой… Хорошо, хоть дождя нет…
Кое-как влез в скособоченную колымагу. Укутался в кожух. Глазами поискал место среди деревьев, чтоб спрятаться от ливня, если хлынет. Угрюмо стал отчитывать себя, что так опрометчиво впал в драп по ухабам глухой дороги, где одни лешие бродят… «Вот они, дурные приметы! Ни ножа, ни кистеня – как от зверя, от татя, от лешака отбиться? Нечем даже постромки перерезать и лошадь освободить – на ней бы убрался… Да как? Без седла, с тремя вьюками?»
Стал озираться на чёрное пространство над головой: оно изредка, под утробное урчанье грома, ощеривалось беззвучным ярко-белым огнём. Но дождя не было, только рокоты гнева Господня на глупого человечишку, коему Бог только что начертал в небе знак его сверкающей, словно новый Иерусалим, державы, – а он надумал её подло бросить! Да, знак сказал: стой, куда, опомнись, дрейфло, трухач!
В панике, дрожащими руками, принялся бесцельно шарить по повозке, но ничего, кроме узлов, не нашёл. И затих, как птица в клетке под накидкой.
Сколько так прошло – неизвестно.
Он то молился, то впадал в забытьё, а когда выходил из мёрзлой дрёмы, то давал себе обет, если спасётся, отстроить ещё одну церковь в Александровке и щедро одарить Кириллов монастырь. И сетовал: зачем царская власть, если за неё надо расплатиться жизнью? А то, что смерть караулит его, – сомнений нет. Одно к другому лепится. И одно хуже другого.
…Но вот явственно слышно – едет кто-то! Слава Богу! Дробь копыт, перестук колёс, храп и звяки. С трудом обернулся. Лицо различимо… Ба, да это же дьяк Корнилий из Пафнутьева монастыря под Боровском, где прошлым летом отменного жареного гуся ели с владыкой!
Дьяк тоже узнал его:
– Государь? Ты ли?
– Да вот, колымага… А ты как тут?
Дьяк замялся.
Не стал ждать ответа – захватив узлы, полез на возок к дьяку:
– Давай на Москву. Шубы нет в телеге? Замёрз!
Дьяк странно улыбнулся:
– На Москву – так на Москву… Нам, татарам, всё даром!
Удивлён был таким речам из поповского рта, но не стал разбираться и сквозь дрожь спросил, каковы дела в обители, много ли новой голи перекатной прибилось кормиться, не ссорятся ли монахи промеж себя.
– Да нет, Бог милует. Живём как кошка с собакой – а всё не помрём…
Опять недоумённо взглянул на дьяка, но тот был вперен в дорогу и нахлёстывал лошадь, не обращая внимания на своего спутника, как будто у него в возке – не великий царь, а солёная рыба в бочке болтается.
Так, в разговорах, приехали в какое-то село.
– Вон туда тебе! – указал кнутом Корнилий на первую избу.
– Как это? А где Москва?
– Иди, ждут. Ну, кому сказано? Пшёл, дрянь! – вдруг рявкнул дьяк и, видя, что царь не понимает, грубо схватил за кожух и с силой вытолкнул из возка, узлы присовокупив.
«Ну, ты у меня попляшешь! – проводил гневным взглядом спину Корнилия. – Не только тебя – всю твою обитель изничтожу! Зачем такая обитель нужна, где такие кромешники обитают?»
Взвалив на плечо поклажу, отправился по указке к избе. Открыл дверь: чисто убрано, мятой пахнет, углы рублены «в лапу», пол мыт, плошки по полкам разложены, а потолок высок, как в церкви, и тябло[72] иконами заставлено. И жарко зело – огромная хлебная печь гудит, а из неё как будто смех доносится!
Отодвинул заслонку – и отпрянул: в печи сидит объятый пламенем голый человек и заливается в смехе. Приглядевшись, узнал вологодского воеводу Фаддея Автуха. «Его же сожгли на Болотной?» – отшатнулся в ужасе, а отойти от печи не может – ноги каменны стали, даже отворотиться невмочь: смотри и смотри в печь, как тело Фаддея корёжится, а сам Фаддей так приветливо улыбается, словно благодарит за что… Уже почти весь сгорел – чёрные лохмотья вместо кожи висят, кости оголены. А лицо цело и как ни в чём ни бывало лукавым оком царю подмигивает, манит к себе, по горящим поленьям рядом с собой игривисто костяшками клацая – иди, мол, сюда, тут тебе местечко приготовлено!
«Святым стал, что ли?»
…Не успел об этом подумать, как очнулся в пустынной морозной ночи, один, на лунной дороге, в повозке со сломанным колесом. Привиделось, примерещилось. Нечистая сила игры затевает! Кто-то страшный душу тормошит! И никакой это был не Корнилий, а беси лесные, людей душильщики, душ лудильщики! «Лучше на дороге околевать, чем с бесями водиться», – подумал, крестясь и чувствуя, что ног не ощущает: пальцами не пошевелить…
…Что же это за ночь без конца? Когда же божий рассвет придёт на землю? За что, Господи, обделил нас светом и солнцем, а оделил мраком и хладом? Вот и души наши чёрствы и мёрзлы, аки картоха в морозном погребе! За грехи наши тяжкие расплаты не медлят являться! Господи, светом Твоего сияния сохрани меня на утро, на день, на вечер, на сон! Силою благодати своей отврати и удали всякие злые нечестия! Отгони от меня всякую скверну многолапую, бесов скотомордых, ехиден ползучих, летучих и ходячих!
После молитвы стало как будто теплее, но холод вернулся, властно, по-хозяйски занял все уголки тела. От мороза голова немеет и тончает тело. Мысли вылетают вместе со вздохами и шлёпаются куда-то обратно в замерзающий мозг.
Опять стали змеиться молнии, зигзагами обозначая его державу: да, вот границы страны Шибир, реки, звёзды-города. Но небо неожиданно стало бело-слепящим, а молнии – чёрными. Гром грохнул и покатился всеохватным раскатом…
Вскрикнул и потерял сознание.
…Вот свет, людишки… Струшня возле ворот. Куда это он приехал? В шинок? Это удачно, что возле кабака оказался, – отогреться можно!
Сунул тючки глубже под полость, треух на глаза стянул, лошадей привязал, тихо меж людей пробрался, дверь толкнул и за первый же пустой стол залез, исподтишка озираясь, чтобы понять, куда попал.
За грубыми столешницами люди сидят, все друг на друга чем-то похожи. Мастеровые, что ли? В лёгких чёрных кафтанах, в красных, глубоко надвинутых шапках, кожаных сапогах, алых рубахах. Разливают из пузатых жбанов вино по кружкам и помахивают ему: иди, мол, к нам, выкушай за компанию! А некоторые прямо из жбанов хлобыщут, шапки при этом снимая, крякая, ухая. Сиводёр, что ли, пьют? Кто такие?
Приглядевшись, похолодел: а люди-то всё – без голов! Шапки снимают, вино в обрубки шей льют и шапками опять прикрывают пустоту! Господи!..
Дальше видит – сиделец свой птичий клюв о прилавок точит: туда-сюда, сюда-туда… От этого скуфья его на затылок съехала и во лбу рожки телячьи обнажились!.. А вон и копыта поблёскивают! «Э-э, вот что за свора собралась», – подумал и тихо-тихо, бочком, в потном страхе, стал выбираться из-за стола, ожидая, что беси бросятся на него.
Но те с места не сходят, шапок не снимают, только жбаны преклоняют, будто бы говоря: «Напрасно уходишь – вишь, сколько вина-то! Откушай, не побрезгуй!» А он им даже мысленно, как учил Мисаил Сукин, ничего не отвечает, ибо беси мысли видят и чрез них в человека легко входят. За нательный крест ухватился и потихоньку, не поднимая глаз, по стеночкам, по стеночкам – да и выскочил в дверь.
Думал – спасся, а того хуже оказалось! На пороге ноги свинцом налились, а сам порог начал колебаться и трещать!
Сжав до боли крест, стал смело говорить:
– Под Твою милость прибегаем, Богородице Дево, молений наших не презри в скорбех, но от бед избави нас, едина чистая и благословенная! – Скопище нечисти за столами поутихло, призамолкло, сиделец прекратил точку клюва. – Изыди, бесовня, на болоты и мхи, погибни, сдохни, сопрей, беги от людей! – крикнул громко, соскочив с порога, – тот начал вспучиваться, как перезрелая квашня, и надрывно лопнул, отчего полыхнуло жаром и сорвало с ног…
…Встрепенулся под полостью. Непролазная ночь. И гром без дела прогуливается по небу, свои владения обругивая, но дождя нет. Вновь привиделось! Уж не замерзает ли он? То печь, то жар!
Скорчился в комок, но холод хватал морозными лапами, и мял, и рвал, и калечил. А мысли в голове поредели, стали мелки, что куры: подойдут, поклюют, прочь откатятся. Кура по зерну клюёт, а весь двор в дерьме!
Постепенно залубенел в ломкое стекло. Нутро выжгло холодом. И кровь замерзает. В теле – перезвоны морозных ледышек, мелкой стекляди. И красные змейки мельтешат в глазах. И огненные клопы выедают зрачки. А под черепом что-то смутное и слепое переползает одно через другое, как котята в поисках материнского соска.
Начал молиться громко, в полный голос, размазывая слёзы и царапая ногтями голые виски под заячьим треухом.
Скоро уже не мог шевелиться. А когда услышал конский бег, то с безразличным страхом решил, что беси вернулись порешить его.
Вот останавливается телега, вылезают два мужика в собачьих малахаях, меховых шапках и валенках. Подходят, смотрят, полость шевелят:
– Это кой же здеся бздюх притаён? Живой?
В оттянутую полость шепчет:
– Ребятушки, на грани смерти нахожусь! Кобыла ногу сломала, колесо гикнулось… Скорее везите меня, умираю!
– Ишь ты – везите! – Один, обойдя колымагу, приблизился к затихшей лошади и сильно, зло пнул каблуком в морду (та подала голос, шевельнулась). – Кто сам таков?
По этой грубости он понял, что дело плохо, но, поспешно решив, что царя не тронут, признался через силу:
– Это я, ваш государь… Царь… Иоанн Васильевич… Везите!
– Чего? Царь? Государь? Да будет тебе вабить, сыч мохнатый! Ежели ты царь, то мы анпираторы! – начали мужики хохотать, быстро, по-рысьи, ощупывая колымагу взглядами.
Один принялся сдирать с него кожух. Второй, нашарив в колымаге узлы с чем-то звенящим, покопался там, развязал котому, поворошил рукой, побренчал, зачерпнул, заглянул в ладонь, разглядел и, пробормотав растерянно:
– Батюшки-светы! Дёру, Нилушка! – схватил узлы в охапку и потащил их в свою телегу. – Чухаем отсель! Айда! Дёру!
– Счас! Но, тихо, пёс! – крикнул Нилушка, стаскивая с него треух, потом грубой рукой влез за пазуху и сорвал крест с амулетом, а на слабые попытки оттолкнуть огрел кулаком по уху и для верности больно шмякнул сорванным крестом по черепу. – Не рюхай, лярва, не то прирежу!
– Нилушка, шибче! Ноди, ноди! – кричал другой, устраивая в телеге добычу и разбирая поводья. – Дёру, дурень!
– Убивцы! Христопродавцы! – крикнул в бессилии, хватаясь за мокрую от горячей крови голову.
Но мужиков и след простыл – умчались, только скрип колёс, топот и ржание зависли над тёмной дорогой…
«Так-то я порядок навёл – мужичьё сиволапое грабит почём зря под самым носом! Даже треухом поганым не побрезговали, тафейку стянули, выпоротки, тельник[73] матушкин содрали!» – в бессильном гневе думал, прижимая рукой рану на голове и не до конца ещё понимая, что раздет, избит, ограблен, чуть не убит.
Потом стало доходить. Письмо с его печатями! Камни, перстни, самородок! Золотая книга «Апостол»! Зеркальце, гребень! Всё пропало! А если письмо попадёт кому-то в руки, кто читать умеет? О Господи! Вот она, кара!
От звенящей злобы, от звонкой, звякающей в ушах обиды нашёл силы вылезти на дорогу и в беспамятстве двинулся назад в Александровку, то ругаясь в голос, то поминая Бога и свою тяжкую долю на этой земле.
Но идти было всё труднее, посох не помогал, стал вдруг тяжкой обузой, а не опорой, и он ковылял еле-еле, таща посох за собой и кляня себя и свою глупую трусость, в голос браня того ангела-губителя, что подтолкнул его бежать, как овцу от пастуха, свой царский чин и человечий образ позабыв.
На его счастье, уже посветлело и вороны начали утреннюю суету на верхушках дерев. Его на камне у обочины заметили пьяные молодчики, что давеча промчались мимо на двух тройках, а теперь ехали не спеша назад и везли, кроме грабленых тюков, ещё и двух шалых визгливых баб.
Это оказались его стрельцы. Узнав царя, они вмиг протрезвели, столкнули баб с телеги, уложили его на мягкое, дали вина, закрыли шубами и погнали в слободу, в испуге переговариваясь, каким образом их государь мог оказаться посреди ночи в лесу – один, без шубы, раздет, избит, в крови, с раной на голове? И не чёрт ли шутит с ними? Да царь ли вообще этот страхолюд – или оборотень, вурдалак? Такого привезёшь в слободу – а он обернётся волком и давай на людей кидаться! Ищи потом осиновые колья и серебряные гвозди!
Но нет, поднимая мягкое отрепье, видели ясно, что это он, великий князь и царь всея Руси, Иоанн Васильевич, с помертвелым лицом и помороженными ушами, с глазами как у пугливой рыбы, смотрит затравленно из-под шуб и синими губами лепечет бессвязно о чём-то совсем уж непонятном и несусветном, чего им постичь не дано, да и вряд ли ему самому понятно:
– Вот оно, ушат с помоями на ноги! Вот они, зайцы через дорогу! Вот оно – не присесть на дорожку, не помолиться, не крестом осениться! Вот и Страшный суд тут как тут! Золото, жизнь, царство – всё дерьмом залито! Так тебе надо, иуде-изменнику! Длань Господня? Нет! Дрянь Господня! Колотовка сатанинская! Так-то с жидами стачки устраивать! Шабтай, мракобесник, отдай корону – голове студёно без черепа! Ушат ужат! Рыбья обвонь кругом! Гарью пахнет! Колымага! Колыма-ага! Зачем царю шапка? Где клыки? Дёру! Нилушка, ноди, ноди!
В печатне
Пособив доктору Элмсу в перевязке раны на царёвом черепе, напоив царя сонным отваром и услышав его храп, Прошка и Ониська отправились в печатню.
Пока готовились к письму, Ониська спрашивал, что с государем, откуда у него такая болона на черепухе, где он мог так упасть? А если побит – то кто мог дерзнуть на такое?
Прошка думал, что государем была сделана одна из его тайных вылазок, коя оказалась неудачна. Царь иногда переодевался в босяцкую одёжу, приклеивал на череп волосы, выпускал чуб из-под шапки, а бороду – на шубу и шёл бродить по торжкам и улицам, тайно смотреть ряды, проверять торговцев, слушать сплетни и бог ещё знает, куда он ходил и что делал, – так ускользал, что охрана от удивления только яблы разевала.
– Да того больше: государь иногда ночами по дворцу гуляет во сне, словно в омраке! Ежели увидишь – не пугайся! Как? А так: он – снохожденец!
И слуга поведал, что стража не раз ночами заставала царя в дворцовых переходах: идёт куда-то, факелы поправляет, скамьи отшвыривает, глаза распахнуты, зрачки вперены в пустоту, дышит как пёс затравленный – хорошо, чародей Бомелий объяснил, что есть люди, кои в лунные ночи во сне ходить умудряются, и, встретившись с ними ненароком, их дёргать или хватать нельзя, а то вцепятся тебе в волосы или горло, даже искусать могут, а надо ласково взять их за руку и повести в постели, говоря тихо-мирно: «Ты спать хочешь, спать… Спать пора…»
– Это значит, у них лунный гон начался: свет луны толкает их, тормошит, давит, теребит, покоя не даёт, они и прутся во сне неведомо куда… Да… Ныне государь смирен да мирен, а было время – ого-го, пух и перья летели, когда гулять выходил! Он с малолетства сам себе, без надзора жил, шайки из пацанов сколачивал. Сей время присмирел, а то не приведи господь сорви-голова был на Москве, рахубник! Но самым злым был Клоп. Ему ни удержу, ни предела нет! Гляди, босяр, ему под руку не попадайся! Подале от него держись! Ныне-то Клоп – думный дьяк Разбойной избы, а раньше сам был разбойником отпетым, да молчать об этом надо, не то языка лишишься враз… Раз у целой стайки воров кожу с лиц посдирал, да и отпустил их, освежёванных, восвояси: «Живите себе с богом! Пусть все видят ваши хари!» Так-то! Пар стоял, как от горячей воды…
Видя, что бедолага-шурин побледнел и хватается за горло, Прошка усмехнулся и перевёл болтовню на одну взбалмошную блудню, боярскую дочь Аришку, коя прибилась тогда к царёвой своре и шлялась с ними днями. Беглая из богатого дома, была она похоти неимоверной, иметь её мог всякий, кто желал, – она только урчала и подставлялась, как кошка мартовская, даже не оборачиваясь и шутя отгадывая, кто в её мясные ворота влез или в гузно молотит.
Потом Прошка вспомнил, что та шалая барыня Аришка была очень похожа на девку-лоханницу Маланку, что весь день нынче тёрлась на мужской половине якобы по делу. Прошке она нравилась, и он уверял Ониську, что, сдаётся ему, Маланку можно заманить куда-нибудь в укромный угол и там пощупать и потискать; баба по-всякому хороша, и даже если не даст воткнуть кол в мутовку из-за девства, месячных или ещё какой блажи, то вполне может рукой подсобить или даже задний оход подставить.
На это Ониська краснел: он только год был женат на перезрелой старшей Прошкиной сестре Усте, ещё не привык к подобным разговорам, будучи скромен и стыдлив. А Прошка, выдав замуж трёх сестёр, женат не был (царь не разрешал, чтоб слуга не отвлекался от службы), но не очень-то этим и печалился, ибо был в почёте у слободских баб, прижил одного ребёнка от солдатки, другого оставил на Москве стрелецкой вдове (говорили, что сей выблядок был продан матерью за рубль золотом заезжим персам), а сам вовсю промышлял по девкам и бабам, коих и в слободе много, и в крепости на работах немало.
– Ну, наболтались, пора за письмо!
Роспись Людей Государевых
Давыдов Семак, Давыдов Филат,
Давидов Офонка, Данилов
Дмитрей, Данилов Иван,
Данилов Первуша, Дементьев
Первуша, Дементьев Тараско,
Демидов Иван, Демидов Савка,
Демидов Худяк, Демьянов
Афонасей, Демьянов Микитка
Игнатьев сын, Денисов Васюк,
Денисов Нежданко, Денисов
Филка, Десятого Русинко,
Дмитреев Васюк Купреянов,
Дмитреев Герасимко, Дмитреев
Ивашко Михайлов, Дмитреев
Оброс, Дмитреев Тренка,
Дмитриев Митка, Долматов
Фетко, Домнин Булат,
Домрачеев Замятня, Домрачеев
Иван, Дорофеев Лёва, Дрожжин
Волк, Дрожжин Вояк Меншой,
Дубасов Замятня Гаврилов сын,
Дубасов Иван Семёнов сын,
Дубасов Микита Яковлев сын,
Дубасов Ондрюша Федоров
сын, Дубасов Петруша Фёдоров
сын, Дубасов Сенка Фёдоров
сын, Дубасов Фёдор Иванов
сын, Дубасов Фёдор Семёнов
сын, Дубасов Фетко Иванов сын,
Дубинин Иван, Дураков Радя
Ондреев сын, Дурляев Васюк
Некрасов, Дурляев Пятой,
Дурляев Русинко, Дурляев
Четвертой,
Евреев Иван Баташёв сын,
Евреев Иванец Петров сын,
Евреев Мосей Борисов сын,
Евреева Денис Григорьев сын,
Евсеев Фетко, Екимов Иванко,
Елдезин Василий, Елизаров
Степан, Елизарьев Тихонко
Васильев сын, Елин Куземка
Захарьин, Елчанинов Григорей,
Елчанинов Данило, Елчанинов
Иван, Елчанинов Иван
Офонасьев сын, Елчанинов
Офонасей Офонасьев сын,
Елчанинов Фёдор, Еремеев
Безсонко, Еремеев Ивашко,
Еремеев Рюма, Еремеев Тренка,
Еремеев Фетко Леванисов сын,
Ермаков Ивашко, Ермолин
Ивашко, Ерофеев Ивашко,
Ерофеев Лёвка, Ерофеев
Ондрюша, Есипов Петрок,
Есипов Смага, Ефимов Богдан,
Ефимов Иван, Ефимов Карпик,
Ефимов Тимошка, Ефимов
Якуш, Ефимъев Кубас Игнатьев
сын, Ефремов Богдашко,
Ефимъева Кубас Игнатьев сын,
Ефремов Богдашко,
Жданов Тимошка, Жерлицын
Гриша, Жерлов Ивашко, Жехов
Васюк Дмитреев, Жирохин
Бутрим, Жихорев Петруша,
Жовкин Тимоха Власов, Жуков
Гаврило, Жуков Митка Семёнов,
Жуков Офонасей, Жуков
Пешек, Жуков Фетко,
Жухов Иванко,
Загарин Мора, Загорской
Сенка Ермолин, Заиграев
Юшко, Заломов Михалко,
Заломов Васка, Захаров
Игнашко, Захаров Олёша,
Захарьин Постник, Зверинцов
Третьяк, Зворыкин Гриша
Яковлев, Зеленя Васка, Зикеин
Онтонко Иванов…
Синодик Опальных Царя
11 сентября 7076 года:
Отделано: Ивана Петровича
Фёдорова, на Москве отделаны
Михаил Колычёв да 3 сыны
его Боулата, Симеона, Мину.
По городом: князя Андрея
Катырева, князя Фёдора
Троекурова, Михаила Лыкова
с племянником, Ворошило
Дементьева да 26 человек
ручным усечением живот свой
скончаша, Афонасиа Отяева,
Третяка Полугостева. Второго
диака Бунькова, Григория
Плещеева, Тимофея Кулешина,
татар Янтугана и Бахти
Бахметовых.
После января 7077 года:
В изборском деле подьячих
изборских: подьячаго Семёна
Андреева Рубцова, Рубцова
человека Оглоблю, Петра
Лазарева, псковичей: Алексия
Шюбина, Афимью Герасимова.
Ивана Лыкова, казанского
жильца Юрия Селина, Василия
Татьянина, Григория Рубцова,
Юрия Незнанова, Михаила
Дымова, Михайлова человека
Воронова, Кузьмину Кусова,
Третьяка Лукина, что был
Черскаго.
Весна – лето 7077 года:
На Вологде отделано: князя
Петра Кропоткина, Третяка
и человека его Тимофея Кожару,
Василия повара, Фёдора помясы,
Неупокоя, Данилу, Михаила
плотников, болахонец Ананья.
Нижегородцы из земского:
Ивана, Третяка Сидоровых,
Данила Айгустова, Ивана
Татьянина переславлина.
«Дело» Старицких, список 2:
Благоверную княгиню
монахиню Евросинию княж
Володимера Андреевича матерь
Евдокею, да 2 человекы и с
старицами, кои с нею были,
постельницу, что была у князя
приставлена, Марию Ельчину,
немку Анну Козину, Анну-
тотарку, Катуня вдову, Улияну-
немку, Марфу Жюлебину,
Акилину Палицыну Ивана
Ельчина, Петра Качалкина,
Ивана Шунежского, Фёдора
Ерофеева Неклюдова, Корыпана
рыболова, Фёдора Петрова
Афонасьева человека Нащекина,
Максима, да его 2 человека:
Бык да Олексей, Афонасия
Нащокина, дворника, Дмитрея
Ягина, Семёна Лосминского.
Глава 5. Письмо сатане
После великой невзгоды, что прошлой ночью на него обрушилась, не мог найти себе места, мозг не остывал. Были забыты все заботы, только два утёса маячили в голове: перст Божий, предостерегающий, и перст сатанинский – желание отомстить: найти тех сиволапых мужиков, что руку поднять осмелились, и казнить их страшными казнями.
Да как же не покушаются на него злые силы? Не успел из слободы выехать – напали, ограбили, избили! И, видно, не конченые кандальные воры (те бы убили, в живых не оставили: ещё бы, такое богатство взять – и в живых оставлять?), а так, мужики проезжие. То и страшно, что мужик на всё способен, когда думает, что никто его греха не узрит! Тут меня на ходу ограбили, завтра – другого. Кто им на глаза попал – того и обчистят, пьяного ли, недужного – всякого, кто за себя постоять не в силах. Стащат, что под руку попадёт! Где и бабу снасилят, если никто не видит. Дома, небось, и не сказали ничего, притихли, бесьи дети, а ночью прокрались в подклеть или сарай моё богатство рассматривать! А вещички родителевы выбросили: зачем им зеркальце, с края отбитое, и гребень, и поясок? А крест, может, и на себя нацепили… Или сыновьям отдали…
А чему удивляться: каков приход – таков и поп! Какова орда – таков и хан! Ведь сам грабил, и тащил, и отбирал, и воровал, о другом уж не говоря! Вот и кара настигла – за то, что с жидом связаться вздумал, что бежать восхотел как трясогузка. За предательство и измены сия кара Господня. Благодарю Тебя, Господи, что учишь малоумного калеку! Учи, учи меня, межеумка!
Пока по монастырям дары во спасение послать. И этих кромешников найти поскорее, пока они сокровища в шинках не спустили. Это сколько же пленников можно было за эти камни выкупить! Сколько нужного сделать! Школы музыки по княжествам открыть. Занятия для толмачей завести, чтоб от чужих ртов не зависеть. Бомелий обещал учёбу о звёздах основать, небесные науки изучать… И Ричард Элмс уже присмотрел место, где шпиталь для больных ставить… И Дженкинсон хочет аптеку в палатах напротив Чудова монастыря открыть, начальных денег просит…
Истинно, Бог волочит меня рожей по грязи, но не убивает, оставляет в живых. Значит, я Ему ещё нужен. Не был бы нужен, так заколол бы меня Нилушка, как порося, – и дело с концом, а концы в воду. Нет, Господь не выдал – свинья не съела. А пока найти воров и так их казнить, чтоб сам сатана ужаснулся, сказав у себя в логовище: «Я силён, а московский деспот – сильнее!»…
От гнева встрепенулся, забросил хлебное вино и перешёл на урду – она не делала сонным и вялым, а придавала сил и бодрости.
Он потучнел даже: как всегда, от волнений его начал мучить голод: только ботвиньи залил в себя мису – рыбник подавай! Только калачей пощёлкал – сайки и оладьи с мёдом сюда! Раков варёных тащи! И говядина с чесноком не помешает! И всякие заедки сладкие не забудь! И кулебяк набери пожирнее, чтоб моя тареля пуста не была!
Прошке говорил, что когда ест, у него дурные мысли из мозгов в стомах скатываются, там в дерьмо перекручиваются и в помойном ушате гибнут:
– И ты, беспелюха, не ропщи, что ушат по три раза в день выносить надо, – радоваться должен, что хозяин ожил, хоть и ранен!
На это Прошка ехидно посоветовал:
– Ежели к тебе злые мысли приходят – то ты их не думай! Забудь! Думай добрые! – чем удивил: «Как удобственно! Не думай злые – и всё!»
Прошка без отдыха бегал на кухню, удивляясь прожорству хозяина. А тот ел у себя в келье, не отходя от постелей, а остатки собакам в окошко выбрасывал. И приказы отдавал один за другим – гонцы только и успевали на санный двор бежать, чтоб в Москву скакать.
Первое – дьякам Разбойной избы прибыть немедля в Александровку. Второе – полк стрельцов в Москве снарядить для карательства. Третье – дороги перекрыть и всех мужиков в валенках и собачьих малахаях обыскивать.
Первые два приказа были понятны. Не впервой вызывались дьяки и палачи, не раз снаряжались полки для кары – недавно прямо в Александровке тысяча опришников обитала, чтоб наготове быть: и в слободе у вдов по хатам стояли, и в крепости, в деревянных бараках были размещены (все бараки были под одной крышей – можно было и в дождь, и в снег быстро скатиться вместе).
Но вот третий приказ всю Разбойную избу в недоумение ввергнул, заставил крепко чесать в бородах и скрести затылки – это как же всех мужиков в малахаях да валенках обыскивать, когда они все в валенках да в малахаях? И что искать? Приказано обыскивать, а что искать – неведомо! У одного то нашли, у этого – это. А что надо-то? Что надо – то и найдём, только скажи, найти можно всё… Но об этом в приказе ничего не говорилось, а только – «обыскивать, и если что подозрительное или ценное найдётся – хватать и отбирать». А что у них ценного в телегах, кроме рыбы, пеньки или муки?
Так и сидел у себя в келье – обсыпан крошками, борода всклокочена, на голове повязка. Неряшливо ел и обдумывал, как можно найти наглецов и что с ними потом делать. То, что их найдут, сомнений не было. Но вот найдут ли ворованное? Надо поставить на ноги всех сыскарей, тихариков, стукачей, чтобы они во все уши слушали, не начал ли кто задёшево продавать камни, книгу знатную или куски золота (то, что мужики распилят самородок, сомнений не было, ибо такой кусман разом не продать – опасно, самим продаться можно). Что они с награбленным делать будут? Не жрать же его? Значит, продавать, избавляться по-быстрому, по бросовой цене! Какой-нибудь ферфлюхтер[74] или жидогуб спрятал бы и держал в тайне до третьего колена, а мой мужик – нет, не выдержит, пойдёт продавать. Не сможет он на золоте голодным усидеть, да и прав будет: зачем такая жизнь нужна? Не жизнь, а муки ада, пострашнее крючьев и трезубцев!
Обязательно надо жидов прочесать – им на скупку наверняка много ворованного носят, а то с чего бы они так жирнели? От трудов праведных не наживёшь палат каменных – не нами придумано. Где ещё воры могут продавать сокровища? А где угодно! На торжках, базарах, балчугах. Боярам понесут. В Польшу уволокут. А почему бы и нет? И на торжках продадут, и бояре купят (или отнимут), и служивые позарятся, и в Польше паны реверансы сделают (а потом, отняв, убьют). И даже монастыри могут камни для окладов и одеяний прикупить – иди и опознай потом голый, без оправы, камень, а там были и такие, дикие камни, их в сыром виде особо ценят мастера за их девство. Сколько же там было?!
Пытался что-то подсчитывать в уме, но всё путалось, рассыпалось, в мозгу оставалась только клейкая печаль и кровяная ярость.
И много злости на себя. Не поезжай он незнамо куда – и не было бы такого! Не реши он бежать, как пёс блохастый от стрелецкого сапога, – и не печаловался бы ныне! От себя не убежишь! Конечно, и бо́льшего лишался и не плакал, но уж очень обидно, и стыдно, и муторно, когда с тобой такое случается! И на черепе налилась новая шишка рядом с той, что уже была. И ухо его помнит удар грубой мужицкой лапы, чего с ним почти никогда не случалось – ну, может, в детстве, в драках, или Мисаил Сукин за нерадивость подзатыльник сгоряча влепит, и всё, но чтобы так – крестом по башке, кулаком в ухо, как червя смердящего, словно он фетюк, фофан, фуфлыжка балчужный?!. Истинно: у страха глаза велики – а ничего не видят!..
От еды, вина, волнения и ярости в нём, как всегда, начала просыпаться похоть, до этого спавшая под опийным зельем. Стала играть в чреслах, шевелиться в паху, головку поднимать, как змей тот первый, что праматерь Евву соблазном из Божьего рая вывел и в свой грешный ад уволок. Но куда с такой шанкрой, что гноеточит и воняет, как скорбут[75]? Бабы ведь тоже люди, хоть и другого помёта!
На зов явился Бомелий с чехлом, из кишки сделанным, чтобы на елдан натягивать. Да узок оказался – еле-еле на плюшку влез и язву чуть не сорвал.
– Ты что, на свой огрызок мерял? Из каких кишок делал? Козьих? Мал. Сделай поболее, из свиных или коровьих, – впору будет! – приказал, а сам решил, пока суть да дело, как-нибудь с девкой так обойтись, чтоб ей внутрь болезнь не перекачать (к жене идти нельзя, её горничных девок тоже избегать надо, чтобы не растрезвонили о болезни).
Ещё раньше выведал у Прошки, кому тот даёт стирать бельё, и не поленился высмотреть эту молодую вдову Еленку: ничего, бела и дебела, и губы полные, и перси грудастые, как он любит.
Закрывши пол-лица шапкой, накинув мужицкий тулуп, отправился по чёрной лестнице во двор, а там незаметно уместился недалеко от портомойни.
Ждать пришлось недолго – на третье открывание из двери появилась распаренная Еленка с тазом, в накинутой шубейке. Окликнул её – она замерла спиной. Подошёл к ней вплотную сзади, ощутил терпкий запах чистого тела. Ноздри раздулись сами собой, спросил в спину:
– Кто такова? Чьих?
– Еленка, кузнеца Федота дочь… – не оборачиваясь, ответила та.
– Стрельца Семёна Микитина вдова, что ли? Вишь, я всех в слободе наперечёт знаю! – Обернул её к себе и, выдернув из рук таз с бельём, откинул его на землю. – А я кто?
Прачка залепетала, краснея и так розовым лицом:
– Государь… Великий князь… Господин… Господарь…
– Нет, дурёха! Я – простой человек! А царь Семион на Москве сидит!
Еленка опешила, не зная, что отвечать, залепетала:
– Как будет угодно, государь…
Втянув мыльный запах, просунул руку под шубейку и пару раз шлёпнул Еленку по бедру, отчего та приятно охнула, всколыхнувшись.
– Любо мне твоё колечко золочёное! А у меня серебряная сваечка наготове! – Порылся в кошеле, вынул московку, протянул ей, понизив голос: – Знаешь пустку[76] у башни? Иди туда! Я следом!
– Как прикажешь! – схватив деньгу и поцеловав руку, смелая бабёнка рванула куда велено, а он, глядя на её ядрёные икры, усмехнулся: «Пойдёшь, куда денешься… И не такие приползали, даже пальцем манить не надо было – взгляда доставало, шевеления одной брови…»
Воровато огляделся. Людей не видно, его приказ – «без дела по крепости не шататься, кто будет замечен – будет наказан» – исполняют, чему и сами рады: кому охота лишний раз глаза государю мозолить?
На всякий случай зашёл за дерево и стал оттуда озираться, волнуясь, как в детстве, когда назначал девке место и время, а сам приходил заранее и стоял, высматривая, нет ли опасности, всё ли спокойно для бесперебойной случки.
Еленка ждала у стены, вопросительно смотрела на него. Передом? Задом? На коленях? На шубейке? На досках под стеной? Но он, притянув её к себе и распахнув тулуп, взял её руку и сунул себе под рясу, под исподнее:
– Ты его похоли, похоли! Не смотри туда! Осторожно, там болячка! Двумя перстами! Сильно не жми! Легче, легче! Титьки вывали, дай потрогать! Вот так… Вот так… Ух они и тугие! Налитые! Так, так! Лепо!
Видя, что Еленка старается, но невольно морщит носик от тухлого запаха из-под рясы, решил побыстрее справиться со своей нуждой, да и долгий застой дал о себе знать – скоро семя выметнулось обильным тягучим плевком.
Запахнул тулуп и, не глядя ей в глаза:
– Видишь, простыл, болею! – Вынул пару монет из кошеля. – Ещё придёшь, когда скажу!
– Мечтать буду! – ответила, запихивая груди в вырез рубахи и пряча туда же деньги. – А от простуды средство знаю – рукой всё снимает! Принесу?
Пусть приносит.
Выйдя первым, отправился к себе. И идти было куда легче, чем прежде.
Прежде чем приедут из Разбойной избы Арапышев с братьями Скуратовыми (Малюта погиб, но оба его брата служат добротно и верно), надо сделать одно важное укромное дело, а именно – отослать письмо сатане. Этому научил его Мисаил Сукин. Это всегда помогало – поможет и теперь.
Когда спросил у Сукина: как это возможно – за спиной у Бога сноситься с сатаной, письма ему посылать? – протоиерей усмехнулся, сказав, что у Бога ни спины, ни ног, ни рук нету, Он всюду и везде, всё знает без ушей и очей, и если попустительствует письмам – значит, не против: «А лишний раз сатану умилостивить не худо будет, ибо он – ангел, даже архангел, звезда, хоть и падшая, а ты – всего лишь человечишко, из праха в прах бредущий! Посему пиши красиво, чтоб слова разборчивы были, не то хлопот не оберёшься: они же, беси, главные начётчики, сутяги, крючкотворы, ошибкосчитальщики, им только дай повод – вовек не отлепятся, приставать станут: ты, дескать, в том письме нашему повелителю, сатане, написал то-то и то-то, теперь изволь исполнять – или душу отдавай взамен! Так беси скажут и будут твоей души домогаться по-всякому, наждак-камнем тереть её, царапать и лапать, пока не сведут тебя с ума или в могилу».
Раньше для отсылки такого письма человечья жизнь нужна была, ну а ныне можно и козлиной обойтись – через зарок не перепрыгнешь! Ничего! Сатана до козлов зело охоч, ещё с того, первого, чёрного, коего жиды камнями в пустыне забили для отпущения своих грехов. Хорошо, как всегда, устроились! Сами грешат, а козёл отвечай! Не так ли и со мной будет на Страшном суде: народ грешил – а я страдай, как тот безвинный козёл?
Само письмо было заготовлено ещё раньше, когда начался холерный мор. Никак руки не доходили, и, видно, сатана разозлился ждать – и на́ тебе, устроил грабёж, побои и позор!
Велел Прошке привести смотрителя крепости немца Шлосера, а когда прибудут сыскари из Разбойной избы, то накормить их и пусть ждут, а он по неотложным делам отлучиться должен.
– Куда тебе, государь? Ты болен, лежи! Уже отлучился надысь – что вышло?
Прикрикнул на него:
– Прижукнись, сипак! Я не один. Я с немчином иду, – что немного успокоило слугу: немчин Шлосер был надёжен, разумен и верен, в беде не оставит.
Когда Прошка ушёл, взял из укромного места письмо.
Вот и бумага особая, хрущатая. И чернила красны. И строчки ровны, только подпись поставить осталось.
При писании много бумаги измарать пришлось! То слова были не так поставлены, то слишком смело, то слишком вяло. И как к сатане обращаться? Писать ли с большой буквы? И есть ли у падшей звезды отчество? Не напишешь же: «отпадшему ангелу Деннице Боговичу»?
В конце получилось:
«Сильный князь тьмы и пекла, оставь нас, слабых людишек московских, что мы тебе? Ни кожи, ни рожи от нас, ибо нет у нас ничего для тебя. Забудь нас! Обойди своим оком! Не осеняй своими чёрными крылами! И если надо тебе в пищу кого, то возьми с лица земли всех басурман, сарацин, латинян, мохаммедан, жидов и всяких других нехристей – они будут тебе куда как вкуснее! А в нашей земле оставь нас, невинных и кротких, – от нас тебе проку мало и сытости никакой, а пользы много, ибо не создаём шума и суеты, не беспокоим твой покой и сон, тихо сидим и мирно хлеб свой скудный, на слезах замешанный, едим. А ты бери тех, кто падок и страстен на сребролюбие, пьянство, объедение, скупость, срамословие, любодеяние, плотолюбие, свару, гнев, ярость, печаль, уныние, отчаяние, неправду, изменничество, леность, ослушание, воровство, роптание, прекословие, ложь, клевету, тщеславие, гордость, соблазнение, хуление, – они будут тебе зело вкусны, терпки и поджаристы! А мы всего этого не знаем, не ведаем, не делаем, в мыслях даже не держим, а живём тихо и мирно наши годы, данные нам Тем, Кому и ты подчинён. Посему говорю ещё раз – возьми наше подношение, а нас забудь, брось, оставь, не трожь, чур нас, чур нас, чур нас!»
Размашисто подписался, обозначив своё имя – зачем все титлы писать, когда сатане всё и так известно, его не проведёшь?
Сунул письмо в норковую муфту, перетянул её крепкой шёлковой тесьмой и запихнул в кису, пришитую изнутри любимого длинного, до пола, тулупа, в коем ходил, – уже начались заморозки, а их ни хидагра, ни соли в костях, ни боли в спине не любят. В окно увидел, как Шлосер поспешно ковыляет по лужам к крыльцу, подтягивая подбитую в бою ногу.
В предкельнике Прошка стриг Ониську, надев шурину на голову горшок и особым ножевищем подрезая волосы по ободу горшка. На полу – куча русых волос.
– Вы что, сдурели? Убрать сей миг! – Волос – всяких, и стриженых и резаных, – он очень боялся, зная и от мамки Аграфены, и от баки Аки, что злые духи с обрезками волос могут сделать такое, чего потом не стряхнуть и не отцепить. – Федьки Шиша нет ещё? Роди Биркина тоже? Что за напасть?
– Сам же услал, – ответил Прошка, поспешно запихивая ногой обрезки волос под лавку, за что получил тычок посохом:
– Не так, огуряло, а совсем убрать!
Верный немец, увидев его на крыльце, встал навытяжку:
– Мои касудар, куд-да ходить?
– Тот старый колодец, что у стены, ты починил?
– Нет-т, каспатин, не чиниль, фремя нету был-ла… – Руки немца заскользили в смущении по одежде, а сам он замер в ожидании взбучки, но ему было сказано:
– Ну и хорошо. Веди туда чёрного козла, а я там тебя встречу!
– Какои касёл? Наш Бахруш из тиргартен? – не понял Шлосер.
Переждал шум от двух телег, вёзших мясо на кухню, пояснил:
– Нет, не Бахрушу. Возле крепости – овчарня, знаешь? Ну, овечий загон. Там овцы, бараны, козлы. Вот бери одного козла, бок, шварц, ферштейн[77]? – пояснил он по-немецки, показав рога. – Бери его и веди к колодцу!
– А ешель перестухи не дад-дут?
– Какие перестуки?
– Што офцы пасят…
– А, пастухи… Им скажешь – царь велел. Иди!
Шлосер, обескураженно моргая, заковылял на овчарню, не понимая, что от него требуется, но готовясь исполнять приказ.
К колодцу отправился мимо Распятской церкви, заодно и оглядывая всё кругом хозяйским глазом. Не снимая шапки, перекрестился – царю шапку снимать только при целовании креста – и больше никогда, учили его митрополиты.
Тут, возле Распятской церкви, в детстве с Никиткой Лупатовым много игрывал, когда гостил в Александровке. Никитка жил в слободе, за рекой, в семье плотника Лупата – тот днями сидел в сарае, мастеря лавки, столы и табуреты на продажу, мог и бочкарём подрабатывать – зело силён был, железные ободья гнул руками только так. На клокастой голове Лупата – всегда чёрное увясло[78], на рубахе и портках – досочная пыль, стружки и опилки. Он давал детям ненужные ему чурбаки и бруски – из них можно мастерить лодочки и пускать по реке на уток, зелёным пятном сидевших на серой воде.
Но недолго это продолжалось. Как матушка преставилась (восемь лет ему было), так и стал редко в Александровку ездить: один на восемьдесят вёрст не попрёшь, а возить его, возиться с ним некому оказалось. И не пускали его бояре с глаз без присмотра, свою пользу от безропотного мальца имея, – а кому охота с мальчишкой в занюханную слободу тащиться, когда главный взвар в Москве кипит? И он, уже постарше, мучился от того, что вроде бы власть имел – а не имел, будто бы правил – а не правил, по имени царь – а и не царь вовсе: от других зависишь и даже в матушкину отчину один съездить не вправе. Безвластные годы, трон без царства, слово без силы! И ничего, кроме досады, страха и стыда! Если раз-два за лето удавалось выбраться с обозом в слободу – и то хорошо. А зимой дороги так завалены снегом, что и проехать иной раз невозможно.
А летом благодать была! Они с Никиткой лазали по всем закоулкам – тогда ещё крепостной стены не было, на одном берегу Серой слобода стояла, а на другом, на взгорке, – крепость, в середине её – Распятская церковь, вот эта, из древних грубых камней. И подвалы излазивали насквозь, и сайки из пекарни воровали крючьями, и бычьи пузыри в окнах на бабской половине протыкали прутами, отчего девки внутри голосили…
…Как-то сидели с Никиткой под церковной стеной.
Ленивая теплынь, солнце топило землю своей горячей благодатью. Никитка, смежив ресницы, сказал: