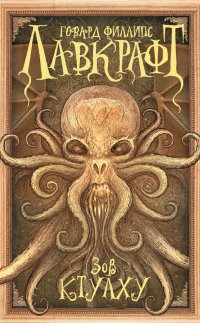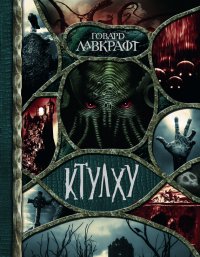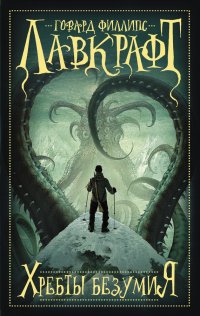Читать онлайн Загадочный дом на туманном утесе бесплатно
- Все книги автора: Говард Филлипс Лавкрафт
© И. А. Богданов, перевод, 2010
© Л. Ю. Брилова, перевод, 2010
© В. С. Кулагина-Ярцева, перевод, 2010
© О. Б. Мичковский, перевод, 2010
© Е. А. Мусихин, перевод, 2010
© Е. В. Нагорных, перевод, 2010
© В. И. Останин, перевод, 2010
© О. Г. Скворцов, перевод, 2010
© В. Н. Дорогокупля, перевод, примечания, 2010
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2014
Издательство АЗБУКА®
Азатот
Когда мир состарился и люди разучились удивляться чудесам; когда тускло-серые города уперлись в дымное небо своими уродливыми и мрачными домами-башнями, в тени которых невозможно даже помыслить о ласковом солнце или цветущих весенних лугах; когда ученость сорвала с Земли покровы красоты, а поэтам осталось воспевать лишь неясные видения, кое-как углядев их затуманенным внутренним взором; когда эти времена настали и все былые наивные мечтания безвозвратно канули в Лету, жил один человек, который научился странствовать за пределами скучной повседневной жизни – в тех пространствах, куда удалились мечты, покинувшие этот мир.
Об имени и месте жительства этого человека известно мало; впрочем, имена и места имеют какое-то значение только в обыденном, бодрствующем мире и потому не представляют для нас интереса. Нам вполне достаточно знать, что он жил в большом городе среди высоких стен, где царили вечные сумерки, и что он проводил свои дни в безрадостных и суетливых трудах, а по вечерам возвращался домой – в комнату с единственным окном, из которого открывался вид не на поля или рощи, а на унылый двор с точно такими же окнами, глядевшими друг на друга в тупом безысходном отчаянии. В этом каменном мешке больше не на что было глядеть, и лишь перегнувшись через подоконник и посмотрев прямо вверх, можно было увидеть кусочек неба с двумя-тремя проплывающими звездочками. А так как зрелище однообразных стен и окон способно свести с ума человека, который все свободное время посвящает мечтам и книгам, обитатель этой комнаты взял за правило еженощно высовываться из окна, чтобы увидеть вверху частичку того, что лежит за пределами будничного мира, заключенного в сумрачных стенах многоэтажных городов. С годами он научился различать медленно проплывающие звезды, называл их по именам, а в своем воображении продолжал следить за их полетом и после того, как они исчезали из виду. Так проходила его жизнь, пока однажды его сознание не раскрылось для таких потрясающих картин, какие не дано узреть обычному человеческому глазу. В ту ночь была разом преодолена гигантская пропасть, и загадочные небеса спустились к окну одинокого мечтателя, чтобы смешаться с воздухом его тесной комнатушки и сделать его свидетелем невероятных чудес.
В полночь комнату озарили потоки лилового сияния с золотистыми блестками, а за ними внутрь ворвались вихри огня и пыли, насыщенные ароматами запредельных миров. И он узрел пьянящий океанский простор, озаренный неведомыми людям солнцами, а также диковинных дельфинов и морских нимф, резвящихся в неизмеримых глубинах. Некая беззвучная и беспредельная стихия приняла мечтателя в свои объятия и увлекла его в таинственные дали, при этом не коснувшись его тела, которое так и застыло на подоконнике. Много дней, несовпадающих с земными календарями, ласковые волны запредельных сфер несли человека к его мечтам – тем самым мечтам, которые были забыты и утрачены остальными людьми, – а потом он провел долгие счастливые века спящим на залитом солнцем зеленом берегу под благоухание цветущих лотосов и алых гиацинтов.
Из глубин мироздания
Странная, не поддающаяся рациональному объяснению перемена произошла в моем друге Кроуфорде Тиллингасте. Я не встречал его с того самого дня, когда два с половиной месяца назад он поведал мне, к какой цели вели его физические и метафизические исследования. Тогда на мои опасения и увещевания он ответил тем, что в приступе ярости выдворил меня из своего дома. Я знал, что после этого он заперся в лаборатории с этой ненавистной мне электрической машиной, принимая пищу от случая к случаю и отвергая помощь прислуги. Однако я не думал, что такой короткий промежуток времени, как десять недель, способен столь сильно изменить и обезобразить человеческое существо. Согласитесь, не так уж приятно видеть некогда цветущего человека неожиданно и сильно исхудавшим, а еще неприятнее замечать, что его обвисшая кожа желтеет, а местами становится серой, глаза проваливаются, округляются и жутко поблескивают, лоб покрывается сетью морщин с проступающими сквозь них кровеносными сосудами, а руки дрожат и подергиваются. Если же к этому еще добавить и отталкивающую неряшливость, неразборчивость в одежде, нечесаную и начинающую редеть шевелюру, давно не стриженную седую бороду, почти скрывающую некогда гладкое лицо, то невольно испытываешь нечто близкое к шоку. Именно таким предстал передо мной Кроуфорд Тиллингаст в ночь, когда его малопонятная записка заставила меня после нескольких недель изгнания вновь появиться у знакомой двери. То, что предстало передо мной со свечой в трясущейся руке на пороге старого, уединенного дома на Беневолент-стрит, скорее напоминало тень человека – карикатурный образ, поминутно озирающийся по сторонам и пугающийся каких-то невидимых либо видимых только ему одному вещей.
Слухи о том, что Кроуфорд Тиллингаст когда-то занимался наукой и философией, являются не более чем слухами. Заниматься такими вещами впору беспристрастному человеку с холодным рассудком, а для чувственного и импульсивного человека, каким был мой друг, наука сулила две равные по своим трагическим последствиям возможности – отчаяние в случае провала или невыразимый и неописуемый ужас в случае успеха. Однажды Тиллингаст уже потерпел неудачу и, как следствие, развил в себе склонность к затворничеству и меланхолии. Теперь же, по страху, который он испытывал, я понял, что он стал жертвой собственного успеха. Я предупреждал его об этом еще десять недель назад, когда, увлеченный своей фантастической идеей, он с головой ушел в исследования. Тогда он был чрезвычайно возбужден, раскраснелся и излагал свои идеи неестественно высоким, но, как всегда, монотонным голосом.
– Что знаем мы об этом мире и о Вселенной? – говорил он. – У нас до абсурдного мало органов чувств, а наши представления об окружающих предметах до невероятного скудны. Мы видим вещи такими, какими мы созданы их видеть, и мы не в состоянии постичь абсолютную их суть. Со своими пятью жалкими чувствами мы лишь обманываем себя, иллюзорно представляя, будто воспринимаем весь безгранично сложный космос. В то же самое время иные существа, с более сильным и широким спектром чувств, могут не только по-иному воспринимать предметы, но способны видеть и изучать целые миры материи, энергии и жизни, которые окружают нас, но которые никогда не постичь земными чувствами. Я всегда верил, что эти странные, недосягаемые миры существуют рядом с нами, а сейчас, как мне кажется, я нашел способ разрушить преграду, отделяющую нас от них. Я не шучу. Через двадцать четыре часа вот эта машина, что стоит у стола, начнет генерировать энергию, способную оживить наши атрофированные или, если угодно, рудиментарные чувства. Эта энергия откроет доселе неизвестные человеку перспективы в постижении органической жизни. Мы узрим причину, по которой ночью воют собаки, а кошки навостряют слух. Мы увидим это и многое другое из того, что недоступно обыкновенным смертным. Мы преодолеем время, пространство и границы измерений и, не сходя с этого места, проникнем в сокровенные глубины мироздания.
Когда Тиллингаст закончил свою речь, я принялся всячески отговаривать его от этой затеи, ибо, зная его достаточно хорошо, испытал скорее испуг, чем чувство радости и торжества. Но он был фанатично одержим своей идеей и, не пожелав меня слушать, выставил из дома. Его фанатизм не иссяк и сейчас, но желание высказаться оказалось сильнее обиды, и он прислал мне несколько строк, написанных в повелительном тоне, но при этом почерком, который я едва смог разобрать. Войдя в обиталище друга, который так неожиданно превратился в трясущееся подобие горгульи, я похолодел от ужаса, который, казалось, исходил от всякой тени в этом сумеречном доме. Слова и заверения, прозвучавшие здесь десять недель тому назад, словно бы приобрели физическую плоть и отчетливые очертания. Я вздрогнул при звуке глухого, изменившегося до неузнаваемости голоса хозяина. Я хотел было кликнуть прислугу, но Тиллингаст заявил, что все слуги покинули его три дня тому назад. Это сообщение пришлось мне очень не по душе. Мне показалось по меньшей мере странным, что старый верный Грегори оставил хозяина, даже не сообщив об этом мне – его давнему и испытанному другу. Именно от Грегори получал я известия обо всем происходившем здесь с того дня, как Тиллингаст в припадке ярости выставил меня из дома.
Но понемногу обуревавшее меня чувство страха вытеснялось все возрастающим любопытством. О том, что именно потребовалось Кроуфорду Тиллингасту от меня на сей раз, я мог только догадываться, – но то, что он обладал великой тайной, которой жаждал поделиться, не вызывало у меня ни малейших сомнений. Прежде я всячески противился его желанию прорваться в неведомые сферы бытия; но сейчас, когда он, похоже, добился определенных успехов, я был почти готов разделить его ликование, хоть и видел, какой страшной ценой досталась ему эта победа. И вот я безмолвно двигался по темным пустынным комнатам туда, куда вело меня неяркое желтое пламя свечи в дрожащей руке этой пародии на человека. Электричество было отключено по всему дому, а когда я спросил почему, Кроуфорд ответил, что так и должно быть.
– Но это уж слишком… Я никогда не осмелюсь… – различил я среди сплошного потока невнятных фраз, которые мой друг бормотал себе под нос. Это весьма встревожило меня, ибо ранее за ним никогда не водилось привычки разговаривать с самим собой.
Мы вошли в лабораторию, и я снова увидел эту отвратительную электрическую машину, излучавшую жуткий фиолетовый свет. Она была подключена к мощной химической батарее, но, по-видимому, была обесточена, ибо в данный момент не вибрировала, издавая устрашающие звуки, как мне это случалось наблюдать раньше. В ответ на мои расспросы Тиллингаст пробубнил, что свечение, исходящее от машины, не имеет электрической природы.
Он усадил меня слева от нее и повернул выключатель, расположенный под рядом стеклянных ламп. Послышались привычные звуки, сначала напоминающие плевки, затем переходящие в жалобный вой и завершающиеся постепенно сходящим на нет жужжанием. Одновременно свечение то усиливалось, то ослабевало и наконец приобрело какой-то бледный, тревожащий цвет или, точнее, палитру цветов, которую я не мог не то чтобы описать, но даже вообразить. Тиллингаст, который внимательно наблюдал за мною, усмехнулся, увидев мою озадаченную гримасу.
– Хочешь знать, что это такое? – прошептал он. – Это ультрафиолет.
Я изумленно выпучил глаза, а он, не переставая ухмыляться, продолжал:
– Ты считал, что ультрафиолетовые лучи не воспринимаются зрением, – и был абсолютно прав. Но сейчас ты можешь наблюдать их, как и многое другое, ранее недоступное человеческому взору. Я объясню. Волны, вырабатываемые машиной, пробуждают в нас тысячи спящих чувств, унаследованных нами за период, простирающийся от первых до последних шагов эволюции, от состояния свободных электронов до формирования человеческого организма. Я лицезрел истину и теперь намерен открыть ее тебе. Хочешь посмотреть, как она выглядит? Сейчас покажу. – Тиллингаст сел, задув свечу, напротив меня и не мигая уставился мне в глаза. – Органы чувств, которые у тебя имеются, и прежде всего слух, уловят множество новых, доселе неизвестных ощущений. Затем появятся другие. Ты когда-нибудь слышал о шишковидном теле? Мне становится смешно, когда я думаю об этом жалком эндокринологе, об этом запутавшемся вконец человечишке, этом выскочке Фрейде. Тело – это есть величайший орган из всех, которые только имеются у человека, и открыл это я. Подобно глазам, оно передает зрительную информацию непосредственно в мозг. Если ты нормален, ты получаешь эту информацию в полной мере… естественно, я имею в виду образы, приходящие из глубин мироздания.
Я окинул взором огромную, с наклонной южной стеной мансарду, залитую тусклыми лучами, недоступными обычному глазу. Дальние ее углы были по-прежнему темны, и все помещение казалось погруженным в нереальную дымку, скрывавшую его действительную природу и влекущую воображение в мир фантомов и иллюзий. Тиллингаст замолчал. Мне представилось, что я нахожусь в некоем огромном экзотическом храме давно умерших богов, некоем сплетенном из тумана строении с неисчислимыми колоннами черного камня, взлетающими от основания влажных плит к облачным высотам, что простираются за пределами моего видения. Картина эта некоторое время сохраняла отчетливость, но постепенно перешла в жуткое ощущение полного, абсолютного одиночества посреди бесконечного, невидимого и беззвучного пространства. Казалось, меня окружает одна пустота и больше ничего. Я почувствовал, как на меня наваливается ужас, какого я не испытывал с самого детства. Он-то и заставил меня выхватить из кармана револьвер – с тех пор, как я подвергся нападению в Ист-Провиденсе, я всегда ношу его с собой, покидая дом в темное время суток. Затем откуда-то из бесконечно удаленных в пространстве и времени областей до меня начал доноситься звук. Он был едва уловимым, слегка вибрирующим и, вне всякого сомнения, музыкальным, но в то же время в нем был оттенок какой-то исступленной дикости, заставивший все мое естество испытать нечто похожее на медленную, изощренную пытку. Затем раздался другой звук, напоминающий царапанье по шероховатому стеклу. Одновременно потянуло чем-то вроде сквозняка, казалось, исходившего из того же источника, что и звук. В то время как, затаив дыхание, я напряженно вслушивался, звук и поток воздуха усиливались, и внезапно я увидал себя привязанным к рельсам на пути быстро мчащегося поезда. Но стоило мне заговорить с Тиллингастом, как видение это мгновенно прекратилось. Передо мной снова были только человек, уродливая машина и погруженное в полумрак пространство за ней. Тиллингаст омерзительно скалился, глядя на револьвер, почти бессознательно вынутый мною из кармана. По выражению его лица я понял, что он видел и слышал все то, что видел и слышал я, если только не больше. Я шепотом пересказал ему свои впечатления. В ответ он посоветовал мне оставаться по возможности спокойным и сосредоточенным.
– Не двигайся, – предупредил он. – Мы можем видеть в этих лучах, но не забывай о том, что и нас видят тоже. Я уже говорил тебе, что слуги ушли из дома, но не сказал каким образом. Эта глупая баба, моя экономка, включила внизу свет, хотя я строго-настрого предупреждал ее не делать этого. Естественно, в следующее мгновение колебания тока в энергосети пришли в резонанс с излучением. Должно быть, это было страшно: их истошные вопли доносились до меня, прорываясь сквозь пелену всего того, что я видел и слышал в другом измерении. Нужно признаться, что и меня пробрал озноб, когда я обнаружил одежду, кучками валявшуюся вокруг дома. Одежда миссис Апдайк лежала возле выключателя в холле – тут-то я все и понял. Оно утащило их всех до единого. Но пока мы не двигаемся, мы в безопасности. Не забывай о том, что мы контактируем с миром, в котором мы беспомощны, как младенцы… Не шевелись!
От этого шокирующего откровения и последовавшей за ним резкой команды я испытал нечто вроде ступора, и в этом необычном состоянии моему разуму вновь предстали картины, идущие из того, что Тиллингаст назвал «глубинами мироздания». Я погрузился в водоворот звуков, неясных движений и размытых картин, разворачивающихся перед моими глазами. Очертания комнаты окончательно расплылись, и в образовавшемся черном пространстве появилось отверстие, своеобразный фокус, откуда исходил, постепенно расширяясь, поток непонятных клубящихся форм, казалось, пробивавший невидимую мне крышу дома в какой-то определенной точке вверху и справа от меня. Передо мной вновь предстало видение храма, но на этот раз колонны уходили в океан света, из которого вырывался слепящий луч, уже виденный мною прежде. Картины и образы сменяли друг друга в бешеном калейдоскопе. В потоке видений, звуков и незнакомых мне доселе чувственных впечатлений я ощутил в себе желание и готовность раствориться в них или просто исчезнуть. Одну такую вспышку образов я запомнил навсегда. На какое-то мгновение мне привиделся клочок ночного неба, исполненного светящихся вращающихся сфер. Затем видение отступило, и я увидел мириады сияющих солнц, образовывавших нечто вроде созвездия или галактики необычной формы, смутно напоминавшей искаженные очертания лица Кроуфорда Тиллингаста. В следующий момент я почувствовал, как огромные живые тела касаются, а некоторые даже просачиваются сквозь меня. Тиллингаст, судя по всему, внимательно наблюдал их движение. Я вспомнил, что он говорил о шишковидном теле, и мне стало интересно узнать, какие неведомые откровения являются его сверхъестественному взору.
Неожиданно все окружающее предстало мне в увеличенном виде. Сквозь светящийся эфемерный хаос проступила картина, в которой хотя и нечетко, но все же различимо присутствовали элементы некоей связности и постоянства. Это было что-то очень знакомое, точнее, что-то неестественно наложенное на привычную окружающую действительность, подобно тому как кинокадр проецируется на расписной театральный занавес. Я видел лабораторию, электрическую машину и размытые очертания Тиллингаста, который сидел напротив меня. Но пространство, свободное от привычных глазу вещей, было до отказа заполнено неописуемыми живыми и неживыми формами, сплетающимися друг с другом в отвратительные клубки, а возле каждого знакомого предмета кишели сонмы непостижимых чужеродных существ. Казалось, все земные предметы вступали в сложные взаимодействия с чужеродными – и наоборот. Среди живых объектов выделялись желеобразные, чернильного цвета чудовища, извивавшиеся в унисон с вибрацией машины. Они кружили вокруг в пугающем изобилии, и я с ужасом взирал на то, как они сливались и разделялись, – их текучесть позволяла им просачиваться сквозь что угодно, даже сквозь тела, которые мы аксиоматично полагаем твердыми. Эти существа не стояли на месте, а неустанно плавали во всех направлениях, как если бы были одержимы какой-то зловещей целью. Временами они пожирали друг друга – атакующий стремительно бросался к жертве, и в следующее мгновение последняя бесследно исчезала. Внутренне содрогнувшись, я догадался, как исчезли несчастные слуги, и после того уже не мог избавиться от мысли об этих существах, продолжая наблюдать открывшийся мне запредельный мир. Тиллингаст, не спуская с меня глаз, произнес:
– Ты их видишь их? Видишь? Ты видишь этих плывущих и прыгающих вокруг тебя, этих проникающих сквозь тебя существ? Ты видишь то, что составляет наш чистый воздух и наше голубое небо? Разве не преуспел я в ломке старых представлений и не показал тебе мир, скрытый от глаз простых смертных?
Он продолжал истошно вопить среди всего этого хаоса, угрожающе приблизив свое лицо к моему. Глаза его горели, как два раскаленных уголька, и только теперь я заметил, что они были полны ненависти. Машина исторгала из своих недр невыносимые звуки.
– Ты, наверное, вообразил, что эти неповоротливые существа утащили моих слуг? Глупец, они безобидны! Но слуги исчезли, не так ли? Ты пытался остановить меня, ты пытался разуверить меня, когда я больше всего нуждался в твоей поддержке. Ты убоялся вселенской истины, жалкий трус, но ничего – сейчас ты в моих руках! Что унесло слуг? Что заставило их так кричать?.. Не знаешь, да? Подожди, скоро узнаешь. Смотри мне в глаза и слушай меня внимательно. Ты полагаешь, что существуют пространство и время. Ты также уверен в том, что миру присущи материя и форма. Я же исследовал такие глубины мироздания, которые твой убогий мозг просто не в состоянии представить. Я заглянул за границы беспредельного и воззвал к демонам звезд… Я обуздал духов, которые, путешествуя из одного мира в другой, повсюду сеют смерть и безумие… Космос отныне принадлежит мне! Ты слышишь? Эти существа сейчас охотятся за мной – существа, которые пожирают и переваривают все живое, но я знаю, как спастись от них. Вместо меня они заберут тебя, как до этого забрали слуг… Что, испугался, мой дорогой? Я предупреждал тебя, что здесь опасно шевелиться. Этим я спас тебя от смерти, но спас только для того, чтобы ты мог еще немного поглазеть вокруг да послушать меня. Если бы ты хоть чуточку шелохнулся, они бы уже давным-давно тебя слопали. Не беспокойся, они не сделают тебе больно. Слугам тоже не было больно – просто один вид этих тварей заставил бедняг орать что есть мочи. Мои любимцы не очень-то красивы, но ведь они из миров, где эстетические стандарты слегка отличаются от наших. Переваривание, уверяю тебя, происходит почти мгновенно. Но я хочу, чтобы ты прежде увидел их по-настоящему. Сам я стараюсь их не видеть, поскольку знаю, когда нужно остановиться. Ну как, тебе интересно? Нет? Я так и знал, что ты не настоящий ученый! Дрожишь, а? Дрожишь от нетерпения лицезреть высших существ, обнаруженных мной? Почему же ты не хочешь шевельнуться? Что, устал? Брось, не волнуйся, дружище, они уже близко… Взгляни, да взгляни же, будь ты проклят!.. Смотри, одно из них как раз зависло над твоим левым плечом!..
О том, что последовало за этим, рассказывать неинтересно, да в этом и нет никакой надобности. Вы наверняка все знаете из газет. Проходившие мимо полицейские услыхали выстрел в доме – Тиллингаста обнаружили мертвым, а меня без сознания. Сначала меня арестовали, так как револьвер, из которого стреляли, принадлежал мне, однако уже через три часа я был на свободе. Экспертиза установила, что Тиллингаст скончался от апоплексического удара, а я стрелял по машине, бесполезные обломки которой теперь были разбросаны по всему полу лаборатории. Об увиденном мною в ту ночь я не проронил ни слова, опасаясь, что следователь отнесется к этому со вполне понятным недоверием. Из уклончивых показаний, которые я предоставил на дознании, врач заключил, что я находился под гипнотическим воздействием мстительного и одержимого жаждой убийства маньяка.
Хотелось бы верить врачу. Тогда я смог бы наконец пересмотреть свои вновь приобретенные представления о строении воздуха и небесных сфер и привести в порядок мои расстроенные вконец нервы – а заодно избавиться от гнетущего ощущения чьего-то постоянного присутствия за моей спиной. Единственный факт, который до сих пор заставляет меня сомневаться в правоте доктора, заключается в том, что полиции так и не удалось обнаружить тела пропавших слуг, убитых, по их мнению, Кpоуфоpдом Тиллингастом.
Музыка Эриха Цанна
Я очень тщательно изучил карты города, но улицы д’Осей нигде не нашел. Я обращался не только к современным картам: мне известно, названия могут меняться. Напротив, я глубоко зарылся в историю этих мест, исследовал самолично, вне зависимости от названия, все городские районы, где могла бы находиться улица, известная мне как д’Осей. Стыдно в этом признаваться, но, несмотря на все усилия, я так и не нашел ни дом, ни улицу, ни даже часть города, где, будучи нищим студентом-философом, в последние месяцы своего обучения в местном университете я слушал музыку Эриха Цанна.
Что мне отказала память, неудивительно: пока я жил на улице д’Осей, у меня были серьезные нелады со здоровьем, с психикой в том числе; помнится, меня там не навещал никто из моих немногочисленных знакомых. Но то, что я не могу отыскать свое прежнее обиталище, удивляет и озадачивает, ведь располагалось оно в получасе ходьбы от университета и было в некоторых отношениях приметным. Трудно поверить в то, что побывавший там его забудет. Никто из тех, с кем я позднее говорил, ни разу в жизни не видел улицу д’Осей.
Улица эта находилась по ту сторону реки, текущей меж громадами кирпичных товарных складов с мутными окнами; берега ее соединяет массивный мост из темного камня. У реки всегда было тенисто, словно дым соседних фабрик на веки вечные скрыл из виду солнце. И еще над рекой стояли дурные запахи, совершенно особые; когда-нибудь они помогут мне найти то место, потому что их я ни с чем не спутаю. За мостом были мощенные булыжником улицы с рельсами, потом начинался подъем, сперва пологий и ближе к д’Осей невероятно крутой.
Мне в жизни не попадалось второй такой узкой и крутой улицы, как д’Осей. Это был только что не обрыв, где не ездил никакой транспорт, там и сям гладкая дорога сменялась ступеньками, отдельные участки переходили в лестницу, а верхний конец замыкала мощная стена, увитая плющом. Уличный настил был неоднородный: где-то каменные плиты, где-то булыжники, где-то голая земля, с пробивавшейся тут и там серовато-зеленой растительностью. Дома, высокие, с островерхими крышами, невероятно старые, кренились в разные стороны. Бывало, противолежащие дома, наклоненные навстречу друг другу, образовывали что-то вроде арки, и в этом месте всегда стоял полумрак. Встречались также перекинутые через улицу мостики.
Обитатели здешних мест производили на меня странное впечатление. Вначале я объяснял это их молчаливостью, но позднее решил, что они просто очень старые. Не знаю, как мне пришло в голову там поселиться, но я в то время был немного не в себе. Из-за безденежья мне часто приходилось переселяться, и я навидался разных бедных кварталов, пока наконец не набрел на ветхий дом на улице д’Осей, в котором распоряжался паралитик по фамилии Бландо. Считая от вершины холма, дом стоял третьим и далеко превосходил всех своих соседей по высоте.
Моя комната находилась на пятом этаже, где больше никто не жил: дом был почти пуст. Поздно вечером, когда я вселялся, из окна островерхого чердака лилась странная музыка, и на следующий день я спросил Бландо, кто играл. Он ответил, что это старик-немец, немой и чудаковатый; имя его, судя по подписи, Эрих Цанн, вечерами он играет на виоле в оркестре при одном захудалом театре. Бландо добавил, что Цанн имеет привычку браться за инструмент по ночам, когда вернется из театра; потому он и приискал себе просторную и изолированную чердачную комнату с единственным окошком, через которое, в отличие от всех прочих, открывается вид на склон холма по ту сторону стены в конце улицы.
Потом я слышал Цанна каждую ночь, он мешал мне спать, и все же я был зачарован его странной, потусторонней музыкой. Я мало знаком с музыкальным искусством, однако был убежден, что ни одно из созвучий Цанна не похоже ни на что слышанное мною прежде; отсюда я сделал вывод, что мой сосед одарен в высшей степени оригинальным талантом композитора. Чем дольше я слушал, тем сильнее пленяли меня эти звуки, и через неделю я решился свести знакомство со стариком.
Однажды вечером, когда Цанн возвращался с работы, я подстерег его в коридоре и сказал, что хотел бы с ним познакомиться и послушать вблизи его игру. Он был невысок ростом, щупл, сутул, с голубыми глазками и забавным личиком сатира, лысиной во всю голову, одет в какие-то обноски. Когда я заговорил, Цанн ответил злым и одновременно испуганным взглядом, но, видя мое дружелюбие, в конце концов смягчился и недовольным жестом пригласил меня следовать за ним по темной и шаткой чердачной лестнице. Его комната, одна из двух под крутой крышей, располагалась с запада и смотрела на высокую стену, в которую упирался верхний конец улицы. Очень просторное помещение казалось еще больше из-за необычайной скудости обстановки и запущенности. Из мебели имелись только узкая железная кровать, неопрятный умывальник, столик, большой книжный шкаф, железный нотный пюпитр и три старомодных стула. На полу громоздились в беспорядке ноты. Обшитые голыми досками стены, видно, никогда не штукатурили. Судя по залежам пыли и вездесущей паутине, можно было вообще усомниться, что тут кто-то живет. Очевидно, Эрих Цанн не признавал иной красоты, кроме сущей в эмпиреях воображения.
Жестом предложив мне садиться, немой закрыл дверь, повернул большую деревянную задвижку и зажег еще одну свечу в дополнение к той, что была при нем. Извлек из траченного молью футляра виолу и с нею в руках сел на самый крепкий из имевшихся стульев. Нотами он не воспользовался и, не спросив о моих пожеланиях, целый час угощал меня восхитительными мелодиями, подобных которым я никогда не слышал. Не иначе как это были его собственные композиции. Что они собой представляли, я, не будучи знатоком музыки, описать не способен. Это были как будто фуги с повторяющимися пассажами самого пленительного свойства, но я обратил внимание на то, что в них ни разу не прозвучали потусторонние мотивы, которые я слышал прежде, у себя.
Те, прежние мелодии невольно запечатлелись у меня в памяти, и я часто пытался, не совсем успешно, напеть их про себя или просвистеть. И потому, когда музыкант наконец отложил смычок, я попросил его сыграть что-нибудь из них. Когда я завел об этом речь, старик насторожился и спокойствие и скука на его морщинистом личике сатира сменились диковинным сочетанием злости и страха, как в тот раз, когда я впервые к нему обратился. Подумав, что это старческие капризы, к которым не стоит относиться серьезно, я стал его уговаривать и даже, чтобы вызвать соответствующее настроение, попытался насвистеть одну из мелодий, слышанных накануне ночью. Однако мне сразу же пришлось умолкнуть: едва немой музыкант узнал мотив, как черты его исказила неописуемая гримаса, а длинная костистая рука потянулась к моим губам, чтобы остановить грубую имитацию. И еще одна странность: испуганный взгляд старика скользнул к одинокому, завешенному шторой окну, словно там могли появиться незваные гости. Это было тем более нелепо, что чердак располагался очень высоко, куда выше соседних крыш; консьерж говорил мне, что на улице нет второго окна, откуда виден через стену противоположный склон холма.
Заметив испуг старика, я вспомнил о словах Бландо, и мне взбрело в голову полюбоваться широкой, головокружительной панорамой посеребренных луною крыш и городских огней с той стороны холма – зрелищем, недоступным всем прочим обитателям улицы д’Осей. Я шагнул к окну и готовился уже раздернуть неописуемо ветхие шторы, но тут меня настиг, в полном уже неистовстве, хозяин комнаты. Кивая на дверь, он обеими руками стал оттягивать меня от окна. Это меня окончательно возмутило, я велел ему убрать руки и сказал, что немедленно ухожу. Старик ослабил хватку и, видя, как я обижен, стал успокаиваться. Он снова сжал мою руку, но на этот раз примирительным жестом, принудил меня сесть на стул, с задумчивым видом подошел к столу и, найдя среди хлама карандаш, стал писать на тяжеловесном, как бывает у иностранцев, французском длинную записку.
Когда он наконец вручил записку мне, там оказалась просьба снизойти к нему и простить. Цанн утверждал, что он стар, одинок и подвержен необычным страхам и неврозам, связанным с собственной музыкой и не только с ней. Ему понравилось, как я слушаю, и он приглашал меня приходить еще, но только просил не обращать внимания на его причуды. Однако он не может исполнять свою необычную музыку для других и не выносит, когда ее воспроизводят другие, а также не терпит, когда посторонние что-нибудь трогают в его комнате. До нашей встречи в коридоре он не имел понятия, что мне слышна его игра, и теперь он спрашивает, нельзя ли договориться с Бландо, пусть переселит меня в нижний этаж, подальше от ночных концертов. Он, Цанн, берется доплачивать за мою новую комнату.
Пока я разбирал жуткий французский язык старика, моя обида сменилась сочувствием. Он страдает от физического и нервного недуга, я тоже; философские занятия научили меня доброте. Тут в окне послышался тихий стук – наверное, задребезжали под ночным ветерком ставни, и я почему-то, вслед за Эрихом Цанном, испуганно вздрогнул. Закончив читать, я пожал хозяину руку, и мы расстались друзьями. Назавтра Бландо предоставил мне более дорогую комнату на третьем этаже, между квартирой пожилого ростовщика и комнатой респектабельного обойщика. На четвертом этаже жильцов не было.
Вскоре я убедился, что Цанн не так жаждет моего общества, как можно было подумать, когда он уговаривал меня съехать с пятого этажа. Он не приглашал меня к себе, а если я приходил незваным, Цанн держался беспокойно и играл вяло. Происходило это всегда ночью: днем Цанн спал и никого не принимал. Нельзя сказать, чтобы я проникался к нему все большей симпатией, хотя чердачная комната и потусторонняя музыка сохраняли для меня свою непонятную притягательность. Меня одолевало странное желание выглянуть в это окно, увидеть ту сторону стены, неизвестный склон, блестящие крыши и шпили внизу. Однажды я поднялся на чердак в то время, когда Цанн был в театре, но дверь оказалась заперта.
Что мне удавалось, так это подслушивать ночную игру немого музыканта. Вначале я прокрадывался на цыпочках в свой прежний пятый этаж, потом набрался смелости и стал взбираться по скрипучей лестнице до самого верха, поближе к чердаку. Там, в тесном коридоре, перед запертой на засов дверью с прикрытой замочной скважиной, я нередко внимал звукам, наполнявшим душу неопределенным страхом, ибо за ними чудилась какая-то сверхъестественная тайна. Нет, музыка была красива, а вовсе не ужасна, но ее сопровождали вибрации, несравнимые ни с чем на нашей бренной земле, а временами она обретала симфоническое звучание и трудно было поверить, что это играет один-единственный исполнитель. Несомненно, Эрих Цанн обладал истинной гениальностью, причем самого необузданного свойства. Недели текли, игра становилась все мощнее и причудливей, сам же старый музыкант худел и выглядел таким затравленным, что больно было смотреть. Он от меня затворился, а при случайных встречах на лестнице шарахался в сторону.
Однажды ночью, пока я подслушивал под дверью, пенье виолы переросло в беспорядочный визг. Ловя эту сумятицу звуков, я усомнился в собственном здравом рассудке, но тут прозвучавший за закрытой дверью вопль подтвердил плачевную реальность: там действительно происходило что-то ужасное. Так жутко и нечленораздельно мог кричать только немой и только от отчаянного страха или нечеловеческой боли. Я стал колотить в дверь – ответа не было. Дрожа от холода и страха, я ждал в темном коридоре. Наконец послышался шорох: бедный музыкант пытался, опираясь на стул, подняться на ноги. Я решил, что он приходит в себя после обморока, и снова стал стучать в дверь, повторяя ободряющим тоном свое имя. Цанн, судя по всему, доковылял до окна, закрыл его и задернул шторы, потом не без труда добрался до двери, отодвинул неверной рукой засов и впустил меня. На этот раз можно было не сомневаться, что он рад меня видеть: его несчастное личико просияло от облегчения и он ухватился за мою куртку, как ребенок хватается за юбку матери.
Жалостно дрожа, старик усадил меня на стул, и сам сел тоже; виола со смычком лежали, забытые, рядом с ним на полу. Первое время он сидел неподвижно, только странно кивая и словно бы напряженно и испуганно к чему-то прислушиваясь. Потом Цанн как будто успокоился, пересел к столу, написал краткую записку, отдал ее мне и, вернувшись за стол, принялся быстро и непрерывно строчить. В записке он умолял меня, во имя милосердия и ради удовлетворения собственного любопытства, оставаться на месте и ждать, пока он подготовит на немецком полный рассказ о страшных тайнах, его окружающих. Я ждал, немой музыкант водил карандашом по бумаге.
Прошло около часа, я все еще ждал, рядом со старым музыкантом быстро вырастала стопка листков, но вдруг он отчаянно дернулся. Ошибиться было невозможно: он глядел на зашторенное окно, вслушивался и трясся от испуга. Тут мне почудилось, что я и сам что-то различаю: звук, совсем не пугающий, напоминал чрезвычайно тихую и отдаленную мелодию, словно неведомый музыкант играл в каком-нибудь из соседних домов или по ту сторону высокой стены, за которую мне не доводилось заглядывать. На Цанна было страшно смотреть: он уронил карандаш, рывком встал, схватил виолу и принялся оглашать ночную тишину теми дичайшими мотивами, какие исполнял только наедине с собой, а я слушал только из-за запертой двери.
Что играл той ужасной ночью Эрих Цанн, описывать бесполезно. Прежде, подслушивая, я не представлял себе, что это за жуть, так как не видел его лица, теперь же понял: за этой бурной игрой стоит отчаянный страх. Громкими звуками старик то ли от чего-то себя защищал, то ли старался что-то заглушить; в чем он видел опасность, я не догадывался, но чувствовал, что опасность эта велика. Причудливое музицирование обретало характер бреда, истерики, но сохраняло в себе следы высшего таланта, которым, как мне было известно, обладал странный старик. Я узнал мелодию: это был неистовый венгерский танец, любимый театральной публикой, и на миг мне подумалось, что прежде я ни разу не слышал, чтобы Цанн исполнял чужие сочинения.
Виола завывала все громче и отчаянней. Музыкант, заливаемый потоками пота, дергался как обезьяна и не спускал безумного взгляда с занавешенного окна. Под яростный напев мне все отчетливей представлялись тени сатиров и вакханок, бешено кружащихся среди водоворота туч, дымов и молний. Затем я различил как будто иные тоны, более высокие и протяжные, чем у виолы; где-то далеко на западе они выпевали размеренную, упорную, дразнящую мелодию.
Тут за окном заплакал и застучал в ставни ночной ветер, словно бы вызванный безумной игрой старика. Визгливая виола Цанна стала исторгать из себя звуки, не свойственные, как я думал, этому инструменту. Ставни застучали громче, растворились и начали биться об окно. Задребезжало разбитое стекло, внутрь ворвался студеный ветер, зашипели свечи, зашелестели бумаги на столе, где Цанн начал записывать свою страшную тайну. Я поглядел на Цанна: ясное сознание его покинуло. Голубые глаза бессмысленно пялились в пустоту, смычок извлекал из виолы уже не музыку, а механическое, ни на что не похожее чередование звуков, описать которое не под силу перу.
Внезапный, еще более мощный порыв ветра подхватил рукописные листы и увлек к окну. Я отчаянно кинулся следом, однако не успел: листы исчезли. Тогда мне вспомнилось мое прежнее желание выглянуть в это окно, единственное на улице д’Осей, откуда виден склон холма за стеной и простертый внизу город. Было очень темно, однако город всегда светится огнями, и я надеялся увидеть их сквозь потоки дождя. Но когда я приник к этому чердачному окошку, самому высокому на улице, и под шипенье свечей и завывания безумной виолы и ночного ветра стал всматриваться в сумрак, там не оказалось ни простертого внизу города, ни приветливых фонарей знакомых улиц – ничего, кроме беспредельного черного пространства, невообразимого пространства, оживленного движением и музыкой, не похожего ни на что на этой земле. И пока я глядел, оцепенев от ужаса, ветер задул обе свечи, освещавшие старинный, с остроугольным потолком, чердак, и оставил меня в первобытном непроницаемом мраке, с демоническим хаосом перед глазами и демоническим беснованием ночной виолы за спиной.
Не имея возможности добыть света, я шатнулся назад, ударился о стол, опрокинул стул и стал на ощупь пробираться туда, где вскрикивал, извергая дикую музыку, мрак. Какие бы силы мне ни противостояли, я должен был, по крайней мере, попытаться спасти Эриха Цанна и спастись самому. Однажды я ощутил какое-то холодное прикосновение и закричал, но жуткая виола заглушила мой крик. Внезапно меня толкнул ходивший ходуном смычок: музыкант был рядом. Я протянул наугад руку и наткнулся на спинку стула, потом нашел плечо Цанна и стал трясти, чтобы старик очнулся.
Он не откликался, но виола продолжала завывать все так же оглушительно. Я нащупал голову музыканта, сумел остановить его механические кивки и прокричал в ухо, что нам обоим нужно спасаться бегством от непонятных ночных созданий. Однако он не отвечал и с тем же остервенением водил смычком, а между тем по всему чердаку загуляли странные ветерки, затеявшие во тьме и неразберихе подобие танца. Коснувшись уха музыканта, я, сам не поняв отчего, вздрогнул. И понял, только ощупав его неподвижное лицо: холодное, окоченевшее, бездыханное лицо, остекленевшими глазами бессмысленно пялившееся в пустоту. И вот, каким-то чудом отыскав дверь и большой деревянный засов, я с бешеной скоростью припустил вниз по лестнице, подальше от обладателя остекленевших глаз и от дьявольского завывания проклятой виолы, ярость которой не стихала, а только усиливалась.
Век буду помнить это ужасное бегство: как я прыгал, скользил, летел по бесконечным лестницам темного дома; как выскочил в забытьи на узкую крутую улочку, к ступенчатой дороге и кренившимся домам, как по ступеням и булыжнику сбежал на нижние улицы, к зловонной, зажатой в высоких берегах реке, как пересек, пыхтя, большой темный мост и очутился на известных нам всем улицах и бульварах – широких и опрятных. Ветра, помнится, не было, как и луны, и все огни в городе сияли ярким блеском.
Все мои розыски, все самые тщательные расследования ни к чему не привели: я так и не нашел улицу д’Осей. Однако ни об этом, ни о потере плотно исписанных листков, единственного ключа к тайне музыки Эриха Цанна, я особо не печалюсь.
Пес
I
Они все не стихают, эти невыносимые звуки: хлопанье невидимых гигантских крыльев и отдаленный, едва слышный лай какого-то огромного пса, – и продолжают мучить меня. Это не сон, боюсь, даже не бред – слишком много всего произошло, чтобы у меня еще сохранились спасительные сомнения. Все, что осталось от Сент-Джона, – это обезображенный труп; лишь я один знаю, что с ним случилось, и знание это таково, что легче бы мне было самому раскроить себе череп, чем с ужасом дожидаться, когда и меня постигнет та же участь. Бесконечными мрачными лабиринтами таинственных видений подбирается ко мне невыразимо страшное Возмездие и приказывает безмолвно: «Убей себя!»
Простят ли небеса те безрассудства и нездоровые пристрастия, что привели нас к столь чудовищному концу?! Утомленные обыденностью повседневной жизни, способной обесценить даже самые романтические и изысканные радости, мы с Сент-Джоном, не раздумывая, отдавались любому новому эстетическому или интеллектуальному веянию, если только оно сулило хоть какое-нибудь убежище от невыносимой скуки. В свое время мы отдали восторженную дань и сокровенным тайнам символизма, и экстатическим озарениям прерафаэлитов, и еще многому другому; но все эти увлечения слишком быстро теряли в наших глазах очарование и привлекательность новизны.
Мрачная философия декадентства была последним средством, которое еще могло подстегивать воображение, но и это удавалось лишь благодаря непрестанному углублению наших познаний в области демонологии. Бодлер и Гюисманс скоро потеряли свою первоначальную привлекательность, и нам приходилось прибегать к более сильным стимулам, какие мог доставить только опыт непосредственного общения со сверхъестественным. Эта зловещая потребность во все новых и новых возбудителях и привела нас в конце концов к тому отвратительному увлечению, о котором и теперь, несмотря на весь ужас моего настоящего положения, я не могу вспоминать иначе, как с непередаваемым стыдом и страхом; к пристрастию, которое не назовешь иначе, как самым гнусным проявлением человеческой разнузданности; к мерзкому занятию, имя которому – грабеж могил.
Нет сил описывать подробности наших ужасных раскопок или перечислить, хотя бы отчасти, самые жуткие из находок, украсивших кошмарную коллекцию, которую мы втайне собирали в огромном каменном доме, где жили вдвоем, отказавшись от помощи слуг. Наш домашний музей представлял собою место поистине богомерзкое: с каким-то дьявольским вкусом и неврастенической извращенностью создавали мы там целую вселенную страха и тления, чтобы распалить свои угасавшие чувства. Находился он в потайном подвале глубоко под землей; огромные крылатые демоны из базальта и оникса, оскалившись, изрыгали там неестественный зеленый и оранжевый свет, потоки воздуха из спрятанных в стенах труб заставляли прыгать в дикой пляске смерти полоски алой погребальной материи, вплетенные в тяжелые черные занавеси. Особое устройство позволяло наполнять разнообразными запахами воздух, поступавший через трубы в стенах; потворствуя самым диким своим желаниям, мы выбирали иногда аромат увядших лилий с надгробий, иногда – дурманящие восточные благовония, словно доносящиеся из неведомых капищ царственных мертвецов, а порой – я содрогаюсь, вспоминая теперь об этом, – тошнотворный смрад разверстой могилы.
Вдоль стен ужасной комнаты были расставлены многочисленные ящики; в одних лежали древние мумии, в других – совсем недавние образцы чудесного искусства таксидермистов; тут же имелись и надгробия, собранные со старейших кладбищ всего мира. В нишах хранились черепа самых невероятных форм и человеческие головы в различных стадиях разложения: полусгнившие лысины великих государственных мужей и необычайно свежие детские головки, обрамленные нежным золотом мягких кудрей. Тут было множество картин и скульптур, неизменно на загробные темы, в том числе и наши с Сент-Джоном живописные опыты. В специальной папке из тонко выделанной человеческой кожи, всегда запертой, мы держали несколько рисунков на такие сюжеты, о которых я и сейчас не смею говорить; автор работ неизвестен – предполагают, что они принадлежат кисти самого Гойи, но великий художник никогда не решался признать это публично. Здесь же хранились наши музыкальные инструменты, как струнные, так и духовые: нам доставляло удовольствие упражняться в диссонансах, поистине дьявольских в своей изысканности и противоестественности. В многочисленные инкрустированные шкатулки мы складывали главную свою добычу – самые невероятные, невообразимые предметы, какие только можно похитить из склепов или могил, вооружившись для этого всем безумием и извращенностью, на которые только способен человеческий разум. Но об этом я менее всего смею распространяться – слава богу, у меня хватило духу уничтожить наши страшные трофеи задолго до того, как меня впервые посетила мысль о самоубийстве.
Тайные вылазки, доставлявшие нам все эти ужасные сокровища, всякий раз становились для нас своего рода эстетическим событием. Ни в коем случае не уподоблялись мы вульгарным кладбищенским ворам, но действовали только там и тогда, где и когда имелось для того сочетание вполне определенных внешних и внутренних условий, включая характер местности, погодные условия, время года, даже определенную фазу луны и, конечно, наше собственное состояние. Для нас занятие это всегда было формою артистического самовыражения, ибо к каждой детали раскопок мы относились с требовательностью истинных художников. Неправильно выбранное время очередной экспедиции, слишком яркий свет, неловкое движение при разрытии влажной почвы – все это могло полностью лишить нас того острого удовольствия, что мы получали, извлекая из земли какую-нибудь очередную ее зловеще оскаленную тайну. Поиск новых мест для раскопок и все более острых ощущений становился лихорадочным и безостановочным – причем инициатива всегда принадлежала Сент-Джону. Именно он в конце концов отыскал то проклятое место, где нас начал преследовать страшный неотвратимый рок.
Какая злая судьба завела нас на то ужасное голландское кладбище? Думаю, виной всему были смутные слухи и предания о человеке, захороненном там пять столетий назад: в свое время он тоже грабил могилы и якобы нашел в одном из склепов некий предмет, обладавший сверхъестественными свойствами. Я отчетливо помню ту ночь на кладбище: бледная осенняя луна над могильными крестами, огромные страшные тени, причудливые силуэты деревьев, мрачно склонившихся над густой высокой травой и потрескавшимися надгробными плитами, тучи необычно крупных летучих мышей на фоне блеклой луны, поросшие плющом стены древней часовни, ее шпиль, безмолвно указующий на темно-серые небеса, какие-то светящиеся жучки, скачущие в извечной пляске смерти среди зарослей тиса у ограды, запах плесени, гнилости, влажной травы и еще чего-то неопределенного в смеси с ветром, налетающим с дальних болот и моря; но наиболее тягостное впечатление произвел на нас обоих едва слышный в отдалении, но, должно быть, необычайно громкий лай какого-то, по-видимому, огромного пса, хотя его самого не было видно – более того, нельзя было даже примерно определить, с какой стороны этот лай доносится. Тем не менее одного этого звука было вполне достаточно, чтобы задрожать от ужаса, ибо мы хорошо помнили, что рассказывали в окрестных деревнях: обезображенный труп того, кого мы искали, был несколькими веками раньше найден в этом самом месте. Его растерзала огромными клыками неведомая гигантская тварь.
Я помню, как мы вскрывали гробницу кладбищенского вора, как вздрагивали, глядя то друг на друга, то на могилу; я помню бледную всевидящую луну, страшные гигантские тени, громадных нетопырей, древнюю часовню, танцующие мертвенные огоньки; помню тошнотворные запахи и странный, неизвестно откуда доносившийся лай, в самом существовании которого мы не были до конца уверены. Но вот вместо рыхлой сырой земли лопата ткнулась во что-то твердое, и скоро нашему взору открылся продолговатый полусгнивший ящик, покрытый коркой солевых отложений. Гроб, необыкновенно массивный и крепкий, был все же достаточно старым, а потому нам без особого труда удалось взломать крышку и насладиться открывшимся зрелищем.
Он сохранился очень хорошо, просто на удивление хорошо, хотя пролежал в земле уже пять столетий. Скелет, в нескольких местах поврежденный клыками безжалостной твари, выглядел поразительно прочно. Мы с восхищением разглядывали чистый белый череп с длинными крепкими зубами и пустыми глазницами, в которых когда-то горел такой же лихорадочный, вожделеющий ко всему загробному взгляд, какой отличал ныне нас. Мы нашли в гробу еще кое-что – это был очень любопытный, необычного вида амулет, который покойник, очевидно, носил на цепочке вокруг шеи. Он представлял собою странную фигурку сидящей крылатой собаки, или сфинкса с собачьей головой, искусно вырезанную в древней восточной манере из небольшого куска зеленого нефрита. И все в этой твари служило напоминанием о смерти, жестокости и злобе. Внизу имелась какая-то надпись: ни Сент-Джону, ни мне никогда прежде не доводилось видеть таких странных букв, – а вместо клейма мастера на обратной стороне был выгравирован жуткий стилизованный череп.
Едва увидев амулет, мы поняли, что он непременно должен стать нашим: из всех существующих на свете вещей лишь этот необычайный предмет мог быть достойным вознаграждением за наши усилия. Мы возжелали бы его даже в том случае, если бы он был нам совершенно незнаком; однако, рассмотрев загадочную вещицу поближе, мы убедились, что это не так. Амулет и в самом деле не походил ни на что известное рядовому читателю учебников по истории искусств, но мы сразу узнали его: в запрещенной книге «Некрономикон», написанной безумным арабом Абдулом Альхазредом, этот амулет упоминается в качестве одного из зловещих символов души в культе некрофагов с недоступного плато Ленг в Центральной Азии. Мы хорошо помнили описание страшного амулета в этом труде арабского демонолога; очертания его, писал Альхазред, отражают таинственные, сверхъестественные свойства души тех людей, которые истязают и пожирают мертвецов.
Мы забрали нефритовый амулет и, бросив последний взгляд на выбеленный временем череп с пустыми глазницами, закрыли гроб, ни к чему более не прикасаясь. Сент-Джон положил наш трофей в карман пальто, и мы поспешили прочь от ужасного места; в последний момент нам показалось, что огромная стая нетопырей стремительно опускается на только что ограбленную могилу. Впрочем, то мог быть всего лишь обман зрения – ведь свет осенней луны так бледен и слаб.
Утро следующего дня застало нас на борту судна, направлявшегося из Голландии в Англию; нам по-прежнему казалось, будто издалека доносится лай огромного пса. Скорее всего, у нас просто разыгралось воображение, подстегнутое нагонявшими тоску и грусть завываниями осеннего ветра.
II
Не прошло и недели со дня нашего возвращения на родину, как начали происходить очень странные события. Мы жили настоящими отшельниками, не имея ни друзей, ни родственников, ни даже слуг, в старинной усадьбе на краю болотистой пустоши, и лишь очень редкий посетитель нарушал наш покой нежданным стуком в дверь. Теперь, однако, по ночам слышались какие-то шорохи и стуки не только у входных дверей, но и у окон, как верхнего, так и нижнего этажа. Однажды вечером (мы тогда сидели в библиотеке) нам обоим даже показалось, что какая-то огромная тень на мгновение заслонила собою заглядывавшую в окно луну; другой раз нам послышалось нечто вроде глухого хлопанья огромных крыльев где-то невдалеке. Наши попытки выяснить, что же все-таки происходит вокруг дома, ничего не дали, и мы приписали все это причудам воображения – в ушах у нас до сих пор стоял отдаленный глухой лай, почудившийся нам во время вылазки на старое голландское кладбище. Нефритовый амулет хранился в одной из ниш в нашем тайном музее, и порою мы зажигали перед ним свечи, источавшие экзотический аромат. Из «Некрономикона» мы почерпнули много новых сведений о свойствах этого магического предмета, о связи духов и призраков с тем, что он символизирует; все прочитанное нами не могло не вселять опасений. Но самое ужасное было впереди.
В ночь на 24 сентября 19… года я сидел у себя в комнате, когда раздался негромкий стук в дверь. Я решил, конечно, что это Сент-Джон, и пригласил его войти – в ответ послышался резкий смех. За дверью никого не оказалось. Я бросился к Сент-Джону и разбудил его; мой друг ничего не мог понять и был встревожен не меньше моего. Той же самой ночью глухой далекий лай над болотами обрел для нас ужасающую в своей неумолимости реальность. Четырьмя днями позже, находясь в нашей потайной комнате в подвале, мы услыхали, как кто-то тихо заскребся в единственную дверь, что вела на лестницу, по которой мы спускались в подвал из библиотеки. Мы испытывали в тот момент удвоенную тревогу, ведь кроме страха перед неизвестностью нас постоянно мучило опасение, что кто-нибудь может обнаружить нашу отвратительную коллекцию. Потушив все огни, мы осторожно подкрались к двери и в следующее мгновение резко ее распахнули, – но за ней никого не оказалось, и только неизвестно откуда взявшаяся тугая волна спертого воздуха ударила нам в лицо да в тишине отчетливо прозвучал непонятный удаляющийся звук, представлявший смесь какого-то шелеста, тоненького смеха и бормотания. В тот момент мы не могли сказать, сошли ли мы с ума, бредим ли или все же остаемся в здравом рассудке. Замерев от страха, мы осознавали только, что быстро удаляющийся от нас невидимый призрак что-то бормотал по-голландски.
После этого происшествия ужас и неведомые колдовские чары опутывали нас все крепче и крепче. Мы, в общем, склонялись к тому простому объяснению, что оба постепенно сходим с ума под влиянием своего чрезмерного увлечения сверхъестественным, но иногда нам приходила в голову мысль, что мы стали жертвами немилосердного злого рока. Необычайные явления стали повторяться настолько часто, что их невозможно было даже перечислить. В нашей одинокой усадьбе словно поселилось некое ужасное существо, о природе которого мы и не догадывались; с каждым днем адский лай, разносившийся по продуваемым всеми ветрами пустошам, становился все громче. 29 октября мы обнаружили на взрыхленной земле под окнами библиотеки несколько совершенно невероятных по размерам и очертаниям следов. Гигантские эти отпечатки поразили нас не менее, чем стаи нетопырей, собиравшихся вокруг дома в невиданном прежде и все возраставшем количестве.
Кошмарные события достигли своей кульминации вечером 18 ноября; Сент-Джон возвращался домой с местной железнодорожной станции, когда на него напала какая-то неведомая и ужасная хищная тварь. Крики несчастного донеслись до нашего дома, и я поспешил на помощь, но было уже слишком поздно: на месте ужасной трагедии я успел только услышать хлопки гигантских крыльев и увидеть бесформенную черную тень, мелькнувшую на фоне восходящей луны. Мой друг умирал. Я пытался расспросить его о происшедшем, но он уже не мог отвечать связно. Я услышал только прерывистый шепот: «Амулет… проклятье…» После чего Сент-Джон умолк навеки, и все, что от него осталось, было недвижимой массой истерзанной плоти.
На следующий день я похоронил своего друга – ровно в полночь, в глухом заброшенном саду, пробормотав над свежей могилой слова одного из тех сатанинских заклятий, которые он так любил повторять при жизни. Прочитав последнюю строку, я вновь услышал приглушенный лай огромного пса где-то вдали за болотами. Взошла луна, но я не смел взглянуть на нее. А чуть погодя в ее слабом свете я увидал огромную смутную тень, перелетавшую с холма на холм, и, не помня себя, без чувств повалился на землю. Не знаю, сколько времени пролежал я там; поднявшись наконец, я медленно побрел домой и, спустившись в подвал, совершил демонический обряд поклонения амулету из зеленого нефрита, лежавшему в своей нише, словно на алтаре.
Было страшно оставаться одному в старом пустом доме на заболоченной равнине, и поутру я отправился в Лондон, прихватив с собой нефритовый амулет, а остальные предметы нашей святотатственной коллекции частью сжег, а частью закопал глубоко в землю. Но уже на четвертую ночь в городе я вновь услышал отдаленный лай; не прошло и недели со времени моего приезда, как с наступлением темноты я стал постоянно ощущать на себе чей-то пристальный взгляд. Однажды вечером я вышел подышать свежим воздухом на набережную королевы Виктории. Я медленно брел вдоль берега, как вдруг отражение одного из фонарей в воде заслонила чья-то черная тень и на меня неожиданно обрушился порыв резкого ветра. В эту минуту я понял, что участь, постигшая Сент-Джона, ожидает и меня.
На другой день я тщательно упаковал нефритовый амулет и повез его в Голландию. Не знаю, какого снисхождения мог я ожидать в обмен на возврат таинственного талисмана его владельцу, ныне бездвижному и безмолвному. Но я полагал, что ради своего спасения обязан предпринять любой шаг, если в нем есть хоть капля смысла. Что такое был этот пес, почему он преследовал меня – оставалось все еще неясным; но впервые я услышал лай именно на старом голландском кладбище, а все дальнейшие события, включая гибель Сент-Джона и его последние слова, указывали на прямую связь между обрушившимся на нас проклятием и похищением амулета. Вот отчего испытал я такое непередаваемое отчаяние, когда после ночлега в одной из роттердамских гостиниц обнаружил, что единственное средство спасения было у меня похищено.
Той ночью лай был особенно громким, а на следующий день из газет я узнал о чудовищном злодеянии. Кровавая трагедия произошла в одном из самых сомнительных городских кварталов. Местный сброд был до смерти напуган: на мрачные трущобы легла тень ужасного преступления, перед которым померкли самые гнусные злодеяния их обитателей. В каком-то воровском притоне целое семейство преступников было буквально разорвано в клочья неведомым существом, которое не оставило после себя никаких следов. Никто ничего не видел – соседи слышали только негромкий гулкий лай огромного пса, не умолкавший всю ночь.
И вот я снова стоял на мрачном погосте, где в свете бледной зимней луны все предметы отбрасывали жуткие тени, голые деревья скорбно клонились к пожухлой заиндевевшей траве и растрескавшимся могильным плитам, а шпиль поросшей плющом часовни злобно рассекал холодное небо, – и надо всем этим безумно завывал ночной ветер, дувший со стылых болот и ледяного моря. Лай был едва слышен той ночью, более того, он смолк окончательно, когда я приблизился к недавно ограбленной могиле, спугнув при этом необычно большую стаю нетопырей, которые принялись описывать круги над кладбищем с каким-то зловещим любопытством.
Зачем я пришел туда? Совершить поклонение, принести клятву верности или покаяться безмолвным белым костям? Не могу сказать точно, но я набросился на мерзлую землю с таким остервенением и отчаянием, будто кроме моего собственного разума мною руководила какая-то внешняя сила. Раскопать могилу оказалось значительно легче, чем я ожидал, хотя меня ждало неожиданное препятствие: одна из многочисленных когтистых тварей, летавших над головой, вдруг ринулась вниз и стала биться о кучу вырытой земли; мне пришлось прикончить нетопыря ударом лопаты. Наконец я добрался до полуистлевшего продолговатого ящика и снял тяжелую, пропитанную могильной влагой крышку. Это было последнее осмысленное действие в моей жизни.
В старом гробу, скорчившись, весь облепленный шевелящейся массой огромных спящих летучих мышей, лежал обокраденный нами не так давно скелет, но ничего не осталось от его прежней безмятежности и чистоты: теперь его череп и кости – в тех местах, где их было видно, – были покрыты запекшейся кровью и клочьями человеческой кожи с приставшими к ней волосами; горящие глазницы смотрели со значением и злобой, острые окровавленные зубы сжались в жуткой гримасе, словно предвещавшей мне ужасный конец. Когда же из оскаленной пасти прогремел низкий, как бы насмешливый лай и я увидел среди мерзких окровавленных костей чудовища недавно украденный у меня амулет из зеленого нефрита, разум покинул меня. Пронзительно завопив, я бросился прочь, и вскоре мои вопли напоминали уже скорее взрывы истерического хохота.
Звездный ветер приносит безумие… Эти когти и клыки веками стачивались о человеческие кости… Кровавая смерть на крыльях нетопырей из черных как ночь развалин разрушенных временем храмов Велиала… Сейчас, когда лай мертвого бесплотного чудовища становится все громче, а хлопанье мерзких перепончатых крыльев слышно все ближе у меня над головой, только револьвер сможет дать мне забвение – единственное надежное убежище от того, чему нет названия и что называть нельзя.
Крысы в стенах
Шестнадцатого июля 1923 года все работы в Экзем-Прайери были закончены, и я смог переехать туда. Реставрация потребовала колоссальных трудов, ведь от огромного пустого здания оставались лишь развалины, но, поскольку здесь когда-то находилось жилище моих предков, расходы меня не смущали. В доме никто не жил со времен короля Иакова I, когда и разыгралась ужасная, так и оставшаяся до конца не объясненной трагедия, жертвой которой пали хозяин дома, пятеро его детей и несколько слуг; третий же сын оказался под подозрением, вызывавшим всеобщий ужас. Это был мой прямой предок, единственный оставшийся в живых представитель проклятого рода.
Наследника сочли убийцей, и владение отошло верховной власти, а сам обвиняемый в кровавом преступлении не сделал попытки ни оправдаться, ни вернуть свою собственность. Гонимый чем-то более страшным, чем угрызения совести или закон, стремясь не видеть больше и не вспоминать отчий дом, Уолтер де ла Пор, одиннадцатый барон Экзем, бежал в Виргинию и положил там начало роду, известному в следующем столетии как Делапор.
Усадьба Экзем-Прайери осталась без хозяина, а впоследствии была передана во владение рода Норрисов и служила объектом пристального изучения благодаря своей довольно причудливой архитектуре, в которой готические башни сочетались с романской постройкой, в свою очередь возведенной на фундаменте еще более ранних стилей или их смешении – римского и даже друидского и местного уэльского, если верить легендам. Здание отличается своеобразием: одна из его стен стоит вровень с отвесным обрывом из чистого известняка, с этого обрыва усадьба возвышается над уединенной долиной в трех милях западнее деревни Анчестер.
Архитекторам и любителям старины нравилось изучать эти странные памятники давних времен, но сельские жители питали к ним ненависть. Они ненавидели усадьбу и сотни лет назад, когда там обитали мои предки, и теперь – когда она пребывала в запустении, покрытая мхом и плесенью. Я не бывал в Анчестере раньше, зная, что принадлежу к проклятому роду. А на этой неделе рабочие взорвали Экзем-Прайери и сейчас уничтожают остатки фундамента.
Мне было известно о моем происхождении, было известно и то, что мой первый американский предок прибыл в колонии с подмоченной репутацией. Но подробностей я не знал – Делапоры отличались скрытностью. В отличие от живущих по соседству плантаторов мы не часто хвастались пращурами-крестоносцами или героями Средневековья и Возрождения и не блюли традиций, кроме одной: до самой Гражданской войны каждый владелец поместья оставлял старшему сыну запечатанный конверт, который следовало вскрыть после его смерти. Мы дорожили тем, чего сумели достичь после переселения, и нас знали как гордое и почитаемое, хотя несколько замкнутое и необщительное виргинское семейство.
В ходе войны наше достояние погибло, и сама наша жизнь совершенно переменилась – сгорел Карфакс, наш дом на берегу реки Джеймс. Мой дед, весьма почтенного возраста, погиб во время этой трагедии, а вместе с ним и конверт, который связывал всех нас с прошлым. Я до сих пор помню пожар, пережитый в семилетнем возрасте: солдаты-федералы стреляли, женщины вопили, негры плакали и молились. Отец мой был в армии, оборонял Ричмонд, и, одолев множество формальностей, мы с матерью перешли линию фронта, чтобы наконец соединиться с ним.
По окончании войны мы все перебрались на север, откуда была родом моя мать; там я вырос, состарился и добился наивысшего для флегматичных янки благосостояния. Ни отец, ни я ничего не знали о содержимом передававшегося по наследству конверта; и, поглощенный рутиной массачусетской деловой жизни, я утратил всякий интерес к тайнам, относящимся к далекому прошлому моего рода. Если бы я подозревал, каковы они, я бы предоставил Экзем-Прайери зарастать мхом и паутиной и служить убежищем для летучих мышей!
Отец умер в 1904 году, не оставив никакого послания ни мне, ни моему единственному сыну Альфреду, десятилетнему мальчику, росшему без матери. Именно мой сын, вопреки традиции, оказался источником сведений о нашем роде: я мог поделиться с ним только анекдотическими догадками относительно прошлого, в то время как он, попав в Англию в конце войны, в 1917 году (он был офицером авиации), изложил мне в письмах несколько весьма интересных фамильных преданий. По всей видимости, Делапоры обладали весьма красочной и даже зловещей историей, как следовало из бытовавших в округе легенд, которые пересказал моему сыну его друг, капитан Эдвард Норрис из Королевских военно-воздушных сил, живший неподалеку от нашей родовой усадьбы в Анчестере, таких легенд, с которыми не всякие романы могли бы сравниться по буйству воображения и неправдоподобию. Норрис, разумеется, относился к ним не вполне серьезно, а для моего сына эти легенды послужили развлечением и дали ему материал для писем ко мне. Благодаря этим преданиям наследство за океаном привлекло к себе мое внимание, я решился приобрести и восстановить фамильную усадьбу, которую Норрис продемонстрировал Альфреду во всем ее живописном запустении и предложил купить по весьма сходной цене, поскольку теперешним владельцем оказался его собственный дядя.
Я приобрел Экзем-Прайери в 1918 году, но почти сразу же был вынужден отказаться от дальнейших планов на его счет, поскольку мой сын вернулся домой полным инвалидом. Те два года, что он еще прожил, я посвятил заботам о нем и даже предоставил партнерам ведение своих дел.
В 1921 году, полностью удалившись от дел и не имея цели в жизни, я решил оставшиеся годы посвятить своему приобретению. Посетив Анчестер в декабре того же года, я познакомился с капитаном Норрисом, пухлым дружелюбным молодым человеком, много рассказывавшим о моем сыне, и заручился его содействием в сборе чертежей и всяческих сведений, которые могли бы помочь мне в восстановлении дома. Экзем-Прайери не вызвал у меня никаких чувств: это была груда грозящих вот-вот упасть средневековых развалин, покрытых лишайниками и испещренных грачиными гнездами, торчавшая на откосе, без полов и перекрытий, – только каменный остов стоящих порознь башен.
Постепенно восстановив для себя облик дома, каким он был триста лет назад, когда его покинули мои предки, я занялся наймом рабочих. Мне пришлось искать их вдалеке от Анчестера, так как местные жители испытывали к усадьбе страх и ненависть, которые трудно себе представить. Эти чувства были так сильны, что порой заражали и приезжих рабочих, отчего многие из них оставляли работу; а страх и ненависть распространялись не только на усадьбу, но и на мой род.
В свое время сын рассказывал мне, что ощущал настороженность окружающих во время его визитов в эти места, так как он из рода де ла Пор, теперь и я чувствовал это отчуждение, чувствовал, пока не убедил жителей деревни в том, что почти ничего не знаю о своем наследстве. Но и тогда я не совсем преодолел их неприязнь, и деревенские предания мне пришлось узнавать от Норриса. Возможно, мне не могли простить намерения восстановить ненавистный символ, поскольку – обоснованно или нет – Экзем-Прайери виделся им как логово извергов и оборотней.
Собрав воедино рассказы Норриса и добавив к ним отчеты нескольких ученых, исследовавших развалины, я пришел к выводу, что Экзем-Прайери возведен на месте доисторического храма, друидского или даже более раннего, современного Стонхенджу. Несомненно, здесь совершались не поддающиеся описанию ритуалы, и, судя по весьма прискорбным рассказам, эти ритуалы перешли в культ Кибелы, занесенный римлянами.
На стенах нижнего подвала до сих пор еще виднелись ясно читаемые буквы: «DIV…OPS…MAGNA.MAT…», знаки Великой матери, чей темный культ когда-то тщетно запрещали в Риме. В Анчестере, судя по многочисленным свидетельствам, некогда располагался лагерь третьего легиона императора Августа; и считается, что храм Кибелы был великолепен и полнился толпами адептов, которые, повинуясь фригийскому жрецу, совершали страшные церемонии. Как свидетельствуют легенды, падение старой религии не прекратило оргий в храме, а священнослужители и в новой вере продолжали жить без больших перемен. Из тех же источников известно, что ритуалы не исчезли с властью римлян и что к уцелевшим приверженцам культа добавились и саксы, которые, придав этим обрядам сохранившийся в дальнейшем вид, превратили это место в центр культа, наводившего ужас на половину Гептархии. Около 1000 года нашей эры в хрониках упоминается стоявшая здесь мощная каменная обитель странного и могучего монашеского ордена, окруженная обширными садами, к которым перепуганные жители соседних деревень не смели приблизиться, хотя их не окружали стены. После норманнского завоевания Англии обитель, хотя и не была разрушена, пришла в страшный упадок, поэтому ничто не препятствовало тому, чтобы Генрих III в 1261 году пожаловал эти земли моему предку, Гилберту де ла Пору, первому барону Экзему.
До этого времени о моем роде нет никаких порочащих сведений, но затем, очевидно, что-то произошло. В одной из хроник, датированной 1307 годом, упоминается «проклятый богом де ла Пор», в устных же преданиях нет ничего, кроме неистребимого злобного страха, внушенного замком, возведенным на фундаменте древнего храма и монастыря. Рассказы о жизни обитателей замка ходили самые жуткие, казавшиеся еще страшнее из-за своей опасливой сдержанности и расплывчатости. В них мои предки представали как племя демонов, перед которыми Жиль де Ретц и маркиз де Сад кажутся сущими младенцами; в частности, там содержались невнятные намеки на то, что по вине владельцев Экзем-Прайери на протяжении нескольких поколений исчезали жители деревни.
Самыми черными злодеями представали бароны и их прямые наследники, во всяком случае, так явствовало из большинства преданий. Те, кто не был отмечен печатью зла, умирали таинственной смертью в юном возрасте, уступая место другим, более типичным отпрыскам. Очевидно, в семье под предводительством главы дома существовал свой культ, который временами насчитывал всего лишь несколько человек. Участие в нем обусловливалось скорее характером, нежели принадлежностью к роду, поскольку среди его приверженцев были люди, связанные с де ла Порами узами брака. Леди Маргарет Тревор из Корнуолла, жена Годфри, второго сына пятого барона Экзема, именем которой пугали детей по всей округе, стала демонической героиней особенно страшной старинной баллады, до сих пор бытующей в областях, граничащих с Уэльсом. Сохранилась и совершенно другого рода легенда, отвратительный рассказ о леди Мэри де ла Пор, которая вскоре после свадьбы с графом Шроусфилдом была убита мужем и свекровью, причем оба убийцы получили отпущение грехов и благословение священника, которому они исповедались в том, что не осмелились повторить людям.
Эти предания и баллады, полные грубых суеверий, вызывали у меня страшное раздражение. Их неистребимость и постоянное упоминание в них моих предков были особенно досадны, так как обвинения в приверженности к чудовищным обычаям казались мне сущим вымыслом, если не считать известного скандала с моим близким родственником, молодым Рэндольфом Делапором из Карфакса, который якшался с неграми, а после возвращения с мексиканской войны сделался жрецом вуду.
Гораздо меньше меня трогали довольно туманные рассказы о стенаниях и воплях в открытой ветрам долине под известковым обрывом; о зловонии на кладбище после весенних дождей; о барахтающейся и визжащей белой твари, которую растоптал конь сэра Джона Клейва ночью в безлюдном поле; о каком-то слуге, лишившемся рассудка из-за того, что ему довелось увидеть в обители средь бела дня. Истории эти казались мне банальными сказками о призраках, а я в то время был отъявленным скептиком. Рассказы о пропавших крестьянах выкинуть из головы было труднее, хотя, принимая во внимание средневековые обычаи, не следовало придавать им особого значения. Любопытство часто каралось смертью, и не одна отрубленная голова бывала выставлена всем напоказ на укрепленных стенах – теперь исчезнувших – вокруг Экзем-Прайери.
Некоторые истории отличались необычайной красочностью, и я пожалел, что в юности не занимался сравнительной мифологией. Например, существовало поверье, что еженощно в обители справляет колдовской шабаш множество демонов с крыльями как у летучих мышей, для пропитания которых, вероятно, требовалось невероятно огромное количество крупных плодов, вызревавших в обширных садах. А самым ярким из всех было драматическое повествование о крысах – о стремительной армии отвратительных паразитов, хлынувшей из замка через три месяца после трагедии, обрекшей его на запустение, – отощавшей, грязной, изголодавшейся армии крыс, сметавшей все на своем пути и пожиравшей домашнюю птицу, кошек, собак, свиней, овец, жертвой которой пали даже двое злополучных прохожих. Полчища крыс сновали между деревенскими домами, сея ужас и вызывая проклятия. Эта армия грызунов вызвала к жизни отдельный цикл легенд.
Таких вот россказней я наслушался, пока по-старчески придирчиво следил за завершающими работами по восстановлению родовой усадьбы. Не стоит, однако, думать, что именно они определяли психологическую атмосферу вокруг меня. Капитан Норрис и всякие любители старины, напротив, постоянно поощряли и воодушевляли меня. После двух лет со дня начала работ реставрация была закончена, и я с гордостью, вполне искупавшей огромные расходы, осматривал великолепные комнаты, обшитые деревянными панелями стены, высокие своды, переплеты окон и широкие лестничные пролеты.
Все особенности средневековой архитектуры были искусно воспроизведены, а заново возведенные стены ничем не отличались от подлинных. Итак, дом моих предков был восстановлен, и мне предстояло очистить от дурной славы род, который заканчивался на мне, по крайней мере в здешних местах. Я решил жить тут постоянно и доказать, что де ла Пор (я снова вернулся к изначальному написанию имени) не обязательно должен быть злодеем. Возможно, моей решимости способствовало и то, что, хотя Экзем-Прайери снаружи ничем не отличался от средневековой постройки, внутри был полностью обновлен и чист от старых призраков и всяких грызунов.
Как я уже говорил, я поселился здесь шестнадцатого июля 1923 года. Моими домочадцами были семеро слуг и девять кошек, к последним я питал нежную любовь. Старший кот, по имени Черномазый, прожил у меня семь лет и вместе со мной переехал из Болтона, штат Массачусетс; остальных я собрал, живя вместе с семейством капитана Норриса, пока шли восстановительные работы.
Пять дней наша жизнь текла совершенно безмятежно. Я проводил большую часть времени за систематизацией старинных семейных сведений. Теперь я располагал подробными описаниями случившейся трагедии и бегства Уолтера де ла Пора. Думаю, что в передаваемой из поколения в поколение бумаге, сгоревшей во время пожара в Карфаксе, содержалось нечто подобное. Очевидно, моего предка вполне обоснованно обвиняли в том, что он убил – за исключением четверых слуг-соучастников – всех домочадцев, пока те спали, спустя две недели после потрясшего его, изменившего всю его жизнь открытия, о котором он никому не говорил прямо, кроме, возможно, слуг, помогавших ему и затем навсегда исчезнувших.
На это преднамеренное убийство, жертвами которого пали отец, три брата и две сестры, окрестные жители посмотрели сквозь пальцы, а закон отреагировал так слабо, что преступнику, целому и невредимому, удалось, почти не скрываясь, выехать в Виргинию; по преданиям, он проклял это место древним проклятием. Что за открытие толкнуло его на убийство, я мог только предполагать. Уолтер де ла Пор должен был с детства знать зловещие рассказы о собственном роде, следовательно, не они побудили его совершить ужасное деяние. Что же произошло? Стал он свидетелем какого-то отвратительного древнего обряда или натолкнулся на пугающий обличительный символ в усадьбе или по соседству? В Англии его считали робким, мягким юношей. В Виргинии он казался не столько суровым и ожесточенным, сколько встревоженным и испуганным. В дневнике Фрэнсиса Харли из Беллвью, другого джентльмена, жизнь которого была полна приключений, Уолтер де ла Пор упоминается как человек беспримерной справедливости, чести и утонченности.
Двадцать второго июля произошел случай, который в то время не привлек к себе внимания, зато потом, в свете последовавших событий, приобрел исключительное значение. Случай был настолько незначительный, что мог бы остаться совсем незамеченным; и мне следует еще раз подчеркнуть, что, поскольку я жил в совершенно новом – если не считать стен – доме в окружении хорошо вышколенных слуг, мрачные предчувствия казались нелепыми, несмотря на дурную славу этого места.
Как я потом припомнил, случилось вот что: мой старый черный кот, повадки которого я хорошо знал, был явно встревожен, вопреки обыкновению. Он беспокойно блуждал по готической башне из комнаты в комнату, не переставая обнюхивать стены. Я сознаю, насколько банально это звучит – совсем как непременный пес в истории с привидениями, вой которого всегда предшествует появлению перед его хозяином закутанной в простыни фигуры, – но ничего не могу поделать.
На следующий день один из слуг пожаловался, что все кошки в доме ведут себя беспокойно. Он пришел ко мне в кабинет, просторную комнату в западной части дома, с крестовым сводом, панелями черного дуба и трехстворчатым готическим окном, в которое виднелись известняковый обрыв и уединенная долина; и пока он рассказывал, мне на глаза попался Черномазый, кравшийся вдоль западной стены и царапавший новые панели, закрывавшие старые каменные стены.
Я объяснил слуге, что это, должно быть, какой-то особый запах, возможно, испарения старого камня, недоступные человеческому восприятию, которые более чувствительные органы кошек улавливают даже через новые деревянные панели. В тот момент я думал так вполне искренне и, когда слуга предположил, что это могут оказаться мыши или крысы, ответил, что никаких крыс здесь не было целых триста лет, а полевые мыши с окрестных полей вряд ли могут забраться в эти высокие стены, где, насколько известно, их никогда не видели. Вечером того же дня я посетил капитана Норриса, и он уверил меня, что полевые мыши не в состоянии заселить дом столь быстро – это совершенно невероятно.
С наступлением ночи я, как обычно, отпустив слугу, удалился в спальню в западной башне, отделенную от кабинета каменной лестницей и недлинной галереей – лестница частично сохранилась, а галерея была восстановлена из руин. Спальня, круглая, очень высокая комната без деревянных панелей, завешенная гобеленами, которые я собственноручно выбирал в Лондоне, освещалась электрическими лампочками, искусно имитирующими свечи.
Убедившись, что Черномазый со мной, я захлопнул тяжелую готическую дверь, спустя какое-то время выключил свет и лег на резную кровать с балдахином и пологом, а почтенный кот забрался, как обычно, ко мне в ноги. Не задергивая полога, я смотрел в выходящее на север узкое окно. Небо чуть светлело от приближающейся зари, и на нем изящно вырисовывался ажурный силуэт оконного переплета.
Какое-то время я спал, потому что помню странный обрывок сна, прерванного тем, что спокойно лежавший кот вдруг вскочил. В рассветном полумраке мне было видно, как он стоит: шея вытянута, передние ноги на моих лодыжках, задние ноги выпрямлены. Кот уставился на какое-то место на стене чуть западнее окон, по-моему ничем не отличавшееся от остальной стены, но и я устремил взгляд туда же.
Присмотревшись, я понял, что у кота была причина волноваться. Не могу сказать с уверенностью, что гобелен шевельнулся, хотя мне кажется, что шевельнулся, но еле заметно. Однако ручаюсь, что услышал тихую отдаленную беготню мышей либо крыс. Кот мгновенно прыгнул, и под его тяжестью один из гобеленов упал на пол, обнажив сырую старую каменную стену с новой кладкой в нескольких местах. Там не было и следа грызунов.
Черномазый пробежался в ту и в другую сторону вдоль стены, пробуя когтями упавшую ткань и пытаясь просунуть лапу между стеной и дубовым полом. Он ничего не обнаружил и спустя какое-то время, потеряв терпение, улегся на прежнее место поперек кровати. Я лежал не шевелясь, но заснуть не мог.
Наутро я опросил всех слуг и обнаружил, что никто из них не заметил ничего необычного, кроме поварихи, которая вспомнила, как вел себя кот, спавший у нее на подоконнике. В какой-то момент ночью кот, протяжно замяукав, разбудил повариху, и та увидела, как он стремглав вылетел в открытую дверь и помчался вниз по лестнице. Днем я подремал и вечером вновь зашел к капитану Норрису, которого очень заинтересовал мой рассказ. Странные происшествия – совершенно незначительные, но любопытные – привлекли его своей живописностью и дали повод припомнить многочисленные истории о призраках. Нас обоих обеспокоило появление крыс, и Норрис одолжил мне парижской зелени и несколько ловушек, которые я по возвращении домой отдал слугам, чтобы те разместили их в нужных местах.
Спать хотелось, и я лег рано, но меня тревожили самые ужасные сны. Казалось, я гляжу с головокружительной высоты вниз, в сумеречный грот, по колено наполненный отбросами, где белобородый демон гоняет посохом стадо каких-то одутловатых вялых животных, вид которых вызвал у меня неописуемое отвращение. Затем, прервав свое занятие, он кивнул головой, после чего огромная стая крыс ринулась вниз, в зловонную пропасть, и пожрала и стадо, и пастуха.
Жуткое видение внезапно исчезло – меня разбудил Черномазый, по обыкновению спавший у меня в ногах. В этот раз я понял, отчего он фыркает и шипит, отчего вонзает когти мне в ногу, не сознавая, что причиняет боль. Ото всех стен комнаты неслись зловещие звуки – ужасный шорох от лап огромных голодных крыс. Еще не светало, и не было видно, что творится под тяжелой тканью – упавший гобелен уже висел на месте, – но я не настолько испугался, чтобы не зажечь свет.
При свете ламп я увидел, что ткань, закрывавшая стены, сотрясалась в некоем особом ритме – танец смерти шевелил гобелены. Почти сразу же движение, а за ним и шум прекратились. Вскочив с постели, я ткнул в один из гобеленов рукояткой грелки с углями, стоявшей поблизости, а затем приподнял его, чтобы посмотреть, что за ним творится. Но там не было ничего, кроме неровной каменной стены, да и кот перестал ощущать присутствие таинственных визитеров. Осмотрев круглую ловушку, стоявшую в комнате, я обнаружил захлопнутые дверцы, но не нашел никаких следов того, что в нее кто-то попался и сбежал.
О том, чтобы спать дальше, не могло быть и речи; поэтому, взяв зажженную свечу, я открыл дверь и по галерее направился к старинной лестнице, ведущей к кабинету. Черномазый следовал за мной по пятам. Но прежде чем мы дошли до каменных ступеней, кот обогнал меня, понесся вниз и исчез. Спустившись по ступеням, я убедился, что шум доносится из большого зала внизу, и в природе этого шума нельзя было усомниться.
За дубовыми панелями кишели крысы, они носились вдоль стен, а Черномазый, предвкушавший охоту, бегал кругом в ярости и недоумении. Когда я зажег свет внизу, шум не утих. Крысы продолжали бесчинствовать, их было слышно так отчетливо, что я в конце концов уловил, в каком направлении они перемещались. Эти существа в неисчислимых, по всей видимости, количествах совершали чудовищную миграцию с непостижимой высоты вниз, на какую-то достижимую или недостижимую глубину.
Я услышал шаги в коридоре, и в ту же минуту двое слуг распахнули массивные двери. Они искали по всему дому источник непонятного беспокойства, повергшего всех кошек в злобную панику, заставившего их стремительно преодолеть несколько пролетов лестницы и с мяуканьем усесться перед закрытой дверью в нижний подвал. Я выяснил у слуг, что крыс они не слышали, а попытавшись привлечь их внимание к раздававшимся за панелями звукам, вдруг понял, что шум стих.
В сопровождении двух слуг я дошел до двери нижнего подвала, но обнаружил, что кошки уже разбежались. Я решил спуститься и обследовать подземную крипту позже, а пока просто обошел все ловушки. Все они оказались захлопнутыми, но ни в одну никто не попался. Удовлетворившись тем, что никто, кроме меня и кошек, не слышал крыс, я просидел в кабинете до утра, глубоко задумавшись и вспоминая известные мне легенды о доме, где я обитал.
Я немного подремал днем, полулежа в удобном кресле, с которым не расстался, несмотря на решение обставить дом в средневековом стиле. Позже я позвонил капитану Норрису, и он пришел, чтобы помочь мне в исследовании нижнего подвала.
Ничего неподобающего обнаружено не было, но, сообразив, что склеп сооружен руками римлян, мы ощутили понятный трепет. Все низкие арки и массивные колонны были римскими – не поддельными романскими, работы неумелых саксов, а строгими, исполненными классической гармонии – времен цезарей; стены изобиловали надписями, хорошо знакомыми любителям старины, которые постоянно изучали здание, – надписями наподобие «Р. GETAE. PROP… TEMP… DONA…» и «L. PRAEC… VS… PONTIFI… ATYS…»
Упоминание Аттиса заставило меня вздрогнуть, ведь я читал Катулла и немного знал о чудовищных обрядах культа восточного бога, связанного с культом Кибелы. При свете фонарей мы с Норрисом безуспешно пытались разобрать старые, почти стершиеся письмена на грубо вытесанных прямоугольных каменных блоках, которые, как принято считать, служили алтарем. Один из рисунков, напоминавший солнце с лучами, был, по мнению ученых, дорийского происхождения, и это позволяло предполагать, что римские жрецы просто использовали алтарь более древнего святилища какого-то местного культа. Меня потрясли бурые пятна на одном из этих каменных блоков. Самый большой камень в центре помещения носил явные следы огня, возможно от сожжения жертв.
Таковы были достопримечательности крипты, куда накануне с мяуканьем рвались кошки и где мы с Норрисом решили провести ночь. Слугам, которые принесли для нас кушетки, было велено не обращать внимания на ночные проделки кошек, а Черномазому позволили остаться с нами – в качестве помощника и компаньона. Мы решили плотно закрыть тяжелую дубовую дверь, сделанную реставраторами по старинным образцам, с вентиляционными отверстиями, и, подготовившись таким образом, остались одни, при зажженных фонарях, в ожидании неведомых событий.
Склеп находился глубоко в основании монастыря, намного глубже поверхности известнякового обрыва, высившегося над уединенной долиной. Именно склеп был целью необъяснимого нашествия крыс, я не сомневался в этом, хотя затруднился бы объяснить почему. Мы лежали в ожидании, и я чувствовал, что бдение мое порою перемежается неотчетливыми снами, от которых меня пробуждало беспокойное шевеление кота, лежащего у меня в ногах. Сны эти не повторяли в точности, но разительно напоминали тот, что снился мне накануне ночью. Я вновь видел сумеречный грот, пастуха с бесчисленным стадом похожих на грибы животных, валявшихся в грязи, и, по мере того как я смотрел, они оказывались все ближе и были видны все отчетливее – настолько, что я почти различал их черты. Затем я вгляделся в одутловатую морду одного из них – и проснулся с криком, заставившим Черномазого подскочить, а бодрствовавшего капитана Норриса – расхохотаться. Не знаю, хохотал бы Норрис больше или меньше, знай он, что именно заставило меня вскрикнуть. Но я и сам вспомнил об этом гораздо позже. Запредельный ужас, бывает, милосердно отнимает память.
Когда события начались, Норрис разбудил меня. Он тихонько тряс меня, призывая прислушаться, и я очнулся – от тех же пугающих снов. Действительно, было что послушать: за запертой дверью разыгрывался истинный кошмар: кошки скреблись и вопили, а Черномазый, не обращая внимания на своих сородичей снаружи, возбужденно бегал вдоль каменных стен, в которых я слышал топот стремительно мчащихся крыс, точь-в-точь как накануне ночью.
Меня пронзил ужас, поскольку это не поддавалось разумному объяснению. Крысы, если только они не были порождением безумия, охватившего только меня и кошек, прогрызли ходы и беспрепятственно передвигались в римских стенах, которые казались мне сооруженными из мощных известняковых блоков… если только под разрушительным действием воды там не образовались извилистые галереи, расчищенные и расширенные телами грызунов…
Допустим, что так, но от этого ужас не становился слабее, ведь если это были живые грызуны, отчего Норрис не слышал их мерзкой возни? Почему он хотел привлечь мое внимание к поведению Черномазого и к воплям кошек за дверью и лишь смутно, неясно догадывался, что именно привело их в неистовство?
К тому времени, когда мне удалось объяснить ему, по возможности разумно, что, как мне кажется, я слышу, последние звуки стремительного бега затихли, удаляясь ВСЕ ГЛУБЖЕ, намного глубже самого нижнего подвала. Казалось, весь известняковый утес изгрызен, как решето, полчищами рыскающих грызунов, Норрис воспринял объяснение не так скептически, как я ожидал, казалось, он был глубоко потрясен. Он жестом призвал меня убедиться, что кошки у двери прекратили шуметь, словно сочтя крыс потерянными для себя; но Черномазым вновь овладел приступ беспокойства, и он царапал когтями пол у основания большого каменного алтаря в центре, который был ближе к кушетке Норриса, чем к моей.
Я испытывал страх перед неведомым. Случилось нечто поразительное, и я видел, что капитан Норрис, который был моложе, сильнее и, естественно, намного прозаичнее меня, был взволнован в той же мере, что и я, возможно, из-за того, что вырос на здешних легендах. Какое-то время мы могли лишь наблюдать за старым черным котом, который все еще скреб лапами у основания алтаря, но не так яростно, и то и дело просительно поглядывая на меня и мяукая, как в тех случаях, когда хотел, чтобы я что-то сделал для него.
Норрис поднес фонарь к алтарю и рассмотрел место, которое царапал Черномазый; после чего, не говоря ни слова, он опустился на колени и счистил лишаи столетней давности с массивного камня дорийских времен на мозаичный пол. Не обнаружив ничего, он готов был прекратить изыскания, как вдруг я заметил вещь весьма обычную, от которой, однако, меня бросило в дрожь, хотя, в сущности, она лишь подтверждала мои предположения.
Я поделился своим наблюдением с Норрисом, и мы оба, захваченные этим открытием, не отрываясь глядели на слабое трепетание пламени стоявшего поблизости фонаря от дуновения воздуха, который явно просачивался в щель между полом и алтарем в том месте, где были счищены лишаи.
Остаток ночи мы провели в ярко освещенном кабинете, возбужденно обсуждая план наших будущих действий. То, что под самой глубокой кладкой римских времен, под этим проклятым зданием существует еще один склеп, о котором не подозревали вездесущие любители старины в течение трех веков, было достаточным поводом, чтобы потрясти нас даже без всяких зловещих событий. Мы не знали, как поступить – то ли прекратить поиски и навсегда оставить дом под суеверным подозрением, то ли дать волю своей смелости и любви к приключениям, несмотря на ужасы, которые могут ожидать нас на неизвестных глубинах.
К утру мы договорились поехать в Лондон и собрать группу археологов и ученых, которые смогли бы разгадать тайну. Надо сказать, что, прежде чем покинуть нижний подвал, мы тщетно пытались сдвинуть центральный алтарь, который теперь стал для нас вратами в новую преисподнюю безымянного страха. Какая тайна спрятана за этими вратами, должны открыть люди мудрее нас.
В течение многих дней, проведенных в Лондоне, капитан Норрис и я излагали факты, легенды и наши предположения пяти известным ученым, от которых можно было ожидать тактичного отношения к любым открытиям, если таковые последуют в результате будущих исследований. Мы обнаружили, что большинство ученых не расположены к насмешкам, но, напротив, искренне заинтересовались нашим рассказом и настроены сочувственно. Вряд ли необходимо называть их всех, но могу сказать, что в их числе был сэр Уильям Бринтон, чьи раскопки в Троаде в свое время потрясли мир. Оказавшись вместе со своими спутниками в поезде, направлявшемся в Анчестер, я ощутил приближение ужасающих открытий, и это ощущение напомнило мне о траурной атмосфере в Америке, на другом краю земного шара, при известии о безвременной кончине президента.
Вечером седьмого августа мы добрались до Экзем-Прайери, где, по словам слуг, ничего необычного за время моего отсутствия не произошло. Мы решили начать исследования на следующий день, а пока я предоставил в распоряжение каждого из гостей прекрасную комнату.
Сам я отправился в свою спальню в башне, и Черномазый улегся у меня в ногах. Заснул я скоро, но меня мучили отвратительные сны. Видение римского празднества, наподобие пира Тримальхиона, где посреди роскошного стола на блюде, закрытом крышкой, лежало нечто ужасное. Затем повторился проклятый сон о пастухе и его мерзком стаде в сумеречном гроте. Но когда я проснулся, было уже светло и снизу доносились привычные звуки. Крысы, ни живые, ни призрачные, меня не тревожили, а Черномазый все еще спокойно спал. Когда я спустился вниз, там, как и везде, царила тишина, которую один из приглашенных ученых – Томпсон, знаменитый спирит, – объяснил довольно нелепо, сочтя, что именно теперь мне предстоит увидеть то, что собираются явить некие силы.
Все было готово, и в одиннадцать утра вся наша группа, насчитывающая семь человек, неся мощные электрические прожектора и инструменты для раскопок, спустилась в нижний подвал и заперла за собой дверь. Черномазого взяли с собой – у исследователей не было оснований не доверять его чутью, и нас беспокоило лишь, как он поведет себя в случае появления таинственных грызунов. Мы бегло осмотрели римские надписи и рисунки на неизвестно кому принадлежавшем алтаре, поскольку трое из присутствующих ученых уже видели их, а все остальные знали по описаниям. Самым значимым объектом нам казался центральный алтарь, и спустя час сэр Уильям Бринтон, используя неизвестной конструкции противовесы, сумел опрокинуть его на мозаичный пол.
Открывшееся зрелище было так ужасно, что, не будь мы подготовлены к нему, могло бы нас ошеломить. Сквозь почти квадратное отверстие в мозаичном полу виднелись каменные ступеньки, так чудовищно истертые, что в середине они казались просто наклонной плоскостью, и эти ступеньки были завалены устрашающей массой человеческих либо похожих на человеческие костей. Сохранившиеся скелеты застыли в паническом страхе. На всех костях виднелись следы крысиных зубов. Черепа свидетельствовали о явном идиотизме, кретинизме либо примитивности пещерного человека.
Ступеньки, засыпанные грудой костей, вели вниз, в туннель, вытесанный в крепкой скале, по которому поступал поток воздуха. Не внезапный порыв ядовитого воздуха из затхлого склепа, а прохладный легкий ветерок, приносивший некоторую свежесть. Мы ненадолго замерли, но вскоре принялись лихорадочно расчищать ступеньки. Именно тогда сэр Уильям, исследовав тесаные стены, сделал странное замечание: он сказал, что туннель, судя по направлению ударов, очевидно, высечен изнутри.
Теперь мне следует быть очень внимательным и тщательно подбирать слова.
Очистив от груды погрызенных костей несколько ступенек, мы увидели, что сверху идет свет; не таинственное фосфоресцирование, а обычный дневной свет, который не мог пробиться иначе, чем через неисследованные трещины в известняковой скале. Эти трещины не были обнаружены на поверхности, что вряд ли удивительно, ведь в долине никто не жил, а скала возвышалась над ней так отвесно, что для подробного изучения требовался аэроплан. Еще несколько ступенек, и у нас перехватило дыхание при виде представшей нашим глазам картины, буквально перехватило – Торнтон, спирит, без чувств упал на руки другого ошеломленного участника нашей экспедиции, стоявшего позади него. Норрис, чье округлое лицо сделалось белым как мел и как-то обвисло, выкрикнул что-то неразборчивое, а с моих губ сорвался не то вздох, не то шипение, и я закрыл глаза. Стоявший за мной человек – единственный из всех присутствующих старше меня – выкрикнул банальное «о боже!» самым хриплым голосом, какой мне когда-либо доводилось слышать. Из всех нас, семерых образованных людей, лишь сэр Уильям Бринтон сохранил самообладание, и это, несомненно, можно поставить ему в заслугу, тем более что он возглавлял группу и увидел все первым.
Перед нами был сумеречный грот, очень высокий, простиравшийся так далеко, что не охватить взглядом; подземный мир безграничной тайны и ужасающих предположений. Здесь были камни и руины – я со страхом окинул взглядом таинственный ряд могильников, грубо очерченный круг каменных глыб, низкие сводчатые римские развалины, рухнувшее здание в романском стиле, древнеанглийскую деревянную постройку, но все это бледнело перед жутким зрелищем, какое представляла собой земля. Вокруг ступенек, куда ни взглянешь, громоздилась безумная путаница человеческих костей или, по крайней мере, столь же похожих на человеческие, как те, что валялись на лестнице. Кости вздымались, как вспененное море, какие-то лежали поодаль, можно было различить совершенно или частично целые скелеты, которые, застыв в дьявольском неистовстве, либо оборонялись от какой-то опасности, либо сжимали скелеты своих жертв с несомненно каннибальскими намерениями.
Доктор Траск, антрополог, кончив классифицировать черепа, обнаружил смешение, поставившее его в тупик. По большей части это были черепа существ, стоящих ниже в развитии, чем пилтдаунский человек, но, во всяком случае, определенно людей. Множество черепов принадлежало особям, стоявшим на более высокой ступени развития, и совсем немногие относились к вполне развитым типам. Все кости были погрызены крысами, но встречались и отметки зубов получеловеческого стада. С ними были перемешаны и крошечные косточки крыс – погибших солдат смертоносной армии, закончившей старинную сагу.
Я задавался вопросом, сумеет ли кто-нибудь из нас, пережив этот день страшных открытий, сохранить душевное здоровье. Гротескное готическое воображение Гофмана или Гюисманса не могло бы измыслить сцены более дикой и невероятной, более безумной и более отталкивающей, чем потрясший нас сумеречный грот. Одно открытие следовало за другим, но мы пытались пока не думать о событиях, происходивших здесь триста, тысячу, две тысячи или десять тысяч лет назад. Это было преддверие преисподней, и бедный Торнтон снова лишился чувств, когда Траск сказал ему, что некоторые скелеты принадлежат существам, опустившимся до уровня четвероногих за последние двадцать или более поколений.
Ужас все нарастал по мере того, как мы осматривали развалины. Четвероногие – и случайное пополнение из класса двуногих – содержались в каменных загонах, из которых они, должно быть, вырвались в предсмертном голодном исступлении или в паническом страхе перед крысами. Их были целые стада, а на корм им, очевидно, шли грубые овощи, остатки которых в виде отвратительного силоса лежали на дне огромных каменных закромов доримских времен. Теперь я понял, почему сады моих предков были так обильны, – боже, как бы мне хотелось забыть об этом! О назначении стад я мог не спрашивать.
Сэр Уильям, стоя со своим прожектором в римских развалинах, вслух переводил надписи, свидетельствующие о самом омерзительном ритуале из всех, о которых мне доводилось слышать. Он рассказывал о ритуальной пище допотопного культа, которую впоследствии использовали и жрецы Кибелы. Норрис, прошедший войну Норрис, выйдя из древнеанглийской постройки, нетвердо держался на ногах. Постройка оказалась бойней и кухней, как он и предполагал, но видеть знакомую английскую утварь и читать знакомые английские graffiti, датированные 1610 годом, в таком месте – это было слишком. Я не рискнул пойти в это сооружение, дьявольская деятельность в котором прекратилась лишь благодаря кинжалу моего предка, Уолтера де ла Пора.
Но зато отважился войти в низкое романское здание с выбитой дубовой дверью и обнаружил там страшный ряд каменных камер с ржавыми прутьями. Три из них не были пусты: там оказались хорошо сохранившиеся скелеты, и на указательном пальце одного из них я увидел кольцо-печатку с моим собственным фамильным гербом. Под римским святилищем сэр Уолтер открыл склеп с более древними камерами, но они были пусты. Еще ниже – крипта с гробами, где находились скелеты, уложенные в соответствии с ритуалом; на некоторых надгробьях сохранились чудовищные параллельные надписи на латинском, греческом и фригийском языках.
Тем временем доктор Траск вскрыл один из доисторических могильников и извлек оттуда черепа – немногим более похожие на человеческие, чем череп гориллы, – с изумительными резными украшениями. Весь этот кошмар оставил моего кота невозмутимым. Один раз я увидел его сидящим на чудовищной груде костей и задумался, в какие тайны проникает взгляд его желтых глаз.
В какой-то мере осознав ужасающие открытия, сделанные в сумеречном гроте – так отвратительно предсказанном моим повторяющимся сном, – мы направились к черной как ночь, на вид бесконечной пещере, куда не пробивался ни один луч света сквозь трещины в скале. Мы никогда не узнаем, какие невидимые стигийские миры разверзаются дальше, за небольшим пространством, которое мы прошли, – такие тайны губительны для человечества. Мы не уходили далеко от прожекторов, освещавших бесконечные проклятые ямы, где некогда устраивали пиршества крысы, ямы, внезапное оскудение которых заставило голодную армию грызунов сначала броситься на стада живых существ, оставшихся без пищи, а затем выплеснуться из монастырского здания в опустошительной оргии, которую никогда не забудут окрестные жители.
Боже мой! Эти отвратительные черные ямы с изгрызенными осколками костей и разбитыми черепами! Эти кошмарные расселины, заполнявшиеся костями питекантропов, кельтов, римлян и англичан в течение многих греховных столетий! Глубину некоторых из них, набитых до краев, невозможно было определить. На дне других, куда не доходили лучи наших прожекторов, роились не имеющие имени образы. А как же, подумал я, злополучные крысы, которые, рыская по этому жуткому Тартару, случайно свалились в какую-нибудь из расселин?
Я поскользнулся на краю зияющего рва, и меня охватил приступ невыносимого страха. Когда я пришел в себя, кругом не было никого, кроме пухленького капитана Норриса. Затем из кромешной тьмы, из жуткого отдаления донесся звук, мне показалось, я узнаю его; мой старый черный кот тут же понесся мимо меня, наподобие крылатого египетского бога, в бесконечные пропасти неведомого. Я следовал за ним по пятам, спустя секунду все мои сомнения развеялись – это слышался таинственный стремительный бег крыс, порожденных адом, крыс, всегда ищущих новые ужасы, решивших увлечь меня на расплату в эти осклабившиеся пещеры к центру земли, где безумный безлицый бог Ньярлатотеп слепо завывает во тьме под мелодию флейт, на которых играют два призрачных слабоумных музыканта.
Мой фонарь погас, но я продолжал бежать. Мне слышались голоса, и вой, и эхо, но, перекрывая все, раздавался усиливающийся звук коварного, мерзостного, стремительного бега; он постепенно рос и рос, подобно закоченевшему, покрытому пятнами трупу, который тихонько вздымается над маслянистой рекой, текущей под бесконечными мостами из оникса к черному гнилостному морю.
Что-то с разбега налетело на меня – что-то мягкое и пухлое. Должно быть, это крысы; тягучая, студенистая голодная армия, для пира которой подходит и живое, и мертвое… Почему бы крысам не пожрать де ла Пора, подобно тому, как сами де ла Поры пожирают то, что запрещено?.. Война пожрала моего сына, черт бы их всех побрал… а огонь проклятых янки пожрал Карфакс и спалил старого Делапора и нашу тайну… Нет, нет, я не дьявольский свинопас в зловещем сумеречном гроте! У этой одутловатой, похожей на гриб твари не может быть лица Эдварда Норриса! Кто сказал, что я де ла Пор?.. Это вуду, говорю я вам… пятнистая змея… Будь проклят, Торнтон, я покажу тебе, как падать в обмороки при виде того, что содеяла моя семья!.. Ублюдок, негодяй, я научу тебя разбираться… за кого ты меня принимаешь?.. Magna Mater! Magna Mater!.. Atys… Dia ad aghaidh’s ad aodaun… agus bas dunach ort! Dhonas‘s dholas ort, agus leat-sa!.. У-у-у… у-у-у… р-р-р-р… ш-ш-ш-ш-ш…
Вот что, по их словам, я говорил, когда три часа спустя меня нашли лежащим на пухлом полусъеденном теле капитана Норриса, а мой собственный кот прыгал и кидался на меня, стараясь вцепиться мне в горло. Сейчас они уже взорвали Экзем-Прайери, забрали моего Черномазого и заперли меня в Хануэлле, в этой комнате с решетками, вполголоса переговариваясь о моей наследственности и о случившемся в усадьбе. Торнтон находится в соседней палате, но мне не разрешают с ним говорить. Большинство фактов, имеющих отношение к обители, пытаются скрыть. Когда я заговорил о бедном Норрисе, меня обвинили в отвратительном поступке, но им всем следовало бы знать, что я этого не делал. Им следовало бы знать, что это крысы; скользкие, стремительно бегущие крысы, чьи шаги не дают мне уснуть; дьявольские крысы, шуршащие за обивкой этой комнаты и ввергающие меня в еще больший, чем прежде, ужас; крысы, которых они не слышат; крысы, крысы в стенах.
Изгой
Барон всю ночь ворочался в постели;Гостей подпивших буйный пляс томилЧертей и ведьм – и в черноту могилТащили их во сне к червям голодным.
Китс[1]
Несчастлив тот, на кого воспоминанья детских лет наводят лишь уныние и страх. Увы тому, кто помнит только долгие часы уединения в огромных мрачных залах с тяжелыми портьерами и сводящими с ума рядами старинных книг или одни безмолвные бдения в сумеречных рощах среди причудливых, гигантских, лозами отягченных дерев, безмолвно простирающих изогнутые ветви в вышину. Такую участь присудили боги мне – обманутому и обескураженному, опустошенному и сломленному. И все же в те мгновения, когда рассудок мой готов умчаться за свои пределы – к иному! – я в отчаянии цепляюсь за эти увядшие воспоминания и странным образом успокаиваюсь.
Где я родился, мне не ведомо; помню только замок, бесконечно старый и бесконечно страшный, со множеством темных галерей и высокими потолками, где глаз мог различить лишь паутину да сумрачные тени. Стены древних каменных коридоров, казалось, источали сырость, и мерзкий запах стоял повсюду, как будто разлагались груды трупов, оставленных минувшими поколениями. В замке никогда не было света, и поэтому я любил зажечь свечу и, не отрываясь, глядеть на нее. Но света не было и снаружи, ибо ненавистные деревья намного превосходили высотой самую высокую из доступных мне башен. Лишь одна черная башня возносилась над лесом и уходила в неведомое наружное небо, но подходы к ней были разрушены, и на нее никак нельзя было взобраться, разве что сделать заведомо безнадежную попытку вскарабкаться по голой стене, одолевая ее камень за камнем.
Вероятно, я прожил в этом месте долгие годы, но я не умею определять время. Кто-то, должно быть, заботился об удовлетворении моих нужд, однако я не могу припомнить никого, кроме самого себя; ни единой живой души, если не считать безмолвных крыс, летучих мышей и пауков. Впрочем, кто бы он ни был, мой радетель, он представляется мне невероятно старым, потому что мое первое понятие о живом человеке связано с чем-то карикатурно схожим со мной самим, только гораздо более уродливым, сморщенным – и ветхим, как и весь замок. Я никогда не находил ничего отталкивающего в тех костях и скелетах, что усыпали дно глубоких, сложенных из камня ям в подвалах замка. В моем воображении эти предметы причудливо ассоциировались с повседневностью, и я считал их, пожалуй, более натуральными, чем цветные изображения людей, попадавшиеся мне в пыльных книгах. Все, что я знаю, вычитано мною из этих книг. Никто не наставлял и не учил меня, и я не помню, чтобы хоть раз за все эти годы мне довелось услышать человеческий голос, в том числе и свой собственный, ибо хотя я и читал о том, что такое речь, мне даже в голову не приходило попробовать заговорить вслух. Наружность моя равно не являлась предметом моих размышлений, так как в замке не было зеркал, и я разве что бессознательно ощущал себя похожим на тех молодых людей, чьи изображения встречались мне на рисунках и гравюрах в книгах. Молодым же я осознавал себя потому, что почти не имел воспоминаний.
За стенами замка, по ту сторону гниющего рва, я часто отдыхал под темными кронами молчаливых деревьев и часами мечтал о прочитанном в книгах, с тоскою рисуя себя среди веселых и шумных толп в солнечном мире за бескрайним лесом. Однажды я попытался выбраться из этого леса, но чем дальше отходил от замка, тем гуще становились тени, тем больше наполнялся воздух гнетущим страхом, и я, как безумный, бросился назад, боясь заблудиться в лабиринте ночной немоты.
Так, в вечном полумраке, я ждал и мечтал, сам не зная о чем. Но вот тоска моя по свету в этом сумрачном безлюдье стала столь невыносимой, что я не вытерпел и с мольбою воздел руки к единственной башне, черной и полуразрушенной, которая возвышалась над лесом и уходила в неведомое небо. И тогда я решил, что поднимусь на эту башню, чего бы это мне ни стоило, ибо лучше раз взглянуть на небо и погибнуть, чем вечно жить, не видя света дня.
В промозглом полумраке я взбирался по старым, стертым каменным ступеням, пока не достиг места, где они кончались и откуда наверх вели лишь небольшие углубления в стене, которыми я и воспользовался на свой страх и риск. Ужас и отчаяние внушал мне этот мертвый гладкий каменный цилиндр, черный, пустынный и немой, тем более зловещий оттого, что с его стен то и дело бесшумно взмывали в воздух вспугнутые мною нетопыри. Но еще в больший ужас и отчаяние приводило меня то, как невероятно долго длился мой подъем, ибо сколько я ни лез, тьма у меня над головой не рассеивалась. Вековым могильным холодом веяло на меня, и я трепетал, не в силах объяснить себе, почему я не могу достичь света. Вообразив, что меня застигла ночь, тщетно пытался я нащупать свободной рукой бойницу, чтобы выглянуть наружу и определить высоту, на которой нахожусь.
Но вот, после бесконечно долгого и рискованного подъема вслепую по этой безнадежной вогнутой круче, я почувствовал, что голова моя упирается во что-то твердое, и понял, что достиг крыши или, во всяком случае, какого-то перекрытия. В темноте я не мог различить, что это за преграда, а потому потрогал ее рукой и убедился, что это нечто каменное и неподвижное. Тогда я стал двигаться по окружности башни, цепляясь за все, за что только можно было ухватиться на скользкой стене, и поминутно рискуя сорваться вниз, пока наконец не нашел то место, где преграда слегка подавалась. Поскольку руки мои были заняты, я уперся в эту плиту или, точнее, крышку люка головой и, рванувшись вверх, приподнял ее. Моя надежда увидеть свет не оправдалась, и, пролезая в открывшийся проем, я уже знал, что путь мой завершен лишь на время, ибо передо мною была ровная каменная площадка, большего диаметра, нежели нижняя часть башни. Очевидно, это был пол какой-то грандиозной дозорной комнаты. Выбираясь на него, я старался двигаться так, чтобы тяжелая плита не вернулась на свое место, но при всей осторожности я не смог этого предотвратить – простершись в изнеможении на каменном полу, я услыхал гулкое эхо, вызванное ее падением. Впрочем, я надеялся, что при необходимости мне снова удастся ее приподнять.
Теперь-то уж, казалось мне, я нахожусь на такой высоте, куда не достают ветви проклятого леса. С трудом поднявшись на ноги, я стал на ощупь искать окно, чтобы наконец увидеть небо, месяц и звезды, о которых так много читал. Но куда бы я ни повернулся, меня всюду ждало разочарование – кругом были лишь одни широкие мраморные выступы, служившие подставкой для продолговатых сундуков пугающих размеров. Чем больше я думал и гадал, тем неодолимее становилось желание узнать, что за седые тайны скрывает это хранилище, отрезанное от нижнего замка веками расстояния. Но тут я неожиданно нащупал нишу с каменной дверью, покрытой каким-то необычным рельефом. Толкнув ее, я убедился, что она заперта, – тогда я собрал все силы и одним могучим рывком, способным сокрушить все земные препятствия, втянул ее внутрь, на себя. Едва я сделал это, как меня охватило сильнейшее из блаженств, когда-либо испытанных мною, – впереди, за декоративной металлической решеткой, к которой поднималось несколько каменных ступеней, сияла мягким, бархатным светом полная луна, виденная мною до того лишь в сновидениях и смутных грезах, которые я не осмеливаюсь назвать воспоминаниями.
Полагая, что на этот раз я уж точно достиг самой верхушки башни, я было бросился вверх по ведущим к решетке ступеням, но тут луну закрыла туча, в наступившей темноте я споткнулся и далее был вынужден продвигаться уже более осторожно и медленно. Когда я добрался до решетки, было по-прежнему темно; тронув ее, я удостоверился в том, что она не заперта, но открывать ее полностью не стал, боясь упасть с той головокружительной высоты, на которую поднялся. И в этот момент снова появилась луна.
Ничто не потрясает так сильно, как то, что до беспредельности неожиданно и до нелепости невероятно. Самое страшное из пережитого мною прежде не шло ни в какое сравнение с тем, что предстало моему взору в этот миг – с той абсурдной картиной, что открылась передо мной. Сама по себе она была, пожалуй, вполне прозаической, но тем-то и более ошеломляющей, ибо вот что я увидел: вместо головокружительной панорамы бескрайнего леса, обозреваемой с огромной высоты, сразу за решеткой и на том же уровне, где я стоял, простиралась ровная поверхность земли, усеянная мраморными плитами и обелисками, сгрудившимися вокруг старинной каменной церкви, шпиль которой призрачно поблескивал в лунном свете.
Действуя почти бессознательно, я отворил решетку и ступил на выложенную белым гравием дорожку, расходившуюся в двух направлениях. Моим рассудком, в каком бы оторопелом и беспорядочном состоянии он ни пребывал, по-прежнему владело неистовое стремление к свету, и даже испытанное мною разочарование не могло охладить меня. Я не имел понятия, да и не хотел понять, что это было – сон, наваждение или волшебство, – но я был полон решимости узреть великолепие и блеск мира, чего бы это мне ни стоило. Я не ведал, кто я, что я, где я нахожусь, но, продолжая следовать вперед неверными шагами, я вдруг начал смутно что-то припоминать, и это дремавшее во мне до поры воспоминание подсказало мне, что путь мой не совсем случаен. Миновав участок с плитами и обелисками, я вышел через арку на открытое пространство и теперь следовал по дороге, местами сохранившейся и хорошо заметной, местами же терявшейся среди густых трав, где только отдельные развалины выдавали ее прежнее присутствие. Один раз мне пришлось переплыть через быстрый поток, посреди которого вздымались остатки замшелой и осыпающейся каменной кладки, свидетельствовавшие о том, что здесь некогда стоял мост.
Прошло, должно быть, больше двух часов, прежде чем я достиг своей предполагаемой цели – старого, увитого плющом замка посреди парка с густыми зарослями деревьев; замка до безумия знакомого и до неузнаваемости чужого. Я обнаружил, что ров заполнен водой, а многих известных мне башен нет. Меня также смутило присутствие нескольких новых флигелей. Однако более всего меня привлекли и приятно удивили настежь распахнутые окна, из которых вырывались снопы яркого света и доносились звуки самого буйного веселья. Приблизившись к одному из них, я заглянул внутрь и увидел большую компанию людей в необычных одеяниях; они пировали и вели оживленную беседу. Я ни разу не слышал, как звучит человеческая речь, и потому мог только смутно угадывать, о чем они говорили. Черты некоторых присутствующих пробудили во мне неясные, бесконечно далекие воспоминания; остальные лица были совершенно незнакомыми.
Через окно, расположенное вровень с землей, я вступил в ярко освещенный зал – и это был шаг от неповторимого проблеска надежды к жесточайшему из потрясений, к отчаянию и осознанию горькой истины. Кошмар не заставил себя ждать, ибо как только я вошел, глазам моим предстала ужаснейшая из сцен, какие только можно вообразить. Едва я сделал этот шаг, как всю компанию охватил внезапный и необъяснимый ужас, исказивший до уродства лица гостей и исторгнувший нечеловеческие вопли едва ли не из каждой глотки. Все разом бросились уносить ноги. В создавшейся суматохе и панике одни падали в обморок, другие подхватывали и тащили бесчувственные тела за собой в безумной спешке. Многие прикрыли глаза руками и, словно слепые котята, беспомощно тыкались в разные стороны, опрокидывая мебель и налетая на стены, прежде чем им удавалось добраться до какой-либо из многочисленных дверей.
Оставшись один в роскошном зале и еще не придя в себя от их душераздирающих криков, отзвуки которых постепенно стихали в отдалении, я вдруг затрепетал при мысли о том, что где-то рядом со мной затаилось нечто, чего я до сих пор не замечал. На первый взгляд зал казался пустым, но, когда я двинулся к одной из ниш, мне почудилось, будто я уловил там какое-то шевеление или что-то в этом роде – там, за обрамленным золотом дверным проемом, ведшим в другой, чем-то похожий на первый, зал. По мере приближения к арке я все более убеждался в том, что кроме меня в зале еще кто-то есть, и все же ужас, что предстал передо мной, был слишком неожиданным. Издав первый и последний в своей жизни звук – отвратительное завывание, потрясшее меня не меньше, чем его омерзительная причина, – я узрел во всей ужасной очевидности столь невообразимое, неописуемое и безобразное чудище, какое вполне могло одним видом своим превратить веселую компанию в беспорядочную толпу обезумевших от страха беглецов.
Я не в силах даже приблизительно описать, как выглядело это страшилище, сочетавшее в себе все, что нечисто, скверно, мерзко, непотребно, аморально и аномально. Это было какое-то дьявольское воплощение упадка, запустения и тлена, гниющий и разлагающийся символ извращенного откровения, чудовищное обнажение того, что милосердная земля обычно скрывает от людских глаз. Видит Бог, это было нечто не от мира сего – во всяком случае, теперь уже не от мира сего, – и тем не менее, к ужасу своему, я разглядел в его изъеденных и обнажившихся до костей контурах отталкивающую и вызывающую карикатуру на человеческий облик, а в тех лохмотьях, что служили ему одеянием, – некий отдаленный намек на знатность, отчего мой ужас только усилился.
Я был почти парализован – правда, не настолько, чтобы не предпринять слабую попытку к бегству; но одного неверного шага назад оказалось недостаточно для того, чтобы разрушить чары, которыми сковал меня этот безымянный и безголосый монстр. Глаза мои, словно заколдованные неподвижно уставившимися в них тусклыми, безжизненными зрачками, отказывались повиноваться мне и, как я ни старался, не закрывались – они лишь милосердно затуманились, и богомерзкий призрак представлялся мне теперь не так отчетливо, как в момент первого шока. Я попытался было поднять руку, чтобы заслониться от этого зрелища, но силы оставили меня до такой степени, что рука не вполне повиновалась моей воле. Однако в результате этой попытки я потерял равновесие, и, чтобы не упасть, мне пришлось ступить несколько шатких шагов вперед. И только тогда, в тот самый момент, когда я делал эти шаги, я внезапно и как-то судорожно осознал, насколько близко нахожусь от этого чудовищного исчадия ада; мне даже почудилось, что я слышу глухой шум его дыхания. Находясь на грани помешательства, я все же нашел в себе силы выбросить вперед руку и отстранить от себя зловонный призрак, стоявший почти вплотную ко мне. И в этот самый миг, в это катастрофическое мгновение вселенского кошмара и адского катаклизма пальцы мои коснулись протянутой ко мне гниющей лапы монстра, стоявшего под позолоченным сводом.
Я не издал ни звука, но все кровожадные вампиры, оседлавшие ночной ветер, вскричали за меня в тот самый миг, когда на мой рассудок одной стремительной лавиной обрушились душегубительные воспоминания. За одну секунду я вспомнил все, что было со мною прежде, еще до того ужасного замка с его деревьями; я припомнил здание, со временем переделанное, в котором сейчас находился; и, что было кошмарнее всего, я узнал то богомерзкое существо, которое в момент, когда я отдергивал свои запятнанные пальцы от его лапы, оскалилось в чудовищной ухмылке.
Но во вселенной наряду с горечью существует и сладость, и имя этой сладости – забвение. В немыслимом ужасе того мгновения забылось все, что угнетало меня, и наплыв мрачных воспоминаний рассеялся хаотичным эхом перекликающихся образов. Грезя наяву, я покинул это проклятое логово призраков и быстро и бесшумно выбежал наружу – туда, где светила луна. Вернувшись на кладбище с мраморными плитами и спустившись по ступеням к каменному люку, я убедился, что его уже не сдвинуть с места, но это меня отнюдь не огорчило, ибо я уже с давних пор ненавидел тот старинный замок внизу и его деревья. Отныне я разъезжаю верхом на ночном ветре в компании с насмешливыми и дружелюбными вампирами, а когда наступает день, мы резвимся в катакомбах Нефрен-Ка, что находятся в неведомой и недоступной долине Хадоф возле Нила. Я знаю, что свет – не для меня, не считая света, струимого луной на каменные гробницы Неба; не для меня и веселье, не считая веселья запретных пиров Нитокрис под Большой пирамидой. И все же в этой своей вновь обретенной свободе и безрассудстве я едва ли не благословляю горечь отчуждения.
Ибо, несмотря на покой, принесенный мне забвением, я никогда не забываю о том, что я – изгой, странник в этом столетии и чужак для всех, кто пока еще жив. Мне это стало ясно – раз и навсегда – с того момента, когда я протянул руку чудовищу в огромной позолоченной раме; протянул руку – и коснулся холодной и гладкой поверхности зеркала.
Неименуемое
Как-то осенью, под вечер, мы сидели на запущенном надгробии семнадцатого века посреди старого кладбища в Аркхеме и рассуждали о неименуемом. Устремив взор на исполинскую иву, в ствол которой почти целиком вросла старинная могильная плита без надписи, я принялся фантазировать по поводу той, должно быть, нездешней и, вообще, страшно сказать какой пищи, которую извлекают эти гигантские корни из почтенной кладбищенской земли. Приятель мой ворчливо заметил, что все это сущий вздор, так как здесь уже более ста лет никого не хоронят и, стало быть, в почве не может быть ничего такого особенного, чем бы могло питаться это дерево, кроме самых обычных веществ. И вообще, добавил он, моя непрерывная болтовня о «неименуемом» и разном там «страшно сказать каком» – все это пустой детский лепет, вполне под стать моим потугам на литературном поприще. По его мнению, у меня была нездоровая склонность заканчивать свои рассказы описанием всяческих кошмарных видений и звуков, которые лишают моих персонажей не только мужества и дара речи, но и памяти, в результате чего они даже не могут поведать о случившемся другим людям. Всем, что мы знаем, заявил он, мы обязаны своим пяти органам чувств, а также интуитивным прозрениям; следовательно, не может быть и речи о таких предметах или явлениях, которые бы не поддавались либо строгому описанию, основанному на достоверных фактах, либо истолкованию в духе канонических богословских доктрин – в качестве же последних предпочтительны догматы конгрегационалистов со всеми их модификациями, привнесенными временем и сэром Артуром Конан Дойлем.
С Джоэлом Мэнтоном (так звали моего приятеля) мы частенько вели долгие и нудные споры. Он был директором Восточной средней школы, а родился и вырос в Бостоне, где и приобрел то характерное для жителей Новой Англии самодовольство, что отличается глухотой ко всем изысканным обертонам жизни. Если что-нибудь и имеет подлинную эстетическую ценность, полагал Мэнтон, так это наш обычный, повседневный опыт, и, следовательно, художник призван не возбуждать в нас сильные эмоции посредством увлекательного сюжета и изображения глубоких переживаний и страстей, но поддерживать в читателе умеренный интерес и воспитывать вкус к точным, детальным отчетам о будничных событиях. Особенно же претила ему моя излишняя сосредоточенность на мистическом и необъяснимом; ибо, несравнимо глубже веруя в сверхъестественное, нежели я, он не выносил, когда потустороннее низводили до уровня обыденности, делая его предметом литературных упражнений. Его логичному, практическому и трезвому уму было не дано понять, что именно в уходе от житейской рутины и в произвольном манипулировании образами и представлениями, обычно подгоняемыми нашей ленью и привычкой под избитые схемы действительной жизни, можно черпать величайшее наслаждение. Все предметы и ощущения имели для него раз и навсегда заданные пропорции, свойства, причины и следствия; и, хотя он смутно осознавал, что мысль человеческая временами может сталкиваться с явлениями и ощущениями отнюдь не геометрического характера, абсолютно не укладывающимися в рамки наших представлений и опыта, он все же считал себя вправе проводить условную границу и выдворять за ее пределы все, что не может быть испытано и осмыслено среднестатистическим гражданином. Наконец, он был почти уверен в том, что не может быть ничего по-настоящему «неименуемого». Само это слово казалось ему лишенным смысла.
Пытаясь переубедить этого самодовольного материалиста-ортодокса, я прекрасно сознавал всю тщетность лирических и метафизических аргументов, однако было в обстановке нашего вечернего диалога нечто такое, что побуждало меня выйти за рамки обычного спора. Полуразрушенные плиты, патриархальные деревья и обступавшие кладбище со всех сторон остроконечные крыши старинного городка с его колдовскими преданиями – все это вкупе подвигло меня встать на защиту своего творчества, и вскоре я уже разил врага его собственным оружием. Перейти в контратаку, впрочем, не составило особого труда, поскольку я знал, что Джоэл Мэнтон весьма чувствителен ко всякого рода поверьям, над которыми в наши дни смеется любой мало-мальски образованный человек. Я говорю о таких представлениях, как, например, то, что после смерти человек может объявляться в самых отдаленных местах или что на окнах навеки запечатлеваются предсмертные образы людей, глядевших в них в течение всей жизни. Серьезно относиться к тому, о чем шушукаются деревенские старушки, заявил я для начала, ничуть не лучше, чем верить в посмертное существование неких бестелесных субстанций отдельно от их материальных двойников, а также в явления, не укладывающиеся в рамки обычных представлений. Ибо если верно, что мертвец способен передавать свой видимый или осязаемый образ в пространстве (на расстояние в полземного шара) и во времени (через века), то так ли уж абсурдно предполагать, будто заброшенные дома населены непонятными тварями, обладающими органами чувств, или что старые кладбища накапливают в себе разум поколений, чудовищный и бесплотный? И если те свойства, что мы приписываем душе, не подчиняются никаким физическим законам, то разве невозможно вообразить, что после физической смерти человека продолжает жить некая чисто духовная сущность, принимающая такую форму – или, скорее, бесформенность, – которая необходимо должна представляться наблюдателю чем-то абсолютно «неименуемым»? И вообще, когда размышляешь о подобных материях, то лучше всего оставить в покое так называемый «здравый смысл», который в данном случае означает не что иное, как элементарное отсутствие воображения и гибкости ума. Последнюю мысль я высказал Мэнтону тоном дружеского сочувствия.
День клонился к закату, но нам даже не приходило в голову закругляться с беседой. Мэнтон оставался глух к моим доводам и продолжал оспаривать их с той убежденностью в своей правоте, каковая, вероятно, и принесла ему успех на педагогической ниве. Я же имел в запасе достаточно веские аргументы, чтобы не опасаться поражения. Стемнело, в отдельных окнах замерцали огоньки, но мы не собирались покидать свое удобное место на гробнице. Моего прозаического друга, по-видимому, нисколько не смущала ни глубокая трещина, зиявшая в поросшей мхом кирпичной кладке прямо за нашей спиной, ни окружавший нас кромешный мрак, объяснявшийся тем, что между надгробием, на котором мы расположились, и ближайшей освещенной улицей возвышалось полуразрушенное нежилое здание, выстроенное еще в семнадцатом веке. Здесь, в этой непроглядной тьме, на полуразвалившейся гробнице вблизи заброшенного дома, мы вели нескончаемую беседу о «неименуемом», и, когда Мэнтон наконец устал отпускать язвительные замечания, я поведал ему об одном ужасном случае, действительно имевшем место и легшем в основу того из моих рассказов, над которым он более всего смеялся.
Рассказ этот назывался «Чердачное окно». Он был опубликован в январском выпуске «Шепотов» за 1922 год. Во многих городах страны, в особенности на Юге и на Тихоокеанском побережье, номер с этим рассказом даже убирали с прилавков, удовлетворяя жалобам слабонервных нытиков. Одна лишь Новая Англия оставалась невозмутимой и только пожимала плечами в ответ на мою эксцентричность. Прежде всего, утверждали мои критики, пресловутое существо просто биологически невозможно и то, что я о нем сообщаю, представляет собой всего лишь одну из версий расхожей деревенской байки, которую Коттон Мэзер лишь по чрезмерной доверчивости вставил в свой эклектичный опус «Великие деяния Христа в Америке», причем подлинность этой небылицы настолько сомнительна, что сей почтенный автор даже не рискнул назвать место, где произошел ужасный случай. Столь же неприемлемым для них было то, как я развил и разукрасил представленную в вышеупомянутой книге голую сюжетную канву, тем самым окончательно разоблачив себя как легкомысленного и претенциозного графомана. Мэзер и правда писал о появлении на свет некоего существа, но кто, кроме дешевого сенсуалиста, мог бы поверить, что оно выросло и взяло себе за привычку по ночам заглядывать в окна домов, а днем прятаться на чердаке заброшенного дома, и так до тех пор, пока столетие спустя какой-то прохожий не увидал его в чердачном окне, а потом так и не смог объяснить, отчего у него поседели волосы? Все это было чистой воды вымыслом, притом нелепым, и приятель мой в очередной раз огласил эту точку зрения. Тогда я поведал ему о содержании дневника, обнаруженного среди прочих бумаг семейного архива менее чем в миле от того места, где мы находились, и датированного 1706–1723 годами. В дневнике упоминалось о необычных шрамах на спине и груди одного из моих предков, и я заверил Мэзера в подлинности этого свидетельства. Я также рассказал ему о страшных историях, имеющих хождение среди местного населения и передаваемых по секрету из поколения в поколение, а также о том, как отнюдь не в переносном смысле сошел с ума один паренек, осмелившийся в 1793 году войти в покинутый дом, чтобы взглянуть на некие следы, на которые намекала традиция.
Да, то было время диких суеверий – какой впечатлительный человек не содрогнется, изучая массачусетские летописи пуританской эпохи? Сколь бы немногочисленными ни были наши сведения о том, что скрывалось за внешней стороной событий, но уже по тем отдельным чудовищным проявлениям, когда гной вырывался и бил ключом, можно судить о всей степени разложения. Ужас перед черной магией – одно из объяснений того кошмара, что царил в смятенных умах человеческих, но даже и это не главное. Из жизни изгонялась красота, изгонялась свобода – об этом можно судить по бытовым и архитектурным останкам эпохи, а также по ядовитым проповедям невежественных богословов. Под смирительной рубашкой из ржавого железа таилась дурная злоба, извращенный порок и сатанинская одержимость. Вот в чем заключался подлинный апофеоз Неименуемого!
Ни единого слова не смягчил Коттон Мэзер, когда разразился анафемой в своей демонической шестой книге, которую не рекомендуется читать после наступления темноты. Сурово, словно библейский пророк, в немногословной и бесстрастной манере, в какой не умел выражаться никто после него, он поведал о твари, породившей на свет нечто среднее между собою и человеком, нечто, обладающее дурным глазом, и о несчастном пьянчуге, повешенном, несмотря на все его просьбы и вопли, за одно лишь то, что у него на глазу было бельмо якобы столь же дурного свойства. На этом откровенность Мэзера заканчивается, и он не делает ни малейшего намека на то, что произошло в дальнейшем. Возможно, он просто не знал, а может быть, и знал, да не посмел сказать. Потому что все, кто знал, предпочитали молчать, и до сих пор неизвестно, что заставляло их переходить на шепот при упоминании о замке на двери, скрывавшей за собой чердачную лестницу в доме бездетного, убогого и угрюмого старца, установившего на могиле, которую все обходили стороной, плиту без надписи. На этот счет существует достаточное количество уклончивых слухов, от которых стынет самая пылкая кровь.
Все эти сведения я почерпнул из найденной мною семейной хроники; там же содержится множество скрытых намеков и не предназначенных для посторонних ушей историй о существах с дурным глазом, появлявшихся по ночам то в окнах, то на безлюдных лесных опушках. Возможно, что именно одна из таких тварей напала на моего предка ночью на проселочной дороге, оставив следы рогов на его груди и царапины, как от обезьяньих лап, на спине. На самой же дороге были обнаружены четко отпечатавшиеся в пыли отпечатки копыт и чего-то еще, имеющего отдаленное сходство со ступнями человекообразной обезьяны. Один почтальон рассказывал, как, проезжая верхом по делам службы, он видел вышеупомянутого старика, преследовавшего и окликавшего какое-то гадкое существо, вприпрыжку уносившееся прочь. Дело происходило на Медоу-Хилл незадолго до рассвета при тусклом сиянии луны. Интересно, что многие поверили почтальону. Доподлинно известно также то, что в 1710 году, в ночь после похорон убогого и бездетного старца (тело которого положили в склеп позади его дома, рядом со странной плитой без надписи) на кладбище раздавались какие-то голоса. Дверь на чердак отпирать не решились, и дом был оставлен таким, каким был, – мрачным и заброшенным. Когда из него доносились звуки, все вздрагивали и перешептывались, ободряя себя надеждой на прочность замка на чердачной двери. Надежде этой пришел конец после кошмара, случившегося в доме приходского священника, жильцов которого обнаружили не просто бездыханными, но разодранными на части. С годами легенды все более приобретали характер историй о привидениях – вероятно, по той причине, что если отвратительное существо действительно когда-то жило, то потом оно, как я полагаю, скончалось. Сохранилась лишь память о нем – тем более ужасная оттого, что она держалась в строгой тайне.