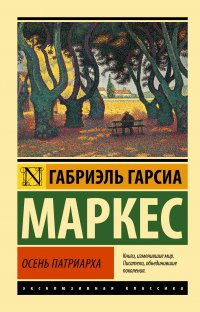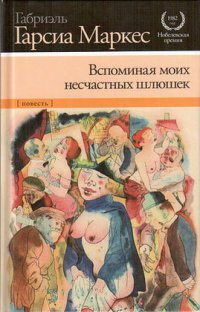Читать онлайн Опасные приключения Мигеля Литтина в Чили бесплатно
- Все книги автора: Габриэль Гарсиа Маркес
От автора
В начале 1985 года чилийский режиссер Мигель Литтин – числившийся в списке пяти тысяч граждан, безвозвратно высланных из страны, – нелегально прилетел в Чили на полтора месяца и отснял более семи тысяч метров пленки, запечатлевая на ней, во что превратили его родину двенадцать лет диктатуры. Изменив внешность, манеру одежды и речи, запасшись фальшивыми документами, заручившись поддержкой подпольных борцов за демократию, Литтин с тремя европейскими съемочными группами и шестью командами молодых подпольщиков заглянул во все уголки страны, включая дворец Ла-Монеда[1]. Снятые их усилиями четырехчасовой телефильм и двухчасовой кинофильм на днях начнут демонстрироваться по всему миру.
Полгода назад, когда Мигель Литтин рассказывал мне в Мадриде о работе над съемками, я понял, что за сюжетом его фильма скрывается другой, не менее увлекательный, рискующий, в отличие от первого, никогда не увидеть свет. И Литтин, согласившись на долгое, изнурительное интервью длиной в неделю, наговорил восемнадцать часов магнитофонной записи. На этой ленте запечатлен профессиональный и гражданский подвиг, который я изложу в сжатом виде в последующих десяти главах.
Некоторые имена и данные в книге изменены ради безопасности героев, по-прежнему живущих в Чили. Однако я сохранил повествование от первого лица в том виде, в каком услышал его от Литтина, стремясь передать его собственные (местами доверительные) интонации, лишенные драматизма и исторических притязаний. Разумеется, общий стиль текста все равно мой, поскольку авторскую манеру тяжело изменить, особенно когда ужимаешь почти шестьсот страниц до ста пятидесяти. Однако исконные чилийские обороты и мнение рассказчика, не всегда совпадающее с моим, я постарался не исказить. По характеру подачи материала эта книга представляет собой репортаж. Однако на самом деле это нечто большее – реконструкция мыслей и чувств, позволивших, выйдя за рамки изначального замысла, создать гораздо более волнующий и берущий за душу фильм, высмеивающий пагубные проявления диктаторского режима. Как сказал сам Литтин: «Этот поступок я не назвал бы самым героическим в своей жизни, скорее самым достойным». Подтверждаю. И думаю, именно в этом его величие и состоит.
Габриэль Гарсиа Маркес
1. Нелегал в Чили
Самолет авиакомпании «Ладеко», следующий рейсом сто пятнадцать из парагвайского Асунсьона, готовился к посадке в аэропорту чилийской столицы Сантьяго с более чем часовым опозданием. Слева поблескивал семитысячник вулкана Аконкагуа, отливающий сталью в лунном свете. Зловеще накренившись на левое крыло, затем с мрачным скрежетом выправившись, самолет слишком рано коснулся колесами полосы и выдал три кенгуриных прыжка. Я, Мигель Литтин, сын Эрнана и Кристины, кинорежиссер и один из пяти тысяч чилийцев, навсегда высланных из страны, снова оказался на родине после двенадцатилетней ссылки. Однако я по-прежнему ощущал себя изгнанником, поскольку вернулся под фальшивой личиной, с фальшивым паспортом и даже с фальшивой супругой. Измененная внешность и манера одеваться сделали меня неузнаваемым (в том числе, как показало время, для родной матери).
Мало кто в целом мире подозревал о нашей задумке, однако одна из посвященных летела со мной в одном самолете – Елена, молодая и симпатичная активистка чилийского сопротивления, которую организация делегировала мне в качестве связной. Ей предстояло договариваться с подпольщиками, передавать явки и пароли, подыскивать места для интервью, оценивать оперативную обстановку, утрясать встречи и заботиться о нашей безопасности. В случае моего ареста, исчезновения или неявки на связь более суток она должна была публично заявить о моем пребывании в Чили и поднять международную тревогу. Не состоя в браке по документам, весь путь от Мадрида до Сантьяго через полмира и семь аэропортов мы тем не менее проделали будто законные супруги, однако на этом последнем полуторачасовом перелете решили сесть порознь и сойти на землю как незнакомцы. Паспортный контроль Елена проходила после меня, чтобы в случае опасности подать сигнал своим. Если же накладок не возникнет, мы воссоединимся и выйдем из аэропорта как чинная супружеская пара.
На словах наша задача выглядит простой, однако на самом деле предприятие предстояло весьма рискованное – тайно отснять документальный фильм о жизни страны, двенадцать лет томившейся под гнетом диктатуры. Идею навеяла давняя мечта, зревшая не один год: для кинематографиста, у которого образ далекой родины уже успел раствориться в тумане ностальгии, нет лучшего способа возродить его в памяти, чем снять изнутри. Мечта стала еще более навязчивой, когда чилийское правительство начало публиковать списки получивших разрешение вернуться. Своего имени я там по-прежнему не обнаруживал. Предел отчаяния наступил, когда моя фамилия появилась в перечне пяти тысяч лиц, которым было навсегда отказано в возвращении. Поэтому когда в конце концов мне выпала возможность осуществить мечту, – почти случайно и совершенно неожиданно, – я уже больше двух лет как оставил всякую надежду воплотить ее в жизнь.
Случилось это осенью 1984 года в баскском городе Сан-Себастьяне. Я перебрался туда полгода назад, вместе с Эли и нашими тремя детьми, снимать художественный фильм, который, подобно другим своим товарищам по несчастью, лег на полку по велению продюсеров за неделю до предполагаемого начала съемок. Я оказался не у дел. Но как-то раз, ужиная во время кинофестиваля с приятелями в популярном ресторане, я снова обмолвился о своей давней мечте. Идея вызвала живой интерес не только в силу своей очевидной политической злободневности, но и как повод утереть нос «всемогущему» Пиночету. Никому тогда и в голову не пришло искать в этих фантазиях что-то большее, чем тоску изгнанника по родине. Однако уже утром, когда мы возвращались домой по сонным улицам старого города, итальянский продюсер Лучано Бальдуччи, за столом большей частью молчавший, ухватил меня за локоть и как бы невзначай отвел в сторону. «Нужный тебе человек, – сказал он, – ждет в Париже».
Он не ошибся. Нужный мне человек занимал ответственный пост в чилийском сопротивлении и вынашивал проект, лишь немногим отличавшийся от моего. Единственной четырехчасовой беседы в укромном уголке «Куполя» при активном участии Бальдуччи нам обоим хватило, чтобы воплотить в жизнь выстраданный мной замысел, проработанный бессонными ночами в мельчайших подробностях.
Первым делом предстояло переправить в Чили три съемочные группы – итальянскую, французскую и еще одну, по документам голландскую, но обитавшую на самом деле где-то в других странах Европы. Все абсолютно легальные, с официальными разрешениями, под защитой своих посольств. Итальянская группа под руководством одной журналистки будет делать вид, что снимает документальный фильм об итальянской эмиграции в Чили, делая особый упор на творчество Хоакина Тоески – архитектора, проектировавшего дворец Ла-Монеда. Французскую группу аккредитуют на съемку документальной ленты в естественно-научном жанре – о географии Чили. Третья будет рассказывать о недавних землетрясениях. Ни одна из групп не узнает о существовании двух остальных. Истинная цель съемок, равно как и фигура настоящего режиссера, останется тайной для всех участников, кроме непосредственных руководителей – профессионалов своего дела, политически подкованных и полностью сознающих, на какой риск идут. Этот этап подготовки оказался самым легким, достаточно было короткой встречи с каждой из групп. Все три, аккредитованные, с оформленными по всем правилам контрактами, к моему прибытию в Чили уже обосновались и ждали распоряжений.
Драма перевоплощения
Гораздо тяжелее мне далось превращение в другого человека. Внутренние перемены – это результат постоянной борьбы, в которой мы, не желая терять себя, сопротивляемся своей же тяге к новизне. Поэтому сложнее всего, как ни странно, оказалось не освоить новое, а преодолеть мое подсознательное нежелание перемен, как внешних, так и внутренних. Мне пришлось отказаться от собственного «я» и перевоплотиться в кого-то совсем другого, не вызывающего подозрений у полиции, выдворившей меня из страны, и неузнаваемого для моих собственных друзей. Около трех недель со мной возились под руководством специалиста по особо секретным операциям, приехавшего непосредственно из Чили, двое психологов и гример. Без устали сражаясь с моим инстинктивным стремлением цепляться за прежний облик и привычки, они совершили настоящее чудо.
Прежде всего борода. Недостаточно было просто сбрить ее, требовалось избавиться от всех своих с ней ассоциаций. Я начал отпускать ее еще в молодости, когда собирался снимать свой первый фильм, потом несколько раз сбривал, но ни разу не начинал съемок без нее. В ней словно воплотилась моя режиссерская ипостась. Мои дяди тоже носили бороду, это был еще один повод ею дорожить. Когда несколько лет назад в Мексике я ее все-таки сбрил, ни мои друзья, ни родные, ни я сам никак не могли привыкнуть к новому облику. Все шарахались от меня как от незнакомца, однако я упорно отказывался отпускать бороду снова, считая, что она меня старит. Сомнения разрешила Каталина, моя младшая дочь:
– Да, без бороды ты как будто помолодел. Зато с ней красивее.
Вот почему расстаться с бородой перед отправлением в Чили значило не просто поработать помазком и бритвой. Предстоял более глубинный процесс прощания с частью себя. Бороду постепенно подстригали, наблюдая за происходящими переменами, оценивая, как разная длина отражается на моей внешности и характере, пока наконец не сбрили под ноль. Лишь несколько дней спустя я отважился посмотреться в зеркало.
Затем прическа. Волосы у меня черные: сказываются гены матери-гречанки и отца-палестинца, наградившего меня заодно склонностью к раннему облысению. Первым делом мою шевелюру перекрасили в светло-каштановый. Потом, поэкспериментировав с прическами, решили не идти против природы. Вместо того чтобы, согласно первоначальному замыслу, скрывать залысины, их, наоборот, подчеркнули, не только зализав волосы назад, но и довершив с помощью машинки для стрижки начатое безжалостным возрастом.
Как ни парадоксально, почти неуловимыми штрихами можно, оказывается, преобразить форму лица до неузнаваемости. После того как мне депилировали кончики бровей, моя круглая, как полная луна, физиономия (тогда я и сам был поплотнее) будто вытянулась. Этот легкий восточный налет куда больше вязался, как ни странно, с моими корнями. Последним шагом стали очки с градуированными стеклами, из-за которых пришлось несколько дней помучиться сильной головной болью. Однако благодаря им поменялись визуально не только сами глаза, но и взгляд.
Дальше дело пошло проще, хотя здесь от меня потребовались внушительные психологические усилия. Чтобы изменить лицо и прическу, достаточно довериться гримеру, тогда как общий облик предполагает особую работу над собой и повышенную сосредоточенность. Мне предстояло сменить классовую принадлежность. Вместо неизменных джинсов и курток пришлось переходить на коверкотовые костюмы известных европейских марок, сшитые на заказ сорочки, замшевые туфли и итальянские галстуки с ручной росписью. Мой деревенский чилийский говор, быстрый и захлебывающийся, должна была сменить размеренная и плавная речь зажиточного уругвайца, поскольку именно эту национальность мы выбрали для прикрытия. Меня учили смеяться сдержаннее, ходить неспешно и помогать себе жестикуляцией в беседе. В итоге я должен был из бедного кинорежиссера-нонконформиста превратиться в того, кем меньше всего на свете хотел бы стать, – холеного буржуа. Или, как говорят чилийцы, в толстосума.
Превращаясь в свою полную противоположность, я одновременно учился уживаться с Еленой в особняке Шестнадцатого округа Парижа, впервые усваивая порядки, установленные кем-то другим, до меня, и выдерживая скудную спартанскую диету, чтобы сбросить десять кило из своих тогдашних восьмидесяти семи. Я жил в чужом доме, ничуть не похожем на мой, запечатлевая его в своей памяти. Нужно было обрасти псевдовоспоминаниями, чтобы избежать возможных нестыковок в разговорах. Опыт получился уникальным, однако довольно скоро я осознал: несмотря на внешнюю привлекательность Елены и ответственность как в делах, так и в быту, ужиться с ней я бы не смог никогда. Ее выбрали за политическую надежность и профессионализм, а мне оставалось лишь катить по узким рельсам, не оставлявшим простора для маневров. Моя творческая натура отчаянно сопротивлялась. Позже, когда все уже наладилось, я понял, что был несправедлив к Елене, – возможно, оттого что подсознательно ассоциировал ее с противным мне «альтер эго», в которого очень не хотел перевоплощаться, даже сознавая жизненную необходимость этого перевоплощения. Сегодня, вспоминая тот уникальный опыт, я думаю, что наш брак был бы идеальным – при условии, что мы смогли бы ужиться под одной крышей.
Елене менять личность и документы не требовалось. Она чилийка, но уже больше пятнадцати лет не жила в Чили постоянно, при этом ее никто не высылал и в розыске ни в одной стране мира она не числилась, так что прикрытие у нее было идеальное. Она неоднократно выполняла важные политические задания в других странах, и мысль поучаствовать в подпольных киносъемках на своей собственной родине показалась ей заманчивой. Зато у меня трудностей с самоидентификацией было хоть отбавляй, поскольку идеально подходящая по техническим соображениям национальность требовала сменить характер на прямо противоположный и обзавестись выдуманным прошлым в незнакомой стране. Тем не менее к назначенному сроку я научился откликаться на свое вымышленное имя и отвечать на самые заковыристые вопросы о Монтевидео – о том, какими автобусами добираться до моего дома, и даже о том, как поживают мои бывшие одноклассники, двадцать пять лет назад выпустившиеся из лицея номер одиннадцать на Итальянском проспекте в двух кварталах от аптеки и в одном квартале от нового супермаркета.
Чего мне не рекомендовалось делать категорически – это смеяться, поскольку мой выразительный смех мог свести на нет все усилия по маскировке. Настолько, что ответственный за перевоплощение заявил, придав голосу побольше драматизма: «Засмеешься – тебе конец». Впрочем, каменное неулыбчивое лицо у акулы мирового бизнеса скорее норма.
В самый разгар подготовки наш замысел оказался на грани срыва из-за того, что в Чили вновь объявили осадное положение. Военная хунта, пришибленная сокрушительным крахом экономической авантюры, в которую вовлекли страну «чикагские мальчики», отвечала таким образом на единодушный протест оппозиции, впервые выступившей общим фронтом. В мае 1983 года начались уличные демонстрации с активным участием молодежи, особенно женского пола. Демонстрации шли в течение всего года и жестоко подавлялись. Затем силами оппозиции, как легальной, так и подпольной, и впервые примкнувших к ним прогрессивных кругов буржуазии, удалось вывести народ на всеобщую забастовку длиной в день. Власти, уязвленные подобной сплоченностью и решительным настроем, ввели в качестве контрмеры осадное положение. Взбешенный Пиночет разразился воплем на весь мир: «Если это не прекратится, мы повторим одиннадцатое сентября!»
С одной стороны, для нашего фильма, предполагавшего открыть миру глаза на истинное положение дел в Чили, суровость ситуации оказывалась только на руку, однако, с другой стороны, ужесточившийся полицейский контроль, «завинчивание гаек» и комендантский час, сокращающий полезное съемочное время, представляли нешуточную опасность. Тем не менее, тщательно все взвесив, подпольщики решили не отступать от изначального замысла. Поэтому мы развернули паруса и, поймав попутный ветер, в назначенный срок пошли на приступ.
Ослиный хвост для Пиночета
Первым серьезным испытанием оказались проводы в мадридском аэропорту. Я уже больше месяца не виделся с Эли и нашими детьми – Почи, Мигелито и Каталиной. Весточек от них я тоже не получал и по замыслу ответственных за мою безопасность должен был хранить в тайне дату отлета, чтобы избежать тягот прощания. Более того, в начале подготовки возникала идея ради всеобщего спокойствия оставить моих родных в полном неведении, но вскоре мы поняли, насколько это абсурдно. Напротив, кто мог обеспечить тыл надежнее Эли? Кому как не ей, свободно перемещавшейся между Парижем, Мадридом, Римом и даже Буэнос-Айресом, удобнее всего поручить переправку отснятого материала, который я буду передавать из Чили небольшими партиями? Изыскание дополнительных средств при необходимости тоже возлагалось на нее. На том и порешили.
Моя дочь Каталина еще на раннем этапе подготовки заметила, что у меня в спальне скапливается новая одежда, совершенно не подходящая ни к моему привычному стилю, ни к образу жизни, поэтому, чтобы развеять ее тревоги и удовлетворить любопытство, мне не оставалось ничего другого, как собрать всю семью и посвятить в свои планы. Родные откликнулись с готовностью и радостью, как будто попали вдруг в остросюжетный фильм, сочинением которых мы время от времени развлекались. Но когда я предстал перед ними в аэропорту степенным уругвайцем, мы все вдруг осознали, что это никакой не фильм, а драматическая реальность, серьезное и опасное дело, в котором мы участвуем сообща. Однако никто не спасовал.
– Главное, – напутствовали они, – приделай Пиночету ослиный хвост подлиннее.
Имелась в виду известная игра, где водящий с завязанными глазами пришпиливает хвост нарисованному ослу.
– Обещаю, – сказал я, прикидывая длину пленки, которую собирался отснять. Неплохой хвост – около семи тысяч метров.
Спустя неделю мы с Еленой приземлились в Сантьяго-де-Чили, проскакав хаотичным галопом через семь европейских городов – чтобы я успел постепенно привыкнуть к своей новой личности, удостоверенной не вызывающим подозрений паспортом. Паспорт был подлинный, уругвайский, отданный нам политически сознательным добровольцем, узнавшим, что нужны документы для въезда в Чили. Мы заменили в нем только фотографию, вклеив мой снимок, уже в перевоплощенном виде. На вещах появились соответствующие фальшивые инициалы – монограммы на сорочках, вензель на кожаном портфеле, на визитках и бумаге для писем. Поддельную подпись я научился, после многочасовых упражнений, выводить довольно лихо. Только одно мы не успели сделать – оформить кредитные карточки, что грозило осложнениями, поскольку для такого серьезного бизнесмена, которого я изображал, расплачиваться за авиабилеты долларами в наличных выглядело странно.
Несмотря на несовместимость, которая в настоящей жизни через два дня привела бы нас к разводу, мы с Еленой успешно изображали супругов, которым не страшны никакие семейные бури. Мы вызубрили вымышленные биографии друг друга от и до, включая вымышленное прошлое, вымышленные буржуазные вкусы и предпочтения и, думаю, выдержали бы любой допрос с пристрастием. Легенду мы тоже состряпали на славу, прикинувшись владельцами парижского рекламного агентства, снимающими ролик для новых духов, которые должны появиться на европейском рынке будущей осенью. А где еще снимать ролик, как не в Чили – одной из немногих стран, где в любое время года можно отыскать все четыре сезона, от знойных пляжей до вечных снегов? Елена с завидной непринужденностью облачилась в дорогие европейские наряды, будто не она предстала передо мной в Париже с распущенными волосами, в клетчатой юбке и школьных мокасинах. Я тоже чувствовал себя в начальственной шкуре вполне комфортно – пока не увидел свое отражение в витрине мадридского аэропорта. Темный костюм-двойка, жесткий воротничок, галстук – настоящая акула бизнеса, с души воротит. «Какой ужас! – подумал я. – Будь я не я, я был бы вот таким…» От меня прежнего остался лишь потрепанный томик «Потерянных следов» – великого романа Алехо Карпентьера, который я, не изменяя пятнадцатилетней привычке, положил в чемодан как лекарство от неизбывного страха перед полетами. Кроме того, мне предстояло не один раз пройти таможенный контроль в разных аэропортах мира, учась без опаски предъявлять чужой паспорт.
Боевое крещение состоялось в Женеве и, хотя все прошло без сучка без задоринки, я не забуду эту проверку до конца дней своих. Погранконтролер внимательно перелистал страницы, потом поднял глаза, сверяя мое лицо с фотографией. Я стоял ни жив ни мертв, хотя во всем паспорте только этот снимок и соответствовал действительности. Однако проверка боем помогла: с тех пор я больше не испытывал ни такой тошноты, ни бешеного сердцебиения до того самого момента, как в аэропорту Сантьяго-де-Чили распахнулась в гробовой тишине дверь самолета и я снова, спустя двенадцать лет, вдохнул ледяной воздух андских вершин. На фасаде здания голубел огромный транспарант: «В Чили мир и порядок». Я посмотрел, сколько времени. До комендантского часа оставалось шестьдесят минут.
2. Обманчивый блеск столичных огней
Пограничник открыл мой паспорт. Я не сомневался, что, подняв взгляд на меня, он моментально заподозрит подмену. Из трех пограничников в штатском я выбрал самого молодого и, как мне показалось, самого торопливого. Елена встала в соседнюю очередь – мы по-прежнему изображали незнакомцев, чтобы в случае проблем у одного другой мог поднять тревогу. Однако предосторожность оказалась излишней, погранконтролеры спешили не меньше пассажиров, опасавшихся попасть под комендантский час, и документы смотрели краем глаза. «Мой» даже не удосужился проверить визы, зная, что соседям-уругвайцам они не требуются. Проштамповав первый чистый лист, он вернул мне паспорт и посмотрел в глаза. От этого пристального взгляда у меня похолодело внутри.
– Спасибо, – как можно тверже сказал я.
Он ослепительно улыбнулся в ответ:
– Добро пожаловать!
Багаж прибыл в немыслимо короткий для аэропорта срок, поскольку таможенники тоже рассчитывали попасть домой до комендантского часа. Я подхватил свой чемодан. Потом взял чемодан Елены (мы договорились, что весь багаж забираю я и выхожу первым, чтобы выиграть время) и потащил оба в зону таможенного контроля. Таможенник, суетившийся из-за надвигающегося комендантского часа, вместо того чтобы досматривать багаж, подгонял пассажиров к выходу. Когда я уже собирался водрузить свои чемоданы на платформу, таможенник вдруг спросил:
– Вы один?
Я ответил, что да. Он скользнул взглядом по обоим чемоданам и разрешил проходить. Но тут появилась начальница, которую я прежде не заметил – классическая церберша, суровая мужеподобная блондинка в форме, – и скомандовала на ходу: «Этого проверьте!» Только тут я задумался, как буду объяснять, зачем мне целый чемодан женской одежды. Ведь если из всех спешащих пассажиров церберша выбрала именно меня, то явно не из-за багажа, а по какой-то другой, более серьезной и опасной причине. Пока таможенник меня обыскивал, начальница попросила мой паспорт и начала пристально изучать. Вспомнив про леденец, который мне выдали перед взлетом, я сунул его в рот, понимая, что сейчас последуют вопросы, и я вряд ли смогу скрыть свою принадлежность к чилийской нации под нетвердым уругвайским акцентом. Первым начал таможенник:
– Долго собираетесь у нас пробыть?
– Порядочно.
Я и сам едва разобрал свое невнятное бормотание, но таможенника это не смутило, и он попросил открыть второй чемодан. Замок был заперт на ключ. Растерявшись, я поискал отчаянным взглядом Елену. Она невозмутимо выстаивала очередь на паспортный контроль, не догадываясь о разворачивающейся в двух шагах драме. Вот тогда я впервые осознал, что без ее помощи не справлюсь – не только там, в аэропорту, но и в дальнейших делах. Я уже собирался наплевать на последствия и признаться, что чемодан чужой, но тут начальница вернула мне паспорт и перешла к досмотру следующего пассажира. Я снова глянул туда, где стояла Елена, но в очереди ее уже не нашел.
Где она пропадала, так и осталось для нас загадкой. Елена словно в невидимку превратилась. Потом она говорила, что тоже видела меня из очереди, видела, как я тащу чемодан, предчувствовала осложнения, но стойко продержалась до моего выхода из таможенной зоны.
Вслед за носильщиком с тележкой, принявшим мой багаж, я пересек почти безлюдный вестибюль, и только снаружи ощутил наконец, что вернулся. Пока ни предполагаемой милитаризации, ни признаков упадка нигде не наблюдалось. Конечно, это был не тот огромный и мрачный аэропорт Лос-Серильос, где двенадцать лет назад, под октябрьским дождем, от которого делалось еще тоскливее на душе, началось мое изгнание, а современный Пудауэль, где до военного переворота мне удалось побывать лишь однажды и то наскоком. Однако мое субъективное восприятие тут точно было ни при чем. Военная диктатура, чье присутствие, особенно при осадном положении, я ожидал почувствовать сразу, никак не давала о себе знать. Аэропорт сиял чистотой, указатели пестрели разноцветными красками, большие магазины предлагали импортные товары на любой вкус, и нигде не было видно ни одного блюстителя порядка, который мог бы подсказать дорогу заблудившемуся путешественнику. Снаружи выстроились такси – не какие-нибудь развалюхи, а последние японские модели.
Однако в тот момент было не до скоропалительных выводов, поскольку Елена все не появлялась и я уже погрузил чемоданы в такси, а стрелки на циферблате с головокружительной скоростью бежали к комендантскому часу. Предстояло решить еще одну дилемму. По нашей договоренности, если кто-то один отстанет, второму следовало уезжать и связываться с доверенными лицами по оставленным на такой случай телефонам. Тем не менее взять и уехать не дождавшись я не решался – кроме того, мы не условились насчет отеля. В иммиграционный формуляр я вписал «Конкистадор», поскольку именно туда обычно отправляются бизнесмены, а значит, он больше соответствовал нашему прикрытию. Кроме того, я знал, что там поселилась итальянская съемочная группа, но Елена-то, вероятнее всего, о моих соображениях не подозревала.
Трясясь от холода и беспокойства, я уже готов был отчаяться, когда увидел спешащую ко мне Елену, за которой по пятам следовал кто-то в штатском, размахивая темным дождевиком. Я застыл столбом, готовясь к худшему, но тип в штатском, наконец догнав Елену, вручил ей забытый на таможенной стойке плащ. Задержалась она по другой причине: церберше показалось подозрительным, что Елена летит совсем без багажа, и она устроила скрупулезную проверку каждой мелочи в ручной клади – от удостоверения личности до косметички. Однако они и вообразить не могли, что крошечный японский радиоприемник – это на самом деле еще и оружие, поскольку с его помощью на особой частоте мы держали связь с силами сопротивления. Я перенервничал сильнее Елены, считая, что прождал ее больше получаса, но в такси она меня разубедила (никакие не полчаса, всего шесть минут). Шофер, в свою очередь, развеял еще одно опасение: до комендантского часа оставалось не двадцать минут, а целых восемьдесят. Я забыл перевести часы после Рио-де-Жанейро, и в Сантьяго было только без двадцати одиннадцать. Стояла темная и холодная ночь.
И ради этого я прилетел?
По мере приближения к городу ожидаемая радость со слезами на глазах сменялась растерянностью. Сами посудите: к старому аэропорту Лос-Серильос вела раздолбанная дорога, проходившая через промышленные районы и трущобы, жестоко пострадавшие во время военного переворота. Теперь же мы ехали из международного аэровокзала по гладкому, ярко освещенному шоссе, будто в какой-нибудь процветающей стране, и это меня сильно смущало, ведь я ожидал увидеть пагубные последствия диктатуры воочию – на улицах, в повседневной жизни людей, чтобы снять на пленку и показать остальному миру. Однако вместо ожидаемого ужаса я испытывал растущее разочарование. Елена позже сказала, что и она, несмотря на свои недавние визиты в Чили, тоже несколько растерялась.
Неудивительно. Вопреки тому, что рассказывали в изгнании, перед нами предстал цветущий город с пышными памятниками и сияющими чистотой улицами. Ущемления свободы не больше, чем в Париже или Нью-Йорке. Проспект Бернардо О'Хиггинса простирался бесконечной гирляндой огней от исторического Центрального вокзала, спроектированного Густавом Эйфелем – тем самым, построившим парижскую башню. Даже «ночные бабочки» на панели казались веселее и бодрее, чем прежде. Внезапно чуть в глубине от проспекта возник, словно призрак, дворец Ла-Монеда. Последний раз я видел его полуразрушенным и покрытым копотью, а теперь, восстановленный и снова действующий, он походил на сказочный особняк, окруженный французским парком.
За окном проплывали главные достопримечательности города: «Юнион-клуб», где собирались главные шишки страны подергать за политические ниточки; темные окна университета, церковь Святого Франциска, величественный дворец Национальной библиотеки, универмаг «Париж». Елена, сидящая рядом со мной, занималась более насущными вопросами, убеждая шофера отвезти нас в отель «Конкистадор», а не в тот, на котором настаивал он (явно имея там свой процент). Убеждала она мягко и осторожно, стараясь не вызвать подозрений таксиста, которые в Сантьяго зачастую состояли в осведомителях у спецслужб. Я не вмешивался, еще не оправившись от смятения.
Ближе к центру города я уже бросил любоваться красотами, за которыми военная хунта прятала кровь и страдания сорока с лишним тысяч погибших, двух тысяч пропавших без вести и миллиона высланных из страны. Я переключился на людей. Они шагали непривычно быстро, подгоняемые, видимо, приближающимся комендантским часом. Но меня поразило не только это. Лица, терзаемые ледяным ветром. Никто не разговаривал, никто ни на кого не смотрел, не жестикулировал, не улыбался, ни малейшим жестом не выдавая, что лежит на сердце, под темными пальто, как будто все они тоже оказались в одиночку в незнакомом городе. Бесстрастные лица не выражали ничего. В том числе и страха. Вот тогда я почувствовал, как меняется мое настроение, – мне даже захотелось выскочить из такси и смешаться с толпой. Елена комментировала и разъясняла, хотя и не так активно, как хотелось бы, поскольку опасалась, что услышит таксист. Повинуясь непреодолимому порыву, я попросил водителя остановиться и вышел, хлопнув дверью. Я прошагал не больше двухсот метров, забыв на время о приближающемся комендантском часе, но и первых ста шагов мне хватило, чтобы начать заново обретать свой город. Я прошел по улице Эстадо, по улице Уэрфанос, по всему пешеходному кварталу, куда запрещен въезд автотранспорта, как на улице Флорида в Буэнос-Айресе, на виа Кондотти в Риме, на площади Бобур в Париже и в Розовом квартале Мехико. Еще одно славное детище диктатуры. Однако все эти уютные скамеечки, веселые фонарики, ухоженные клумбы не могли замаскировать действительность. Немногочисленные любители побеседовать общались в уголке вполголоса (как известно, при тирании и у стен есть уши), уличные торговцы предлагали разные безделушки, мальчишки приставали к прохожим, выклянчивая мелочь. Но больше всего меня поразили проповедники-евангелисты, продававшие формулу вечного блаженства всем, кто готов был развесить уши.
Завернув за угол, я неожиданно столкнулся нос к носу с первым за все это время карабинером. Он неторопливо прохаживался туда-сюда по тротуару, а на углу улицы Уэрфанос в полицейской будке сидело еще несколько. Под ложечкой засосало, ноги стали ватными… Бесила сама мысль о том, что подобное потрясение ждет меня при виде каждого жандарма. Но вскоре я понял, что и полицейские тоже не знают ни минуты покоя, воспаленными глазами выглядывая нелегалов. Осознав, что они трясутся еще больше меня, я успокоился. Тряслись они не зря. Через несколько дней после моего отъезда из Чили эту будку взорвали бойцы сопротивления.
В самом сердце ностальгии
Вот они, ключи к прошлому. Передо мной высилось здание старой телестудии и отдела аудио-видео-программ, где начиналась моя кинокарьера. А вот театральное училище, куда я семнадцатилетним приехал из своей деревни поступать, сдавать экзамен, который определил мою дальнейшую жизнь. Здесь мы организовывали съезды «Народного единства», здесь же прошли мои самые тернистые годы, годы становления. Вот кинотеатр «Сити», где я впервые увидел когда-то шедевры, которые потрясают меня до сих пор, и среди них самый незабываемый – «Хиросима, любовь моя». Я вдруг услышал, как кто-то из прохожих напевает знаменитую песню Пабло Миланеса: «И вновь пройду по обагренным кровью мостовым Сантьяго».
Я едва смог сдержать комок в горле. Потрясенный до глубины души, я забыл о времени, о легенде, об инкогнито, на миг став самим собой и никем больше, вновь обретя свой город. Я подавил безумное желание рассекретиться, прокричать во всю глотку свое имя и встретиться лицом к лицу с тем, кто занял мой дом.
В слезах я вернулся в отель, в считанные минуты до комендантского часа, и портье пришлось отпирать для меня запертую дверь. Елена уже зарегистрировала нас обоих и сидела в номере, вытаскивая антенну портативного радиоприемника. Она выглядела спокойной, но когда я вошел, отчитала меня, как самая настоящая жена. У нее не укладывалось в голове, как я мог проявить такое безрассудство и отправиться в одиночку гулять по городу перед самым комендантским часом. Но мне было не до проповедей, поэтому я тоже повел себя как настоящий муж. Хлопнул дверью и пошел искать по отелю итальянскую съемочную группу.
Я постучал в номер триста шесть, двумя этажами ниже нашего, проговаривая про себя длинный пароль и отзыв, который мы два месяца назад учили в Риме с режиссером съемочной группы. Мне ответил полусонный голос – голос темпераментной обычно Грации, который я и так узнал, безо всяких паролей.
– Кто там?
– Гавриил.
– С кем?
– С архангелами.
– Святым Георгием и святым Михаилом?
Голос за дверью звенел все напряженнее.
Странно, ведь Грация тоже должна была узнать меня, после всех наших долгих бесед в Италии, однако она продолжила шпарить по заученному, даже когда я подтвердил, что архангелов действительно зовут святой Георгий и святой Михаил.
– Сарко, – назвала она фамилию героя фильма, который я так и не снял в Сан-Себастьяне («Путешествие через четыре времени года»), и я в ответ произнес имя:
– Николас.
Но Грацию, закаленную в непростых заданиях журналистку, и это не убедило.
– Сколько футов пленки? – допытывалась она.
Я понял, что придется договаривать бесконечный пароль-отзыв, но опасался, что в соседних номерах могут обнаружиться любопытные уши.
– Кончай валять дурака и открывай уже, – велел я.
Однако она проявила непреклонность (которую в дальнейшем мы будем наблюдать на каждом шагу) и не пустила меня, пока не услышала последнее слово отзыва.
«Черт с вами, – обругал я про себя, похоже, не только ее и Елену, но и Эли. – Все женщины одинаковы».
С ненавистной мне покорностью супруга-подкаблучника я принялся отвечать на остальные вопросы. На последней строчке дверь открылась. Юная и очаровательная Грация, которую я знал по Италии, посмотрела на меня так, будто увидела призрак, и в ужасе попыталась захлопнуть дверь обратно. Позже она объяснила: «Смотрю на тебя и понимаю, что знакомое вроде лицо, а откуда знакомое – загадка». Еще бы. В Италии ей представили бородатого увальня Литтина, одетого как попало, и без очков, а теперь на пороге стоял некто лысый, близорукий, гладко выбритый и в банкирском дорогом костюме.
– Открывай, не бойся, – сказал я. – Это Мигель.
Даже окинув меня пристальным взглядом и впустив в номер, Грация продолжала настороженно коситься. Она включила радио на полную громкость, чтобы нашу беседу не подслушали из соседних номеров или через «жучки», однако в целом более или менее успокоилась. Вместе с тремя сотрудниками съемочной группы она прибыла неделей раньше меня, и благодаря доброму итальянскому посольству, не подозревающему об истинной цели наших съемок, они уже получили аккредитацию и разрешение на работу. Более того, несколько дней назад им посчастливилось снять правительственную верхушку на гала-спектакле «Мадам Баттерфляй», устроенном итальянским посольством в Муниципальном театре. В числе приглашенных был и генерал Пиночет, но он в последний момент отказался. Тем не менее присутствие итальянской съемочной группы на этом вечере сыграло нам на руку, поскольку таким образом группа официально декларировала свое прибытие в Сантьяго, чтобы впоследствии ее появление на улицах ни у кого не вызывало подозрений. Кроме того, поскольку нам пока не выдали разрешения на съемку во дворце Ла-Монеда, присутствие итальянцев на вечере послужило бы для чиновников дополнительным свидетельством благонадежности.
Это известие меня так воодушевило, что я готов был хоть сейчас окунуться в работу. Если бы не комендантский час, я бы попросил Грацию разбудить остальных участников группы, и мы отправились бы снимать на камеру первую ночь моего возвращения на родину. Мы так и планировали с самого начала – приступить сразу после прилета, сходясь, однако, во мнении, что остальная группа должна остаться в неведении и относительно съемочной программы и относительно того, кто на самом деле руководит процессом. Грация, в свою очередь, не подозревала, что над тем же фильмом работают еще две группы.
Нашу долгую беседу под граппу – итальянскую обжигающую водку, которую Грация всегда возила с собой почти как талисман, – прервал телефонный звонок. Мы одновременно вскочили, Грация схватила трубку, послушала секунду и тут же повесила. Звонил портье, просил убавить громкость, потому что постояльцы из соседних номеров жалуются.
Жуткая незабываемая тишина
Для одного дня эмоций оказалось чересчур много. Когда я вернулся к себе в номер, Елена уже мирно спала, оставив включенным ночник на моей тумбочке. Я бесшумно разделся, собираясь тоже как следует выспаться, но это оказалось невозможно. Стоило улечься в постель, как на меня навалилась жуткая тишина комендантского часа. Я не представлял, что где-то в мире может царить такое безмолвие. Оно давило на грудь все сильнее и сильнее и никак не заканчивалось. Огромный затемненный город не издавал ни единого звука. Ни журчания воды в трубах, ни дыхания Елены, ни даже моего собственного.
В тревоге я встал и высунулся в окно, пытаясь вдохнуть вольный воздух улицы, посмотреть на опустевший, но живой город. Никогда я не видел его таким безлюдным и печальным, сколько помню себя с тех пор, как впервые приехал сюда неоперившимся юнцом. Номер наш был на пятом этаже, окно выходило на тупиковый проулок с высокими закопченными стенами, над которыми сквозь пепельную дымку виднелся лишь клочок неба. Я не чувствовал себя дома, не верил, что все это наяву, – я ощущал себя преступником из какого-нибудь старого черно-белого фильма Марселя Карне.
Двенадцать лет назад, в семь часов утра, командующий патрулем сержант выпустил поверх моей головы автоматную очередь и велел встать в строй арестованных, которых он вел в здание Чилийской киностудии, где я работал. По всему городу гремели взрывы, тарахтели автоматные очереди, проносились на бреющем полете военные самолеты. Арестовавший меня сержант, сам ничего не понимая, спросил меня, что происходит, и заверил: «Мы держим нейтралитет». Зачем он мне это сказал и кого именно подразумевал под «нами», я не знал. Когда мы остались одни, сержант спросил:
– Это вы сняли «Шакала из Науэльторо»?
Я ответил, что да, и он, словно забыв обо всем – о выстрелах, о взрывах, о зажигалках, сыплющихся на президентский дворец, – попросил меня объяснить, как так получается, что в кино умирают понарошку, а кровь из ран течет настоящая. Я объяснил, и он пришел в настоящий восторг. Однако тут же опомнился.
– Не оглядываться, – приказал он нам. – Иначе голову оторву!
Мы бы не приняли его всерьез, если бы не увидели несколькими минутами раньше первых убитых на улицах; раненого, истекающего кровью на тротуаре без надежды на помощь; штатских, забивающих палками сторонников президента Сальвадора Альенде. Мы видели поставленных к стенке заключенных и взвод солдат, разыгрывающих расстрел. Но те, что нас конвоировали, сами спрашивали, что происходит, и повторяли: «Мы держим нейтралитет». Сумятица и неразбериха сводили с ума. Здание Чилийской киностудии было окружено, перед главным входом стояли нацеленные на двери пулеметы. Навстречу нам вышел вахтер в черном берете с эмблемой Социалистической партии.
– Вот! – закричал он, показывая на меня. – Это все из-за него, из-за сеньора Литтина, он здесь за все в ответе.
Сержант толкнул его с такой силой, что тот полетел на землю.
– Вали к чертям собачьим! – выругался сержант. – Не будь соплей!
Вахтер в ужасе поднялся на четвереньки и спросил у меня:
– Кофейку не хотите, сеньор Литтин? Кофейку?
Сержант попросил, чтобы я выяснил по телефону, что происходит. Я попытался, но ни с кем связаться не удалось. То и дело входил какой-нибудь офицер с приказом, а потом другой, с прямо противоположным: то курите, то не курите, то садитесь, то встаньте. Через полчаса явился молодой солдатик и указал на меня винтовкой.
– Сержант, там какая-то блондинка спрашивает этого человека.
Наверняка Эли, кто же еще. Сержант вышел поговорить. Пока его не было, солдаты успели нам рассказать, что их подняли спозаранку, позавтракать не дали, ничего ни у кого брать не разрешили, они замерзли и проголодались. Единственное, чем мы им могли помочь, – поделиться сигаретами.
За этим занятием нас и застал сержант, вернувшийся с лейтенантом, который принялся отбирать арестованных, чтобы увести на стадион[2]. Когда очередь дошла до меня, сержант перебил, не дав мне раскрыть рот:
– Нет, мой лейтенант, этот сеньор тут ни при чем, он пришел пожаловаться на соседей, которые раздолбали дубинками его автомобиль.
Лейтенант уставился на меня в замешательстве.
– Каким надо быть остолопом, чтобы в такой момент соваться с жалобами? Убирайтесь!
Я пустился бежать, не сомневаясь, что сейчас меня остановят выстрелом в спину под предлогом пресечения попытки к бегству. Но этого не произошло. Эли, которой, как оказалось, какой-то знакомый сообщил, что меня расстреляли перед входом на киностудию, пришла забрать тело. В окнах некоторых домов вывешивали знамена – условный знак, по которому военные должны были узнавать своих. Однако нас уже сдала соседка, осведомленная о наших связях в правительстве, о моем активном участии в президентской кампании Альенде, о собраниях, проводившихся в нашем доме, когда дело неотвратимо шло к перевороту. Поэтому домой мы не вернулись и целый месяц скитались по чужим квартирам с тремя детьми и минимумом необходимых вещей, спасаясь от смерти, которая следовала за нами по пятам, пока не выдавила на чужбину.
3. Оставшиеся тоже стали изгнанниками
В восемь утра я попросил Елену позвонить по лишь мне одному известному номеру и позвать человека, который дальше будет фигурировать под вымышленным именем – Франки. К телефону подошел он сам, и Елена, не вдаваясь в долгие объяснения, передала просьбу Габриэля прийти в пятьсот первый номер гостиницы «Конкистадор». Он прибыл через полчаса. Елена уже готова была к выходу, а я по-прежнему лежал в кровати и, услышав стук в дверь, накрылся одеялом с головой. На самом деле Франки понятия не имел, кого увидит, знал лишь, что любой вышедший с ним на связь Габриэль будет от меня. За последние дни ему уже позвонили три «Габриэля» (в том числе Грация), руководящие съемочными группами, и он даже не догадывался, что в качестве четвертого Габриэля перед ним предстану я сам.
Мы с ним были давними друзьями по «Народному единству», работали вместе над моими первыми фильмами, встречались на разных кинофестивалях и последний раз виделись год назад в Мексике. Но когда я высунул голову из-под одеяла, он меня все равно не узнал, пока я не засмеялся своим исключительным смехом. Вот тогда я окончательно поверил, что смена внешности удалась.
Франки я привлек к делу в конце прошлого года. Ему предстояло получить и по отдельности передать предварительные указания съемочным группам, а также подготовить почву для работы, не вторгаясь при этом в сферу деятельности Елены. С документами у него все было в полном порядке: имея чилийское гражданство, он добровольно уехал в Каракас после военного переворота, не попав ни в какие «черные списки», поэтому мог беспрепятственно участвовать в разных операциях в Чили. Благодаря своей известности и связям в кинематографических кругах, а также личному обаянию, изобретательности и отваге он как нельзя лучше подходил для нашего дела. И я не ошибся в выборе. Как мы и договаривались, он приехал в Чили из Перу неделей раньше, чтобы встретить и скоординировать три независимые друг от друга съемочные группы, и они уже приступили к работе. Французская группа будет передвигаться по северу страны, от Арики до Вальпараисо, снимая в соответствии с подробным планом, который мы с режиссером согласовали месяц назад в Париже. Голландской группе предстоит охватить южные районы. Итальянцы же останутся в Сантьяго и будут работать под моим непосредственным руководством, готовясь, если понадобится, заснять любой неожиданно подвернувшийся сюжет. Всем трем группам было поручено как можно больше (стараясь при этом не вызывать лишних подозрений) расспрашивать народ о Сальвадоре Альенде, поскольку мы полагали, что через отношение к погибшему президенту любому чилийцу будет проще выразить свои мысли насчет настоящего и будущего страны.
Франки располагал точными маршрутами всех групп с перечнем гостиниц, где они будут останавливаться, чтобы связаться с ними в любой момент. Таким образом я получал возможность лично отдавать телефонные распоряжения. Кроме того, Франки стал моим личным водителем и возил меня на взятой напрокат машине, которую мы меняли раз в три-четыре дня в разных прокатных конторах. На эти полтора месяца мы с ним стали практически неразлучны.
Трое обезглавленных свергают генерала
В девять утра мы приступили к работе. Пласа-де-Армас[3], находившаяся в нескольких кварталах от гостиницы, в реальности потрясала куда больше, чем в моих воспоминаниях. Она раскинулась под неярким осенним солнцем, струившим свой свет через кроны высоких деревьев. Цветы, обновлявшиеся на клумбах еженедельно, показались мне свежее и красочнее обычного. Итальянская группа работала на площади уже час, снимая утренний город – пенсионеров, читающих газеты на деревянных скамейках; старичков, сыплющих крошки голубям; барахольщиков с разными безделушками; фотографов со старинными аппаратами под черным покрывалом; уличных художников, рисующих моментальные шаржи; чистильщиков обуви, подозрительно смахивающих на осведомителей спецслужб; детей с разноцветными воздушными шарами у тележек с мороженым; прихожан у дверей собора. На углу площади кучковались, дожидаясь найма на какое-нибудь представление, безработные артисты – музыканты, фокусники и клоуны, а еще ряженые, так плотно загримированные и экстравагантно одетые, что невозможно было угадать, какого они пола. В отличие от вчерашнего вечера сейчас, этим прекрасным утром, на площади повсюду виднелись патрули из бдительных и хорошо вооруженных карабинеров, а из их автобусов с мощными стереосистемами гремела на полную громкость популярная музыка.
Как выяснилось впоследствии, полиция на улицах есть, просто она скрыта от посторонних глаз. На основных станциях метро круглосуточно дежурят тайные штурмовые отряды, а на боковых улицах стоят грузовики с водометами для жестокого подавления любых ежедневно вспыхивающих стихийных бунтов. Строже всего дозор на Пласа-де-Армас, в «солнечном сплетении» Сантьяго, где расположен Викариат солидарности – мощный оплот сопротивления диктатуре, основанный кардиналом Сильвой Энрикесом и поддерживаемый не только католиками, но и всеми борцами за возвращение демократии в Чили. Это придает организации несокрушимую моральную силу, и широкая залитая солнцем площадка перед зданием в любой день и час напоминает оживленную рыночную площадь. Там обретают приют и поддержку гонимые всех цветов кожи, это оперативный способ оказать помощь тем, кто в ней нуждается, зная, что она гарантированно дойдет по адресу, особенно если речь идет о политзаключенных и их семьях. Кроме того, там предаются огласке случаи пыток, организуются кампании по розыску бесследно исчезнувших и по борьбе с любого рода несправедливостью.
За несколько месяцев до моего нелегального приезда диктаторское правительство устроило покушение на викариат, которое обернулось в итоге против самой хунты и сильно ее встряхнуло. В конце февраля 1985 года были похищены трое активистов оппозиции, причем характер похищения напрямую указывал на его организаторов.
Социолога Хосе Мануэля Параду, служащего викариата, взяли на глазах его малолетних детей, прямо перед их школой, при этом полиция перекрыла движение на три квартала вокруг и весь район патрулировался военными вертолетами. Двух других похитили в разных районах города с разницей в несколько часов. Одним был Мануэль Герреро, руководитель Профсоюзного объединения работников образования Чили, а вторым – Сантьяго Наттино, уважаемый, но малоизвестный до активного участия в сопротивлении художник-график. Второго марта 1985 года три обезглавленных тела со следами истязаний были обнаружены на безлюдной дороге вблизи международного аэропорта Сантьяго. Генерал Сесар Мендоса Дюран, командующий корпусом карабинеров и член хунты, в своем заявлении для прессы сообщил, что тройное убийство – это результат внутренних чисток среди коммунистов, получающих указания из Москвы. Однако обман раскрылся, и генералу Мендосе Дюрану, которого общественное мнение обвинило в организации этого убийства, пришлось выйти из правительства. После этого одна из четырех улиц, расходящихся с Пласа-де-Армас, незаметно сменила свое старое название (улица Пуэнте) на новое – улица Хосе Мануэля Парады. Его она носит по сей день.