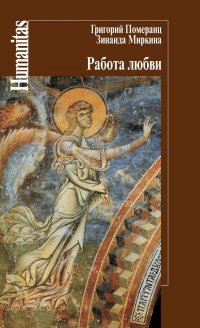Читать онлайн Страстная односторонность и бесстрастие духа бесплатно
- Все книги автора: Григорий Померанц
© Левит С. Я. составление серии, 2014
© Миркина З. А., правообладатель, 2014
© Университетская книга, 2014
© Центр гуманитарных инициатив, 2014
* * *
Опыты вольной мысли
Прорыв сквозь идеологию
1
Я был один из тех подопытных кроликов, на которых был поставлен эксперимент общества без религии, без чувства вечности, с одной идеологией светлого будущего. Условия эксперимента были выдержаны строго: никаких религиозных и философских традиций в семье; полная уверенность, что Маркс переставил Гегеля с головы на ноги и дальше надо стоять на ногах. Но в плоскости идеологии оказалась дырка: чувство страха перед внешней бесконечностью, в которой тонет смысл моей жизни; потребность во внутренней бесконечности, уравновешивающей бездну пространства и времени. Впервые это поразило меня в 9-м классе (мне было тогда 16 лет). Тангенсоида, уходившая в бесконечность, вдруг стала для меня символом провала в бездну. Я кое-как вышел из шока, отложив дальнейшее исследование бесконечности на будущее. Четыре года спустя будущее наступило; Тютчев, Толстой и Достоевский расшевелили во мне чувство метафизической тревоги…
На этот раз я решил не отступать и примерно три месяца держал в уме фразу: если бесконечность есть, то меня нет; а если я есть, то бесконечности нет. Слова «медитация» я тогда не знал и не догадывался, что текст, созданный мной, очень похож на коан (дзэнскую загадку без рациональной разгадки, загадку на переход от аналитического мышления к целостному). Месяца через три ко мне пришли некоторые идеи, вызвавшие чувство света в груди. Или наоборот: чувство света Я, пересилившее мрак бездны, породило в уме две идеи. Когда я показал первое изложение этих идей приятельнице, она сказала: первое – это объективный идеализм, второе – субъективный.
Я обиделся. Я был уверен, что мое новое открытие – самый что ни на есть творческий марксизм. Однако приятельница не ошиблась. Я использовал терминологию Маркса и Ленина, отдельные их случайные высказывания, почти оговорки, чтобы отвечать на вопросы, которые материалисты не ставили и из которых естественно вырастал идеализм. Я просто не знал, что заговорил прозой. Не знал я и того, что медитация сама по себе важнее слов, которые в ней рождаются, что за словами проступает та самая бесконечность Я, которую я искал. Мне казалось, что я просто решил интеллектуальную задачу и решение освободило меня от метафизического страха (решение не как практика, к которой надо возвращаться и возвращаться, а как словесная формула). Практику я по глупости прекратил, а слова, казавшиеся мне такими важными, не внесли ничего нового в опыт человечества. Все слова о чувстве вечности давно были сказаны и сказаны лучше, чем я это сделал. Первая моя идея: человек необходим в строе космоса, и человеческие усилия – часть вечной ткани бытия. Об этом лучше всего в «Бхагаватгите»: «Если бы Я перестал действовать, исчезли бы все миры. И потому сражайся, Бхарата!» Вторая идея – что в отдельном человеке сознает себя вся вселенная – тоже не нова.
Запись 1938 года не сохранилась Я цитирую ретроспективный текст, сочиненный после выхода из лагеря, в 1958 г., и отредактированный в 1959-м. По форме это философский диалог. Николай рассказывает о моих идеях, а Виктор и Евгений их высмеивают. Впрочем, и в речах Николая чувствуется ирония. Он излагает мои старые идеи без большой уверенности, скорее как факт своего развития, чем как свежую находку. Господствующим мировоззрением лагерных друзей был позитивизм (сменивший марксизм студенческих лет), и я шел на уступки, переходил временами на их язык.
2
Николай. Мне не хотелось думать, что интерес к гуманитарным проблемам был моей личной слабостью, не хотелось думать, что решающие проблемы действительности – это проблемы физики, химии (или, наконец, экономики), а то, что волнует меня, – для вселенной и для человечества значит не больше, чем десерт после обеда. Поэтому надо было доказать, что человек – главное лицо в мировом спектакле. И тут мне пришел на память первый тезис Маркса о Фейербахе: «Главный недостаток всего предшествующего материализма заключается в том, что действительность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика, не субъективно. Отсюда и произошло, что деятельная сторона, в противоположность материализму, развивалась идеализмом…» Прямой грамматический смысл этих слов в том, что человек – творец мира, что он – при полном развитии своих сил – играет в природе роль, которую верующие приписывают Богу. ‹…›
Я должен был доказать, что «воспитателя воспитывают» не только в смысле экономических «объективных причин», но и в смысле природы в целом, вселенной. Для этого я, прежде всего, поделил бесконечность на бесконечность; в итоге получается неопределенность, любое, но конечное число.‹…›
Если нет предела исчезающе малым дроблениям материи, то в любом нашем плевке содержится бесконечность, перед которой мы падаем во прах, глядя в небо. Человек ровно настолько же песчинка, насколько и макрокосмос. Словом, всем предметам возвращается их натуральная величина. То же со временем. Выражение «что это значит сравнительно с вечностью!» – теряет свой смысл: в микровселенных за один миг нашей жизни сменяются мириады цивилизаций. ‹…› Главное – отвлечься от всего нашего континуума, стать мысленно по ту сторону его, представить себе, как мы своей деятельностью – хотя и не видя конечных результатов ее – приводим в движение цепи причин, переворачивающих мириады микровселенных, по отношению к которым мы велики и могущественны. Какая тогда открывается картина! Нам принадлежит роль, приписанная демиургам, творцам миров. Но как боги греков, мы не всеведущи и не всемогущи. Внося в мир движение, мы поддерживаем существование не только космоса, но и хаоса, который раньше или позже поглотит космос – и наш, и всякий другой. «Вселенная порождает мыслящий дух в одном месте так же неизбежно, как и уничтожает его в другом». А мыслящий дух, сознательно участвуя в этой трагической игре, принимает на себя ответственность за вечный круговорот. В этом есть красота, которая не требует объяснений.
- Пускай олимпийцы завистливым оком
- Глядят на борьбу непреклонных сердец.
- Кто, ратуя, пал, побежденный лишь роком,
- Тот вырвал из рук их победный венец! ‹…›
Моя работа была всего-навсего попыткой пересказать прозой впечатление от хороших стихов. В истории философии это бывает не так редко. Например, Ригведаведанта… Но не будем в это углубляться. ‹…›
Концепция человека-демиурга в том виде, как я ее изложил, удовлетворяла меня, по-видимому, не всегда. Во всяком случае, рядом с ней из звездного ужаса родилась другая. Я оказался перед двумя рабочими гипотезами, не связанными друг с другом, не очень нуждавшимися, как мне казалось, друг в друге и удовлетворявшими внутреннее чувство каждая порознь. Это несколько подорвало значение каждой из них. ‹…›
Виктор. То есть ты перенес в антропологию и онтологию физическое представление об отсутствии четкой границы между частицей и полем?
Николай. Совершенно верно. Я начал с того, что наше сознание, хотя орган его – мозг – помещается в черепной коробке, не считает себя сознанием одного черепа. Напротив, положение каждого пальца входит в мое Я. ‹…›
Все вещное – лишь совокупность отношений с другими вещами. Уничтожьте целое – и исчезнут части; вне целого нет и частей, как нет рук, ног, ушей, отрезанных от организма: остается инерция формы, но и она быстро исчезает. Мир надо мыслить не как машину, составленную из самостоятельных частей, а как организм. ‹…›
Виктор. Итак, ты утверждал, что существует в действительности лишь целое?
Николай. Да, целое, подобное бесконечному клубку нитей, и отдельные предметы, вещи – только узелки этих нитей, идущих, так сказать, ниоткуда в никуда. Один из этих узелков – ты, я или другой человек; и в нас, мыслящих узелках, вселенная себя сознает. ‹…› Я пытаюсь развенчать придуманную бесконечность пространства и времени. Я знаю не хуже вас, что пространственно-временные отношения выставляют человека и всю его культуру чем-то вроде плесени на одной из маленьких планет. Я знаю, что совершенно вырваться из клетки пространства-времени мы не можем, даже если научимся свободно двигаться и хозяйничать в ней, выйдем из той клетки в клетке, которая ограничивает нас сейчас. Но это означает только, что пространственно-временные отношения в целом абстрактны, ограничены, отражают подлинное бытие не больше, чем тени на стене Платоновой пещеры. Только в напряженной душевной жизни человек прикасается к бытию, которого нигде нет, но к которому стремится все существующее. Только человек – и никто, кроме него. Только одухотворенное есть, только сфера духа, вырастающая в человеческой душе, – это область, в которой природа вырывается из своего унылого однообразия абстрактных отношений к бесконечному богатству качеств, к бесконечной полноте структур. Можно сказать, что природа – это рассеченный, разбросанный отдельными чертами человек, а человек – это сжатая в кулак природа, это Бог-Сын, который в земном существовании представляет собой образ и подобие Бога-Отца (если вы позволите мне воспользоваться этими выразительными метафорами. ‹…›
Виктор. Но ты возводишь исключение в правило! Как ни привлекателен, ни богат красками оазис, но он не показывает нам лица пустыни!
Николай. Тебе это кажется потому, что ты ставишь знак равенства между существованием оазиса и пустыни, не замечаешь разницы в интенсивности бытия. Ты сопоставляешь не бытие с бытием, а равновеликие клетки в пространственно-временной сетке. Человек выражает собой вселенную – так же, как Лев Толстой выразил дух русского народа, хотя остальные 99.999.999 мужиков, помещиков, чиновников, купцов не были Львами Толстыми. По интенсивности, полноте, многообразию бытия. Только непосредственно многообразное дает представление о бесконечном, – если, конечно, не сводить его к одной количественной абстрактной бесконечности, а понять как бесконечность качеств. Вред всех физических моделей мира в том, что вне специальных рамок физики, во всеобщей связи, они ложны, качественно оконечивая картину мира. Либо бесконечность, вселенную не следует себе никак представлять, либо представлять в качественно бесконечном человеческом образе, как его рисует искусство.
Виктор. Например, в виде «Дамы с веером» Пикассо.
Николай. Я имею в виду религиозное искусство, каким бы оно ни было по своим приемам, – искусство, которое стремится выразить максимум напряжения душевных сил, порыв к Абсолюту. Я понимаю, что образы искусства метафоричны, но лучше нет. Качественно конечные модели еще дальше от действительности. ‹…›
3
Вряд ли имеет смысл продолжать эти рассуждения. Но опыт, лежавший в их основе, был реальностью, и припоминание этой реальности помогло мне в августе 1942 г. Тогда внезапно напал на меня страх, безумный, панический страх. Умом я понимал, что бежать во время бомбежки бессмысленно – тем более что бомбили совхоз Котлубань километрах в двух или трех от того места, где я залег. Но доводы ума могли только подавлять вопли страха и удерживать от бегства. Мужества ум не давал. Я лежал, перебирая возможные средства преодолеть страх, и вдруг вспомнил, как вглядывался в темную бездну пространства и времени. Сразу стало легче. В сплошной стене страха появилась трещина. Тогда я ударил по ней словами, соединившими прошлое метафизическое бесстрашие с нынешним фронтовым страхом: «Я не испугался бесконечности, стоит ли бояться нескольких паршивых хейнкелей!» От этого удара стена страха рухнула. Я почувствовал свободу, встал и пошел, куда мне было велено. С этих пор я знал, что у меня в кармане ключ к бесстрашию, и вытаскивал этот ключ каждый раз, когда надо было.
В последующие годы желание философствовать приходило редко, отдельными наплывами. Война, лагерь, поздняя и очень глубокая любовь были значительнее, чем абстракции. Я как бы вернулся к молодости – или вернее заново, в зрелые годы, пережил опыт, который обычно предшествует размышлениям. В этом живом опыте я испытал несколько взлетов и падений и однажды – что-то вроде океанического чувства, совершенную потерю границ между Я и вселенной (то, что я теоретически постулировал в двадцать лет, а пережил – внезапно – в сорок).
Возвращение к философии пришло через катастрофу. Умерла на операционном столе моя жена, Ира Муравьева. Закрывая глаза, я видел себя разрубленным вдоль позвоночника. Левая сторона была похоронена на Кузьминском кладбище, а за правой – за тем, что шагало по тротуару, – волочились кишки. Это длилось два месяца, более тяжелых, чем всё прежнее. Выходом снова оказалась медитация, очень простая. Я чувствовал своим долгом поддержать волю к жизни своих пасынков и встретить Новый год, как обычно: «С Новым годом, с новым счастьем!» При попытке сказать про себя слова, резко расходившиеся с моим чувством, я начинал плакать. Надо было преодолеть слабость, и я стал упражняться и упорно повторять про себя: «С Новым годом, с новым счастьем!» Результат был неожиданным: я не только сказал вслух то, что надо, но приснился мне под утро, 1 января 1960 г., сон. Во сне рана закрылась, кишки засохли и отпали, больше этот кошмар не повторялся. В груди оставалось какое-то выжженное место, но с ним можно было жить. Я жил – и пытался осмыслить смерть и посмертие любви. С этих пор я думаю и пишу о последних вопросах так, как сам их пережил, только попутно опираясь на чужой опыт, примерно совпадающий с моим или превосходящий его. У меня нет потребности во внешнем авторитете. Или потребности свергать авторитеты. Авторитеты образуют систему координат, в которой я сам прочерчиваю свою кривую. Говоря словами Бердяева, я пишу не «о чем-то», а «что-то».
Внешним толчком к методическому размышлению был заказ написать статью о вульгаризации марксизма в антирелигиозной пропаганде. Статья не пошла, но в ходе работы возникло эссе «Две модели познания». Он полон воспоминаниями об Ире Муравьевой и связан ассоциациями с новым миром поэтического, сказочного и детского, который принесла мне Зина Миркина.
4
Есть две модели познания. Дети называют их «как будто» («понарошку») и «в самом деле» («взаправду»). Слова «как будто» – уступка взрослым. «Как будто» – для ребенка не менее истинное, чем «в самом деле». В мире «как будто», играя, он входит в ритм жизни и становится маленьким чудотворцем: превращает воду в вино, палку – в лошадку, щепку – в кораблик. В этом мире он всемогущ, всеведущ и всеблаг. Подобно Вишну, он воплощается каждый раз в того самого героя, который необходим для спасения человечества, и совершает великие подвиги. Модель «в самом деле» играет в жизни ребенка скорее служебную, вспомогательную роль: она дает знание, как в самом деле доехать до зоопарка (а не только сыграть в зверей), но желание попасть в зоопарк возникло в мире» как будто». ‹…›
Первую модель можно назвать дневной (или солнечной), а вторую – ночной (или лунной). Ночью небо сливается с морем и стеной подходит к берегу, и вся эта звездная стена плещется у ног. Днем хорошо виден каждый камешек, но за подробностями, за деталями, за деревьями исчезает лес. День – ювелир, чеканщик деталей, ночь – художник, пишущий крупными мазками. Я не думаю, что живописец хуже ювелира видит действительность, какая она есть. Два виденья, дневное и ночное, дополняют друг друга, оба они истинны.
Человеческое сознание с первых своих шагов создает и разрабатывает обе основные модели мира: мир как текучее переливчатое целое, охваченное единым ритмом (дао, «вечно живой огонь»); и мир как совокупность атомарных фактов, жестоко расчлененных и затем связанных более или менее точно фиксированными отношениями (равенство и неравенство, причинность и вероятность и т. д.).
Первая модель создается из слов или знаков, каждый из которых вызывает бесконечный поток ассоциаций; это слова-образы, тропы (метафоры). Вторая модель конструируется из однозначных слов, из знаков строго определенного смысла. Это слова-термины.
Образы (многозначные слова) – естественно сплетаются своими ассоциативными «полями», образуя более сложные образные сочетания. Термины строго связываются и разделяются по законам логики и математики (начавшими складываться гораздо раньше, чем родились Аристотель и Эвклид).
Эти модели не вполне совпадают с областью искусства и науки. Любая конкретная форма мышления не укладывается в рамки строгой логичности или строгой ассоциативности. Образное мышление можно отметить у многих ученых, например у Маркса. Сравнение греков с детьми, конечно, нельзя назвать логическим определением. Но Маркс, как мне кажется, следовал верному чутью, подсказавшему, что предмет рассуждения иногда требует перехода со строгого языка терминов на текучий язык уподоблений, метафор.
С другой стороны, только некоторые крайние течения в искусстве пытаются поставить знак равенства между поэтическим и иррациональным. Классическое искусство никогда не боялось использовать рассудочно осознанные формы. (Канон человеческого тела в скульптуре, ордер в архитектуре.) Ритм музыки не совпадает с тактом метронома, но вьется вокруг него, как лиана вокруг ствола. Размер, рифма и строфика в классическом стихотворении как бы расшивают канву – рассудочно определенную схему. И Пушкин в «Вакхической песне» ставит рядом, не чувствуя здесь никакого противоречия:
- Да здравствуют музы, да здравствует разум!
- Ты, солнце святое, гори!
- Как эта лампада бледнеет
- Пред ясным восходом зари,
- Так ложная мудрость мерцает и тлеет
- Пред солнцем бессмертным ума.
- Да здравствует солнце, да скроется тьма!
«Ум» здесь – сверхсознание, которое охватывает и логическое, и поэтически-ассоциативное познание действительности (я не утверждаю, что Пушкин это сказал; но мне кажется, что он это почувствовал и поэтически выразил).
Однако можно сказать, что в науке господствует тенденция к слову-термину и строгой логике связей, а в искусстве – к слову-образу и свободной ассоциации образов. С известными оговорками модель А может быть названа поэтической, модель Б – научной. ‹…›
5
Так я вошел в глубь проблемы, которой в XX в. занимались очень многие. Это одна из проблем нашего времени, вопрос о равновесии «иметь» и «быть» (Марсель, Фромм), «Я – Оно» и «Я – Ты» (Бубер), «структуры» и «коммунитас» (Тэрнер). То, что мыслители в разных странах выходят к одному и тому же, говорит о какой-то общей болезни цивилизации (хотя и называемой по-разному). Видимо, наступила пора восстановить равновесие, нарушенное в XVII–XVIII вв. Подойдя к этой задаче самостоятельно, в своих собственных терминах, я впоследствии собрал целую таблицу дихотомий, каждая из которых с новой точки зрения описывает реальную дихотомию (китайцы сводят ее к двойственности самого космоса, а физиологи – к разграничению функций между правым и левым полушарием мозга):
инь – ян правополушарное – левополушарное иррациональное – рациональное мифопоэтическое – логическое ремифологизация – демифологизация холизм – атомизм созерцание – действие романтическое – классическое интеграция – дифференциация
«я – ты» – «я – оно»
быть – иметь коммунитас – структура
Таким образом, эссе имело для меня большое значение, обобщив студенческие попытки создать таблицу стилей Нового времени:
………………………………………………………………………………….. ренессанс барокко………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. классицизм романтизм………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………….. реализм XIX в.
декаданс…………………………………………………………………………………….
После «Двух моделей» я нашел (по крайней мере, для себя) ответ на вопрос, зачем нужны были средние века: для новой интеграции человеческой массы, выбитой из разрушенных племен, для создания новой иерархии, основанной на авторитете Главной Книги (Библии, Корана, Бхагаватгиты), поднятой над хаосом философских школ. И сложился большой зигзаг, повторяющий логику малого зигзага стилей:
архаическая древность……………………………………………………………….
…………………………………………………………….. классическая древность средние века………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… Новое время послевоенное время…………………………………………………………………..
Вчитываясь в работы по социологии развития (что было моей профессиональной обязанностью), я понял развитие как дифференциацию, неизбежно связанную с разрушением целостности, потерей главного во множестве новых частностей, с потерей смысла жизни и духовной пустотой. Поэтому за каждым скачком развития следует переоценка ценностей, перенос акцента на восстановление утраченного чувства вечности, на восстановление солидарности людей, связанных какими-то общими символами вечности, воплотившими единый дух. Мировые религии выполнили эту задачу в рамках древних империй, но сегодня эти религии несут на себе отпечаток обособленности империй друг от друга, и перед нами стоит задача такой интерпретации великих традиций, чтобы они стали восприниматься как ипостаси Единого. Такая, примерно, философия истории сложилась у меня после «Двух моделей».
Однако непосредственно «Две модели» вызвали чувство неудовлетворенности. Мешала популярная форма, мешал извиняющийся тон, с которым я вводил метафорически-целостное. Этот поклон в сторону читателя-позитивиста я устранил в эссе «Три уровня бытия». Первый вариант был написан через три месяца после «Двух моделей», в том же 1962 г. (впоследствии, в 1964-м, текст был несколько переработан).
6
Я различаю в себе три уровня бытия. Это не значит, что их нельзя насчитать больше. Есть лестница, есть верх и низ, есть подъем – «есть ценностей незыблемая скала». Незыблемость ее в том, что она есть, и только. Число и форма ступенек зыблемы до бесконечности. Три можно свести к двум (тогда остается целое и атом, как я описал это в «Двух моделях познания»); можно учесть нулевой уровень бесформенности, аморфности, мещанского быта, не дошедшего до бытия. С нулевого уровня, при взгляде снизу, все небеса сливаются в одно небо, дальние галактики смотрятся как простые звездочки, почти незаметные рядом с другими, крупными звездами, а самыми большими, значительными и важными кажутся планеты, потому что они – ближе. И можно представить себе на третьем уровне новые различия. Отчасти я буду об этом говорить в конце, но сейчас пишу о другом: о том, что уже совсем сложилось во мне, что стало мной.
Первая ступень – это уровень особи. Вы чувствуете и осознаете себя как предмет, окруженный другими такими же изолированными предметами. Все, что вне вашего тела (и тесно связанного с ним пространства), не слишком затрагивает вашу душу. «Миру ли провалиться или мне чаю не пить? Я скажу, чтобы мир провалился, а мне чай всегда пить».
Против этой крайности восстает здравый смысл. Если мир провалится, то и чаю не напьешься. Индивидуалист совершенно необязательно глуп (или так раздражен, что рассуждать не способен). Он может быть рассудительным, и в меру своей рассудительности – социальным. На уровне особи может быть построена мораль (разумного эгоизма). Можно пойти дальше – усовершенствовать эту мораль, ввести в нее моменты игры. Можно рассудить, что стоит авансировать своих знакомых (посимпатичнее) хорошим отношением к ним, не требуя ничего взамен, рассчитывая на то, что жизнь в конце концов заплатит. По большей части так и бывает: авансы создают друзей, и это само по себе стоит гораздо большего, чем все банальные выгоды. Если дружеский кружок охватывает и мужчин и женщин, отношения между ними иногда становятся нежными… Вспыхивают и гаснут романы; какое-то время два атома чувствуют себя одной молекулой. Потом эта связь рвется, но взамен приходит другая, и так может идти вся жизнь – от огонька к огоньку.
На уровне особи может быть даже героизм. Вы принимаете известные правила, и если за проигрыш по этим правилам надо платить головой, вы платите. Не ради чего-нибудь, а просто из уважения к себе, просто потому, что это – ваша прихоть: играть по этим правилам, а не по другим.
Жизнь – игра. Хороший игрок не захлебывается успехом, не теряется от неудач. Он умеет проигрывать и может быть красивым в проигрыше. Голова его ясна, на губах – улыбка, в сердце – покой. Азарт, захлеб, жизнь, поставленная на карту, до полной гибели всерьез, – все это тоже бывает, но здесь игра перестает быть игрой. Это – начало чего-то нового, может быть, высшего; сердце игрока рвется к нему, рассудок боится его. За упоением может прийти усталость, опустошенность, раздражительность А если вы раздражены, если вы потеряли контроль над собой, то пиши пропало. Начинается полоса безнадежных проигрышей. И чем дальше, тем хуже. Преодолеть свои антипатии, свои комплексы, свои психозы и неврозы – трудно, часто невозможно. Не на что опереться, чтобы вырвать занозу. Нечем отвлечься от боли. Нет резервных позиций, на которых можно сосредоточиться. Приходится рвать с людьми (ставшими невыносимыми), переезжать в другое место, искать покоя в быстрой смене впечатлений, – словом, нужны условия и условия, чтобы быть здоровым. А если этих условий нет, вы стали калекой.
Отсюда (для менее сильных натур, стоящих, строго говоря, ниже первого уровня) ценность денег – «привратника внутреннего мира» (Зиммель), отсюда – борьба за обеспеченное существование, социальное положение, – хотя бы за счет других. Первый уровень – это уровень индивидуализма.
Вторая ступень (вторая – по пути к реальности; исторически она, наоборот, первая) – это уровень рода. Вы принадлежите к роду, и смысл вашей жизни в том, чтобы был род. Вы не спрашиваете, почему это надо, как лосось не спрашивает, зачем ему пробиваться вверх по реке и метнуть там икру – а если не хватит сил, разбиться о камни. Так надо.
В человеческом обществе безусловные рефлексы (или, как раньше говорили, инстинкты) с самого начала расшатаны. От этого – неустойчивость родового начала, чувство заброшенности (с него, собственно, и начинается человек, даже самый первобытный). И первая культура, которую создал человек, это родовая (племенная) культура, основанная на традиции. В ней все расставлено по местам, проверенным тысячелетним опытом, все прочно закреплено и огорожено табу. Традиция стала псевдоинстинктом человеческого рода. В строгих границах традиции человеческий дух впервые сознал себя и почувствовал свою силу.
Но переход к цивилизации снова все разрушил. Индивидуум вырвался из рода и – оказался в пустоте. (Там, где появляется атом, появляется и пустота.) Жить в пустоте было страшно, иногда попросту невозможно. Пришлось создавать суррогаты родовых институтов; но законченный теплый мир племени нельзя было возродить (этот газон надо подстригать тысячи лет, а цивилизации всегда не хватает времени). ‹…›
Уровень рода (в обществе, где род разрушен) – это уровень страстей. Они неожиданно связывают вас с одним и отделяют от других. Вы любите и ненавидите тех, кто любит иначе, вы ненавидите и любите тех, кто ненавидит вместе с вами. Господствующее чувство здесь – любовь к кому-то (или к чему-то) одному, на котором весь свет сходится клином. Смысл жизни – быть вместе с любимым. Чувство собственного достоинства, разум, долг – вообще все ценности, признанные трезвой особью, отступают на второй план. Разлука с любимым хуже смерти. Гибель любимого в тысячу раз хуже собственной смерти. Если любимого больше нет – ничего нет. Небо раскалывается над головой и осколками подает на землю. Любимый – замок свода вселенной. Когда рухнул замок, своды не могут больше держаться. И то, что они все-таки держатся, – несправедливо, нелепо, ненужно.
Первая ступень – это уровень Аполлона, освещенный яркими лучами разума. Предметы и отношения между ними самостоятельны и отчетливы, и они легко сознаются рассудком. А=А. А то, что не может быть освещено, что остается в тени, – как бы не существует. Если даже оно очевидно, его надо отвергнуть, как Зенон отвергает движение, как Фарината, сжигаемый адским пламенем, все равно отвергал ад.
Вторая ступень – это уровень Диониса, уровень безрассудства. Бессознательное, поставленное вне закона разумом, не признанное и не выраженное (как некогда оно выражалось в системе магических действий), вырывается неожиданно, стихийно. Вы сознаете, что рассудок осточертел вам и ретроградно пихаете его ногой. Разум признает себя простофилей и откровенно следует за чувством. А чувство взлетает и падает как придется. В своих падениях оно бросает вниз, к подпольному человеку, над которым разумный эгоист стоит безгранично высоко. Но в своих взлетах оно приподнимает над рассудочностью и переносит с земли на небо. Мадам де Реналь говорит Жюльену Сорелю: «Я испытываю к тебе то, что должна была испытать к Богу: благоговение, любовь, страх». И она следует за Жюльеном так же, как Франциск Ассизский следовал за Христом. ‹…›
Третья ступень – это уровень непостижимого целого. Вы чувствуете своим телом весь необъятный мир. Маленькое тело с его интеллектом становится только одним из органов большого тела – единственным, которым вы свободно двигаете, вашим главным инструментом, и только. Остальные тоже иногда подчиняются вашей воле, от случая к случаю. Тогда мы говорим о чуде. Но главное чудо третьего уровня – то, что вы чувствуете боль и радость всего вокруг (хотя, может быть, глухо доходящую боль и радость). Вы относитесь к каждому человеку, как к своему ребенку, и к миру – как будто вы сами, с трудом и любовью, создали его. Это то, чего хотел Христос. Это – уровень бессмертия, потому что бытие, ощутившее себя в вашем теле, не знает смерти. Это уровень свободы, потому что нет больше ничего вне вас, что могло бы вас ограничить, обусловить. ‹…›
Господствующее чувство на третьей ступени – то же, что на второй, и в то же время совершенно другое: как будто река вдруг потеряла берега и стала морем. И все камни, поднятые ею в горах, улеглись на дно.
Эту любовь незачем искать, ее не надо завоевывать. Она повсюду, и достаточно быть живым, чтобы она прикоснулась к нам. Наоборот, надо совершенно потерять человеческий облик, чтобы волны ее нехотя обошли тебя, оставили в стороне.
На этой ступени нельзя спрашивать, по ком звонит колокол. Он всегда звонит по тебе. Каждая душа, оставленная своим телом, привязывается к твоей, вливается в твою душу, передает тебе свою любовь, свою боль, свою тайну. И ты идешь, перегруженный ими, и не хватило бы десяти тысяч жизней, чтобы сделать все, – что ты хочешь, что ты не можешь не сделать – и знаешь, что не одолеешь. ‹…›
Построение «трех уровней», может быть, не совсем «логично». Постановка «уровня рода» после «уровня особи» не соответствует исторической последовательности, но таким было мое личное развитие. Уровень рода ассоциативно связан с уровнем страстей, а время страстей началось для меня с войны, с 1941 г., и страсти (массовые или, во всяком случае, доступные каждому) держали меня в своей власти второй период жизни, после юношеского атомизма и попыток выйти за рамки атома усилиями абстрактной мысли.
Пух одуванчика
1
Яверю в чудо. Это не значит, что я не верю в законы больших чисел. Но в этих законах есть дырка: «ретроградный джентльмен» Достоевского (из «Подполья»). Капризами можно пренебречь, они входят в норму. Но что делать, если происходит своего рода намагничивание, и ретроградные джентльмены выстраиваются в каре? Что делать, если одна из частиц перестает быть частицей, становится целым, и все, попавшие в ее поле, тянутся за ней?
Как это происходит – не знаю. Возможно, есть мировая душа, и она вся вдруг воплощается в одном. Можно привести даже некоторые доводы в пользу этого, указать на некоторые факты: коллективный разум пчел; общая душа группы, вертящей блюдце, с воплощением в медиуме; книги, нашедшие дорогу к сердцу самых разных людей… Но факты не доводят до мировой души, в которую входят каплями все живые души, и ушедшие из нашего мира, и никогда не приходившие в него из других миров. Тут уже не факты, а метафоры, прикасание к тому, что нельзя точно высказать. Я просто верю в это, т. е. чувствую, что есть чудо, невысказанная тайна жизни, и это – основа всех основ.
Если взять за начало отсчета современное научное представление о мире, то чудо – последовательный ряд невероятных, портящих правильные кривые, событий. Не невозможных, но в высшей степени маловероятных. И первое чудо – существование мира (потому что оно противоречит второму закону термодинамики). Второе чудо – возникновение жизни (вероятность естественного сочетания всех необходимых для этого условий ничтожно мала). Третье чудо – человек. И все, что человек делает настоящего, это тоже чудо (только чудеса мы и запоминаем. Цивилизации гибнут, сказки остаются).
Большой ряд чудес (в который, как точки, входят маленькие чудеса) кончается Богом. И человеком, вместившим в себя Бога. Отдельная душа вмещает в себя все живые души всего мира, и бывшие, и не бывшие, и в нашем мире, и в других. Как это было в Христе (или – почти в наши дни – в Рамакришне). И доступное нам чудо – как состояние, похожее на легкое прикосновение неуловимого, прикосновение и исчезновение, ничего такого, что можно удержать, можно только открыться ему, и тогда оно приходит снова и снова.
Бог есть любовь, – а любовь это что-то между музыкой и тишиной, ее так же нельзя до конца высказать, как нельзя поймать синюю птицу. Можно только ловить. И можно приручить. Когда приручишь, она позволяет прикасаться к своим перышкам. Но от грубого прикосновения она сейчас же исчезает.
Я не могу представить себе это что-то всемогущим. Я не мог бы простить всемогущему Богу одну смерть (не свою, конечно). И я понимаю, что мать могла простить за себя, но права не имела простить за мальчика, затравленного псами. Я вернул бы этому Богу билетик в рай, – бог с ней, с гармонией, не нужно мне такой.
Но Бог не всемогущ. Это сила, которая хочет воплотиться, ей надо помочь, разумом и волей. Божеские законы так же имеют дырки, как и человеческие, и дырки эти разрослись бы в одну сплошную дыру, в которой все потонет, если бы человек их время от времени не затыкал.
Я заговорил языком сказки, но иначе вышло бы слишком долго и путано, как птоломеевские эпициклы. Сказочные «как будто» – это коперниковские круги, простые и ясные. Глазами во лбу мы видим и сейчас, после Коперника, только путаные движения блуждающих звезд. Но глазами души мы можем видеть яснее. Когда мы вспоминаем тех, кто был живым чудом, и приближаемся к ним.
Чудеса – бытовое явление. Мы просто не замечаем этого, если у нас неподходяще настроена голова (или, может быть, сердце). Как мальчик, трясущий яблоню, не замечает закона всемирного тяготения. А Ньютон взял и заметил. (2–22 января 1961.)
2
Я верю в чудо, и поэтому не верю, что человека и человеческие отношения можно заменить какими-нибудь рычагами. Я верю в то, что человек сыт не единым хлебом, и при известном развитии он сознает, что духовная свобода ему так же нужна, как хлеб (и больше, чем мясо и молоко). «Сильно развитая личность, вполне уверенная в своем праве быть личностью, не боящаяся никакой угрозы, не может найти для себя никакого другого применения, кроме как отдать себя всю всем, чтобы и другие были такими же развитыми и полноправными личностями». (Это, или примерно это, сказал Достоевский.) То есть с развитием связана не только потребность в свободе духа, но и способность к ней (способность использовать свободу для любви, а не для насилия), и способность к борьбе за нее. Если это полное развитие, в которое входит и «прикосновение к мирам иным», а не только рафинированная цивилизация – от которой Клеопатра втыкала булавки в груди своих невольниц, Ставрогин насиловал ребенка. Но потом он сам себя истребил: рафинированность и жестокость не способны надолго ужиться. Рафинированность ведет к размыканию замкнувшейся в себе личности, к торжеству добра – или к опустошению и смерти. Это самое важное, что сказал Достоевский в своих романах. Это разгадка тайны, которая поразила его на каторге в «сверхчеловеке» Орлове – неуязвимом только потому, что он груб. Свидригайлов и Ставрогин уже уязвимы и поэтому невозможны. Может быть, вы читаете Достоевского иначе. Я читаю так.
Моя вера основана на ощущении, таком же неуловимом для многих, как прикосновение пушинок одуванчика к коже носорога. Но у меня тонкая кожа. И человек вообще – тонкокожее существо. Это одно из его главных отличий.
Вы не думали, почему человек рождается с такой тонкой кожей? Даже самый примитивный австралиец? Почему это устроил Бог, или выработал половой подбор, оставив человека голого, без шерсти, в жару и мороз? Смысл только в том, чтобы тоньше чувствовать ласку и как подобие ласки почувствовать прикосновение к чему-то, что животные, лишенные бессмертной души (восприятия вселенной, как целого), не могут ощутить. Жизнь очень груба, и большинство людей, стараясь приспособиться к ней, теряют свою тонкокожесть и смеются над тонкокожими интеллигентами. Но дети снова родятся с тонкой кожей, и как они ни стараются потом стать носорогами, это никогда не выходит до конца. Особенно у женщин. И «неприспособленный» (к грубости) интеллигент – это как раз существо, самое приспособленное к человеческой жизни, самое развитое – гадкий утенок, который совсем не гадкий, а лебедь.
Только сейчас «развитое» человечество начинает освобождаться от непосильного груза физического труда, получает досуг, в который каждый, отработав свое, может читать стихи и слушать музыку. И впервые стало возможным каждому дать образование, которое раньше получали только графы да князья. Это еще в самом начале, и пока культура, растекаясь вширь, теряет глубину, становится плоской, мещанской. Но это сейчас. А потом?
Завтрашний день принадлежит лаборатории. А это значит, что послезавтрашний день принадлежит поэтам и учителям, людям, способным лучше других чувствовать и выражать смысл жизни, зажигаться об других и зажигать их радостью жизни. Чем мы дальше от естественной красоты и гармонии природы, тем важнее и необходимее искусство и воспитание творческих способностей.
Партер консерватории полон физиками. Среди людей, развитых настолько, чтобы понимать Эйнштейна, уже относительно много таких, которые не могут жить без Баха и Мандельштама, без всей настоящей культуры. Во всяком случае – гораздо больше, чем среди молотобойцев. Настоящих интеллигентов и среди физиков не слишком много, но их уже достаточно, чтобы интеллигентность не выводилась даже в стране, где она не слишком ценится. Интеллигентность (даже если ничего не делается, чтобы растить и развивать ее) сама собой ползет вслед за спутниками, ее так же нельзя отделить и отбросить, как тень от тела.
И в этом – моя надежда. Интеллигент не способен быть палачом, и он постарается что-то придумать, чтобы обойтись без смертной казни. Интеллигент не способен видеть, как человек рядом с ним нуждается в самом необходимом (как бы ни было это необходимое условным), и гораздо легче, чем мещанин, откажется от части своего, чтобы и другому досталось.
Пока еще мир очень пестрый, большая часть людей еще живет не в ХХ веке, а бог весть в каком, и вынуждена заботиться только о том, чтобы не умереть с голоду. Но ведь кончится когда-нибудь проблема слаборазвитых стран! И тогда останется только проблема элоев и морлоков, и умные элои авось дотянут до себя морлоков, просто даже из чувства самосохранения, потому что иначе морлоки их съедят.
Это не значит, что решатся все проблемы. Появятся сразу другие, и их опять будет трудно решить. Но я ясно вижу, что сегодняшние «проклятые вопросы» все разрешимы – так, как я говорю, – и будущие проклятые вопросы тоже будут решаться, пока человечество не дойдет до конца своих дней и не умрет, убитое каким-то не видным еще сегодня ударом.
Мне могут сказать, что я недооцениваю других, мрачных перспектив. Например, атомной войны. Но я просто не хочу об этом думать. Перспектив много – и светлых, и мрачных. Я не знаю, какая сегодня и завтра будет сильнее. Но я знаю, что та, которую мы любим и о которой крепко думаем, от этого крепнет. Кассандра, которая ни о чем не может думать, кроме несчастий, становится электрическим телом, заряженным несчастьями, и распространяет их вокруг себя.
А я верю в чудо. Я согласен с Кассандрой: нужно чудо, чтобы спасти человечество. Но ключ к этому чуду – в нас самих. Надо только поверить, что еще не кончился и никогда не кончится век чудес. Поверить так, как в это верю я. И одного порыва веры, легкого, как пух одуванчика, довольно, чтобы чудо свершилось, чтобы кривая, уже вынесшая нас на край пропасти, неожиданно повернулась – и пусть потом ученые спорят, какая необходимость к этому привела. (3-22 января 1961)
Это был мой первый подступ к теме гадкого утенка. Я его только сократил и заменил несколько слов. (4 января 1994)
Принц Аэрт
Начиная с XV–XVI вв. река текла в одном направлении. И стало казаться, что это естественно, все равно как камню падать вниз. Были пороги, водовороты, но после водоворотов история опять двигалась к той же цели. Как будто она подчинялась строгому закону, вроде закона тяжести. Привычное стало восприниматься как необходимое, разумное и истинное; в области идеала (где-то, куда шел прогресс) оно сливалось в прекрасным и добрым. Все ценности жизни мыслились в пространстве и времени, в конце пути, по которому толкала необходимость и вел разум. Короче это можно высказать формулой Гегеля: свобода – понятая необходимость.
Однако история движется не по прямой и даже не по спирали, а какими-то надломами и зигзагами. Все прямолинейные режимы лежат в пропасти истории. Самая живучая и плодотворная культура, средиземноморская, несколько раз вдребезги разбивала свою голову. Но движение каждый раз продолжалось – с поворотом почти на сто восемьдесят градусов, с хвоста, с нестроевой команды.
…Впереди командир на лихом коне, за ним оркестр, издающий бодрые и в то же время торжественные звуки, далее в порядке, установленном штабом, следуют роты и батальоны. В хвосте, поминутно теряя шаг, глотают пыль созерцатели, ротозеи – пустой народ.
И вдруг пропасть. Ее не удается ни заровнять, ни завалить трупами. Под бодрые и в то же время торжественные звуки марша рота за ротой и батальон за батальоном проваливаются в бездонную дыру. Штабных офицеров судят и расстреливают, но от этого неразбериха только растет. В конце концов, осатаневший начальник самолично прыгает в тартарары. Или его спихивают туда. На поверхности остается только нестроевая команда, стихийно пополнившаяся дезертирами. Команда делает вид, что движется в положенной дирекции, но в пропасть не прыгает, топчется на месте. Потом, убедившись, что недреманое око уснуло, созерцатели, обнаглев, начинают искать новую дорогу.
Впереди ни зги не видно. То, что постижимо, никуда не годится. Разум пытается выйти за пределы клетки, которую соорудил, но всюду натыкается на свои координаты. При попытке высунуться просветы координат исчезают.
Можно бы обтечь их, перелиться, как волна, – но для этого надо не сознавать себя корпускулой.
Такую задачу нельзя даже высказать на языке отвердевшей, потерявшей детскую гибкость культуры. Язык детского лепета, язык переливчатых образов она сохранила только как беллетристический прием, для отдыха от серьезных занятий. Слова «чудо» и «бог» стали синонимами слова «абсурд», а с ними в царство абсурда попала свобода. Информация начинает мыслиться как антоним свободы. Свобода сближается с неопределенностью, с непознаваемым, иррациональным. Разум становится сознанием тьмы.
Старое сознание света умерло, новое еще не родилось. Царит глубокая ночь. Никто не может сказать, с какой стороны подымается солнце. Все попытки идти «заре навстречу» кончаются новыми пропастями и новыми грудами трупов. И в конце концов рождается простая, как мычание, идея: плевать! Плевать на истину, гармонию, плевать, есть ли в истории смысл или нет (скорее всего – нет). Существование прежде сущности. Свобода – очень простая штука: возможность выбора. Если нельзя жить, можно выбрать смерть. Нужно только одно: посметь. «Никогда не поздно быть свободным!» С этими словами принц Аэрт, у Ромена Роллана, выбрасывается из окна. «Где та пропасть, в которую бросают свободных людей?» (слова Эзопа в пьесе Лопе де Фигейредо). «Человек присужден к свободе»…
Эта фраза Сартра (которая пересказывается и популяризируется в пьесе «Лиса и виноград») великолепно звучит и без обделки в драму. Как метафора, она превосходна.
Но кто поставил знак равенства между выбором и свободой? Кажется, механики. В механике свобода означает простую и ясную вещь: поезд может ездить по рельсам взад и вперед; автомобиль – еще поворачивать вправо и влево, а самолет – подыматься и опускаться… Какое отношение все это имеет к человеку?
Человек, оказавшийся в положении поезда и даже самолета, не чувствует себя свободным. Ему нужна бесконечная возможность выбора. Или возможность выбрать предмет, в котором непосредственно содержится бесконечность, – синюю птицу…
Если нет бесконечности выбора, то нет свободы. Есть только перевод из тесной камеры в другую, попросторнее. Сартр мог бы вспомнить Вольтера. Когда Кандиду предложили выбор между шпицрутенами и расстрелом, он не испытал чувства свободы. Ни то, ни другое не радовало его. И если нельзя сделать хороший выбор – к чему вообще выбирать?
Звонкую фразу Сартра можно вывернуть наизнанку: человек присужден к выбору между рабством и смертью. Таким образом мы возвращаемся от Сартра к его учителю, Хайдеггеру.
Сартр стихийно верит в возможность хорошего выбора. Я также. Но, по-моему, надо показать, что в мире есть нечто, делающее нас свободными, если мы выберем его и прикоснемся к нему; и, во-вторых, – указать путь к такому выбору. То и другое у Сартра, в лучшем случае, едва намечено.
* * *
Что делать человеку, который не поверит на слово, не согласится, что игра стоит свеч? Что делать, если я не вижу никакой возможности хорошего выбора? Если все возможности кажутся мне одинаково дурными, одинаково запутывающими, завлекающими в ничто? Если зеленая улица не имеет конца?
На этом стоит Хайдеггер, с которого Сартр начал – и, по моему, не сумел далеко отойти от него. Точка зрения Хайдеггера кажется суровой истиной, освобожденной от всех обманчивых покровов. Недостойно человека идти, как ослу, за пучком сена, привязанным к шесту, – за призраком свободы. Если в мире нет действительно свободного бытия, что толку в свободе выбора – тех или других палок, тех или других петель, в которых запутывается свободная воля? Только глядя в лицо смерти, мы глядим в лицо истине. «Смерть – единственное, в чем я никогда не сомневался», – говорит персонаж одного современного немецкого романа. На ней – на собственной смерти и на смерти всего существующего – должна сосредоточиться мысль, чтобы стать мыслью о бытии. «Присужден к свободе…» Еще одна иллюзия, еще один клок сена! Скажем прямо и честно: присужден к смерти.
Закрыв глаза на это, мы закрываем глаза на истину. Мы не видим, как общественная жизнь подсовывает нам вместо бытия организацию этого бытия, создание материальных предпосылок, рационализацию этой организации и этих предпосылок, организацию этой рационализации и т. д. – до полной внутренней пустоты, до того, что само наше Я исчезает, и на том месте, где оно когда-то было, усаживается среднестатистическое некто, подлежащее неопределенно-личного предложения. Наша функция в общественном механизме становится нашим лицом, а лица больше нет. Тощие коровы средств съели тучных коров целей, и наступил великий духовный голод. Остались только вывески над дверью в разрушенный дом. Дома нет.
Сравнительно с этой беспощадной глубиной и последовательностью мысли Сартр – просто легкомысленный эссеист. Я думаю, Хайдеггер так о нем и говорит в узком дружеском кругу. Но в мире Сартра есть то, чего у Хайдеггера нет: любовь. И поэтому публика выбрала Сартра. Потому что публика дура? Или глас народа – глас Божий?
В основе системы Сартра, насколько я ее понимаю, – невыносимая ситуация, созданная (для неврастенического эгоцентрика) существованием другого. Когда появляется другой, предметы, окружавшие раньше меня, начинают окружать его, и я сам оказываюсь предметом чужого мира. «Другой крадет у меня мое пространство». «Существование другого – недопустимый скандал».
Выход из этого тупика – любовь. Откуда она берется в мире неврастеников, мечущихся между садизмом, мазохизмом и отвращением к жизни, не совсем ясно (это одно из многочисленных слабых мест в системе Сартра)[1]. Но да погибнет последовательность и да здравствует жизнь! Откуда-то любовь приходит. Полюбив, другой хочет моего бытия больше, чем своего собственного. Он снова ставит меня в центр пространства; он возвращает мне утраченную вселенную. Пусть это выигрыш в рулетку, которая, в общем, существует только для того, чтобы разорять людей, – но выигрыш в мире Сартра существует. По этому Сартр не теряет вкуса к игре. Поэтому свобода выбора для него – это ценность, за которую стоит бороться. Поэтому Сартр – один из вдохновителей Сопротивления, а Хайдеггер голосовал за Гитлера. Мудрость Хайдеггера – это мудрость мира, лишенного любви, веры и надежды. Это мудрость ада. Хайдеггер совершенно последовательно воспринимает и описывает жизнь как ад. И если мир – это ад, то богом становится дьявол.
Мир Сартра скорее напоминает чистилище. Вроде бы как тот же ад, но откуда-то в него попадают причудливые искры. Что это? Миражи, призраки, огоньки, вьющиеся над паленым человеческим мясом? Или «нездешний свет», сочащийся откуда-то из другого мира?
То, что эти отсветы присутствуют в аду, нелогично. Чистилище вообще нелогично. Это уступка женской логике, логике человека, любившего и прикоснувшегося через свою любовь к жизни. В мысли Сартра нет последовательности кабинетного мизантропа.
Хайдеггер говорит о смерти, и Сартр говорит о смерти; у обоих возможность выбрать смерть – гарантия нашей свободы. Но каждый понимает эту гарантию по-своему.
В мире Хайдеггера жизнь служит смерти; жизнь – лживое, обманчивое, влекущее лицо смерти. В мире Сартра, напротив, смерть служит жизни. Смерть – запасный выход; поглядывая на него, люди спокойно, без паники выходят в обычные двери.
Во время войны я боялся танков. Они могли окружить и взять в плен. А в плен мне никак нельзя было попадать. Чувство страха не нравилось мне, я проанализировал его и нашел выход – завидя танки, расстегивал кобуру или просто поглаживал ее: на худой конец, застрелюсь. С этих пор танки перестали мне действовать на нервы. Когда я думаю о Сартре, я вспоминаю этот эпизод из своей биографии.
* * *
«Никогда не поздно быть свободным!» Сказав это, принц Аэрт выбрасывается из окна…
Но всегда ли можно выброситься из окна? Всегда ли откроется запасный выход? Или в некоторых случаях запасную дверь нельзя открыть?
У Роллана выбор Аэрта оправдан: принц одинок и никого за собой в окно не тянет. Но представим себе на минуту, что Аэрт женщина; за юбку ее цепляются несколько детей… Что ей делать? Бросаться самой и оставить их? Можно себе вообразить ситуацию, в которой такой поступок был бы лучшим уроком – если ребенок уже способен понять его… Но что делать с грудным? Вышвырнуть сперва его? Медея может рассчитывать на наше удивление, но любви к себе она как-то не вызывает…
«Лучше умереть стоя, чем жить на коленях…» В том числе и матери с грудным ребенком на руках? Не думаю. Она не свободна выбирать. Ее выбор уже сделан. Она любит. А любовь – это нечто бессмысленное, неразумное – для обособившейся и замкнувшейся в себе личности. Это порыв к бытию, в котором исчезает иллюзия самостоятельного, оторвавшегося от целого и от других людей индивида – атома. А целое может потребовать всего: иногда – жизни, иногда – внешней свободы. Внутренне тот, кто с целым, всегда свободен.
Но этого Сартр не понимает. Он не может расстаться с бытием, ставшим абсурдным, с бытием ветхого европейского Адама, и провозглашает абсурдность всякого бытия.
Исходный пункт Сартра – то, что Гегель называл атомистическим состоянием общества, Маркс – буржуазным индивидуализмом, Достоевский – «периодом обособления». Эта «ситуация» (или, лучше сказать, цепь ситуаций) начинается с Демокрита и Эпикура, тлеет в средние века, прорываясь фигурами вроде Фаринаты, возрождается Петраркой и т. д. Она сделала Европу Европой, поставила Европу в центре мира – и привела мир на край гибели. Принцип личности, индивидуума, Я, – это сила одновременно творческая и разрушительная, сила, без которой человечество в будущем немыслимо, но без преображения которой оно также немыслимо. Сартр стоит на внутренне распадающейся, не преображенной почве старой Европы и думает, что это вечная почва духа. Фауст, схваченный за горло лемурами, кажется ему «ситуацией», одинаково действительной для прошлого, настоящего и будущего. На самом деле, Фауст не всегда был Фаустом последних сцен последнего акта, и он не может оставаться таким долго.
Он погибнет – или спасется…
60-е годы
За поворотом
Я почти одновременно познакомился с Виталием Рубиным и Володей Осиповым. Кажется, с Володей осенью 58-го, а с Виталием – летом 59-го. Оба были тогда (как потом это назвали) демократы, т. е. хотели расширения человеческих прав и не замыкались ни в какие национальные проблемы. Чистый случай, что я не пригласил Виталия на свой философский семинар и они не встретились.
Володя был почти мальчик; лет двадцати, не очень образованный, но с каким-то даром возмущения на ложь и несправедливость. Он буквально вспыхивал от казенной фальши и все время попадал в истории.
Виталий – старше, ироничнее (хотя за иронией его скрывался неисчерпаемый энтузиазм). Очень чувствовалась в нем традиция семьи. Я еще застал в живых его отца и непременно сошелся бы с ним поближе, если бы он вскоре не умер. В старике было какое-то редкое сочетание легкости и глубины. Философское образование, немыслимое в наше время, проскальзывало, но не давило. Почти танцующее «ученое незнание». Мне кажется, Виталий унаследовал от отца легкость характера, бодрость, быстроту ума – но в Ароне Рубине было еще что-то…
Знакомство с Осиповым длилось года два. После дела Пастернака меня потянуло к молодым людям, не отравленным страхом. Володя принадлежал к этому именно типу. К сожалению, его закадычный друг, Саша (?) Иванов, скоро начал вызывать у меня отвращение – и тем больше, чем больше он подлизывался. Ему непременно надо было покрасоваться, попозировать, свои опусы он подписывал тогда Рахметов и требовал, чтобы его называли Рахметовым.
Как-то я спросил Рахметова, почему он ударился в оппозицию; это ведь дело опасное. Он ответил, что страдает от невыносимого духовного голода, задыхается без хороших книг и т. п. Я посоветовал выучить английский язык. Ответ запомнился мне на всю жизнь:
– Но ведь это очень трудно!
Перо у него было, впрочем, бойкое. Сочетание Хлестакова со Смердяковым. И так мне он опостылел, что при первом удобном случае я прекратил семинар, где мы встречались.
Ссоры не было, и оставалась возможность встретиться у общих знакомых. К несчастью, Володя и несколько других молодых людей, собиравшихся у памятника Маяковского, дали себя спровоцировать на разговоры, что Никиту, дескать, надо убить, как поджигателя войны. За это самых горячих схватили и упрятали в лагерь, а остальных напугали и прекратили таким образом сходки (что и требовалось). В лагере прямодушный и прямолинейный Осипов узнал впервые, как много людей и как сильно ненавидят русских. После одного разговора его всю ночь трясло, а утром он решил, что всегда будет за русских – правы они или не правы. Это грустная история напечатана в журнале «Континент», в статье Хейфеца «Русский патриот Владимир Осипов».
Когда Осипова посадили, я был очень огорчен. Считал и до сих пор считаю себя виноватым, что из-за Иванова порвал с ним и не смог удержать его от глупой истории…
Так кончилась первая моя попытка бесед с молодежью: эпизодом в биографии редактора «Вече». Осипов тоже вспоминает ее с недоумением: «Было всякое, в том числе философский семинар, которым руководил неизвестный тогда Померанц» (так было в статье Хейфеца, в «Континенте», номера не помню).
Долгое время каждый номер «Вече» вызывал у меня чувство боли. Но постепенно пришло понимание. До перекрестка мы шли вместе, а потом должны были разойтись.
Представим себе на минуту, что советская система развалилась и на миллионы русских в союзных и автономных республиках обрушилась волна долго сдерживаемой ненависти. Их будут резать, как ингуши, вернувшись из ссылки, резали нефтяников Грозного, не уходивших немедленно из ингушских домов (этот эпизод сталинской политики дружбы народов и ее хрущевского исправления вызвал в 1958 г. бунт колонов, подавленный войсками). «Вече» – идейный центр будущего ОАС или «Иргун цвай леуми». Если Менахем Бегин исторически оправдан, то и Осипов оправдан. У них разные мифы, но мне хочется взглянуть сквозь миф, в сердце. А там – инстинкт самосохранения, оправданного, как все живое. Что касается мифов, то миф Осипова прост и практичен: во всем виноваты не мы, русские. Нас ненавидят напрасно. Виноваты – они! Такая идеология легко и просто дает чувство уверенности в своей правоте. С национальным покаянием Барабанова или запутанным раскаянием и самоограничением Солженицына трудно было бы вдохновить будущих русских фалангистов против будущих антирусских палестинцев. Слишком сложно – даже для офицеров.
Я все могу понять, но мне от этого не легче. Вспоминаю благородного порывистого Володю – и мне жаль, что его так далеко занесло.
Отношения с Виталием складывались просто и естественно, без всяких домашних семинаров. Когда я поступил в сектор Востока ФБОН (Фундаментальная библиотека общественных наук), мы очень скоро подружились, Виталий был захвачен переоценкой роли Конфуция, и я охотно слушал его рассказы о конфликте конфуцианского гуманизма с принципом государственной пользы в учениях школы фацзя (легистов). Легизм превозносился в сталинские годы и легко ассоциировался со сталинизмом, отчасти даже персонально (апологеты фа-цзя были нераскаявшиеся сталинисты). Я вполне сочувствовал пафосу Виталия и перенес его в свою речь 3 декабря 1965 г., на которую рассердился Семичастный (см. «Знание – сила», 1991, № 5).
Сложнее было с другими древнекитайскими спорами. Глубокой идее, по словам Н. Бора, противостоит другая, такая же глубокая. Честно говоря, и легисты были не совсем неправы, – государство не может обойтись без писаных законов, без административного механизма. Конфуцианцы это в конце концов признали и не отвергли механизм, построенный в духе фа-цзя, а только реформировали его (этот процесс превосходно описал Дерк Бодде). Но правота легистов мельче, чем правота Конфуция. Весь ум легистов – на уровне администрации. Духовного легизма нет и быть не может. Для культуры чистый, неразбавленный легизм бесплоден и разрушителен. Другое дело – даосы. Или буддисты. Виталий был совершенно увлечен своей войной с Шан Яном и заодно бранил Лаоцзы – за некоторые фрагменты, использованные легистами. О мне было плевать на эти фрагменты. Лаоцзы захватил меня на таком уровне, что его политические взгляды казались делом десятым – примерно как политические взгляды Достоевского.
Лаоцзы, Чжуанцзы, буддизм чань…
Я читал Судзуки, Уоттса, Дюмулена и усвоил ироническое отношение к конфуцианским гуманистам. Мое отношение к конфуцианству раздваивалось, я сочувствовал конфуцианству в споре с легизмом и сочувствовал чань в споре с конфуцианством. Позиция Виталия была более партийной. Из наших споров выросла моя концепция двух ведущих типов досовременных носителей культуры, изложенная в статье «Шэньши как тип средневекового книжника»[2]. Что извлек из моих возражений Виталий – не знаю. Портрет Чжуанцзы в его книге о культуре древнего Китая получился интересным. Но портреты Конфуция и Мэнцзы удались все же лучше. Виталия несомненно лично тянуло к философии нравственной активности, так же как меня – к поэзии созерцания.
Начав писать статьи по сравнительной культурологии, я непременно показывал Виталию первые варианты своих работ. С его помощью и с помощью других моих консультантов (А. Герасимова, А. Сыркина, М. Занда) я смог избежать промахов, неизбежных при отрывочном востоковедческом образовании.
Но еще раньше у нас с Виталием открылось новое общее поле деятельности: капустники. Как-то вдруг возникло сознание, что зигзаги Никиты скорее расшатывают режим, чем укрепляют его, и отдельные хамские выходки заслуживают только смеха. Заговорило армянское радио. Интеллигенция, смеясь, прощалась со своими страхами. С какого-то капустника Виталий принес частушки:
- Мы с Пал Палычем вдвоем
- Обнаглели – и поем…
И мы с Виталием обнаглели. В 1961 г. читался у нас доклад о Кубе. Там, дескать, старое переплетается с новым. Например, по-прежнему устраиваются конкурсы красоты, но при этом учитываются и производственные показатели. Мы переглянулись с Виталием и секретарем комсомольской организации Игорем Добронравовым и начали давиться от смеха. В тот же вечер решено было устроить капустник» Выборы мисс ФБОН» и по производственным показателям выбрать Б-ву (пожилую и некрасивую, но очень деловую даму). Потом Б-ву пожалели, производственные показатели были забыты, и на первое место вылезла опасность культа мисс ФБОН. Выбрать королеву просто, но попробуйте ее переизбрать, это может оказаться и вовсе невозможным, как показывает пример недавнего прошлого… (долгая пауза) в Португалии, Греции и других капиталистических странах. Королева будет стареть, но повсюду ее портреты в блеске красоты, а юных соперниц ссылают в книгохранилище на каторжные работы… Всего в своей предостерегающей речи уже не помню, но смеха было много. Культ личности я описал довольно подробно. Виталий (потерявший здоровье в проверочных лагерях после выхода из окружения) играл роль капустного прокурора, наш общий друг Василий Николаевич Романов (сидевший еще в 1934–1937 гг.) тоже что-то острил…
В конце концов, нескольких девушек признали одинаково хорошенькими и таким образом избрали коллективное руководство. Публика наполовину состояла из читателей библиотеки; наши шутки разошлись по нескольким институтам.
Следующий капустник был посвящен культуркампфу Никиты против Эрнста Неизвестного(впоследствии спроектировавшего памятник на Новодевичьем). Называлось это «Террор в ФБОН». Свинарка Мария Заглада, судившая о живописи, была травестирована в Марию Зануду, в маске поросенка, хрюкавшую перед пустой рамой (абстрактная живопись). Центральным номером были вызовы в кабинет следователя. Мне удалось убедить молодого ученого с довольно простым лицом (сына чекиста) сыграть роль следователя, а у него хватило чувства юмора согласиться. Роль свою он сыграл превосходно, совсем как на Лубянке. Являлись мы к нему с парой белья подмышкой. Моя жена говорила, что ей было совсем не смешно, но хохот был гомерический. Дня через два Никита выступил с разгромной речью против абстрактивизма. Молва, перепутав, посчитала наш капустник прямым ответом на его речь. Но до такой наглости мы не доросли.
Когда «пошел Никита юзом»[3], я спросил Виталия: «Где будет какой-нибудь интересный доклад или дискуссия?» Он ответил: «Сегодня в Институте истории – доклад Елены Михайловны Штаерман о циклических теориях исторического процесса». Циклические так циклические. Мы отпросились у заведующей отделом и пошли в буфет…
Я еще в 50-е годы решил, что наша система – подобие византийской, самодержавие без престолонаследия. В период междуцарствия она несколько теряет свою силу. Власть поминутно оглядывается и не уверена в себе. Коллективное руководство занято взаимными подкопами. Чиновники сами не знают, что велит новый хозяин, кого давить…
И вот теперь оно настало, время, когда самый маленький ветерок – событие. Попробую выступить. По какому поводу? По первому попавшемуся. Циклические так циклические…
Пока Виталий стоял в очереди за винегретом, я присел за столик и набросал на каталожной карточке несколько мыслей по поводу циклических теорий. С этим идейным багажом мы поехали в Институт истории и стали слушать. Елена Михайловна долго, часа полтора крутилась вокруг высказываний Маркса, Энгельса, Ленина. Кончила она примерно на том, о чем начала: что классики марксизма кое-что о циклических теориях говорили, но ничего определенного из их высказываний не вытекало. А отойти от цитат и прямо сказать, что она сама думает, докладчица не решилась.
Когда Елена Михайловна кончила, председатель спросил: «Кто хочет выступить?». Все молчали. Никто не решился ступить на неогороженное цитатами поле. Я поднял руку – и мне сейчас же дали слово.
Опыт публичных выступлений у меня был только один: капустный. И в Институте истории, после архиосторожного доклада, я выступил так:
По-моему, есть два типа циклических движений. Первый случай: обезьяна кладет один на другой ящики, чтобы достать банан. Кладет неумело, ящики разваливаются, и приходится начинать заново. Это модель циклизма на основе невыполненной исторической задачи. Второй случай – колебания моды. Юбки укорачиваются до предела, а когда предел мини достигнут, начинается движение в обратную сторону, до предела макси. Это модель циклизма на основе выполненной исторической задачи.
Председатель, М. Я. Гефтер, спросил: «Нельзя ли поближе к истории?» – «Пожалуйста», – ответил я и дал несколько заранее припасенных примеров: из истории доколумбовой Америки, Французской революции, древнего Китая и т. п. Когда я кончил и сходил с трибуны, Виталий сидел затылком к кафедре. Потом он мне объяснил: я смотрел, не собираются ли тебя линчевать. Но линчевать меня не стали. Только удивленный Гефтер спросил во время перерыва Виталия: откуда Померанц знает про Цинь Шихуанди? Виталий откровенно ответил: «Это я ему рассказал».
Так начались мои попытки вклиниться в дискуссии, которые велись в институтах Академии наук, и превратить их вялое течение во что-то вроде французской банкетной кампании 1847 г. Это было проба, эксперимент. Либо начнется цепной процесс, либо мой расчет неверен. Проверкой мог быть только опыт. Я приходил, садился, слушал. На что-то хотелось возразить. Начнут в голове мелькать мысли, я их набрасываю на каталожные карточки и прошу слова. Иногда выходило хорошо, иногда не очень, но своего я добился. В ноябре 1965 г. меня пригласили сделать двадцатиминутный доклад на конференции «Личность и общество» в Институте философии.
Никакого сговора ни с кем у меня не было. Я не знал, что будут говорить другие и кто будет в зале. Но обстановка сама по себе сложилась такая, как надо. Лед растопил Виталий своей речью о совести историка. Это была именно речь, а не научное сообщение. Он говорил, что ему стыдно назвать свою профессию – историк; что слово «история» стало синонимом лжи, бессовестной фальсификации, духовной продажности… Говорил горячо, проводили его аплодисментами, и когда я начал с известных стихов Наума Коржавина, зал сразу откликнулся (я это почувствовал)…
А потом, когда кто-то попытался возражать с позиций всепобеждающего учения, Лена Огородникова-Романова сравнила моих оппонентов с Шигалевым: и они, дескать, начинают с идеи свободы и приходят к рабству.
Любопытно, что все три острые речи произнесли сотрудники ФБОН, библиографы, а не члены официального корпуса советской науки. «Библиограф – профессия неудачника», – часто говорила Лена Огородникова. Судя по ней – профессия человека, и не искавшего удачи. Она умерла года через четыре от инсульта, оставив несколько эссе, написанных в стол. И только три опубликованные статьи – в сборнике «Август 1914-го читают на родине». Цитируются и ее неопубликованные эссе о «Докторе Живаго», и ответные письма Пастернака. (Ср. предисловие к томику прозы Пастернака.) Я до сих пор помню некоторые ее реплики в коридорах ФБОН. Лена была поэт реплики, т. е. самого бескорыстного слова, брошенного, чтобы прозвучать и исчезнуть. Так прошла и вся ее жизнь.
В 1966 г. наши надежды подогрела культурная революция в Китае. Я еще раз использовал рубинскую концепцию раннего конфуцианства в статье «Размышление о Циньском огне» (оставшейся ненапечатанной и впоследствии включенной в мою книжку «Неопубликованное». Мюнхен, 1972). Какие-то надежды подавала и хозяйственная реформа. Либо она должна была провалиться (что и случилось), либо захватить и политику, и культуру. Что получится – было не совсем ясно. Разочаровала меня только весна 1967 г. Очень сильным ударом было чтение в апреле романа А. Солженицына «В круге первом». Многое в романе захватывало, радовало, было то самое, что мне хотелось увидеть высказанным, напечатанным. И в то же время резко бросались в глаза неприязнь к интеллигенции (вырвавшаяся впоследствии в «Образованщине», сб. «Из-под глыб») и склонность к расчесыванию старых национальных ран и обид (тлеющая под пеплом христианского смирения). Именно чужое в своем было невыносимо. Началось то направление оппозиционной мысли, которое сегодня господствует в эмиграции и которое меня глубоко отталкивает…
Вторая травма была реакция Москвы на шестидневную войну. Прага ликовала, в Варшаве интеллигенция завалила посольство Израиля цветами. В Москве – вялое и скорее враждебное недоумение. Москва пробавлялась частушками:
- Абрам и ахнуть не успел,
- Как на него Насер насел.
И вдруг –
- Насер и ахнуть не успел,
- Как на него Абрам насел.
Непонятно…
В 1956 г. я негодовал на Израиль за то, что он расколол мировое общественное мнение в дни будапештского кризиса. Но в 1967 г. не было союза Израиля с Англией и Францией, да и колониализма почти не было… На Синайском полуострове столкнулись демократия и тоталитаризм, и демократия победила. Это было ошеломительно, как Марафон. Но в Москве (за исключением очень узкого круга) не было самого желания свободы, тоски по свободе, радости за успех свободы. По этим впечатлениям легко было предсказать события 1968 г.: всеобщий порыв к свободе в Чехии, движение интеллигенции в Польше, не поддержанное (тогда) народом, – и отсутствие всякого движения в России (несколько диссидентских ласточек не делают весны).
Виталий дольше сохранил оптимизм. Помню, как он с Василием Николаевичем Романовым пытался использовать профсоюзное собрание для выступления против директора, В. И. Шункова, запретившего вечер Солженицына в нашей библиотеке. Председатель тогда бросил свой колокольчик и таким образом призвал публику расходиться (поскольку повестка дня была исчерпана). Я взял колокольчик и заявил, что собрание продолжается (хотелось довести эксперимент до конца, до голосования резолюции). Кто просит слова?
Заместительнице директора, И. Ходош, пришлось произнести демагогическую речь. Потом я поставил рубинско-романовский вотум недоверия на голосование… Против дирекции голосовали трое (авторы предложения и я, с этих пор нам не платили премиальных). Остальные голосовали по обычным советским нормам.
Следующий раз Виталий вспыхнул, когда Лариса Богораз и Павел Литвинов дали пресс-конференцию иностранным корреспондентам. Помню, это и меня поразило. Но я никак не мог согласиться со словами Павла, что «у щуки выпали зубы». А Виталий был совершенно захвачен. О своих поездках к Павлу он рассказывал с неподдельным энтузиазмом. События в Москве шли так, что для энтузиазма оставалось все меньше места, зато в Праге… Иногда и мне казалось, что Прага вызовет цепной процесс в Восточной Европе, а там – чем черт не шутит…
Но наступил август. Оставалось или отказаться от оптимизма, или от своих корней в России. Я выбрал первое, Виталий – второе. Думаю, что и в этом случае, как и в спорах о Конфуции и Чжуанцзы, оба были правы.
Тут самое трудное – это понять самого себя. Период колебаний занял у меня года два. Он отразился в «Неуловимом образе», в «Двух принцах» и в первых двух частях «Снов земли». Победило желание – не суетиться, принять свою судьбу во внешнем и двигаться по мере сил внутрь.
В этом решении сказалось много обстоятельств. Я не мог представить себя в другом языковом облике. А если за мною всюду потащится русский язык, то зачем, без крайней нужды, уезжать из России? Писать пока не мешают. А печататься… Я уже привык, что книги печатаются спустя четверть века. Это отчасти даже хорошо: отсеивается литературная суета. Можно ли писать в гниющем обществе? Можно. Империя, ради которой Сервантес потерял руку, развалилась, а «Дон Кихот» остался, и «Жизнь есть сон», и Эль Греко, и Сурбаран… Всюду можно вживаться в жизнь до любой посильной тебе духовной глубины. А уникальный исторический опыт утопии – неотразимо привлекателен для историка…
Какую-то роль играли и личные связи, и диалог со спорадически возникавшей аудиторией, и то, что у меня нет детей (которых надо спасти). Все это важно для меня – и совершенно не важно для другого. Виталия неудержимо потянуло туда, где его деятельный, рациональный и гуманный оптимизм получил новый смысл. Я его вполне понимал. Огорчали меня только накладные расходы выбора. Но никто не расходится с женщиной, не вспоминая ее недостатков. Так и с доисторической родиной[4]: с нею нельзя было расстаться, не облив презрением.
Правильно было и то, что Виталий поехал в Израиль, а не на Запад. Израиль после 1967 г. был полон веры в свои силы и создавал ту нравственную среду, которая была как будто специально придумана для него. Скептический и усталый Запад вряд ли мог стать Виталию второй родиной.
Есть люди другого типа, для которых домом может стать именно Запад. И, разумеется, они вправе ехать прямиком в Европу, или в Америку, или хоть в Австралию и не впутываться в ближневосточные конфликты. Меня огорчило решение правительства Израиля не поддерживать таких эмигрантов. Диаспора – одна из вечных ипостасей еврейства. Израиль создан энергией диаспоры, и на нем лежит долг помогать ей. Это, по-моему, очень важное обстоятельство. Во-вторых, либерализм (форпостом которого стал Израиль) требует ставить на первое место права и интересы личности. Наконец, диаспора – страховка еврейской судьбы. Рассыпанная по всему миру, всюду беззащитная, она неуязвима для одного удара, одной бомбы. Если человечество уцелеет, то и диаспора уцелеет. И если Израиль вновь погибнет, диаспора когда-нибудь вновь его возродит. Но дело не только в этом. Диаспора – это явление мировой культуры. В диаспоре родилась одна из важнейших мыслей Библии: «Будь милостив к чужаку, ибо сам ты был чужаком в земле Египетской». В диаспоре много уродливых черт, но она не сводится к уродствам. Диаспора – это контакт со множеством культур. Пусть часть евреев будет потеряна для еврейства. Зато останутся книги Гейне, Пруста, Мандельштама…
Здесь, как и во многих других случаях, о которых я сегодня пишу, ни у какого личного решения нет монополии на историческую и нравственную оправданность. Истина в каждом случае индивидуальна, для каждого своя. Богу безразлично, в какой угол человек забьется. Важно, чтобы это был его угол, чтобы человек нашел свой дом и в этом доме – тишину и покой для движения вглубь. Дом Виталия нашелся в Израиле.
С точки зрения страны, которую Виталий покинул, начавшаяся алия тоже имеет смысл. Распад системы начался с распада оппозиции. Не сумев увлечь народы общей борьбой за права человека, оппозиция стала рассыпаться и наполовину рассыпалась на национальные партии. В обществе, где одна официальная идеология, одна официальная партия и только национальностей много, центробежные тенденции необходимо должны были принять национальный характер. Национальности превращаются в партии – сионизм, сепаратизм разных наименований и проч. Только маленькое ядро остается верным космополитическим принципам гуманности и прав личности. В новых условиях это ядро все больше отступает на роль всесоюзного политического Красного Креста и информационного центра Международной амнистии. Я всем сердцем сочувствую его бескорыстному служению, но не возлагаю на него политических надежд.
Пока что жизнь все больше и больше разбегается по национальным путям, и в этом положении – как и во всяком положении – мир открывается по-новому. Виталий начал видеть нечто общее между конфуцианством и иудаизмом: этический пафос, понимание ценности семьи и общества, сдержанное отношение к мистицизму… Я не читал последних статей Виталия Рубина. Но думаю, что несколько лет работы, свободной от оглядки на цензуру, в обстановке, которую человек сам выбрал, дали свои плоды.
Чувствовал ли Виталий трагизм израильской судьбы? Сознавал ли он, что меняет положение узника на положение бойца в осажденной навечно крепости, который может отбивать врагов, делать вылазки, но не может снять осаду?
Одного он не знал бесспорно: что его самого ждет придорожный столб в пустыне Негев и жизнь оборвется мгновенно – без раздумий, сожалений, мук. Легко для него, невыносимо для близких (я испытал нечто подобное и понимаю это). Смерть приходит, как вор, и вот уже двух моих товарищей, с которыми мы 3 декабря 1965 г. встряхнули Институт философии, нет в живых. И остаются ненапечатанные статьи, оборванные черновики. Может быть, все мы – Божьи черновики, которые к исходу дня сметают и бросают в корзину. И редко какой лист, написанный начисто, остается на столе.
На эти вопросы никогда не будет ответа. Но каждый человек должен стать самим собой и пройти свой жизненный путь по своей продуманной воле.
Начало 80-х годов
Неразрешимое
Как-то летом я увидел Вовку. Он стоял на углу Воздвиженки и Моховой, возле вестибюля метро «Библиотека имени Ленина», и ждал кого-то. Мы встретились глазами; он с отвращением отвернулся. И вдруг я понял, как выгляжу в его глазах. Он никогда не изменял нашей дружбе. Изменил я.
В самое трудное для меня время, в конце сороковых, Вовка мне помогал чем мог. Ему пришлось из-за этого объясняться. Сперва с девушкой, которую к нему приставили, собираясь выдвинуть на более высокий пост. Он разгадал игру и использовал секретную сотрудницу вдвойне: как любовницу и как источник благожелательной информации. Потом официально вызвали и стали расспрашивать, какие вредные идеи я высказывал. Вовка и об этом мне рассказал, хотя дал подписку не разглашать. Почему же я пошел на разрыв?
Кажется (сейчас трудно вспомнить), я вышел из лагеря с сознанием интеллигентского закона, вроде воровского. А Вовка ссучился, сделался главным редактором скверной газеты. Разграничение между «ворами» и «суками» стало для меня важнее всего личного. Что-то вроде партийного нежелания идти на совет нечестивых. И я не позвонил и не зашел.
Потом мы все-таки встретились, уже после смерти Иры. Не помню как, не помню где это случилось, но Вовка был очень рад, так рад, что я откликнулся. По старой памяти он тут же зашел ко мне на Зачатьевский со своей очередной любовницей. Посидели, пошутили. Через пару дней спросил, нельзя ли получить ключ. Раньше я охотно оказывал ему эту услугу, но сейчас мои 7 кв. м были полны памятью Иры, и я объяснил, что мне не хочется смешивать с этим мысль о другой женщине. Вовка удивился, но не обиделся. Двойные мысли были его привычкой и второй натурой, во всякой ситуации он ловил какую-то выгоду. Но без ключа так без ключа. Встреча сама по себе была для него радостью. Как будто молодость вернулась через десяток лет.
На стене комнаты висел мой деформированный портрет с неестественно большими глазами. Вовка с удивлением рассмотрел его и вспомнил, что когда-то был «модернистом», а я «классиком». Теперь роли переменились. Реплика Вовки около портрета была мягкой и трогательной; в ней плеснули воспоминания школьных лет и не было ничего, связанного с выгодой. Но несколько дней спустя он пригласил меня к себе на квартиру, где по-прежнему жил со своей женой (он менял любовниц, а с женой не расходился). Разговор зашел о газете, и Вовка с апломбом стал говорить, что бранит мальчишек, а великим художникам воздает должное. Мне было бы легче, если бы он оставался циником. Прежний Вовка со мной сбрасывал маску и говорил о том, что он писал и делал, с улыбкой Мефистофеля…
Как-то в богато отделанном кабинете сменного редактора он сказал мне: «Я сегодня подписал совершенно черносотенную передовую». На другой день я развернул официоз и убедился, что все так и есть. С этим человекам я водиться мог. Мы как бы жили в одном плутовском романе, только он избрал себе роль плута, а я – роль дурака. Но друг с другом мы говорили на одном языке и называли кошку кошкой, а мерзость мерзостью…
На следствии, где перемывались мои косточки со школьных лет, я тщательно обходил фамилию Вовки и наши общие проделки принимал на себя: не хотел мешать его карьере. Пусть играет в свою игру. Но игра плохо кончилась. Маска приросла к лицу. Недаром я избегал встречи… И теперь очень сдержанно, но сухо я возразил, что Баху или Рембрандту все равно, что о них пишут в Москве, а живых он калечит. Вовка, с обычной своей уверенностью отмахивался. Я попрощался и ушел. Говорить было не о чем, он изменил неписаному правилу нашей юности: не лгать самому себе. На этом наша дружба кончилась. Несколько лет я не сомневался, что поступил совершенно правильно. И вдруг увидел все с другой стороны.
Я должен был попытаться. Я должен был попробовать, подумать, как сбить его с позиции, к которой он привык. Скорее всего я ничего бы не добился. Вовке слишком хотелось выигрывать, всегда выигрывать, и совершенно естественно, что он стал функционером игры, духовно слился с правилами игры на выигрыш. Но совершенной безнадежности не было.
Старый друг стоил труда, стоил, наконец, горячей ссоры (потому что мы непременно поссорились бы в 63-м, в 65-м, в 68-м…). А я перешагнул через него, как через труп, и только через несколько лет почувствовал, что перед Вовкой, с его понятиями о дружбе, оказался предателем. Это самый запомнившийся мне случай, когда я действовал в полном сознании своей правоты и даже высоты и вдруг увидел, что однозначности нет, что столкнулись две правды и ради одной правды я растоптал другую. Я выбрал большую правду и переступил через меньшую, но ведь могло быть и наоборот. Так, мой тесть, участвовавший в реквизициях, 60 лет спустя говорил мне: «Это был грабеж». То, что льстило его самолюбию гимназиста, в старике вызывало стыд. А сколько дел наделали эти гимназисты – с чистой, как снег, совестью!
Впрочем, лично мне больше врезались в память другие ситуации, когда я сознавал, что столкнулись «надо» и «надо», и в любом случае я поступлю против совести; если ничего не буду делать, отойду в сторону – выйдет еще хуже. И я брал на себя грех действия и жил с сознанием этого греха; иногда такого тяжелого, что я не спал ночами. Жизнь запутанна, и во многих случаях чистого выхода нет. И надо, может быть, до конца дней вспоминать со страданием свое решение, но не колебаться в нем.
Я не верю в твердые правила, как жить не по лжи. Даже если я поступлю по правилу, установленному в древности или выработанному в моей собственной жизни, я никогда не связан им накрепко. Ни одна заповедь не действительна во всех без исключения случаях; заповедь сталкивается с заповедью – и неизвестно, какой следовать, и никакие правила не действительны без простоянной проверки сердцем, без способности решать, когда какое правило старше. И даже сердце не дает надежного совета в запутанном случае, когда трое и больше людей чувствуют по-разному, и тогда решает любовь. Поэтому составлению новых правил я никогда не придавал большого значения, формулировал их мягко, с долей иронии. И всю свою страсть вкладывал в другое, в пробуждение непосредственного сердечного чувства правды.
Да, непосредственное сердечное чувство есть и у Льва Толстого, и у Александра Солженицына. Но, по Толстому, сердечное чувство (совпадающее с вечным правилом) дает в результате совершенно чистую жизнь. И по Солженицыну так же. А по-моему, совершенно чистой жизни быть не может. Что-то подобное говорил Швейцер: «Чистая совесть – уловка дьявола». Мы чисты только в те минуты, или часы, или дни, когда всей душой обращены к Богу. Все остальное время проходит на краю греха – и то и дело мы грешим. Грешим против первой заповеди, повернувшись к миру. Грешим против второй заповеди, отвернувшись от мира. Оставляем мир лежать во зле или вмешиваемся в его запутанность и сами запутываемся в ней.
Кришнамурти говорил: «Если вы увидите реальность зависти так, как реальность кобры, вы броситесь от нее бежать, как от кобры». Это правда. От зависти можно убежать. Но куда убежать от любви? Разве в полную отрешенность, как это делает Кришнамурти, называя отрешенность любовью и не привязываясь ни к одному человеку. Любовь без привязанности обращена только к Богу. Это первая заповедь, и еще раз первая заповедь, и еще раз – без второй. А если ты полюбил ближнего, сразу начинается запутанность. Невозможно любить ближнего, как самого себя (и больше себя), и не разрушить ради любви другие заповеди. Жить в этом мире, любить женщину, или страну, или народ, или интеллигенцию, или истину и не творить зла… Пусть кто-нибудь покажет, как это делается.
Я не позволил себе влюбиться в Агнесу К. Тут все было ясно. Муж в тюрьме. Она его любит. Даже молчаливое чувство без единого действия было бы дурно. Мне удалось переломить себя. Но Виктор сам меня развязал, открыл мне, что не любит больше Иру и мечтает о том, чтобы она куда-нибудь от него ушла. А не предлагает ей этого прямо, потому что не хочет разменивать квартиру. Про квартиру мне показалось совершенно несерьезным; я сразу возразил, что надо развестись и разменяться. А обвинения против Иры слишком противоречили тому, что Виктор говорил мне пять лет тому назад. Черный портрет наложился на голубой, и вышло что-то загадочное. Я, впрочем, больше верил своим глазам, встречавшимся с глазами Иры, чем словам о ее бессердечности, лживости и т. п. Ира оставалась прежней, изменилось отношение к ней Виктора. Возможно, из-за чего-то, сформулированного очень туманно, примерно так: «Наконец ее поведение затрагивало мою честь». Но на этот довод в моей душе ничего не откликнулось. Я не верил в какие-то особые правила поведения для женщин, более строгие, чем для мужчин, и не считал, что нарушение этих правил пятнает честь мужа. Когда любовь полна до краев, для измены просто нет места. Если же это не так, надо искать виноватого в себе, собрать по кусочкам распавшееся чувство, воскресить его из мертвых…
Мои взгляды здесь диаметрально противоположны традиционным, основанным на подчинении женщин мужскому взгляду на вещи. Женщина имеет дело с сильным полом, мужчина – со слабым. Поэтому ее меньше сковывает боязнь принести боль. Женщина сама расплачивается за близость: так уж устроена природа. И если существует право на авантюру, на мимолетный порыв, то это прежде всего женское право, а не мое. Потому что я не расплачиваюсь. И у меня нет сочувствия к мужчинам, которые говорят о чести, когда надо говорить и думать о любви. Фразу о чести я пропустил мимо ушей, как пустую, лишенную смысла.
Я оставался другом Виктора, но не был рабом его красноречия и не почувствовал вражды к Ире. Они стали несовместимыми друг с другом (так примерно я думал). В браке это бывает по каким-то интимным, никому вокруг непонятным и необъяснимым причинам. Муж и жена начинают собирать в уме все плохое, что удается вспомнить друг про друга. Так отец перед разводом с ненавистью говорил о маме, а потом, после развода, опять ее любил, издалека, и до смерти вспоминал ее с нежностью. Так в моем уме копились обвинения против Мирры, а потом, после развода, все смыло. Когда разрастается ненависть, надо разойтись; и сразу перестанут копиться обвинения. Беда Виктора в недостатке воли…
Я видел недостатки Виктора и все-таки любил его. Меня совершенно покоряла его мягкость (живой упрек моей вспыльчивости). В лагере я учился у него этой мягкости и чему-то научился. А когда мы оба вышли – я раньше, он позже, – я очень жалел его. За несколько лет монотонной, выматывающей мозг работы в лагерной конторе он обрюзг, стал болеть, вышел покалеченный, с одной мечтой: заняться наконец наукой. Но опять рушились беды: смерть отца, смерть матери и вот еще, оказывается, глухое непонимание с Ирой, тупик брака, когда-то идеального, в котором два больных человека с трудом уживаются в одной упряжке.
В дни смерти его родителей я оказался под рукой и не оставлял Виктора ни на час. Это очень нас сблизило. Я был гораздо ближе к нему, чем к Ире. Во всяком случае, так мне казалось. И вдруг он уезжает отдыхать один, без Иры – отдыхать от конфликта с ней, – и просит меня бывать почаще, не оставлять больную женщину одну в пустой квартире. Я обещал – и принялся добросовестно ездить через день. Мне пришла в голову мысль – вместе читать стихи. И стихи все перевернули.
Разумеется, я твердо решил не говорить ничего ей до разговора с другом. И, разумеется, это не вышло, когда я неожиданно зашел и увидел ее, не успевшую собраться, такой, какой она сидела целыми днями в чужой квартире, чувствуя тень мертвой свекрови в углу. Я не мог вынести тоски в Ириных глазах. То, что я бормотал, было глухим намеком на будущий разговор с Виктором. Но остановить порыв сочувствия, любви, страсти не могла никакая воля. Мы не сблизились совершено в тот день только потому, что накануне вернулась из отпуска тетка Виктора. Все равно – такие поцелуи крепче, чем церковный брак. Я готов был заново, всей жизнью написать стих из Книги Бытия: и да оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей.
Когда Виктор вернулся, Ира уже стала моей женой. Я хотел в первый же час все рассказать; Ира остановила меня – решила сама поговорить с Виктором; потом позвонила и сказала, запинаясь, что он после отпуска вдруг стал нежен и она не в силах ни объясниться, ни сделать вид, что ничего не случилось. Я приехал, вызвал Виктора на улицу… Момент был неудачный. Ему опять не хотелось ничего менять. Лишь бы заниматься наукой. И продолжать семейную жизнь – без любви, с затаенными упреками… Через несколько дней снова бы захотелось, чтобы Ира уехала, исчезла, провалилась сквозь землю, улетела на луну, – да и в тот день он бы не огорчился, найдя дома записку, что, мол, уехала в Эстонию, будь счастлив. Но роман со мной! Это значило, что все бытовые проблемы остались и придется их решать. Хуже того: я полюбил Иру, как будто она хорошая. Хотя он мне ясно объяснил, что она плохая. Либо он полтора года находился под властью какого-то наваждения, либо я – вопреки всему его прежнему опыту – человек плохой, извращенный, со склонностью к тухлятине, к пакости.
Первая реакция на мою попытку благородно объясниться была другой: Виктор опять стал убеждать меня, что Ира плохая, и с какой-то яростью осыпал ее упреками. Потом поток оборвался. Тон стал вежливо-холодным. Я почувствовал, что меня вычеркнули из списка друзей. Но я по-прежнему был полон сочувствия к Виктору и предложил Ире поскорее уйти, оставить ему любимую родительскую квартиру. В одну из бессонных ночей мне стало совершенно ясно, что делать: мы снимем комнату в Подмосковье, там дешевле. А потом мне что-нибудь дадут как реабилитированному. Это мое внутреннее решение столкнулось с внутренним решением Иры, совершенно противоположным. За последние полтора года ее туберкулез заново вспыхнул и дал фиброзную каверну, не поддававшуюся лекарствам. В самых благоприятных условиях ей осталось жить лет десять. В плохо протопленной хибаре новую вспышку скорее всего не удастся остановить. Что тогда будет делать ее младший сын Ледик? Как я могу жертвовать ее жизнью и ее мальчиком – ради своего душевного покоя?
Ира в иных случаях легко рисковала жизнью и ни о чем не думала. Но ради Виктора она жертвовать собой не хотела. Мы первый раз поссорились. Правда, к вечеру помирились Вечером мы всегда мирились. Я чувствовал, что любовь больше, чем любой разлад. Скрепя сердце, переступая через себя, я признал, что у Иры есть своя правота. Но это была ее правота, не моя. Поставив ее правоту выше чувств Виктора, я стал перед ним виноват. Я это осознавал – и все-таки приходил каждый вечер в квартиру, где Ира с Ледиком ютились на кухне. А там – общие гости, общий чай, какая-то нелепая общая жизнь.
В конце концов Ира, видя, как я извожусь, рассказала мне со всеми подробностями, как они жили в Виктором последние полтора года и чего ей это стоило. Потом она несколько раз возвращалась к таким рассказам, но, обрывая себя, восклицала: «Если бы я не заболела, ты бы не решился полюбить меня…» И эта прибавка все смягчала. А тогда этой примирительной концовки не было. Да и счастья еще не было – ради которого стоило все отдать. Рассказ прозвучал резче. Я был оглушен, и на какое-то время чувство вины оставило меня. Очень уж Виктор в эти полтора года жалел себя и не жалел Иру.
И все-таки чувство вины осталось, и сейчас оно со мной. Чужие грехи нас не оправдывают. Его грехи останутся с ним, мои – на моей совести. Я пожертвовал чувствами одного человека ради другого. Это всегда преступление. А что бы сделали вы?
Меня всегда покоряли слова Ромео патеру Лоренцо: «Будь молод так, как я, люби, как я, Джульетту…»
То, в чем я виноват перед Виктором, за четверть века ничуть не стерлось. Но память стала спокойней. Раскаиваюсь ли я? Есть ли у меня сожаление, что поступил так, а надо было иначе? Нет. Надо было сделать то, чего делать не надо. Но грех на мне.
На другой день после нашей неожиданной размолвки Ира встретила меня словами: «Я думала, ты не придешь». То есть меня заест совесть. Совесть меня ела, но с двух сторон, и я не допускал мысли, что можно отшатнуться от женщины, которую я накануне целовал. Пусть люди говорят, что хотят. Мой долг верности Ире, никем не признанный и не утвержденный извне, сразу стал крепче всего. Но долг верности дружбе тоже действовал, давил, жал. И в течение нескольких месяцев два долга рвали меня на части.
Потом та же пытка началась с Ледиком. Он ревновал меня к матери. Да и без того в одной комнате (которую Ире выменяли) жить втроем с женой и пасынком…
Иру то и дело тошнило. Во время первых наших встреч, коротких и нервных, все путалось в моей голове: то хотелось ребенка, то мелькало, что ведь и я рискую, не боясь палочек Коха. Но палочки мне не повредили, а Ира мучилась. Врачи категорически запретили рожать. Ире хотелось выйти из положения по-домашнему, с огромным риском для здоровья, лишь бы ее не трогали чужие руки. Я убедил пойти на официальную операцию (туберкулезным она была разрешена). Помню, как Ира обходила со всех сторон больницу, куда я ее привел, – хотела никого не спрашивать, куда ей надо войти, стыдно было. И еще одно помню: вернувшись домой, едва дождавшись, пока Ледик заснул, она прижалась ко мне – стереть с себя больничное… Забыть эту муку и позор женщины от моей несдержанности я не мог никогда. Все остальное, что было на Трубной, смешалось в одно нараставшее чувство неловкости, невозможности ужиться вместе с бунтующим подростком. В конце концов я убрался к себе на Зачатьевский и сказал Ире, что на Трубную ездить не буду. Пусть приезжает сама.
Я рисковал, что она вовсе не приедет. Она очень любила Ледика. Но она приехала и стала оставаться подолгу. Утром я ждал, пока она проснется, с поцелуем подымал, обняв за плечи, приносил таз с водой, готовил завтрак… Но главное случилось, когда я преодолел самое опасное препятствие в любви (когда не остается никаких препятствий). И вдруг открылось созерцающее осязание, без оскомины и усталости, не исчезающее, а переходящее из ночи в день, незаметно всплывая при первом прикосновении. И неожиданно Ира осталась насовсем. Неожиданно для нее и для меня. И совершенно непреодолимо. А Ледик в 15 лет стал жить сам по себе, и мать к нему приезжала только тогда, когда он болел гриппом, заболевала сама, и в конце концов я ухаживал за обоими. Но это было редко. Получилось, что я отбил Иру и у сына.
Правда, Ледик каждый вечер приезжал в гости, и обычно мы вместе ужинали. Но Ира мучилась, что мальчик живет не с ней, и несколько раз мне говорила, что, наверное, раньше умрет от этого. Я слушал, ничего не возражал, чувствовал, как ей больно, но ничего не мог сделать. И Ира это понимала и не решалась настоять на фантастических и нелепых проектах обмена двух трущоб на одну.
Ледик выровнялся, стал добрым и хорошим человеком. Но некоторые его слабости начались, может быть, еще в школьные годы, и это отчасти мой грех. И опять: хотел бы я сейчас, чтобы все тогда было иначе? Да нет, ничего другого, чем то, что было, я не хочу. Единственное, что хотелось бы переменить, – это Ирино роковое решение сделать операцию. Но как раз это я своим грехом не чувствую. Ира, по ее характеру, не могла отказаться от риска. А я, по моей любви и моему восхищению ею, мог только поддержать ее и идти на риск вместе с ней. Если бы операции не было, через несколько лет она умерла бы, и я бесконечно страдал бы, что удержал ее от спасительного ножа.
Нет, удерживать ее я не мог. Разве проверить в разговоре с профессором, все ли свои недуги, способные помешать успеху операции, она ему открыла? Действовать за ее спиной? Не знаю, как бы я поступил теперь. Тогда я слишком берег свободу Иры…
Корчак писал, что ребенок имеет право на смерть (на риск смерти, неотъемлемый от свободы). И любимая имеет право на смерть. Мне страшно это писать, но это так. А с Ледиком знаю, что иначе не мог. Когда Ира умерла, на какое-то время моя конура стала его вторым домом, а его жизнь – моей жизнью (я выполнил посмертное желание Иры). Но что прежде было, то было. За все приходится платить. Не только силами, здоровьем, но и совестью. Чувством греха и потребностью в очищении.
Бесконечно верна поговорка: не согрешишь – не покаешься; не покаешься – не спасешься. Не в том смысле, чтобы нарочно грешить, это выверт. Но приходится брать на себя тяжесть действия, тяжесть выбора между «надо» и «надо», грехом и грехом, – и чувствовать свою запутанность в грехе. Чувствовать себя вечным мытарем (который, по-моему, просто был человекам действия и потому нарушал фарисейские правила).
Рильке пишет о Сезанне: «Возможно, он был на похоронах своего отца; мать свою он тоже любил, но когда хоронили ее, его не было. Он находился sur le motif (на этюдах), как он говорил. В то время работа была уже так важна для него, что не признавала никаких исключений, даже тех, какие наверняка требовали его благочестие и простодушие».
Я не судья Сезанну. Я знаю накал творческой страсти. Но никакая страсть, самая благородная, не снимает греха. Грех был. И был долг осознать грех. Хотя если бы Сезанн поступил иначе и оборвал свой творческий порыв, это было бы чистым добром в глазах окружающих, а перед Богом все равно грех. Симеон Новый Богослов не отпустил монаха проститься с матерью. Это можно счесть изуверством. А я думаю: не то же ли это самое, что у Сезанна? Рильке поступком Сезанна восхищался.
Моим великим долгом было написать об Ире так, чтобы она осталась в человеческой памяти. Когда я опубликовал воспоминания о ней (в Тамиздате), мелькнула даже мысль: «Теперь можно умереть». Я получил несколько писем со словами горячей благодарности. Но этот же текст оскорбил учеников и друзей Виктора; с двумя старыми друзьями мы поссорились: они назвали меня клеветником. Кое-как потом помирились, а перед этим долго мучились. Трудно рвать старые связи.
Несубъективных и неодносторонних точек зрения нет, и каждый вправе сказать то, что думает; целостность истины складывается из множества осколков. В иных случаях эти острые осколки, попадая в чужую плоть, вызывают жгучую боль. Я думаю, что такие страдания плодотворны. Так возникают многие тексты. От колючки, попавшей в душу, от боли, которую ты сам испытал или причинил другим. Невозможно мыслить, писать – и никого не задеть. Не только в разговоре о живых людях. С живыми идеями то же самое.
Я верю в способность человека решать, когда соблюдать заповеди, а когда взять на себя ответственность за нарушение закона… Тот, кто не идет на риск нравственного выбора, зарывает в землю свой талант. В Гефсиманском саду родился новый нравственный порядок – для иудеев соблазн, для эллинов безумие. И этот порядок требует личного нравственного риска.
Мы живем в мире, где законы сталкиваются, спорят друг с другом. И мы должны понять: безгрешного выбора нет, безупречно разумного выбора нет. Мы должны быть готовы решать так, как хорошо выбранные присяжные: из глубины сердца.
Чем-то всегда приходится жертвовать. И я делал это беспорядочно, бессистемно, балансируя по лезвию ножа, отказываясь вступать в группы, редколлегии и т. п., но не отказываясь от свободы своей мысли; решив не подписывать групповые протесты, а только свое, личное – и все-таки подписав, когда сослали Сахарова. Несколько раз я пытался протолкнуть в официальное издание свои книги и статьи – и все это обрекал на провал. А в итоге я, пожалуй, и не мог придумать ничего лучшего. Не потому, что непоследовательность хороша. Но система, но логическая последовательность – еще хуже. Все революционеры были логики. Этим они, кстати, отличались от бунтарей и поэтов.
Выбор ждет нас в каждом углу. Заповедь «не убий» совершенно ясна, если действовать ножом или топором. А если словом? Ссора, размолвка, натянутость глубоко ранят, и чем ближе человек, тем больнее. Уайльд ничего не преувеличил, когда писал «Балладу Рэдингской тюрьмы»: «Но каждый, кто на свете жил, любимых убивал…»
А убийство самой любви?
Какие заповеди помогают вырастить и сберечь любовь? Какие заповеди мешают заспать ее? Младенец вырастет – и сможет нести на плечах небесный свод. Но он мал и хрупок, и так легко задавить его своим тяжелым телом… И есть так много способов убить любовь – недостатком благоговения к естественному чувству близости, неумением провести черту между днем, в котором есть место для тысячи дел, и ночью, когда остается только одно место – для бога любви или для твари (одна капля твари вытесняет здесь всего Бога). Неумением сказать и неумением промолчать. Самой маленькой фальшью. Я не знаю, где здесь кончается этика и где начинается эстетика: чувство музыки, чувство ритма, внимание к оттенкам и полутонам, к шепоту и лепету…
Я не знаю, по какому это ведомству, и ригористы скажут, наверное, что я не про то. Человечество погибает от язвы тоталитаризма, а я про нежности. Да, я про нежности. Я думаю, что неумение вырастить и сохранить любовь причиняет человечеству больше страданий, чем все политические режимы всех времен. Потому что режимы приходят и уходят, а бездарность в любви остается. Многие нелепые прыжки в утопию – от неумения найти полноту жизни в том, что под руками…
Что я могу тут сделать? Писать о своем личном нравственном опыте. Кому он пригодится, в ком вызовет отклик – тот его и подберет. Сами ошибки, глубоко пережитые, удивительно многому могут научить. Ошибки и оставленные ими рубцы стыда были моими первыми заповедями, копившимися с 6 до 60 (может быть, и великие заповеди священных книг – такие общечеловеческие рубцы)…
Созерцание неразрешимого вопроса – один из вечных подступов к Богу. Можно даже сказать, что неразрешимый вопрос – один из ликов Бога.
Подвижникам Дальнего Востока помогал метод коанов, т. е. заведомо неразрешимых вопросов. После «великого сомнения», после отчаяния, которого иные не выносят и даже теряют разум, люди приходили к просветлению. Насколько я понимаю, суть здесь не в решении одной загадки (или нескольких таких иррациональных загадок), а в созерцании всей жизни под образом неразрешимого вопроса. Что-то вроде парадокса Кришнамурти: «Только неправильные (т. е. поверхностные. – Г.П.) вопросы имеют ответ. Правильные (глубочайшие) вопросы не имеют ответа».
Самые обыденные житейские неразрешимости – подобие непостижимого перехода от человека к Богу. Разве нелепый вопрос – как звучит хлопок одной ладони – не стал великим коаном?
В семидесятые годы я собрал несколько человек и рассказал, какие проблемы ставят меня в тупик. Один из слушателей увидел в этом лишний аргумент в пользу крещения – и нашел для себя твердую систему правил. Постоянного созерцания открытого вопроса он не мог вынести. Это не его путь. Но это мой путь. И моя вина: я виноват, что недостаточно настойчиво, недостаточно страстно пробиваю его. По-настоящему вглядеться в неразрешимое – это не меньше, чем постоянная молитва или созерцание Распятия. В ответ неразрешимому открывается и углубляется сердце. Я не достиг этой последней глубины. Но меня тянет и тянет к ней, и мысли мои вьются и вьются вокруг неразрешимого. Иногда я решал важные вопросы; но самое главное, что меня толкает к бумаге, – кружение вокруг неразрешимого, бесконечные попытки дать безымянному имя (сегодня, сейчас: вчерашние имена недействительны). Попытка «хоть раз не солгать» там, где всякая мысль есть ложь, все догматы – только подобия, иконы непостижимого.
…Тогда я жил другим. Я любил. Знаками моей любви были не слова, а поступки и прикосновения. Но это был язык, и впервые на этом языке я научился говорить сердцем, а не только умом. Впервые с Ирой я понял, что любить – значит как бы писать новые стихи и новую музыку, где каждое повторение – ложь. Я смычок, играет Бог, и каждый миг надо заново угадывать, чего от тебя ждет скрипка. Каждое движение чувствовать сердцем – чтобы оно шло от сердца и находило отклик в сердце.
Мне довольно было видеть, слышать, прикасаться. Мы не расставались – и не к чему было писать письма. «Счастье» я набросал по просьбе Иры, для ее старшего сына, Володи, – у него была склонность к романтике страдания. На этих страничках кое-что сказалось. А остальные опыты 50-х годов – только проба пера. Настоящее слово вырвала из меня смерть Иры. Но прошло еще года два, прежде чем я понял: всякое настоящее слово приходит прыжком через смерть, пишется сердцем, воскресшим после смерти.
1984–1985
По ту сторону здравого смысла
«Поистине, – повторим вместе с Ваккенродером, – кто верит какой-либо системе, тот изгнал из сердца своего любовь! Гораздо сноснее нетерпимость чувствований, нежели рассудка: суеверие все лучше системоверия»[5].
П. А. Флоренский (которого я цитирую) писал это в 1918 г., сопротивляясь огромной новой волне веры в систему. Но мы пожили еще 70 лет. Мировой опыт ХХ столетия показал, что ярость борьбы с рационализмом, торжество иррационального чувства, национальных, расовых, религиозных антипатий и суеверной интуиции не лучше.
Сознание тупика, вызванное во всем мире первой мировой войной, долго обходило нас: мы верили в свою систему и высокомерно смотрели на растерявшуюся буржуазию. Но в период застоя вера зашаталась. Возникла абсурдная ситуация, и охватило чувство абсурда. Казалось, что разум обанкротился. Началось царство призраков. В ход пошли гороскопы, гадалки, велесовы книги, протоколы сионских мудрецов…
Рядом с возрождением великих традиций Серебряного века шло возрождение малой традиции предреволюционных лет, бытовавшей среди обывателей и охотнорядцев. И современный литератор, вчера еще зубривший «Краткий курс», простодушно клевал черносотенную мякину.
В 1969–1970 гг. многие почувствовали, что у страны отнято будущее, что движение будет продолжаться только как гниение – и неизвестно, сколько лет подряд. Началась борьба за право выезда – и неожиданно окончилась успехом:
- Броня державного кордона
- Как решето.
- Им светят Гарвард и Сорбонна,
- А нам-то что?
Что делать остающимся? Мне эта задача показалась более значительной. Дух может вынести внешнее гниение. Я записал несколько мыслей об этом, которые впоследствии перешли в эссе «Неуловимый образ», написанное немного позже, в 1971–1972 гг. «Разве здоровая Испания породила Кальдерона и его современников? И разве в здоровое время жил Августин? В самое больное для Рима и большинства римлян. Но оно было хорошим временем для того, чтобы писать «Исповедь»: живи Августин в век Сципиона, под гром римских побед, он никогда не отделил бы град земной от града Божьего… И если бы не гнила Испания – не было бы смертного напряжения духа в испанском барокко, и не было бы святых Эль Греко (сына двух гнилых цивилизаций), и не было бы трагедии «Жизнь есть сон».
Распространяясь, гниение в конце концов убивает и дух. Но есть какой-то миг болезни, который выше самого цветущего здоровья…»
Читатель, возможно, заметит, что здесь чувствуется влияние Достоевского. Это правда. Достоевский – мой спутник с 1938 г. Но вокруг цитированных рассуждений плавала еще одна невысказанная мысль: я связан с какой-то группой людей – смешных людей, гадких утят, нетипичных, затерянных в толпе, но все-таки в определенной толпе и в определенной стране. Я вполне понимаю радость Осипа Мандельштама, когда он вернулся из Грузии и услышал вокруг русскую речь… Словом, я остался и не жалею об этом. В годы застоя писалось глубже, без мысли о непосредственном впечатлении на читателя, писалось – как перед Богом. От общественных и политических страстей я решил отвернуться. При строго охраняемом морально-политическом единстве национальности – единственное, удостоверенное паспортом, отличие одного советского человека от другого – станут ведущим неформальным принципом политической группировки. Все обиды будут стекаться в национальное русло, становиться национальной ненавистью. Участвовать в неизбежной при этом грызне не хотелось…
Однако совершенно уйти в отрешенность не удалось. Я не мог иногда не кричать «караул» (или, вернее, писать «караул») по отдельным возмутительным случаям. Впрочем, вскрикивал, не ожидая результата и легко принимая связанные с этим неприятности. А жил – не этим.
Надо или жить, или читать газеты, сказала моя приятельница после очередной волны газетной грязи, где-то в начале 70-х. И я жил. Не выписывая никакой прессы и раз в две недели включая телевизор.
Критик Л. А-й недавно заметил в разговоре со мной, что лучшие стихи Пушкина были написаны во время застоя. А в более динамичное время – «Гавриилиада»… В этом есть своя правда. Но, выслушав ее от другого, я возразил, что начинать делать первые шаги все-таки лучше до жестоких морозов, в оттепель, в общественном движении, в обстановке надежд. Дозревать можно и в заморозки, а начинать, когда все застыло, трудно.
Тут одна метафора мешает другой. Мы привыкли к словечкам Леонтьева («Россию надо подморозить») и Эренбурга («оттепель»). Однако если реализовать метафору мороза, застой кажется здоровым временем: в мороз исчезает запах гнили. А беда именно в том, что застойное общество гниет и люди плесневеют, опускаются. Только очень немногие с мучительным трудом находят выход – вглубь.
Дух пробивается сквозь тину и плесень с огромными потерями. Миллионы погружаются в алкогольный туман и в ядовитую мифологию «Памяти», а сквозь это – музыка Пярта и Шнитке, картины Вейсберга, Казьмина, выстраданные фильмы, десятки лет дожидавшиеся часа на полках…
Вот несколько строк из тетради безвременно погибшего Володи Казьмина:
«Оказавшись в ситуации глубочайшего душевного кризиса, цепенея от ужаса одиночества и не имея возможности спрятаться, забыться и убежать, я стал, как тонущий, хвататься за соломинку, и соломинкой этой оказалось запомнившееся мне однажды стихотворение Лермонтова «Молитва». В том состоянии, в котором находился, я даже не мог понять смысла того, что говорил, а только повторял эти стихи снова и снова, бормоча их почти бессознательно, вкладывая в них только то, что осталось у меня, – надежду. Перемену, которая стала происходить во мне, трудно описать, да это и незачем… Сейчас, спустя годы, я могу уже определенно сказать, что в состоянии в, котором я находился в тот момент, смысл проговариваемого мною был мне вначале совсем неважен; это была встреча с первозданной скрытой силой ритма, как в заговорах, причитаниях или детской тарабарщине. Но постепенно из недр этой первозданности появилось чувство, оно согрелось от повторов, как от трения, и с дыханием заструилось вверх, коснулось ума. Тогда уже появился проблеск осознавания, скрытый смысл, все собралось, стало единым и связанным. Тело соединилось с умом через тепло и ритм сердца – слово вернуло меня к жизни, с ним пришел свет.
Может быть, с того времени поэзия для меня стала делиться на просто поэзию и такую, на которую можно опереться в трудную минуту, которая способна прийти на помощь. Я стал искать стихи, в которых слово и ритм обладают особой силой, соединены в особом союзе, стихи, способные собрать рассыпающуюся иногда на части психику и исцелить ее, вернуть к бытию. Таким словом, мне казалось, можно возвращать к жизни и отымать жизнь, можно возрождать из пепла и превращать в пепел то, что достойно им стать, можно преображать и строить, через такое слово можно «стать»…
Испытывать это мне лучше всего удавалось тогда, когда мне было действительно плохо, когда обстоятельства загоняли меня в угол и не было выхода, когда не на кого было опереться и уходила из-под ног почва, – тогда со всей страстностью опирался я на самого себя, того себя, которого я еще никогда не встречал, просил его прийти, звал его, приказывал ему, прибегая к этой могущественной силе слова, и тогда… свершалось то, что я называл чудом».
Бросается в глаза, что глубина, в которой Володя Казьмин находил «того себя, которого… еще никогда не встречал», лежит по ту сторону здравого смысла. Но на такой глубине без привычных ориентиров очень легко запутаться. Тибетская «Книга мертвых» предостерегает против соблазнительных огоньков, вспыхивающих за порогом обыденного, – гораздо более ярких, чем свет освобождения. И опыт массового вовлечения интеллигенции в иррациональные глубины оказался подтверждением этой старой истины. Куда только не попадали искатели тайн…
У Володи Казьмина был природный дар различения духов. Но это редкий дар, совершенно не совпадающий с общей одаренностью. Он был у Владимира Соловьева, а Флоренскому его не хватало; заскоки и вспышки фанатизма портят лучшие его работы. Розанов всю жизнь блуждал среди духовных соблазнов. И у Достоевского чего только не было. Хотя все эти гении прошлого века что-то думали о различении духов. У них была духовная культура.
А сейчас каждый экспериментирует по-своему. Надеясь на свои силы и позабыв, что на полдороге сторожит дьявол.
На полдороге в глубину сбивчивая интуиция, перемешанная с воображением дурного вкуса, создает призраки, и место выветрившейся идеологии занимают мифы ХХ столетия, гибриды полунауки с голосами темного подсознания. Все почувствовали себя обиженными, оскорбленными. Все стали искать виноватого в другом.
В 60-е годы иррациональное как-то выносилось за скобки. Казалось, что общество развивается в осознанном направлении – или по крайней мере пытается развиваться, – и это движение даст когда-нибудь плоды. Поэтому господствовали рациональные схемы исторического процесса. Я чувствовал потребность в них и пытался кое-что разрабатывать, но направление истории изменилось, и на поверхность историографии вышли этносы, увлекаемые пассионариями[6].
Мое предчувствие, что нации станут политическими группировками, совершенно оправдалось. Начался процесс отчужденности окраин от замороженного центра; движение части евреев за отъезд было только индикатором глубинного процесса. Кто-то неловко сравнил эмигрантов с крысами, бегущими с тонущего корабля. Корабль дал течь. Людей, не лишенных смутного исторического чутья, охватил страх надвигающейся катастрофы. У каждой национальной группы этот страх выражался по-своему. Но так или иначе – боялись индурцев. Фазиль Искандер создал поразительно емкий и важный для понимания современности термин. Индурец стал не просто чужаком (чужаков всегда недолюбливали). Он превратился в какого-то могучего дракона, в воплощенного дьявола, в антихриста… И появились рыцари, вроде И. Р. Шафаревича, ополчившиеся в бой с драконом.
Самое грустное, что эти два процесса (прорыв к чистому свету вечности и захваченность болотными огнями) иногда переплетались, что те самые люди, которые жаждали подлинной глубины и источника нравственного обновления, попадали порой в тупик национальной ограниченности и ненависти к чужакам. Я говорю, в частности, о Василии Белове и Валентине Распутине.
Сочетание гуманизма с антигуманизмом, мышкинской любви и рогожинской ненависти – все это уже было в Достоевском. Он один в рациональный XIX век нес в себе весь хаос ХХ века. Достоевский – первая альтернатива казенному оптимизму в моем развитии. Свет, шедший через его романы, помог мне стать самим собой. И темные порывы его я чувствую как облака, ненадолго заслоняющие солнце. Однако публицисты «Веча», а потом «Памяти» тоже опираются на Достоевского и цитируют его точно, не перевирая. Так же, как сейчас активисты «Памяти» точно цитируют речь Распутина на съезде Общества по охране памятников культуры.
Достоевский – бессмертный образец одаренности, вырвавшейся по ту сторону здравого смысла. С этого выхода по ту сторону Достоевский, можно сказать, и начался как мировой писатель: «если уж все хвалить, то и дважды два пять – премилая иногда вещица», – пишет Подпольный человек… Я с 1938 года отстаивал освобождающее влияние иррационализма, отказа ото всяких схем и систем в художественном творчестве и достаточно много об этом написал (а иногда и говорил, если представлялась возможность). Но мне всегда казалось безумием переносить иррационализм в решение социальных и политических проблем. К сожалению, в России это достаточно часто случалось.
Национальный характер не сводится к одной, даже поразительно яркой, личности. Были у нас мыслители глубокие и в то же время трезвые: Вл. Соловьев, Георгий Федотов, П. Чаадаев. Они умели додумывать до конца неприятные мысли и принимать неприятные выводы. Но захлеб, переход за черту и отдача себя вольной волюшке чувства – очень характерная русская черта. Вольной воле любви – и вольной воле страха и ненависти к чужому. «Широк, слишком широк человек, – говорит об этом Митя Карамазов. – Надо бы сузить».
Чужая душа – потемки, и объяснить ее трудно. Но мне вспоминаются мысли Даниила Андреева и Н. А. Бердяева о каком-то особом русском страхе Антихриста. Андреев находит исток этого в мучительном впечатлении от второй половины царствования Ивана Грозного. Идея подмены святыни оформилась позже, после реформ Никона и Петра, но в неявной форме она сказалась еще в Смуте. Нечто подобное произошло после смерти Сталина. Его победы и его зверства хотелось отделить, приписать двум разным существам или даже сущностям. На эту потребность превосходно отвечал миф о новом Антихристе – жидомасонах.
Массовое сознание неохотно приняло правду о преступлениях генералиссимуса и легко согласилось с его реабилитацией. Но куда было девать память о чем-то чудовищном, совершившемся с нами, и чувство нарастающей катастрофы? Нужен был мифический злодей, и он был найден. Этот процесс начался еще при Сталине, сознательно им направлялся (в кампании по борьбе с космополитизмом, в деле врачей) и продолжался в годы застоя. Некоторых писателей – «деревенщиков» он подхватывал и снизу, стихийными волнами народных суеверий, и сверху через редакцию «Нашего современника», через антисионистские книги и статьи В. Бегуна, Е. Евсеева, В. Емельянова, А. Романенко, В. Скурлатова…
В сознании, перешедшем через порог здравого смысла, есть какая-то повышенная неустойчивость, повышенная подверженность искушениям, повышенная готовность поверить бог знает во что. Что удивительного в суевериях Распутина? Удивляться тут, если хорошенько подумать, нечему. Хотя огорчила меня неожиданность: именно от Распутина я ничего подобного не ждал. В творчестве его не было никаких взрывов злобы, никакого кликушества…
Что-то проясняют ответы Распутина на пресс-конференции в Западном Берлине 6 марта 1987 г. Сперва он говорит то, что мне близко и понятно: «…часто не хватает духовного и нравственного воспитания этим людям. А со слепой души можно наворотить много чего не только в хозяйстве, но и в культуре. То есть эти изменения должны неминуемо включать и духовную перестройку человека. Необходим отказ от той полумертвой идеологии, полумертвой духовности, в которой мы жили. Без этого опять можно заехать туда, откуда можно будет возвращаться очень долго»[7].
Потом была реплика Элема Климова: «Информационные функции нашего телевидения резко изменились, но когда оно выполняет развлекательные функции, то иногда становится страшно. Особенно в такие праздничные вечера или ночи, когда люди отдыхают. Иногда такое ощущение, что наступил праздник дьявола. Через телевидение часто можно почувствовать, что апокалипсис приближается. И от вашего телевидения… такое же ощущение» (с. 217).
«Вот Элем Климов здесь говорил о советском телевидении, – подхватывает Распутин. – Когда оно дает развлекательные программы, то впечатление такое, что балом правит сатана. Бывают иногда такие минуты, когда кажется, что праздник дьявола состоялся уже и в народе тоже. Я говорю сейчас не о народе и его мировоззрении. Не о народе, а о населении[8]. Потому что глянешь, что делается вокруг, и это действует так угнетающе, что уже не хочется ничего делать – ни в литературе, ни в чем другом. Ну, винить в этом, наверное, некого. Винить нужно прежде всего искусство. Искусство, которое занималось посторонними вещами – развлекательством публики, а не сохранением человеческих начал в человеке. Искусство занималось пропагандой преступления и не говорило о наказании. Так было, очевидно, у вас, в последние годы это и у нас» (с. 218).
Если не говорить о наивной попытке опереться на народ и его мировоззрение, когда население увлек сатана, – этот вопль ужаса, во всей его непосредственности, мог бы вырваться и у меня.
Раскол начался после провокационного вопроса Адамовича. Провокационного – в хорошем, английском смысле этого слова (провокационный – разбивающий рутину, будящий творческую мысль).
«Мы найдем сотни, тысячи произведений, где ставится проблема: должен ли человек пожертвовать собой ради народа, – сказал Адамович. – Сегодня бомба поставила проблему, о которой страшно даже и сказать, а между тем это вполне возможная ситуация. Возникает вопрос: должен ли собой пожертвовать народ ради человечества?» (с. 220).
«…Чтобы говорить о человечестве, – возразил Распутин, – прежде всего нужно говорить о своем народе. Это и есть польза человечеству. Это не ради дискуссии, а просто я верю в слово «народ» (с. 222).
Казалось бы, ничего худого здесь нет. Человечество складывается из народов. Служа своему народу, писатель служит человечеству. Все так… Но Адамович вышел за рамки всем известного, вчерашнего и позавчерашнего опыта. Он говорит о ситуации, которой до атомного века не было, ответа на которую народная мудрость, «народ и его мировоззрение» не знают, не успели нажить.
Адамович навестил друга, командира атомной подводной лодки, и спросил его: «… представь себе (обращаюсь я к другу), что кто-то там нажал кнопку и вся половина человечества, наша половина, уничтожена. Теперь тебе придется решать, ответишь ли ты тем же, нажав кнопку. Как ты поступишь?» А женщины сказали: «Конечно, они же наших всех убили». В них, в этих женщинах, говорит опыт и мышление, и эмоции прошлой войны. «Вы нас так, мы вас тоже так. Вы нас уничтожаете, мы будет вас уничтожать». Сейчас проблема стоит по-другому: «Они тебя уничтожают, а ты должен уничтожить вообще все человечество». Потому что твой ответный удар, он ведь убьет все человечество» (с. 220-221).
Я вспомнил дискуссию в Институте истории в конце 60-х годов – о войнах прогрессивных и справедливых. Генерал Епишев тогда приказал все войны царской России считать прогрессивными и справедливыми. Историки возражали, опираясь на Маркса и Ленина. Дело Шамиля было справедливым, а русское завоевание Кавказа (или английское завоевание Индии) прогрессивным. Прогресс и справедливость не совпадают. Прогресс нравственно противоречив. Все это давно известно, и поэтому скучно повторять. То, что начальнику Политуправления, сталинисту, было плевать на Маркса, Энгельса и Ленина, тоже было понятно. Я собирался уходить. Как вдруг слово взял полковник из Политуправления, искавший управы на Епишева, и сказал: «Если американские империалисты нанесут нам термоядерный удар, а мы ответим сокрушительным контрударом, это будет справедливо. Но какой же прогресс, если ни там, ни здесь ничего не останется!»
Вот в чем, оказывается, дело. Реальность атомного века лишила приоритета не только классовую точку зрения. Лишилась приоритета и народная точка зрения, со всеми ее представлениями о справедливости и о возмездии. Классы не перестали существовать, классовая борьба не перестала существовать, и народы с их нравственными воззрениями никуда не девались, не исчезли. Но впервые в истории общее дело человечества перестало быть абстракцией, стало смертельно конкретным. Потому что альтернатива этого блага – общая гибель. От которой не спасут ни стража на Эльбе, ни Голанские высоты. Это нельзя понять, опираясь на «народное мировоззрение». Сознание народной правды, народной обиды и народной мудрости и народной замкнутости на своих народных интересах стало такой же смертельной опасностью, как эгоизм класса.
Счеты между народами всегда были безумием. Потому что подсчитать (и то с грехом пополам) можно только вину отдельного преступника; потому что свое страдание всегда кажется неизмеримо огромным, а чужое – ничтожным. Потому что никакое страдание не дает права на месть детям и внукам. Потому что сосредоточенность на страданиях отцов дает чувство, что нам, наследникам, все позволено. И при затяжном конфликте возникает какая-то цепная реакция зла; и да здравствует справедливость, покуда погибнет мир!
Человечество может спастись только в том (трудно вообразимом) случае, если народы согласятся остаться со страданиями неотомщенными и даже за гибель свою не захотят мести. Как тот безвестный цадик, молитва которого, записанная на клочке оберточной бумаги, была после войны напечатана в «Зюддойче цайтунг» и оттуда попала в проповедь вл. Антония Блума[9].
История – не только развитие производительных сил. Это еще прогресс нравственных задач. К сожалению, только задач. Но когда задача не выполняется, цивилизация гибнет. Не сразу. Медленно действующую закономерность заслоняют стремительные завоевания и перевороты. Но ни одна большая цивилизация, оставшаяся на уровне родовых добродетелей и кровной мести, не сохранилась, и сейчас мы стоим перед новым порогом, перед необходимостью нового скачка.
А народы помнят прошлые победы, когда за Марафоном следовал Эсхил, за Бородином – Пушкин. Но вот мы победили в 1945 г. и настроили памятников Сталину. А за следующей победой и памятники некому будет ставить. Разве рыбам в глубинах океанов. Они, говорят, уцелеют во время атомной ночи и атомной зимы.
2000 лет тому назад один человек перешагнул через народную веру к вселенскому духовному чувству и к новому пониманию добра. Это было ересью. На еретика донесли. «Лучше пусть погибнет один человек, чем весь народ». Те, кто сегодня ставят народ (какой бы ни было народ) на первое место, повторяют суд первосвященника. 2000 лет для них прошли даром.
Сознание личности и сознание человечества (личности, способной почувствовать все человечество как саму себя) идут рука об руку. Это смутно почувствовал Окуджава, возражая Распутину: «Я хочу понять для самого себя, что такое в конце концов «народ». Понятие это у нас – я не знаю, как у вас, – очень распространенное, и под знаком этого понятия создавалась не только великая литература, но творились очень серьезные злодейства. И все это связано с понятием «народ». Я, честно говоря, устал над этим думать.
Я встретился как-то с одним крупным чиновником и ему сказал, что по телевидению, в кино показывают всякую белиберду, я ничему этому не верю. «А это не для вас», – ответил он, подразумевая народ.
Я тоже «народ». У нас произошло какое-то искажение понятия «народ». Почему под «народом» стали понимать не историческую культурную категорию, а просто простонародье, малограмотных людей. Но за всеми этими громкими фразами о судьбе народа пропало очень важное – у нас (не знаю, как у вас) за многие годы исчез институт уважения к личности. Для меня лично лозунг восстановления этого института является самым главным… Если мы научимся уважать личность, тогда мы научимся уважать и народ, и человечество» (с. 222–223).
Окуджава ничего не ответил на вопрос Адамовича, но по сути он его поддержал. Развитая личность, стоящая на уровне задач атомного века, скорее даст правильный ответ, чем большинство. Точка зрения, связанная с патриархальными представлениями о справедливости и мести, должна быть преодолена. В конечном счете – и самим народом. А пока этого нет – личностью, идущей впереди народа. Опираясь на внутреннюю невозможность поступить иначе, а не на народную веру.
Суеверие не лучше системоверия. Оба хуже. Это показали катастрофы в Алма-Ате, в Сумгаите… Этноконфессиональные конфликты, видимо, неизбежны, пока интеллигенция не научится цельному, нераздробленному добру, о котором писал Иконников из романа Гроссмана «Жизнь и судьба». Искусство не во всем виновато; оно не все может. Но оно может гораздо больше, чем делает. И дело здесь не только в бюрократах, а в самих мастерах искусства.
Смогут ли поэты, художники, режиссеры подняться на уровень задач нашего века? От этого очень многое зависит. Смогут ли писатели подняться над народными предрассудками? Опыт Сумгаита был – и в этом смысле – страшным провалом. Если фольклорно понятый народ остается альфой и омегой; если фактически такого народа нет, а есть население, от которого приходишь в отчаянье, – то писатель, интеллигент вообще может оказаться в роли Васисуалия Лоханкина, плетущегося за толпой погромщиков, а то и в голове погрома, высоко подымая хоругвь сермяжной правды.
Философия идиота
В. Маяковский
- …все мы немножко лошади,
- Каждый из нас по-своему лошадь.
Все мы немножечко идиоты. В каждом сидит кусок идиота. Во мне он становится агрессивным при столкновении с техникой. К старомодному электричеству я привык с детства, но с проигрывателем и с телевизором сразу тупею. Почему-то немного лучше идет с кассетным магнитофоном (наверное, потому, что там все по-английски написано, где «плей», где «стоп»). В нашей семье магнитофон – это моя специальность, а телевизор укрощает жена. Впрочем, и в зоне умеренного идиотизма разум мой сводится к умению нажимать на нужную кнопку. Интеллект дебила.
После этого предисловия читатель не удивится, что денежную реформу я встретил, как деревенская бабка. Хотя горе мое было от ума. Еще годом раньше я прочел статью Шмелева, где он очень убедительно показал бессмыслицу таких реформ. Подробно аргументов не помню, да и не нужно: они все были повторены после реформы. Я несколько скептически отношусь к собственным проектам Шмелева, но когда он критикует чужие проекты, это очень хорошо выходит. Я был убежден. Мне не пришло в голову, что министр финансов Шмелева не читал или не понял. И когда 21 января меня спросили в кассе: можно ли выдать по сто рублей? – я сказал: пожалуйста. Слава Богу, не такой уж огромный гонорар, в законную тысячу он влезал…
Через день я узнал, что на рынке крупные купюры три недели не берут. А я оказался в дураках. Пришлось ездить, хлопотать. Потерял два рабочих дня. Многие потеряли больше.
Ночью я плохо спал. Не потому, что боялся потерять деньги. Не такие уже большие. Неприятно было остаться в дураках – но опять не настолько, чтобы потерять сон. Тут другое: выплыло старое воспоминание. В 1947 г. во время той реформы, я ждал удара со всех сторон. Меня исключили из партии за антипартийные высказывания, я нигде не мог устроиться, и весь мир был против меня. Почему-то я вообразил, что реформа непременно должна ударить по мне лично. Я снял деньги – последние военные сбережения, полторы тысячи – со своей (отмеченной печатью рока) сберкнижки (где что-то уцелело бы) и послал по почте маме… Через некоторое время я получил от мамы обратно 150 рублей. И вот я живо вспомнил все свои тогдашние годы, после исключения из партии и до ареста. Самые скверные годы; мне стало лучше на Лубянке, в Бутырках, в лагере. За решеткой я почувствовал себя дома. В плохом доме, но все-таки в доме, а не на улице в чужом городе с чужим языком и без денег, вынужденный стучать наобум в разные двери – и знаешь, что ни одну не откроют. Вдруг все потеряло цену и ты выпал из мира, в котором что-то значил, и оказался идиотом. Как те старухи, у которых были отложены три-четыре сотенные на похороны.
Утром поехал к машинистке и увидел в окошко автобуса очереди стариков и старух около сберкасс (еще не открывших свои двери). И памятью 1947 года, всплывшей ночью, я почувствовал себя одним с этими стариками и старухами, и охватило пронзительное чувство боли – за всех ограбленных, за всех беспомощных. Как-то даже не за них, а вместе с ними, заодно с ними. Это не длилось очень долго, но в таких состояниях что-то рождается. Промелькнуло чувство какой-то необыкновенной раскрытости. Не через радость, как у моря или на горе, – через боль. Но может быть, все равно? В Троице Рублева средний ангел – в блаженстве отрешенного созерцания, левый погружается в страдания разорванного мира, правый выходит из него, возвращается в отрешенную целостность; и все три – одно существо, три состояния одного существа. Это целое одновременно в радости и страдании, в отрешенности и в муках неразделенной любви. «Вольно и больно, и скорбь хороша…» Перевод немного беднее подлинника: «Freudvoll und leidvoll, gedanken voll sein…» Быть полным радости, страдания и мысли. Почти как сатчитананда (бытие, познание, блаженство). Только в индийской формуле не выделено страдание, оно спрятано в бытии; а у Гёте полнота бытия складывается из полноты радости и страданья («радость-страданье, сердцу закон непреложный», – дописал другой поэт).
Бытие – это раскрытость, это – никаких перегородок. Идиот не замечает общественных перегородок и говорит с лакеем, как с генералом. Он не обособляется от человека, которого принято не замечать. И потом не обособляется – от Лебедева, от Келлера. Я обособляюсь и что-то теряю. Загораживаюсь от плевков и загораживаю себе свет солнца. Но иногда вдруг, коротким замыканием, что-то пробивает обособленность. И на миг такое чувство, словно вышел из тюрьмы, в которую сам себя посадил.
В повести Сергея Бардина «Пастораль» (Знамя», 1990, № 9) рассказчик, по всем приметам горожанин и интеллигент не первого поколения, передал мне свое чувство неожиданного родства с деревенскими старухами, и я, под свежим впечатлением, почти увидел перед собой этих старух, плетущихся со своими сторублевками в райцентр – наверное, с опозданием и, наверное, ничего не получат… У себя на огороде они такие же умные, как я за своим письменным столом. И вдруг оказались дуры-дурами. Все мы немного идиоты, каждый по-своему идиот…
Повесть Бардина я прочел случайно. Вдруг позвонил мне незнакомый автор, хочет посоветоваться – очень странный отклик к нему пришел. Отклик оказался довольно стандартным для читательницы «Нашего современника». Но я взял нечитанный 9-й номер «Знамени» (он пришел осенью, когда я был в Коктебеле) и решил полистать, на что эта дама откликнулась. С первой страницы текст приворожил каким-то неповторимо личным взглядом на мир, сквозившим в каждой фразе. И я страница за страницей заново – вместе с автором – вглядывался в мир. Предметы довольно неяркие, ничего особенного. Но как-то за клочком пространства и времени выглядывала бесконечность. И в этой вселенной мы все одно, и через рассказчика я стал одно со смешными матерящимися старухами. И вместе с ними обманутым и ограбленным.
А потом является к рассказчику ночной собеседник, вроде собеседника Ивана Карамазова, и спрашивает – можно ли жить в России? Где есть только две повторяющиеся социальные роли: деспота и жертвы, да еще литература, которая из боли униженных и оскорбленных делает жемчужины в Божью корону. Я легко мог быть третьим в разговоре. Лет десять тому назад мы обсуждали эту проблему, – правда, не с чертом, а с Борисом Хазановым: можно ли продолжать русскую культуру без России? Я говорил тогда, что без реального чиновника Мармеладова, раздавленного лошадьми, не было бы и Достоевского. Набоков мог бы состояться (он и в Америке себя показал). Но не Достоевский.
Жить здесь – значит соглашаться, чтобы тебя все время били какие-то факты, какие-то события. Иногда я начинал кричал от боли, понимал прекрасно, что ничего это не даст, идиотское занятие. Друзья умирают, друзей убивают, а я остаюсь. Зачем? Что во мне вываривается такое, чтобы ради этого варева остаться? Пока не сварится? Не знаю. Чем больше живу, тем лучше понимаю Сократа: я знаю только то, что ничего не знаю.
У моего приятеля племянница, а может быть, двоюродная сестра пришла как-то с лекции по истории философии и громко высказала свое впечатление: «Что за дурак был Сократ!» Это свидетельство о качестве философии, которую тогда (в 40-е годы) преподавали. Но отчасти и о Сократе. Умный человек знает. Софисты знали. А Сократ, окруженный софистами, мог сказать только одно: «я знаю, что ничего не знаю». И сразу отодвинулся от софистов на целый порядок. Вверх или вниз – это другое дело, но отодвинулся. Современному человеку, проезжая по Моховой и глядя на огромное книгохранилище, тоже ничего другого не остается. Он знает свой лоскуток культуры, ну – два или три лоскутка, а в остальном – дурак-дураком. И единственное, что можно сделать умного, – это признать свое идиотство.
Чем больше ума набирает человечество, тем глупее выглядит отдельный человек. Смеются над чукчами, что они себя считают умнее всех; не знаю, считают ли на самом деле, или только в анекдотах. Но они действительно умнее, в своем углу, в своей культуре. Потому что всю эту культуру умный чукча держит в голове. Книг никаких в прежнее время не было, главное передавалось наизусть, а остальное забывалось. И оставалось одно главное. А мы просто не знаем, что главное. По всем вопросам написаны книги, но нет такой книги, в которой было бы написано, что изо всех книг главное, а что не очень и можно не знать.
Я думаю, от этой бездны премудрости люди и бросаются в фундаментализм. Берется одна самая главная книга и отбрасываются толкования, в которых опять можно запутаться, и все, что сказано в книге, надо понимать буквально. Фундаменталист сразу чувствует себя умным, как чукча. Он знает, как надо.
Что-то похожее дает этнический фундаментализм. Иногда он совпадает с религиозным, а иногда сам по себе. Не естественное национальное, этническое чувство, а форсированное, противопоставленное бездомности и беспочвенности. Есть наш обычай и не наш, есть вера отцов, и надо следовать нашему. Тут главный выигрыш – в определенности. Как будто человек приобрел участок земли и стал собственником и теперь знает: это мое. В огромном чужом мире это мое. Отечество нам Царское Село. Но прибавилось ли ему бытия? Не больше ли бытия у бродяги?
- – Вставай, Михалыч! – говорит попутчик, –
- Мы странствуем с тобою двести лет,
- И солнце выглянуло из-за тучи,
- А мы опять на свой ступили след.
- А мы с тобою на другой планете,
- И нас коробит, мертвяков, слегка:
- Три раза на земле старели дети,
- Пока брели два нищих старика.
- Вставай, Михалыч, и признай дорогу, –
- С тобою мы бредем по облакам,
- И, слава Богу, добрались до бога,
- А бог – он наш приятель, наш Полкан.
- Он брезгует своим небесным раем,
- И узнает старинных бедолаг,
- И лает, лает, так счастливо лает,
- Что сердце замирает у бродяг.
- Ах, Господи, ведь впору и заплакать,
- Какой, поди же ты, переполох!..
- А мы-то думали – Полкан собака
- И занят тем, что выбирает блох…
Сказано не хуже, чем у Мейстера Экхарта: «бытийственность мухи равна бытийственности Бога». То есть человек в самом деле чувствует то, что мы передаем непонятной фразой: Бог вездесущ. Один из дзэнских коанов (загадок, разгадка которой дает просветление) так и звучит: «Обладает ли пес природой Будды?»
Автор странного стихотворения, Вениамин Айзенштадт, – не то чтобы бродяга, он человек оседлый, но по месту своему в жизни, по отсутствию места – почти бомж. Работал на вредном производстве, писал стихи, которые никто не печатал, и только в возрасте 69 лет, больным стариком, удалось напечатать сразу две книги. Одну из них прислал в подарок нам с женой, мы откликнулись – и получили в ответ письмо. Там есть замечательная фраза:
«А я – всего лишь «я», т. е. человек, решившийся быть самим собой там, где подобное признание равносильно покаянию Раскольникова, убившего старуху». (Минск, апрель 1991 г. Точной даты на письме нет.)
Свое сочинение десятиклассника, на тему «Кем я хочу быть», я кончал той же фразой: «Я хочу быть самим собой». Хотя тогда, в начале 1935 года, еще не знал, – как это не просто. И насколько легче – шагать в строю.
Все идеологии – бегство от самого себя, от своего идиотства, от своей беспомощности перед бездной премудрости. Человек принял идеологию – и сразу знает. Шел академик Павлов по улице, перекрестился на церковь. Навстречу красноармеец, видит – старик крестится, и вздохнул: Эх, темнота!»
- …Молодые ценители белозубых стишков…
Или бегут люди в научное направление и с направлением, по строгим правилам, играют в бисер.
- На вершок бы мне синего моря,
- На игольное б только ушко!
Очень мало в истории больших людей, не знавших, как надо, и знаменитых своим незнанием, – как Сократ, как Бодхидхарма, как Николай Кузанский. Кардинал из Кузы мне ближе всех. Его docta ignorantia – значит знать свое дело, но не воображать, что это знание о самом главном. И в главном сознавать свое невежество. А иногда я просто готов ответить, как Бодхидхарма… «Кто же тот, кто сидит передо мной?» – спросил император. Бодхидхарма ответил: «Я не знаю».
Я тоже не знаю. Меня спрашивают: «Как вас писать на афише?» Я не знаю. В конце концов люди сами решили: я философ и культуролог. А может быть, эссеист? Но эссеист – это опять человек, который не знает. Не знает и каждый раз ищет, как подойти к текучей, ускользающей истине. Традиция? Но их много, и я живу в общем поле нескольких великих традиций; да и в одной традиции – сколько есть толкований! Хотя бы того же Евангелия…
Фаваз Турки в «Дневнике палестинского изгнанника» описывает странное чувство, которое он испытал, сбросив пиджак и облачившись в бурнус: это было наслаждение, близкое к сексуальному. Такое наслаждение дает многим кипа, или сарафан, или стиль, искусственно выстроенный по словарю Даля. А мне совершенно не хочется никакой внешней определенности. Я ищу не внешнего, а внутреннего канона, состояния чистого зеркала, готового отразить все, что есть, так, как оно есть. А мое «я» и мое «мы» при этом непременно вылезут, скажутся в языке, в круге воспоминаний, привязанностей. Как-то я обмолвился: думайте о Боге, пишите по-русски – вот и получится русская культура. Открытая каждому, как открыт читателю в Англии и в Японии Достоевский, – но невольно, без намерения русская. А все, что у Достоевского с намерением, то слабо и только мешает.
Мои долгие годы, прожитые в России, как-то сказываются в том, что я пишу. Так же, как полузабытые первые семь лет жизни в еврейской Вильне. Так же, как любовь к стольким европейским писателям и художникам, что мне их трудно перечислить, и к индийской мысли, к дальневосточной живописи… Я не безродный космополит, я космополит многородный. Я не менее полиэтничен, чем Евразия. Я не знаю, кто я такой в жестком, паспортном, идеологическом смысле слова. И не знаю, что меня привязывает к этой стране, из которой я свободно мог уехать, лет двадцать тому назад, и не уехал. Может быть потому, что здесь, в этой культуре, то есть в этом узле мировой культуры, я лучше чувствую всю сеть. И мне легче быть самим собой. Не внешне легче. Внешне трудно. Но внутренне легче.
Это, впрочем, лично мое решение и не указ другим. У меня нет детей, а собственная шкура все равно дырявая, риск невелик – в 73 года. А как быть тем, кто помоложе и может начать жизнь сызнова? У кого есть дети, внуки?
Осенью в Коктебеле меня спрашивал знакомый писатель, человек лично мужественный, – не совершает ли он преступление перед внуками, что остается? Я отвечал невнятно (дело каждого; за другого не выберешь). Но вечером (мой знакомый уже уехал), сидя у моря, в тишине, решительно ни о чем таком не думая, я вдруг услышал изнутри: «Если «Память» не запретят, то все евреи уедут». И уже потом, рассуждением добавил: «Все, кроме парализованных стариков и старух». И нескольких идиотов вроде меня.
«Память» не запретят. Она за империю. А империя еще нужна. Не только ради выгоды, которую она дает военно-промышленно-идеологическому комплексу. Русская империя вообще скорее дело спеси, чем выгоды, никакой выгоды среднему русскому человеку она никогда не давала, одни только поборы. Вспоминаю все войны XIX в. – на что они были нужны мужику? И сегодня – на что нам все эти базы, авианосцы и т. п.? Все равно Америку не обогнать, да и гоняться зачем? Но спесь противится сознанию своего сверхдержавного банкротства. А инерция стиля позволяет туловищу империи, потерявшему идею-голову и думающему спинным мозгом, сохранить власть и подбирать под свое крыло все силы, пригодные для последнего боя. В том числе «Память».
Началось голосование ногами. Бегут евреи, бегут немцы, армяне, бегут республики из союза. Плебеи уходят на Авентинскую гору, а Сенат упорствует и пытается удержать развал военными патрулями. Эмиграция сама по себе ни одну страну не убила, но массовая эмиграция – знак беды, знак отчаянья. Социологи говорят, что русские, украинцы и прочие оседлые люди, укорененные в «почве», тоже готовы искать счастья на стороне. До одной трети населения подумывает: а не сорваться ли с места? И те, кто остаются, бегут: в прошлое, в царство иллюзий, и тянут страну в слаборазвитость, прикрытую фиговым листком третьего пути. Или Третьего Рима.
Чего ждать? Погрома? Или индивидуального удара по затылку? Кажется, в России темные силы пошли по второму пути; но хрен не слаще редьки.
Чего ждать от церкви, которая не извергла из себя тех, кто осыпал угрозами о. Александра Меня? Кто создавал климат, в котором созрело убийство? Чего ждать от властей, ищущих не убийц, а грязи – облить убитого? От общество, которое не заметило 9 сентября 1990 г. – начального дня открытых убийств? От общества, которое спокойно смотрит на геноцид армян и позволяет называть геноцид этническими столкновениями, в которых виноваты обе стороны?
Эмигрантов сравнивают с крысами, бегущими с тонущего корабля. Это вряд ли вполне справедливо: Америку освоили эмигранты, и создали великую страну. Домоседство – не единственная добродетель. Есть романтика дальних странствий, есть стремление к свободе, к простору для развития своих сил… На крыс все это мало похоже. Но что верно, это состояние корабля. Корабль получил глубокую пробоину.
Возьмите карту и пометьте кружочками, куда бегут эмигранты? В Нью-Йорк, Лондон, Париж. А откуда они бегут? Из арабских стран, из Югославии, из России. Оттуда, где порочный круг слоборазвитости. Отъезд евреев и немцев и тяга к отъезду у прочих – знак сползания в безвыходный порочный круг. Не в ту слаборазвитость, из которой путь в среднее развитие и т. п., а именно в порочный круг. Где правительство опирается на «патриотические силы» (живущие иллюзиями былого или будущего величия) и создает этнические конфликты даже там, где никакой почвы для этнических конфликтов нет, в Москве и Ленинграде. Пусть горят их дачи, лишь бы отвлечь толпу от наших дворцов.
Я рисую эту перспективу не для того, чтобы предаться отчаянью. Отчаянье не в моем характере. Вся наша жизнь – открытость смерти, открытость бездне; угроза социальной катастрофы только обнажает вечную метафизическую пропасть; и «все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья»… Необходимость чуда – это призыв помочь чуду. Отбросить призрак имперского величия. Войти в союз северных стран. И вместе с Европой и Америкой удерживать вспышки безумия, сотрясающие сегодня страны третьего мира так, как они сотрясали когда-то Германию и Россию. И вместе с Европой и Америкой искать выхода из общего кризиса Нового времени. Искать – в открытом культурном пространстве, перекликаясь с другими, а не создавать немыслимый в ХХ в. замкнутый этнос. Начало политики трезвого мужества – в мужественном сознании своего двойного банкротства: банкротства Утопии и банкротства империи. Признаем идиотство своего исторического опыта. Это единственный путь к новой жизни.
Только выйдет ли? Очень нам не хватает добродетели, о которой шумно говорили славянофилы: смирения дурачка.
1991
Целостное знание и плюрализм теорий
В последние годы мне несколько раз говорили, что я нестандартно мыслю. Я стал думать, в чем моя нестандартность, и вспомнил, что в Киеве, перепечатывая «Надгробное слово империи», редакция философского еженедельника назвала мое мышление парадоксальным. Это показалось мне более содержательным определением. Парадоксом прозвучало то, что я предвидел гибель империи лет за двадцать, приглашал смотреть в лицо неизбежному (и думать о поисках другой формы интеграции), а когда неизбежное случилось, – вспомнил все, чем человечество обязано империям, и даже о последней, выродившейся форме империи, советской империи, выразился неоднозначно (худой имперский мир все же лучше доброй карабахской ссоры).
По-своему киевляне были правы. Парадоксальным (и нестандартным) кажется всякое мышление, которое пытается взглянуть на предмет сразу с нескольких точек зрения. Непарадоксальное (стандартное) мышление строится, как портрет Репина: оно избирает одну точку зрения и логически последовательно ее проводит. Это ясно и понятно. Парадоксальному мышлению грозит опасность запутаться в своих сложностях или выродиться в игру парадоксами, наподобие композиций Пикассо. Но однозначному мышлению тоже грозит опасность (которой оно не замечает). Однозначно, из одного угла можно мыслить только банальные предметы мысли. Мяч, откуда ни смотри на него, – всегда мяч. А вот Гамлет…
Впрочем, даже органическую молекулу нельзя подвести под элементарную логику. Молекула ведет себя так, словно там резонирует несколько логически непротиворечивых моделей. Это открыл академик Сыркин, за что его в 40-е годы очень ругали (показалось подрывом под марксизм). Но если неоднозначна даже молекула, то как можно уложить в непротиворечивую модель Солженицына? Синявского? Интеллигенцию? Сталкиваясь со сложным предметом, однозначное мышление невольно, подчиняясь собственной логике, упрощает его. Я за этим наблюдал, читая статьи своих оппонентов. Это сейчас начали говорить о парадоксальности, а в течение четверти века читатели приписывали мне свою собственную прямолинейность. То есть свою собственную точку зрения, вывернутую наизнанку.
Прямолинейное мышление хорошо решает школьные логические задачки. Отсюда его самоуверенность. И с этой самоуверенностью оно не замечает, что сглаживает сложный предмет в духе старого софизма «негр»: «Негр черный? Да. Совершенно черный? Да. Значит зубы у него тоже черные». Греческий софизм обнажает самоуверенность рассудка. Мы знаем из опыта, что у негра белые зубы. Но во многих случаях белизна зубов опытно не дана. Надо отдать похищенное владельцу? Да. Значит, надо вернуть рублевскую Троицу в Лавру и одеть в оклад, как было раньше. Советская власть плохая? Да. Значит, все надо вернуть, как было прежде. Грузия едина, не было в ней ни осетинской, ни абхазской автономии. И всех граждан, поселившихся в Эстонии и Латвии после 1990 г., надо рассматривать как оккупантов или метеков, неполноправных мигрантов. Логика во всех рассуждениях одна и та же. Хотя те, кто хочет все вернуть Церкви, протестуют против бесправия русских в Эстонии. Охваченные страстью, люди не видят, до чего они становятся похожи на логические автоматы, устроенные по одним и тем же правилам. А между тем, возвращение Церкви всех изъятых у нее ценностей, ликвидация автономий и отказ в гражданстве русскоязычному населению Эстонии обоснованы совершенно одинаково: из одного угла.
Неумение мыслить многозначно толкает к теориям, которые все в делах человеческих сводят к одному решающему фактору: «история всех предшествующих обществ есть история классовой борьбы…»; «именно так зарождалось на семи холмах волчье племя квиритов, ставших римлянами, конфессиональные общины ранних христиан и мусульман, дружины викингов, оседавшие в Шотландии или Исландии, монголы в XIII века, да и все, кого мы знаем».
Я подчеркнул слово все: оно объединяет Карла Маркса с Л. Н. Гумилевым.
И вот что любопытно: умнейшие люди прошли через марксизм, годами не замечая натянутости его обобщений. А сегодня мало кто замечает белые нитки, которыми шита теория этносов. Когда упрощение идет в лад с господствующей страстью, оно незаметно. Сменится страсть – и школьники указывают пальцами на вчерашнего кумира. Между тем, и в 1970 г., когда появились первые публикации Л. Н. Гумилева, нетрудно было заметить, что из его угла взаимная ненависть этносов неизбежна и нет никакой высшей точки для согласия. «Суперэтническое» у Гумилева рыхло, неустойчиво, на нем не удержишься. Нет ничего подобного словам ап. Павла: «Несть во Христе ни эллина, ни иудея»… Нет никакой замены старых воплощений вселенского духа[10].
Однозначное мышление, втянутое в спор, упивается своей несравненной правотой. Оно упрощает противника до своего собственного уровня и противостоит ему на этой же плоскости. Например, христианство смешивается с клерикализмом, установка на открытость мировому опыту – с отказом от всякой самобытности, национальное смешивается с племенным (и идеалом становится замкнутое племя), с суверенитетом носятся, как с писаной торбой.
Этому вырождению разума очень способствуют площадные страсти. Многозначное, парадоксальное, внутренне диалогическое мышление требует тишины кабинета или аудитории, а площадь мыслит лозунгами. Возникает нарастающая обратная связь газеты и площади. Однозначной идее противостоит другая, также однозначная. И остается только выбор между Сциллой и Харибдой.
Мышление, поднявшееся над этим гибельным выбором, иногда называют плюрализмом. Я охотно признаю себя плюралистом, но с одним уточнением. Мой плюрализм относится не к сверх-истине и сверхценности, а только к человеческому языку, к его способности назвать «одну и ту же птицу» (как выразился древнеиндийский поэт в Ригведе). Эту птицу можно пережить – вплоть до тождества с ней. Я верю в слова Будды: «Кто видел меня, видел Дхарму…» Я верю в слова Христа: «Я есмь Истина». Но на вопрос Пилата, что