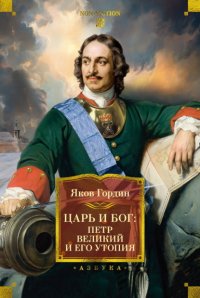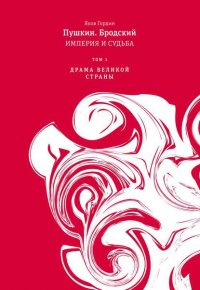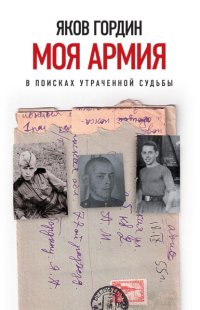Читать онлайн Пушкин. Бродский. Империя и судьба. Том 2. Тем, кто на том берегу реки бесплатно
- Все книги автора: Яков Гордин
© Яков Гордин, 2016
© «Время», 2016
* * *
Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России» 2012–2018
Пушкин
- Мы возмужали; рок судил
- И нам житейски испытанья,
- и смерти дух средь нас ходил
- И назначал свои закланья.
В минувшем августе пошел я на Ваганьковское к Булату Окуджаве.
Юрий Давыдов
Апокалиптичность. Ощущение позднеримского конца времен.
Эйдельман. Дневник. Март 1980
Иосиф Бродский
- Разбегаемся все. Только смерть нас
- одна собирает.
- Значит нету разлук.
- Существует громадная встреча.
- Значит кто-то нас вдруг
- в темноте обнимает за плечи,
- и полны темноты,
- и полны темноты и покоя,
- мы все вместе стоим над холодной
- блестящей рекою.
Попытка объясниться с героями
В этой книге я попытался, осознавая ограниченность своих возможностей, очертить судьбы и мировидение трех дорогих мне людей, дружба с которыми необыкновенно обогатила мою жизнь. Льщу себя надеждой, что и я был для них не бесполезен.
Разумеется, характеры, судьбы, интеллектуальные задачи, которые эти люди перед собой ставили, были многократно сложнее и ярче того, что я смог передать на бумаге. А возможно, и того, что я смог понять.
Я не знаю, как бы они отнеслись к общему названию этого двухтомника. Каждый из них по-своему понимал, что такое империя, и по-разному относился к этому гигантскому явлению. И по-разному представлял себе ее судьбу. Но для каждого из них это был не пустой звук. И они понимали связь своей судьбы с ее судьбой – сквозь века.
Проще всего с Давыдовым. Он презирал самодержавное государство с его беззаконием, унижением человеческого достоинства. Собственно имперские проблемы его не очень интересовали. Когда он писал о Пушкине, то империя представлялась ему тюрьмой, за пределы которой не мог вырваться поэт.
Но не только. Пожалуй, один Юрий Давыдов мог соотнести имя Пушкина с подобной ситуацией – не в упрек Пушкину, естественно, а просто «бывают странные сближения», как сам Пушкин говаривал.
«В минувшем августе пошел я на Ваганьковское, к Булату Окуджаве».
Булат был другом и Давыдова, и Эйдельмана. Не смею говорить о дружбе, но мы с Булатом были на ты – по его, разумеется, инициативе. То есть дружеская симпатия взаимная была, хотя встречались мы редко.
И недалеко от могилы Булата – только Давыдов мог это заметить, – оказалась могила родственников некоего Адольфа Стемпковского. Того самого, что в Цюрихе выдал агентам царской охранки Нечаева. «И Серега Нечаев попал в Алексеевский равелин, где и принял смерть». Нет, Давыдов Нечаеву не симпатизирует. Он наблюдает безумные переплетения исторических нитей.
«Тут по касательной и Александр Сергеевич Пушкин. Шутка-то в том, что муж его сестры служил в Варшаве… Гм, не только редактором русскоязычной газеты, но и куратором русской заграничной агентуры… Павлищев этот, он кем, согласно родственней номенклатуре, приходится Пушкину?» Вот она, изнанка величия империи, чьим певцом до поры был Пушкин.
Это потрясающий по своей смысловой мощи роман Давыдова «Бестселлер».
Тут вам и Российская империя, и советская империя, и Пушкин…
Эйдельман, сквозь всю творческую жизнь которого проходит стремительная фигура Пушкина, «певца империи и свободы», по знакомому нам глубокому замечанию Георгия Петровича Федотова, историк, тщательно изучавший психологию русских императоров и пытавшийся найти истоки их трагедий, собственно, всю жизнь писал о трагедии империи, отринувшей пушкинскую мечту о гармоничном сочетании империи и свободы.
И Давыдов, и Эйдельман высоко ценили Бродского, и, безусловно, прозревали в нем связь с Пушкиным.
Ведь и Бродский был «певцом империи и свободы». Той же свободы, но другой империи. Пушкин – до поры – питал иллюзии относительно имперской идеи, воспринимая Российскую империю как мощное организующее начало, устремленное в будущее. Он пел империю на взлете, мечтая увидеть на вершине этого взлета человека, чья личная свобода гарантируется стройной мощью государства.
Бродский пел империю упадка. Он пел трагедию империи. Для него сливались Российская и Римская империи и возникал некий фантом, который его преследовал. (Он и Соединенные Штаты называл империей – см. «Колыбельную Трескового мыса».)
А вот некая фантомная империя, из которой бегут:
- Империя похожа на трирему
- в канале для триремы слишком узком.
- Гребцы колотят веслами по суше
- и камни сильно обдирают борт.
- Нет, не сказать, чтоб мы совсем застряли!
- Движенье есть, движенье происходит,
- Мы все-таки плывем. И нас никто
- не обгоняет. Но, увы, как мало
- похоже это на былую скорость!
- Post aetatem nostram
Программное стихотворение «Перед памятником А. С. Пушкину в Одессе» – о великой творческой свободе, закованной в имперский чугун.
Но еще в 1963 году он писал о тоске по Риму, сердцу империи, – в таинственном стихотворении EX ORIENTE. И один из любимых и близких ему героев – Овидий – умирает от тоски по Риму, выброшенный на глухую окраину великой империи…
О Бродском и Пушкине писали немало. Но да простят меня достойные исследователи – как правило, речь идет о частных аспектах этой гигантской проблемы…
Между тем, это, быть может, одна из фундаментальных проблем нашей интеллектуальной жизни последнего полувека, отбрасывающая тень далеко назад во времени. И Бродский при всех его декларациях о первенстве Баратынского упорно – скрытно и явно – цитировал в своих стихах Пушкина, начиная с первых больших вещей. И на него ориентировался в многообразии своей творческой работы, включая мир его рисунков.
Для Бродского имперский сюжет, имперская идея, которая изначально подразумевала стройную систему, укрощающую и облагораживающую хаос, безусловно пересекается с его фундаментальной установкой на «величие замысла».
Империя Бродского и империя позднего Пушкина, Пушкина после 1834 года, это трагедия великого, но неудавшегося замысла.
Судьба подарила мне возможность многочисленных бесед с героями этой книги. Но только теперь понимаю, как нерассчетливо я распорядился этой возможностью. И то, что я решился соединить их под одной обложкой – это горькая попытка компенсировать свою прежнюю недальновидность.
Я надеюсь, что Иосиф, Юра и Натан простят мою самонадеянность. Они так много сказали людям, что им нет надобности беспокоиться о своем месте – не в моей памяти! – а в памяти мира.
Часть первая. Рыцарь и смерть, или жизнь как замысел: О судьбе Иосифа Бродского
В культуре, как и в пещере пустынника, человек соучаствует в космической брани. Его призвание трагично, и нет ничего противнее трагическому жизнеощущению, как сомнение, раздумье, элегическая резиньяция. Сквозь хаос, обступивший нас и встающий внутри нас, пронесем нерасплесканным героическое – да: Богу, миру, людям.
Георгий Федотов
Иосиф Бродский
- Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
- Только с горем я чувствую солидарность.
- Но пока мне рот не забили глиной,
- из него раздаваться будет лишь благодарность.
От автора
Предлагаемое читателю сочинение – попытка воссоздать, прежде всего для себя, облик Бродского – поэта и человека в их органическом единстве. Это попытка понять жизненную стратегию Бродского, определившую резкую особость его судьбы.
Тексты, собранные под этой обложкой, были написаны на протяжении двадцати лет – как при жизни героя, так и после его ухода.
Существует такое понятие – ответственность осведомленности. Именно это чувство и заставляло меня каждый раз браться за работу. Особенно это относится к первой части книги, которую условно можно назвать мемуарной.
Как известно, ситуация с написанием биографии Бродского и воспоминаний о нем существенно осложнена его собственной позицией.
В 1994 году, составив завещание, он приложил к нему письмо, в котором говорил:
«Просьба к моим друзьям и родным не сотрудничать с издателями неавторизованных биографий, биографических исследований, дневников и писем».
В частных письмах он высказывался еще категоричнее:
«Жизнь мою, то есть физическое существование моей личности, я просил бы и Вас, и всех тех, кто интересуется моим творчеством оставить в покое».
Или еще определеннее:
«Я не возражаю против филологических штудий, связанных с моими худ. произведениями – они, что называется, достояние публики. Но моя жизнь, мое физическое состояние, с Божьей помощью принадлежала и принадлежит только мне… Что мне представляется самым дурным в этой затее, это – то, что подобные сочинения служат той же самой цели, что и события в них описываемые: что они низводят литературу до уровня политической реальности. Вольно или невольно (надеюсь, что невольно) Вы упрощаете для читателя представление о моей милости. Вы – уж простите за резкость тона – грабите читателя (как, впрочем, и автора). А, – скажет французик из Бордо, – все понятно. Диссидент. За это ему Нобеля и дали эти шведы-антисоветчики. И “Стихотворения” покупать не станет… Мне не себя, мне его жалко».
Собственно, в последнем пассаже основная разгадка жесткой позиции Бродского. Он боялся, что мир поэтический будет подменяться миром политическим. «Я отказываюсь это драматизировать!» – раздраженно ответил он на вопрос Соломона Волкова о суде и ссылке. Он не желал, чтобы сложилось впечатление, будто его колоссальная духовная работа определялась чисто внешними обстоятельствами.
Был и еще один внятный повод для тяжелых опасений – он смертельно боялся вторжения в его личную жизнь. Он смертельно боялся, что высокая драма его бытия будет снижена до уровня пошлого быта.
Он не хотел, чтобы его противостояние несправедливости мироустройства сводилось к противостоянию власти, которую он презирал.
Думаю, он догадывался о невозможности закрыть от поколений читателей свою «физическую жизнь», но пытался минимизировать возможный ущерб.
Сам он в многочисленных интервью, автобиографических эссе, беседах с Соломоном Волковым выстраивал свою версию собственной жизни. Я пишу об этом в эссе «Версия прошлого».
При этом он не мог не понимать, что дает будущим биографам обильный материал.
Этот страх перед теми, кто будет кроить его жизнь по своим лекалам, усилился именно в последние годы. Когда в 1989 году я написал и опубликовал очерк «История одной расправы» – о травле и суде, – и послал Бродскому, он отнесся к этому вполне благосклонно.
Надо понимать – случилось бы то, что случилось в 1963–1965 годах, или не случилось, он стал бы поэтом именно того масштаба, каким он и стал. Разумеется, характер его творческой работы второй половины жизни был бы иным, но его одаренность никуда бы не делась.
Надо помнить, что к моменту ареста и ссылки он был уже автором «Шествия», «Рождественского романса», «Холмов», «Большой элегии Джону Донну», «Исаака и Авраама», «Столетней войны», и многого другого… Он был сложившимся большим поэтом…
В данной же книге я и стараюсь прежде всего показать, что имманентно присущие его личности свойства давали ему возможность существовать не просто вопреки, но поверх враждебной реальности и внутренне не зависеть от обстоятельств. Сочетание личных воспоминаний, призванных дать представление об уникальности натуры Бродского, с эссеистикой, анализирующей некоторые из ведущих его идей, надеюсь, в какой-то степени решают эту задачу.
Появление как биографических штудий, так и воспоминаний, посвященных Бродскому, неизбежно, вне зависимости от его позиции. Вопрос в качестве этих штудий и корректности воспоминаний.
Образцом биографии, на мой взгляд, стала книга нашего с Бродским покойного друга Льва Лосева, изданная в ЖЗЛ.
Опасения Бродского печально подтвердились. Его «физическое существование» оказалось достоянием фантазий – как безобидных, так и отвратительных, равно как и мишенью беспардонной клеветы. И было бы непорядочно, если бы те, кто искренне любил его при жизни и остался верен ему после его ухода, скрывали свое знание. Не вторгаясь, естественно, в те области, которые он сам считал запретными. Это тем более необходимо, что людей подобного толка становится все меньше.
Ответственность осведомленности.
I. Жизнь как замысел
Автор и издательство благодарят Фонд Наследственного Имущества Иосифа Бродского за разрешение на публикацию фрагментов не публиковавшихся стихотворений.
Гибель хора
Независимость – лучшее качество, лучшее слово на всех языках.
И. Бродский. Из письма автору. 1965
В настоящей трагедии гибнет не герой – гибнет хор.
И. Бродский. Нобелевская лекция
Если начинать с самого начала, то мы с Иосифом Бродским познакомились в 1957 году. Я недавно демобилизовался и поступил в университет (откуда, впрочем, ушел с четвертого, уже заочного, курса). Иосиф же, который был моложе меня на пять лет, проходил другие университеты. Окончив семилетку, он работал на заводе, потом кочегаром в котельной (в отличие от более поздних времен, это была настоящая кочегарская работа), санитаром в морге, коллектором в геологических экспедициях.
История с уходом Иосифа из школы многократно описана и им самим, и другими в той или иной степени знавшими его людьми. Этот эпизод стал, так сказать, каноническим.
Между тем далеко не все тут ясно. Одноклассница Иосифа Инна Турина, живущая ныне в Америке, некоторое время назад прислала мне свои воспоминания, которые, несмотря на отдельные неточности, существенно корректируют наши представления о школьной эпопее.
«В 1948 году я попала в 1-й класс. Меня, так же как и Осю, часто перебрасывали из школы в школу. Училась я на Моховой, потом на Гагаринской (Фурманова), а потом опять на Моховой в школе № 191 по адресу Моховая, д. 26. Школа находилась в третьем дворе этого дома.
В эту школу в 9-й класс и пришел к нам Ося Бродский… Ося заметно отличался от остальных ребят. Он был высок, полноват и выглядел немного старше других, хотя из-за войны многие ребята начинали учиться с 8 лет и были Осиными ровесниками. Большинство мальчиков донашивали уродливую серую школьную форму, часто в заплатах. Ося же был одет хорошо, аккуратно. Как у многих рыжих, цвет лица у него был здоровый, розовый, кожа чистая, и это тоже отличало его от нас остальных – бледных и худющих.
Ося проучился весь год в 9-м классе, сдавал экзамены, а после окончания занятий поехал с ребятами в колхоз.
Я не смогла поехать из-за болезни. После колхоза Нора (Э. Ларионова) вернулась с сияющими глазами и сказала: “Жаль, что ты не могла поехать. Ося нам читал стихи”».
Из воспоминаний Инны Туриной, одноклассницы Бродского
Воспоминания Инны Туриной заставляют по-иному взглянуть на школьную эпопею Бродского. Тот факт, что он учился с 1 сентября по 5 ноября 1955 года в 8 классе 289-й средней школы, засвидетельствован справкой директора школы. Сам Бродский неоднократно говорил о том, что он ушел из 8-го класса и поступил на завод. И факт его работы на заводе «Арсенал» задокументирован «Личной карточкой» отдела кадров. Там записано, что Бродский поступил на завод учеником фрезеровщика 11 апреля 1956 года, а 18 июля того же года стал фрезеровщиком 3-го разряда. И уволился 8 января 1957 года.
Но если Иосиф поступил на завод после 289-й школы, а больше в школе не учился, то совершенно непонятно, откуда взялись персонажи цикла «Школьная антология», учившиеся в 191-й школе. Личная карточка отвечает на этот вопрос. В графе «Место последней работы и занимаемая должность» записано: «Учащийся 191-й школы».
Таким образом, все становится на свои места. В своих интервью Иосиф несколько «спрямил» ход событий. Он не просто ушел из школы. Он, скорее всего, перешел из 289-й школы, находившейся на Нарвском проспекте – далеко от нового места жительства, в 191-ю, которая располагалась в нескольких минутах от дома Мурузи – на Моховой улице. А уже оттуда ушел в апреле на завод. Справка от 25 августа 1956 года о выбытии его из школы для поступления на работу могла быть оформлена задним числом. Но могло быть и другое.
Иосиф упоминал в интервью, что некоторое время учился в вечерней школе. Поскольку герои «Школьной антологии» учились в дневных классах, то есть основания предположить, что в 191-й школе могли быть и вечерние классы и что Бродский, поступив учеником на завод, некоторое время учился вечерами. Тогда, как и утверждает Инна Турина, он мог сдать весенние экзамены. А что до колхоза, то, скорее всего, он просто навещал там своих вчерашних одноклассников и одноклассниц.
Инна Турина наверняка ошибается в одном – она сдвинула события на год. Бродский учился с персонажами «Школьной антологии» в 8-м классе. Это подтвердил в беседе со мной и соученик Туриной и Бродского – один из героев «Антологии» – Олег Поддобрый.
Обстоятельства нашего знакомства, опасаюсь, останутся исторической загадкой. Когда, уже в 1990 году, мы в его деревенском доме в Массачусетсе пытались эти обстоятельства восстановить, то нам это не удалось. Смутно помнится, что это могло произойти в редакции газеты «Смена», ранней осенью.
В диалоге с Соломоном Волковым[1] после фраз о нашем с ним знакомстве как одном из первых его литературных знакомств Иосиф сразу переходит к воспоминанию о чтении своих стихов в литобъединении «Смены». И это тоже некое полуосознанное указание.
Иосиф говорит, в частности:
«Руководили этим объединением, помнится, два несчастных человека. Это я вместо того, чтобы сказать “два больших мерзавца”».
В данном случае Иосиф – если воспользоваться бессмертной формулой Валерия Попова, – «суров, но несправедлив».
В «Смене» в том же пятьдесят седьмом году, летом, я познакомился с Сергеем Вольфом, которому вернули его рассказы, равно как и мне мои стихи.
В тот день Вольф долго читал мне стихи своих приятелей – запомнил я только Владимира Уфлянда…
У меня нет ни желания, ни права заниматься здесь мемуаристикой в полном смысле этого слова. Я претендую только на то, чтобы в необходимых пределах дать читателю представление о личности молодого Бродского, – без этого не обойтись. Главное же – уловить суть тогдашних событий. А читателя прошу воспринимать мой – не документальный – текст как комментарий свидетеля, волею обстоятельств стоявшего вплотную к этим событиям и даже пытавшегося принимать в этих событиях посильное участие.
Определяющей чертой Иосифа в те времена была совершенная естественность, органичность поведения. Смею утверждать, что он был самым свободным человеком среди нас – небольшого круга людей, связанных дружески и общественно, – людей далеко не рабской психологии. Ему был труден даже скромный бытовой конформизм. Он был – повторяю – естествен во всех своих проявлениях. К нему вполне применимы были известные слова Грибоедова: «Я как живу, так и пишу, – свободно и свободно».
Это свойство бытового поведения, создававшее, как всякому понятно, немалые трудности для самого Бродского и для тех, кто окружал его (я могу писать об этом со спокойной душой, поскольку мы с Иосифом не поссорились ни разу), непосредственнейшим образом связано было и с характером дарования Бродского. Но об этом несколько позже.
Второй, не менее важной его чертой тех лет кажется мне максимальная интенсивность проживания любой ситуации – как бытовой, так и интеллектуальной. Эта интенсивность проживания и восприятия – в совокупности с общей необычайной одаренностью – сделала Бродского к двадцати четырем годам по-настоящему образованным человеком, легко овладевавшим иностранными языками – самоучкой! – знатоком не только русской и советской, но и польской, и англоязычной поэзии. В то же время интенсивность эта и привлекала, и пугала окружающих. Уже тогда можно было услышать оценки его личности (даже от людей, высоко ценивших его дарование) вполне противоположные.
Свобода, в том числе и внутренняя, даром не дается. (Да простится мне эта необходимая банальность.)
Две эти черты заставляли Бродского вести себя, на взгляд многих, особенно людей скованного сознания – я уже не говорю о сознании охранительном, – совершенно дико, вне общепринятых правил игры.
В 1958 году Иосиф стал часто бывать на филфаке университета. Наш общий приятель Игорь Смирнов вспоминал:
«В 1958 году я учился на вечернем отделении ЛГУ. Я жил около Финляндского вокзала и зимой после работы на заводе добирался из дома до Университета на 47-м автобусе. Бродский жил в знаменитом доме Мурузи… Мне с ним было по пути… Трудясь, как и я, днем, Бродский посещал вечерами семинар по истории КПСС, который был для меня обязателен, а для него, вольного слушателя, просто интересен – чем именно, мне было поначалу просто непонятно. С руководительницей семинара он спорил о сталинском определении нации, все еще считавшемся непоколебленным. С изумлением я заметил, что доцентша не донесла на Бродского. Полемика с партийными догмами как раз перестала быть наказуемой. Бродский испытывал терпение дамы, которая несколькими годами раньше могла засадить его в лагерь. Другой причины для его приходов в этот семинар, не снабжавший нас никакими знаниями, я не вижу».
Но Иосиф бывал не только на семинаре по истории КПСС. Он сиживал и на общих лекциях по западной и русской литературе. А марксизм его интересовал – как и многих из нас, – по одной простой причине: хотелось понять – есть ли в нем, очищенном от советской шелухи, какое-либо рациональное зерно. Тем более что читать некоторые, особенно ранние, работы Маркса было довольно увлекательно. А уж энгельсовский «Анти-Дюринг», чрезвычайно лихо написанный, подкупал остроумием и полемической яркостью.
С конца того же года у Иосифа появилась еще одна причина стать завсегдатаем филфака. В октябре мы вернулись с целины. Я, как прошедший армию и превосходивший многих своих однокашников, а тем более однокашниц, по возрасту, был бригадиром. По возвращении я познакомил Иосифа с девушками из своей бригады, в частности с Алей Друзиной. С Олей Бродович они, как выяснилось, были знакомы уже давно. А через них он, естественно, свел знакомство и с их подругами.
Оле посвящена ранняя лирика Иосифа. С Алей Друзиной связан характерный для него эпизод.
Во время одного из интервью Иосифа спросили – кому посвящено одно из самых известных его ранних стихотворений «Стансы». Он ответил, что не помнит. По какой-то причине ему не хотелось называть имена, хотя ни Лену Валихан, ни Алю Друзину, адресата исполненного взволнованной нежности «Письма к А. Д.» он, разумеется, забыть не мог. Никаких романических отношений с Алей у них не было, но он относился к ней именно с дружеской нежностью. Быть может, и потому, что с ней были связаны воспоминания о самых хороших для него российских временах: конце пятидесятых – начале шестидесятых годов – до начала травли: бурный успех у слушателей и читателей самиздата, новые яркие знакомства и дружбы, и не только дружбы – в частности, отношения с Олей Бродович, соученицей по университету и подругой Али… В июне 1978 года Ося оказался пролетом в Рейкьявике. Там же жила и Аля, вышедшая замуж за исландца – рослого, спокойного Халдора Вильямсона, очень симпатичного человека. Аля в это время находилась в роддоме после очередных родов – у нее четверо детей.
Она сохранила письмо Иосифа, свидетельствующее о неизменности его к ней отношения. Вот фрагмент из письма:
«Аля, милая, совершенно идиотская история вышла: этот Бергман, говоря – как я только теперь понял – про тебя, то ли перепутал, то ли переврал твою фамилию. И, конечно же, я решил, что это кто-то другой. Никогда себе этого не прощу. Я бы просто в роддом пришел, прибежал бы… Пока вот тебе две книжечки. Авось что-нибудь в них тебе понравится. Я все еще занимаюсь этим идиотским ремеслом, как видишь. Господи, как все дико: ведь почти двадцать лет… Целуем Вас нежно и как бы поздравляем с двойняшками…
Твой Иосиф».
По отношению к тем, кого он любил, он мог быть трогателен и сентиментален.
Судя по названной им цифре – «почти двадцать лет» – он точно помнил время знакомства: ноябрь 1958 года…
Вернемся, однако, на двадцать лет назад.
Ему, жадному до всякого знания, было, конечно же, интересно на факультете. Но именно здесь произошло событие, впервые, я уверен, обратившее на Бродского внимание властей. И я был тому виной…
В конце 1958 года я делал на заседании студенческого научного общества доклад на тему «“Звериность” в поэзии двадцатых годов», на материале творчества Сельвинского и Луговского («Звериность – это цветение сил…» – И. Сельвинский). На заседание я пригласил Бродского. Неожиданно для меня восемнадцатилетний Иосиф бестрепетно выступил в прениях по докладу и начал свое выступление с цитаты из книги Троцкого «Литература и революция». Согласимся, что для пятьдесят восьмого года, когда имя Троцкого было под строжайшим запретом, а книга как бы не существовала, это был нетривиальный поступок. Причем я уверен, что Бродский вовсе не собирался кого-либо эпатировать, – просто он только что прочитал книгу и счел, что какой-то ее тезис важен для идущей дискуссии.
Надо было видеть, что сделалось с руководителем СНО профессором Наумовым. Я испугался, что Евгений Иванович умрет на месте. Его филиппику против Иосифа совершенно невозможно было понять, потому что от ужаса и ярости он постоянно путал фамилии Бродский и Троцкий.
После журнальной публикации этого очерка некоторые ученики Наумова сочли, что я зря обидел Евгения Ивановича, а один из них написал о своей обиде в «Ленинградской правде».
Разумеется, человек поворачивается в разных ситуациях разными сторонами своей натуры. И Евгений Иванович, очевидно, заботился о своих учениках. Хотя, убейте меня, не понимаю, чему мог он научить. Я тоже некоторое время посещал семинар, который он вел. И самое сильное мое впечатление – занятие, посвященное Пастернаку. Это было во время скандала с «Доктором Живаго», и Евгений Иванович клеймил Пастернака за его «всегдашнюю аполитичность и равнодушие к судьбе страны». «Вы подумайте! – восклицал он чрезвычайно патетически. – Идет война, страна истекает кровью, а он пишет: “На столе стакан недопит”…» Придя домой, я проверил – стихи эти были написаны в 1936 году… Евгений Иванович был человеком начитанным. Он просто обманывал студентов, рассчитывая на их неосведомленность.
(За одно я Евгению Ивановичу, однако, благодарен. Когда на исходе второго курса филфак мне изрядно надоел, а мой приятель, работавший в НИИ геологии Арктики, Боря Генин предложил мне поехать вместе с ним в экспедицию – там нужны были люди, – и я стал пытаться перенести весеннюю сессию на осень, наш завкафедрой Федор Александрович Абрамов отнесся к этой идее весьма скептически.
Но когда я обратился к Евгению Ивановичу, то он горячо и радостно меня поддержал, немедленно написал – он был болен и я пришел к нему домой, – письмо декану Игорю Петровичу Еремину, очевидно, столь убедительное (я передавал его в запечатанном конверте), что Еремин без возражений подписал мое прошение.
Полагаю, что когда Евгений Иванович услышал, куда я собираюсь, – а Биректинская экспедиция НИИГА работала тогда за Полярным кругом в Северной Якутии на Анабарском щите, – то у него появилась надежда, что я и не вернусь из этих Богом забытых мест и перестану осложнять ему жизнь…
Как бы то ни было, именно вмешательству Евгения Ивановича я обязан радикальной переменой своей судьбы – вернувшись осенью, я перешел на заочное отделение, – и замечательными пятью годами работы на Севере…
Евгений Иванович, судя по всему, был не худшим среди тех, кто наводил порядок в нашей литературе в конце сороковых годов. Он не был фанатиком, он был циником. И большого размаха конъюнктурщиком. А еще Салтыков-Щедрин говаривал, что из фанатика и циника он всегда выберет циника. Так что по-своему мои оппоненты правы. Жаль мне только тех бедных студентов, которых профессор Наумов, обладая несомненными ораторскими способностями (при отсутствии, на мой взгляд, научных), духовно обирал, поднося им литературу в вульгарно-советском виде.
Надо, правда, в конкретном описанном случае учесть и его искренний ужас – во вверенном его попечению студенческом научном обществе звучала недопустимая крамола. Он обязан был реагировать…
Однако всех этих чисто советских резонов Иосиф не понимал и понять не мог (как, впрочем, и автор данного очерка в те времена). Это был не его мир. Он жил по иным правилам.
Уверен, что непримиримость ленинградских властей к Иосифу в начале шестидесятых годов вызвана была не столько его стихами, которые казались им малопонятными и не содержали никаких политических деклараций, сколько именно стилем его общественного поведения, основанным на свободе и органичности в весьма интенсивном варианте. Он не совершал, разумеется, никаких противоправных поступков (даже соседи по коммунальной квартире дали ему после ареста наилучшую характеристику), просто в условиях, скажем, резко ограниченной свободы он жил как свободный человек. А это пугает и раздражает[2].
То же чувство свободы жило в его стихах. При всем желании в них невозможно было вычитать никакой антисоветской агитации – за исключением нескольких строк в «Шествии» (поэтому в шестьдесят четвертом году, как мы увидим, организаторам травли пришлось прибегнуть к грубой фальсификации), но духовные и административные отцы города явственно ощущали несовместимость со своим мировидением этих непривычных стихов, которые казались особенно опасными из-за личности автора. Позже Иосиф отчетливо обозначил этот неполитический аспект проблемы: «Поэт наживает себе неприятности ввиду своего лингвистического и, стало быть, психологического превосходства, а не по политическим причинам. Песнь есть форма лингвистического неповиновения».
Бродский с пятьдесят восьмого – пятьдесят девятого года много выступал публично, главным образом в студенческих аудиториях. Мне тогда не раз случалось выступать с ним или присутствовать на его выступлениях, и я могу засвидетельствовать – успех был неизменным и полным. Те черты его личности и поведения, о которых шла речь, реализовались в то время не только в тексте его стихов, но и в манере чтения. Она была неотразима и воздействовала на слушателей сильнейшим, подавляющим образом. (Хотя у Бродского тогда уже были противники, эту манеру высмеивающие.) Картавость, некоторая невнятность произношения, интонационное однообразие зачина забывались немедленно. Бродский мог достигнуть такой интонационной интенсивности, что слушателям становилось физически дурно – слишком силен оказывался напор.
Но суть была не в том. Чтение Бродским своих стихов было жизнью в стихе. Перед слушателями происходило уникальное и потрясающее явление – абсолютное слияние личности и результата творчества, казалось бы, уже отделившегося от этой личности. Происходил некий обратный процесс – стихи снова воссоединялись с поэтом. Это не было воспроизведение, исполнительство – пусть самое высокое. Это было именно проживание поэзии.
Интенсивность личности и соответствующая манера чтения Иосифа иногда определяла неприятие его стихов даже людьми широкими и понимающими, но ориентированными на иной стиль существования. 14 февраля 1960 года в ленинградском Дворце культуры имени А. М. Горького состоялся так называемый турнир поэтов, довольно нелепое мероприятие, в котором, однако, приняли участие и А. Кушнер, и Г. Горбовский, и В. Соснора, и многие другие бурные и небурные гении того периода. Автор этих строк тоже выступал на данном ристалище (и даже разделил с кем-то второе место – первое не получил никто) и потому был умиленным свидетелем происходящего.
Иосиф прочитал стихотворение «Еврейское кладбище».
- Еврейское кладбище около Ленинграда.
- Кривой забор из гнилой фанеры.
- За кривым забором лежат рядом
- юристы, торговцы, музыканты, революционеры.
- Для себя пели.
- Для себя копили.
- Для других умирали.
- Но сначала платили налоги,
- уважали пристава
- и в этом мире, безвыходно
- материальном, толковали Талмуд,
- оставаясь идеалистами.
Могло понравиться, могло не понравиться, но я убежден – если б те же строки прочитал другой поэт, не было бы никакого скандала. А тут скандал начался немедленно и весьма неожиданным образом – по совершенно непонятной тогда для меня причине громко возмутился умный, тонкий, так много понимавший Глеб Сергеевич Семенов, впервые услышавший чтение Иосифа.
(Могу засвидетельствовать, что вскоре у них установились самые добрые отношения, мы вместе навещали Глеба Сергеевича, когда он захворал. Иосиф читал стихи, а хозяин их хвалил. Эпизод на турнире Глеб Сергеевич очень не любил потом вспоминать, а когда я однажды напомнил ему о нем, он расстроился. И сейчас я пишу об этом отнюдь не для того, чтобы укорить память этого достойнейшего и незаурядного человека, талантливого поэта с драматической литературной судьбой.)
Однако вернемся на турнир. Иосиф за стихом в карман не лез и в ответ на возмущение своих немногочисленных оппонентов – большинство зала приняло его прекрасно – прочитал стихи с эпиграфом «Что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку»:
- Каждый пред Богом
- наг.
- Жалок,
- наг
- и убог.
- В каждой музыке
- Бах,
- В каждом из нас
- Бог.
- Ибо вечность – богам.
- Бренность – удел
- быков…
И заканчивались эти стихи:
- Юродствуй,
- воруй,
- молись!
- Будь одинок,
- как перст!..
- …Словно быкам –
- хлыст,
- Вечен богам
- крест.
Это уже было присутствующими работниками обкома партии и обкома комсомола воспринято как непереносимый вызов, и «курировавшая» турнир от Союза писателей бедная Наталья Иосифовна Грудинина, которая через несколько лет будет, можно сказать, головой рискуя, защищать Бродского, вынуждена была от имени жюри выступление Иосифа осудить и объявить его как бы не имевшим места… Ну, с теми, кто стоял за жюри, все понятно, но Глеб Семенов?.. И тут, однако, нет большой загадки. Высокий поэт, в своей многострадальной жизни приучивший себя к гордой замкнутости, к молчаливому противостоянию, Глеб Сергеевич оскорбился тем откровенным и, можно сказать, наивным бунтарством, которое излучал Иосиф, возмутился свободой, казавшейся незаслуженной и не обеспеченной дарованиями. Последнее заблуждение, впрочем, рассеялось очень скоро.
Я рассказываю все это не ради мемуаристского удовольствия. Мне важно показать людям сегодняшнего дня, какая атмосфера окружала Бродского и какое впечатление он производил на людей вообще и на власть имущих в особенности. Повторяю – в условиях несвободы, с которой смирилось большинство, свободный человек, даже не посягающий ни на какие устои, все равно воспринимается как мятежник.
А Бродский и был мятежником – не в вульгарно-политическом, но в куда более высоком смысле. Он постоянно в те времена обвинял меня в конформизме – не в общественном, тут у нас не было разногласий, но в философском, экзистенциальном. «Это морская пехота научила тебя не лезть на рожон», – сказал он мне вечером 2 декабря 1958 года в квартире нашей общей приятельницы Елены Валихан, в том самом доме с темно-синим фасадом, который фигурирует в его знаменитых и тогда и теперь «Стансах»: «Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать…»
Я не служил в морской пехоте, но в первый год службы был курсантом полковой школы отдельного стрелкового полка, где нас, действительно, обучали по весьма суровой программе. Морская пехота возникла в сознании Иосифа, очевидно, по двум причинам. Во-первых, наш полк стоял на побережье Тихого океана, на Татарском проливе, в районе знаменитого Ванинского порта – о чем я Иосифу рассказывал и писал стихи, Иосифу известные. А во-вторых, нам с ним нравился – не помню откуда взявшийся – американский вербовочный плакат с изображением бравого морского пехотинца и энергичной надписью: «Морская пехота сделает из тебя человека!».
Иосиф вообще был неравнодушен к армейской атрибутике. Одно время я носил защитного цвета куртку с погончиками. Когда я приходил к Иосифу, то, открывая мне дверь, он неизменно провозглашал: «Здравия желаю, мой капитан!» Он и сам охотно фотографировался в военной форме. Это, конечно, были столь популярные в те времена хемингуэевские мотивы…
Я, однако, счастлив, что медкомиссия признала его негодным к военной службе по состоянию нервной системы и зачаткам сердечной болезни. Иначе исход мог быть для Иосифа плачевным.
Я рискую столь точно назвать дату нашего разговора, потому что на следующий день он принес датированные стихи, мне посвященные и названные «Стихи о принятии мира». Заканчивались они так:
- Нам нравится распускаться.
- Нам нравится колоситься.
- Нам нравится шорох ситца
- и грохот протуберанца,
- и, в общем, планета наша,
- похожая на новобранца,
- потеющего на марше.
Последние строки были, разумеется, ироническим намеком на мое армейское прошлое…
Тем же вечером 2 декабря один из гостей Лены Валихан, Леонид Ентин, живущий нынче в Париже, восхищенно глядя на Иосифа, сказал: «Пока в России есть такие вот рыжие, все будет кипеть!»
Иосиф отрицал целесообразность и справедливость мира – именно мира, а не какой-то там политической системы, – с такой страстью и непреклонностью, что хотелось защитить этот бедный мир.
Должен сказать, что при всей нашей взаимной дружеской привязанности, сохранившейся до конца жизни (14 июля 1988 года он писал мне из Лондона: «Какой монетой расплачиваться за верность, кроме той же верности…»), то, что я тогда писал, время от времени его сильно раздражало. Году в пятьдесят девятом у меня было стихотворение, начинавшееся строками:
- Ну что тебе? Хочешь хлеба?
- Молчи! Я знаю ответ.
И заканчивалось:
- Ты все еще хочешь хлеба,
- Земная моя душа.
Иосиф реагировал весьма резко. Естественно, в стихотворной форме. Но мне эти «Стихи о пространстве» – в отличие от «Стихов о принятии мира» – не показал, очевидно, опасаясь меня обидеть. Я увидел их только в собрании Володи Марамзина.
- Земные пути короче.
- Прочны земные вещи.
- Земные истины проще
- и постигаемы легче,
- нежели притчи неба
- и путаницы созвездий.
- «…Ты все еще хочешь хлеба…»
- И за стихами ездишь.
- Смотрит недружелюбно
- солнце твое косое,
- как движется по окружности
- приплюснутый эллипсоид.
Вторая строка второй строфы – иронический намек на вполне конкретное обстоятельство. Пять лет я работал в геологических экспедициях в Заполярье. Помимо того, что я таким образом зарабатывал на жизнь, я еще и был уверен, что найду там материал для стихов. Пассаж о недружелюбном косом солнце – реакция на привезенную мной из Северной Якутии в пятьдесят девятом году «геологическую поэму» «Жизнь дана живущим», и в самом деле отличавшуюся переизбытком брутальных деталей.
Ему хотелось обратить меня в свою поэтическую веру.
- На всякий случай
- запомни «вчера»,
- «сегодня» тоже
- запомни, милый.
- Находятся оригиналы,
- разбивающие зеркала,
- чтоб мир оставался
- неповторимым.
И далее он иронически обыгрывал мотив из еще одного моего стихотворения о простоте вещей и жизни – «Я твердо знал, что камень прост, Что прост песок и даль проста…»
- Находятся оригиналы,
- у которых мечта,
- чтобы усвоили
- и я, и ты,
- сколь восхитительна
- красота
- пустоты простаты.
Это уже было откровенное издевательство. Идея простоты мира, которой я тогда был увлечен, его категорически не устраивала. Это незаконченное стихотворение с прямыми и скрытыми цитатами из моих тогдашних стихов начиналось, как мы помним, программно. Мне он оставлял «земные пути» – себе брал «притчи неба и путаницу созвездий».
Вообще-то, собственно поэтическая жизнь тех лет была с литературоведческой точки зрения весьма и весьма насыщенной. Но если сложный полемический рисунок поэзии Серебряного века тщательно исследован, то подобные явления нашего тогдашнего времени, во многом так и оставшиеся достоянием самиздата, опасаюсь, пройдут мимо исследователей.
Уж если до сих пор не исследована скрытая и явная полемика между Кушнером и Бродским начала шестидесятых, то что говорить о явлениях менее значительных.
Достаточно вспомнить иронический выпад в кушнеровской балладе против популярного тогда стихотворения Иосифа «Черный конь».
- И черный конь недаром в этот миг
- В конце пустынной улицы возник.
- Он землю рыл, копытами стучал,
- Но и его никто не замечал.
Это был спор глубоко принципиальный. Спор двух систем поэтического освоения мира.
Иосиф был значительно моложе большинства своих друзей – на пять-шесть лет. Но очень скоро разница эта перестала быть заметной, в том числе и внешне, – он стремительно взрослел, его физическое взросление удивительным образом шло вровень с интеллектуальным развитием. В середине шестидесятых годов он ощущал себя – и это было оправданно – уж во всяком случае не моложе меня, несмотря на пятилетний разрыв, хотя в его поведении долго сохранялось много мальчишеского. Незадолго до его ссылки мы выходили как-то из университетского общежития на улице Шевченко, тогда Симанской, он совершенно неожиданно кинулся к лежавшей в вестибюле штанге и с огромным трудом, но поднял ее. И был чрезвычайно доволен. Думаю, больше, чем успехом предшествовавшего этому подвигу выступления перед студентами. (И это при тогда уже не очень-то здоровом сердце.)
Вскоре после его возвращения из ссылки мы шли – он, Борис Вахтин и я – по Ленинграду, рассуждая о чем-то, и вдруг Иосиф опять-таки кинулся к высоким старинным воротам из вертикальных чугунных прутьев и быстро полез вверх на одних руках, демонстрируя нам свою физическую форму, укрепленную сельхозработами. Он никогда не стремился к духовному вождизму, но возможности и место свое понял достаточно рано. А мясорубка шестьдесят третьего – шестьдесят четвертого годов это осознание своей особости еще более прояснила и утвердила в нем достаточно редкое ощущение – «право имею».
13 июня 1965 года он писал мне из ссылки:
«Я собираюсь сейчас устроить тебе маленькую Ясную Поляну; мое положение если не обязывает к этому, то позволяет. Точнее: мое расположение, географическое… Если тебе что и мешает сделаться тем, чем ты хотел бы сделаться, так это: 1) идиотские рифмы, 2) восходящая к 30-м годам брутальная инструментовка, 3) плен мнений разных лиц… Поэтому смотри на себя не сравнительно с остальными, а обособляясь. Обособляйся и позволяй себе все что угодно. Если ты озлоблен, то не скрывай этого, пусть оно грубо; если весел – тоже, пусть оно и банально. Помни, что твоя жизнь – это твоя жизнь. Ничьи – пусть самые высокие – правила тебе не закон. Это не твои правила. В лучшем случае, они похожи на твои. Будь независим. Независимость – лучшее качество, лучшее слово на всех языках. Пусть это приведет тебя к поражению (глупое слово) – это будет только твое поражение. Ты сам сведешь с собой счеты; а то приходится сводить счеты фиг знает с кем. А вот кое-что практически (ради Аллаха не сердись на меня). Самое главное в стихах это – композиция. Не сюжет, а композиция. Это разное. У тебя в Мятеже главное тоже композиция ‹“Мятеж безоружных” – моя пьеса о декабристах. – Я. Г.›: попробуй казнь переставить в начало – что получится? Смрад.
И вот (еще раз прости) что нужно делать. Надо строить композицию. Скажем, вот пример: стихи о дереве. Начинаешь описывать все, что видишь, от самой земли, поднимаясь в описании к вершине дерева. Вот тебе, пожалуйста, и величие. Нужно привыкнуть картину видеть в целом… Частностей без целого не существует. О частностях нужно думать в последнюю очередь. О рифме – в последнюю, о метафоре – в последнюю. Метр как-то присутствует в самом начале, помимо воли, – ну и спасибо за это. Или вот прием композиции: разрыв. Ты, скажем, поешь деву. Поешь, поешь, а потом – тем размером – несколько строчек о другом. И, пожалуйста, никому ничего не объясняй… Но тут нужна тонкость, чтобы не затянуть уж совсем из другой оперы. Вот дева, дева, дева, тридцать строк дева и ее наряд, а тут пять или шесть о том, что напоминает ее одна ленточка. Композиция, а не сюжет. Тот сюжет для читателя не дева, а “вон, что творится в его душе”… Связывай строфы не логикой, а движением души – пусть тебе одному понятным. Они и будут тебе дороги, эти стихи. И от всех мнений избавят. А потом тебе мнений и не захочется. Я, разумеется, понимаю, что ты на все, что я говорил, наплюешь. На здоровье. Но, по крайней мере, будешь это знать, если раньше не знал; а если знал, то вспомнишь лишний раз. Главное – это тот самый драматургический принцип – композиция. Ведь и сама метафора – композиция в миниатюре. Сознаюсь, что чувствую себя больше Островским, чем Байроном. (Иногда чувствую себя Шекспиром.) Жизнь отвечает не на вопрос: что? – а: что после чего? И перед чем? Это главный принцип. Тогда и становится понятным “что”. Иначе не ответишь. Это драматургия. Черт знает почему, но этого никто не понимает. Ни холодные люди, ни страстные. Я хотел бы, чтобы ты это понял и запомнил. Даже если не станешь применять. Я бы ужасно хотел, чтобы ты применял».
(Чрезвычайно любопытно и значительно совпадение рассуждений Бродского о роли композиции в поэзии с тем, что вспоминает Евгений Борисович Пастернак. Он спросил однажды отца, как у того возникает стихотворение. – «Все начинается с композиции, – сказал он. – Пока нет композиционного замысла, стихотворение не существует. Сколько бы ты ни подбирал строки или вслушивался в ритм, ничего еще нет. Только после возникновения композиции появляется стихотворение, начинается работа»[3].
Совсем молодой Иосиф Бродский и зрелый Борис Пастернак, наверняка не сговариваясь, сформулировали сходный фундаментальный принцип поэзии.)
Я, конечно, испытываю некоторую неловкость, цитируя личное письмо, но мне кажется, что сказанное здесь важно для исследователей работы Иосифа, и поскольку я таковым не являюсь, то держать под спудом такую красноречивую декларацию как-то совестно.
Что же до меня тогдашнего, то я, естественно, был далек от того, чтобы наплевать на его советы (не правда ли, все это и по интонации, и по напористости напоминает наставления Гамлета актерам? И думаю, не случайно), хотя, скажу честно, отнесся к ним без должной серьезности…
Удивительное дело – много лет назад двадцатипятилетний Бродский почти буквально сформулировал одно из положений своей Нобелевской лекции.
Но есть тут и еще один аспект – он писал это тридцатилетнему отцу семейства, профессионально занимающемуся литературой, но при всем дружеском равенстве и отсутствии какой-либо иерархии в отношениях я воспринял это «учительство», эту «Ясную Поляну» несколько иронически, но безо всякой обиды. И теперь с полной ясностью понимаю его правоту.
К слову сказать, тут прослеживается некая закономерность – люди такого масштаба часто, хотя бы в общем виде, рано формулируют основные идеи, а затем развивают и усложняют их. Так было с ясно обозначенной в письме идеей независимости. Так было и с фундаментальной для Иосифа идеей о самоценности и саморазвитии языка. Приблизительно осенью шестьдесят третьего года Иосиф принес мне текст письма в одну из центральных советских газет – по поводу надвигавшейся языковой реформы. Очевидно, он быстро остыл к своей идее, а текст остался у меня.
«Дорогая редакция, в окт. ном. Вашей газеты я прочел статью гл. орфографич. комиссии тов. ‹фамилия не прочитывается. – Я. Г.›. Она меня взволновала, и я счел своим долгом написать это письмо; хотел бы, чтобы Вы его опубликовали.
Под прогрессом языка и, следовательно, письма следует понимать его качественное и количественное обогащение. Письмо является формой, через которую выражается язык. Всякая форма с течением времени стремится к самостоятельному существованию, но даже и в этой как бы независимой субстанции продолжает (зачастую не отдавая уже себе как следует отчета) служить породившей ее функции. В данном случае: языку. Обретая видимую самостоятельность, форма создает как бы свои собственные законы, свою диалектику, эстетику и проч. Однако форма, при всем своем прогрессе, не в состоянии влиять на функцию. Капитель имеет смысл только при наличии фасада. Когда же функцию подчиняют форме, колонна заслоняет окно.
Предполагаемая реформа русской орфографии носит сугубо формальный характер, она – реформа в наивысшем смысле этого слова: ре-форма. Ибо наивно предполагать, что морфологическую структуру языка можно изменять или направлять посредством тех или иных правил. Язык эволюционирует, а не революционизируется, и в этом смысле он напоминает о своей природе. Существует три рода реформ, три рода формальных преобразований: украшательство, утилитаризм и функциональная последовательность.
Данная реформа – не первое и не третье. Данная реформа – второе. Ее сходство с первым заключается в том, что на перегруженный фасад столь же неприятно смотреть, как и на казарму. Своим же происхождением она, по сути, обязана неправильному пониманию третьего… Ибо функция, обладающая собственной пластикой, стремится освободиться от лишних элементов, в которых она не нуждается, стремится к превращению формы в свое стопроцентное выражение.
Говоря проще, письмо должно в максимальной степени выражать все многообразие языка. В этом цель и смысл письма, и оно имеет к этому все возможности и средства.
Разумеется, современный язык сложен, разумеется, в нем много можно упростить. Но суть упрощений состоит в том, во имя чего они проводятся. Сложность языка является не пороком, а – и это прежде всего – свидетельством духовного богатства создавшего его народа. И целью реформ должны быть поиски средств, позволяющих полнее и быстрее овладевать этим богатством, а вовсе не упрощения, которые, по сути дела, являются обкрадыванием языка.
Организаторы реформы объясняют возражения против нее гипнозом привычки. Но если вдуматься, залог живучести своих предполагаемых преобразований они видят не в чем ином, как в возникновении новой привычки.
Это процесс бесконечный. В конце концов, можно перейти на язык жестов и к нему привыкнуть. Неизвестно, будет ли это прогрессом, но это определенно проще, чем раздумывать, сколько “н” ставить в слове “деревянный”. А именно к простоте стремятся инициаторы реформы. Сказанное, конечно же, крайность, но этой крайности в то же время нельзя, к сожалению, отказать в известной логической последовательности.
Форма не влияет на функцию, но изуродовать ее может. Во всяком случае, создать превратное представление. Утилитаризм и стандартизация, повторяем, столь же вредны, как перегрузка деталями. Манеж, лишенный колонны, превращается в сарай; колоннада функциональна: она играет роль, подобную фонетике. А фонетика – это языковой эквивалент осязания, это чувственная, что ли, основа языка. Два “н” в слове “деревянный” не случайны. Артикуляция дифтонгов и открытых гласных даже не колоннада, а фундамент языка. Злополучные суффиксы – единственный способ качественного выражения в речи. “Деревянный” передает качество и фактуру за счет пластики, растягивая звук как во времени, так и в пространстве. “Деревянный” ограничен порядком букв и смысловой ассоциацией, никаких дополнительных указаний и ощущений слово не содержит.
Разумеется, можно привыкнуть – и очень быстро – к “деревяному”. Мы приобретаем в простоте правописания, но теряем в смысле. Потому что – “как пишем, так и произносим” – мы будем произносить на букву (на звук) меньше, и буква отступит, унося с собой всю суть, оставляя графическую оболочку, из которой ушел воздух.
В результате мы рискуем получить язык, обедненный фонетически и – семантически. При этом совершенно непонятно, во имя чего это делается. Вместо изучения и овладевания этим кладом – пусть не скоропалительно, но сколь обогащающим! – нам предлагается линия наименьшего сопротивления, обрезание и усекновение, этакая эрзац-грамматика. При этом выдвигается совершенно поразительная научная аргументация, взывающая к примеру других славянских языков и аппелирующая к реформе 1918 г. Неужели же непонятно, что другой язык, будь он трижды славянский, это прежде всего другая психология, и никаких аналогий поэтому быть не может. И неужели сегодня в стране такое же катастрофическое положение с грамотностью, как в 1918 году, когда, между прочим, люди сумели овладеть грамматикой, которую нам предлагают упростить сегодня.
Язык следует изучать, а не сокращать. Письмо, буквы должны в максимальной степени отражать все богатство, все многообразие, всю полифонию речи. Письмо должно быть числителем, а не знаменателем языка. Ко всему, представляющемуся в языке нерациональным, следует подходить осторожно и едва ли не с благоговением, ибо это нерациональное уже само есть язык, и оно в каком-то смысле старше и органичней наших мнений. К языку нельзя принимать полицейские меры: отсечение и изоляцию. Мы должны думать о том, как освоить этот материал, а не о том, как его сократить. Мы должны искать методы, а не ножницы. Язык – это великая большая дорога, которой незачем сужаться в наши дни».
Подписал он это послание – «архитектор Кошкин», лишний раз демонстрируя свою любовь к котам. Но любопытно, насколько явно эти соображения многолетней давности связаны с его позднейшими суждениями о языке. Все завязывалось тогда…
Если же вернуться к цитированному письму шестьдесят пятого года – из ссылки, – то надо сказать: с самого начала жажда независимости как сквозного жизненного и культурного принципа явственно обособляла Иосифа. И этот буквально излучаемый им экзистенциальный нонконформизм привлекал к нему, к его стихам, к его жизни внимание людей по преимуществу молодых. Его стихи широко ходили в списках. На них писали музыку. Он стал очень известен. Но – и я настаиваю на этом – для того, чтобы понять происшедшее в шестьдесят четвертом году, нужно представить себе Иосифа Бродского как явление.
В частности – и это принципиально, – нужно представить себе его непосредственное воздействие на слушателей.
Забегая вперед, хочу вспомнить первое «официальное» выступление Иосифа. Очень показательное именно в смысле реакции публики на его чтение.
11 апреля 1963 года Иосиф выступил в Доме писателя на устном альманахе «Впервые на русском языке», который организовал и вел Ефим Григорьевич Эткинд. На альманах, одно из самых ярких культурных событий в тогдашнем Ленинграде, собирался, можно сказать, цвет питерской интеллигенции. И дело было не только в том, что там выступали с чтением своих новых переводов блестящие мастера – Эльга Львовна Линецкая, Иван Алексеевич Лихачев, Алексей Матвеевич Шадрин, Александр Александрович Энгельке, Поэль Меерович Карп, Михаил Александрович Донской, Юрий Борисович Корнеев, равно как и молодое поколение – ученики многих из названных, дело было еще и в атмосфере этих вечеров – атмосфере интеллектуальной свободы, отрешенности от того мира, который жил по советским правилам за стенами.
Иосиф читал «Заговоренные дрожки» и «Песню о знамени» Галчинского. «Песня о знамени» и в оригинале, и в переводе – чрезвычайно интенсивный текст. Но в исполнении молодого Бродского эти стихи буквально подавляли слушателей. На моих глазах одной из слушательниц, известной переводчице, женщине отнюдь не хлипкой, сделалось физически дурно от этого эмоционального напора.
Особый сюжет – чтение Иосифом «Шествия». Огромное пространство поэмы-мистерии не только давало ему возможность максимально взвинтить голосовое напряжение, но и продемонстрировать – в отличие от чтения одноразмерных больших стихотворений – свою способность менять голосовую амплитуду. При всей завороженности собственным чтением, при кажущейся сомнамбуличности в это время, он неплохо сознавал, что делает.
На молодых слушателей чтение «Шествия» производило оглушающее впечатление. Саша Кушнер, отнюдь не склонный к необоснованным восторгам, вспоминал:
«Его стихи произвели на меня с самого начала огромное впечатление. С самого начала было ясно: пришел замечательный поэт со своим голосом, отличным от всего, что приходилось слышать. Ну вот, например, “Шествие”. Помню, как Иосиф читал эту вещь, громоздкую, многословную – и все равно завораживающую…»[4]
Очень характерна реакция на чтение Иосифом «Шествия» Елены Кумпан, писавшей в те годы талантливые стихи:
«У меня голова пошла кругом от услышанного. Уследить за текстом было трудно…»[5]
Текст воспринимался слитно с произнесением – голос и текст интенсивно взаимодействовали, создавая совершенно особое культурное явление.
Саша и Лена были опытными, искушенными профессионалами. Но сегодня трудно себе представить, что делалось с «литературоцентричной» студенческой молодежью и вообще с молодыми любителями поэзии.
В конце 1961 – начале 1962 года Ося много и охотно читал «Шествие» в самых разных аудиториях. Как уже говорилось, у него была острая потребность произносить свои стихи вслух. Очевидно, процесс чтения вслух – а для этого, естественно, нужны были слушатели – ощущался им как новый этап создания стиха. И та творческая страсть, которая бушевала в нем в моменты вдохновения, – а в этом состоянии он тогда находился почти постоянно, – и определяла подавляющую слушателей интенсивность его чтения.
В случае с «Шествием» это было особенно явственно.
Однако отнюдь не всегда «Шествие» воспринималось с восторгом. Я помню два таких случая. Один – чтение у Владилена Травинского, работавшего тогда ответственным секретарем «Звезды». Ценитель поэзии Иосифа, он собрал довольно многочисленную публику – в частности, пригласил своих коллег из редакции. Была и Нина Георгиевна Губко, которая – будучи беспартийной! – заведовала в «Звезде» отделом критики. Нина Георгиевна, человек очень достойный и в своем роде замечательный, была истовой единомышленницей Солженицына периода «Одного дня Ивана Денисовича» и «Матрениного двора» и сторонницей почвеннической литературы. (Помню, как Адольф Урбан, редактор ее отдела, обладавший умом скептическим, иронизировал – в присутствии Нины Георгиевны – над ее верой в «народ-богоносец».) Ни стилистика, ни идеология «Шествия», ни манера исполнения автора не могли, естественным образом, быть ей близки. Тем не менее, она высказалась благожелательно, но явно снисходительно – чего Иосиф не переносил…
Второй случай был показательнее. Лидия Яковлевна Гинзбург, которая не нуждается в специальных характеристиках, оказывала тогда сильное влияние на сравнительно небольшой круг литературной молодежи, в который входили Кушнер, Битов, Лена Кумпан. Она попросила меня привести к ней Бродского, поскольку ее живо интересовала текущая литература. Что я и сделал. Лидия Яковлевна пригласила Дмитрия Евгеньевича Максимова, исследователя – и, как выяснилось через много лет, поэта, твердо ориентированного на культуру Серебряного века.
Ося читал «Шествие». Однако вскоре он, чрезвычайно чуткий к реакции слушателей и привыкший к успеху, ощутил некоторую прохладность со стороны Лидии Яковлевны и более чем прохладность со стороны Дмитрия Евгеньевича. Дочитав до середины, он внезапно остановился, посмотрел на часы, оставил машинописный экземпляр и сказал, что вспомнил о назначенной встрече, нервно извинился и ушел, попросив меня дочитать поэму. Не могу сказать, что я был в восторге от случившегося. Читать за него я, разумеется, не стал. Мы, как это было принято в доме Лидии Яковлевны, выпили водки и поговорили.
Дмитрию Евгеньевичу, который в своем живом восприятии литературы, полагаю, остановился на Блоке и Ахматовой (хотя, безусловно, ценил Кушнера и Лену Кумпан), услышанное, насколько я помню, не понравилось. Лидия Яковлевна сидела в задумчивости. Они с Дмитрием Евгеньевичем были очень разные по своим установкам люди. Максимов был литератором символистского закваса, а Лидия Яковлевна идеологию символизма категорически не одобряла и вкусы ее были куда шире. Она, конечно же, понимала значительность того, что делал Бродский, но его романтическая интенсивность и смысловая загадочность ее, скорее всего, отталкивала. Она необычайно высоко ценила строгую ясность стихов Кушнера, а Кушнер и Бродский были и остаются литературно противостоящими фигурами. Как уже говорилось, до сих пор не исследована их прямая и скрытая поэтическая полемика. «Желтое литературоведение» куда больше интересуют особенности их личных отношений, и в самом деле непростых. Однако должен сказать, что в письмах ко мне из Америки Иосиф неизменно писал: «Нежный привет Сашеньке». А те, кто берется судить о взаимоотношениях двух больших поэтов, существуют в мире совершенно иных масштабов и, естественно, сводят все к личным симпатиям и антипатиям. Это все равно, что сводить жизненную трагедию Пушкина к проблеме влюбленности Натальи Николаевны в Дантеса.
Из того, что говорила Лидия Яковлевна, я помню ее ироническое замечание относительно обращений к читателю в «Шествии». Она сказала, что это напоминает ей обращения к «проницательному читателю» у Чернышевского в «Что делать?». Не думаю, что мудрая и тонкая Лидия Яковлевна была права в этом сопоставлении. Отчаянный выкрик Бродского: «Читатель мой, куда ты запропал?» был реакцией на неестественность ситуации, на отсутствие шансов публиковаться, получить подлинно широкого читателя, равно как и защитной реакцией, – демонстративная самоуверенность Иосифа отнюдь не соответствовала его внутреннему самоощущению…
И в том, и в другом случае – правда, на разных уровнях – Бродский столкнулся не просто с вкусовым неприятием, но с принципиально иными, чем у него, литературными представлениями. К этому он не был готов.
Тут надо иметь в виду и еще одно обстоятельство – это был период выхода Бродского из чисто молодежной среды, как правило, восторженно его принимавшей, из среды ровесников и людей близких по возрасту, в среду, так сказать, взрослую, профессиональную. И налаживание отношений с этой средой проходило непросто.
В это время в Ленинграде – и в Союзе писателей, и вне его – было немало замечательных и достойных людей, многие из которых прошли аресты, ссылки, лагеря, проработки. Их психологический опыт существенно отличался от опыта Бродского и его круга конца пятидесятых. Я уже рассказывал об инциденте на турнире поэтов, когда Глеб Сергеевич Семенов пришел в негодование от выступления Иосифа, прочитавшего «Еврейское кладбище». И дело было, разумеется, не в тематике стихотворения. Семенов последний человек, которого можно было заподозрить в антисемитизме. Дело было в столкновении жизненных представлений, основанных на принципиально различном опыте. Я хорошо помню свою собственную длительную ссору с Глебом Сергеевичем, которого я уважал и любил.
Не могу сказать, что Иосиф был обидчив, но и равнодушие к своим стихам воспринимал отнюдь не хладнокровно.
«Афронт» со стороны Дмитрия Евгеньевича он, конечно же, запомнил. И это сыграло не последнюю роль в резкой ссоре между ними[6].
Непосредственной причиной была довольно нелепая «академическая» история – Дмитрий Евгеньевич отказался поставить зачет Наташе Горбаневской, по неким своим профессорским соображениям, – она была его студенткой-заочницей. Честно говоря, я бы на его месте так не поступил. Наташа была талантливым поэтом и литератором, а зачет, в конце концов, дело формальное. Но – что было, то было. Осторожный педантизм Дмитрия Евгеньевича, человека вполне замечательного, вызывал у нас всех откровенное неодобрение. А Иосиф решил прибегнуть к испытанному литературному оружию – эпиграмме. Эпиграмма была злая и не очень-то корректная, обыгрывавшая внешность Максимова. Она дошла до Дмитрия Евгеньевича и совершенно его взбесила.
Единственный экземпляр эпиграммы сохранился у Ксаны Семеновой, дочери Глеба Сергеевича, и откуда Максимов ее узнал – загадка. Возможно, ее прочитала ему красавица Люда Комм, наша с Иосифом приятельница и более чем почтительная ученица Дмитрия Евгеньевича, присутствовавшая в Комарове при сочинении эпиграммы. Если это так, то ума не приложу – зачем она это сделала…
Максимов позвонил мне и, не зная, что я полностью в курсе дела, дрожащим голосом сказал, что Бродский написал на него отвратительный пасквиль, и что он не понимает, как поступить, и что вообще в таких случаях вызывали на дуэль. Я постарался его успокоить и напомнил, что был и другой тип реакции – ответить эпиграммой на эпиграмму. Дмитрий Евгеньевич, слава богу, принял этот вариант. Чтобы представить себе этих поединщиков с пистолетами в руках у барьеров, нужно – тем, кто их знал, – очень концентрированное воображение.
Текст ответной эпиграммы – довольно беззубой – хорошо помнит Саша Кушнер, которому Максимов ее читал.
В шестидесятом году Иосиф сблизился с группой поэтов-ленинградцев – Дмитрием Бобышевым, Анатолием Найманом и Евгением Рейном. Рейн и Найман оказали на Бродского несомненное влияние. В частности, его бунтарство стало, я бы сказал, культурно конструктивнее, а чувство литературного одиночества смягчилось. Это не касалось, однако, страстности его декламации, по-прежнему подавляющей слушателей. Бобышев, в то время наш общий с Бродским приятель, сказал мне полушутя, что когда он слушает, как Иосиф читает «Шествие», то у него температура поднимается до 37,2, а у самого чтеца до 37,6. Тот же Бобышев сказал мне при встрече на улице: «Читал? – Иосиф уже на самого Бога замахнулся». Речь шла о «Большой элегии Джону Донну», об удивительных по дерзкой возвышенности строках, в которых описывался надмирный полет души спящего Джона Донна, знаменитого английского поэта-метафизика:
- …Ты Бога облетел и вспять помчался.
- Но этот груз тебя не пустит ввысь,
- откуда этот мир лишь сотня башен
- да ленты рек и где – при взгляде вниз,
- сей Страшный Суд почти совсем не страшен.
- И климат там недвижим, в той стране,
- откуда все – как сон больной в истоме.
- Господь оттуда – только свет в окне
- туманной ночью в самом дальнем доме.
Эти стихи шестьдесят третьего года – кануна событий. Дело было не в богоборчестве, которым Бродский не грешил, но в неодолимом стремлении к максимуму во всем, неумении признать существование предела, стремлении, которое, я уверен, мучило и пугало его самого.
Ранее, заканчивая поэму «Шествие», он писал в монологе Черта:
- Потому что в этом городе убогом,
- Где погонят нас на похороны века,
- Кроме страха перед дьяволом и Богом
- Существует что-то выше человека.
Вот это необыкновенное и немногим знакомое ощущение, что существует нечто не просто и не только «выше человека», но и выше самого высокого, возможность беспредельного устремления, жило в его стихах тех лет. И это знание, не сомневаюсь, определяло многое в его собственном поведении – на стратегическом уровне. Позднее он не прочь был пошутить на эту тему и писал мне в стихах на день рождения в семидесятом году:
- Добро и Зло суть два кремня,
- и я себя подвергну риску,
- но я скажу: союз их искру
- рождает на предмет огня.
- Огонь же рвется от земли,
- от Зла, Добра и прочей швали,
- почти всегда по вертикали,
- как это мы узнать могли.
- Я не скажу, что это – цель.
- Еще сравнят с воздушным шаром.
- Но нынче я охвачен жаром!
- Мне сильно хочется отсель!..
- Опасность эту четко зря,
- хочу иметь вино в бокале!
- Не то рванусь по вертикали
- Двадцать Второго декабря![7]
Но то, что он иронически обыгрывал в семидесятом, было для него – судя по многим стихам – делом величайшей серьезности в начале шестидесятых. И он вернулся к этой идее в 1975 году в поразительных стихах, исполненных высокой и страшной тревоги, – в «Осеннем крике ястреба».
Однако при этой «вертикальности» мировосприятия, при частом форсировании голоса и завышении формул в собственных стихах, Иосиф был чрезвычайно чуток к любого рода завышениям в чужих текстах. И совершенно не случайно – в нем уже шло то движение к саркастической простоте, к экспансии вещного мира в стихи, к лексически грубой откровенности прямой речи, которое определило его поэзию последних двух десятилетий. Иное дело, что все это трансформируется гениально интенсивной поэтической интонацией, той «песней», о которой говорила Ахматова[8]. Разумеется, и «вертикальность» никуда не делась.
Году в пятьдесят девятом (может быть, шестидесятом) я написал стихотворение «Памяти Лермонтова», в котором были, в частности, такие строки:
- Поэты погибшие,
- Демоны смертные,
- Предтечи великих пилотов.
- Их лица от солнца кавказского медные,
- Их бурки черные,
- Их губы плотные.
- Всю жизнь
- Улыбаясь отнюдь не беспечно,
- Раскалывая росы ледяные горошины,
- Шли к барьеру,
- Отмеченному
- Шинелями, на землю брошенными.
Иосиф немедленно устроил литературную демонстрацию, вручив мне ответное стихотворение:
Баллада о Лермонтове
Я. Гордину
- Поговорим о человеке,
- который не сделал карьеру,
- о его жизни,
- короткой и неуверенной,
- о ветреном любовнике
- и храбром офицере, –
- поговорим о поручике Лермонтове.
- Поговорим о человеке, жившем,
- когда не было ракетодромов и телевидения,
- который чаще ходил пешком
- или окликал ямщика
- и потом, ссутулившись,
- из-под низкой фуражки видел,
- как трясутся над головою
- российские облака.
- Поговорим о Лермонтове,
- поручике, который служил на Кавказе,
- посещал Офицерское собрание
- и гарнизонные танцы,
- убивал горцев,
- писал горные пейзажи,
- различным женщинам посвящал стансы.
- Поговорим о разном героизме
- разных героев
- разного времени,
- поговорим о городах,
- о горах,
- о гордости
- и о горе, –
- поговорим о Лермонтове, о славном поручике
- Лермонтове,
- авторе романа
- из жизни на водах,
- погибшем около санатория.
Не нужно быть асом стиховедения, чтобы увидеть, как здесь происходит настойчивое, упрямое, почти злорадное снижение всего, что только можно снизить, и – в то же время – прозаическое говорение остается в сфере поэзии. Так подготовлялся уход от романтической патетики, которую Иосиф презирал в других и боялся в себе. Так вырабатывался тот парадоксальный лексический и интонационный сплав, который делает поэзию Бродского настолько адекватным отражением его личности в его мире, насколько это бывает возможно только у гениальных поэтов.
Уже тогда он, не декларируя этого, выбрал Пушкина как некий ориентир. В «Шествии», написанном вскоре, есть подчеркнуто пушкинские куски:
- Волнение чернеющей листвы,
- волненье душ и невское волненье,
- и запах загнивающей травы,
- и облаков белесое гоненье,
- и странная вечерняя тоска,
- живущая и замкнуто, и немо,
- и ровное дыхание стиха,
- нежданно посетившее поэму
- в осенние недели в октябре, –
- мне радостно их чувствовать и слышать,
- и снова расставаться на заре,
- когда светлеет облако над крышей
- и посредине грязного двора
- блестит вода, пролившаяся за ночь.
- Люблю тебя, рассветная пора,
- и облаков стремительную рваность
- над непокрытой влажной головой,
- и молчаливость окон над Невой,
- где все вода вдоль набережных мчится
- и вновь не происходит ничего,
- и далеко, мне кажется, вершится
- мой Страшный Суд, суд сердца моего.
В начале шестидесятых годов важное место занял зрелый Баратынский с его недекларируемой внутренней независимостью, подчеркнутой отстраненностью от гражданских бурь и стоическим стремлением осознать ужас земного существования. Я помню, как Иосиф говорил, что именно Баратынский и поставил перед ним вопрос – поэт он или не поэт. И если поэт, то должен жить как поэт.
Вскоре после фельетона в «Вечернем Ленинграде», когда стало ясно, что дело плохо, в Ленинград, очевидно, по просьбе Вигдоровой, приехала Ольга Георгиевна Чайковская, очень известная журналистка и писательница, специализировавшаяся – как журналистка – на разного рода судебных несправедливостях. Приехала с мандатом какой-то центральной газеты – не помню какой. Встреча ее с Иосифом произошла у Руфи Александровны Зерновой и Ильи Захаровича Сермана. Я пришел вместе с Иосифом, поскольку Серманы были моими знакомыми. Тогда он впервые – для меня – объяснил свой отъезд из экспедиции в 1961 году, что было безусловным нарушением геологической этики. Он сказал, что купил в Якутске томик Баратынского и, почитав его, подумал: «Поэт я или не поэт? Чем я здесь занимаюсь?» Объяснение, конечно, не самое убедительное для всех, кроме, полагаю, самого Иосифа – он чувствовал потребность как-то переломить очевидное однообразие жизненных обстоятельств. Его слишком мощно тянуло в литературу, в поэзию, в культуру, чтобы разменивать себя на любые другие занятия… Это – к вопросу о наших с ним спорах о границах свободы, презрении к обстоятельствам и выстраивании собственной иерархии этических ценностей. Я пять лет работал в геологии, но мне и в голову бы не пришло сделать нечто подобное, а если бы и пришло – я бы не решился.
Его внутренние импульсы были столь интенсивны, его нежелание подчиняться обстоятельствам и общепринятым представлениям столь непреодолимо, что он готов был платить за это высокую цену.
После фельетона, положившего начало травле, он не сделал даже попытки устроиться на работу, чтобы избежать преследования. Все, что угодно, – бегство в Москву, психиатрическая клиника, но только не то, что от него требовала власть. «Тварь я дрожащая или право имею?» Он был уверен, что «право имеет» и это право надо отстаивать до конца. Он писал в отчаянном письме из архангельской пересыльной тюрьмы нашему общему другу Боре Тищенко: «Но ведь правота на моей стороне!»
Судья Савельева только что показала ему, чего стоит эта правота, но он не хотел с этим мириться…
Ольга Георгиевна повидалась с официальными лицами и перед отъездом в Москву сказала мне: «Боюсь, дело безнадежно. Комитетское дело…»
Все это не отступление в сторону. Я пытаюсь объяснить, что же в натуре и стихах молодого Бродского выбрасывало его за ту красную черту, до которой власти еще готовы были терпеть особость личности.
Когда после октября 1917 года Ахматова и Гумилев, Мандельштам и Пастернак, Георгий Федотов и Федор Степун столкнулись с наступлением безжалостной несвободы, им помогала могучая инерция предшествующей эпохи и глубоко осознанное, философически и поэтически разработанное представление о свободе и месте личности в системе мира.
У нас за спиной были десятилетия всесторонне обоснованного рабства. И потому энергия высвобождения, которая вела Иосифа, оказалась явлением уникальным.
Если враждебный собственно культуре общественный слой, весьма, впрочем, неоднородный, в начале шестидесятых чуял опасность присутствия Бродского, то сам Иосиф ощущал нарастающую опасность и давление. Для Иосифа это было время появления «больших стихотворений», особого жанра, который и до конца остался для него главным, – время «Шествия», «Большой элегии Джону Донну», «Холмов», грандиозной, но, увы, незаконченной поэмы «Столетняя война», сохранившейся у меня с авторской правкой[9]. Чрезвычайно важно «большое стихотворение» (полтораста строк!) «От окраины к центру», необыкновенно напряженное по отчаянному предвидению своей судьбы:
- Слава Богу, чужой.
- Никого я здесь не обвиняю.
- Ничего не узнать,
- я иду, тороплюсь, обгоняю.
- Как легко мне теперь,
- оттого, что ни с кем не расстался.
- Слава Богу, что я на земле без отчизны остался.
Этот жанр «большого стихотворения» фактически не имеет аналогов в русской поэзии. Разве что «Осень» Баратынского. Это не баллады, ибо – как правило – они по сути дела не сюжетны. По той же причине и не поэмы. Это именно – большие стихотворения, развивающиеся по сюжету глубоко внутреннему, который преодолевает и сминает сюжет внешний, даже если его наметки и присутствуют. Особенно чистым образцом жанра были две неоконченные вещи – «Столетняя война» (рукопись которой Иосиф передал мне на хранение перед арестом) и гигантское стихотворение на много сотен строк, начинающееся словами «Пришла зима, и все, кто мог лететь…», исполненная грозного, но неявного смысла грандиозная картина наступления зимы на Севере. И если в «Холмах» есть еще некоторые черты балладности, то «Ручей», «Большая элегия Джону Донну», «От окраины к центру» от этих черт совершенно свободны. Гигантские поэтические диалоги «Исаак и Авраам» и «Горбунов и Горчаков» – это тоже развернутые на необозримых текстовых пространствах стихотворения, ибо построены они по особым принципам поэтической драматургии, а не драматургии вообще. Пьеса «Мрамор», которая вовсе не пьеса, – это бесконечный и хаотичный на первый взгляд диалог – подтверждает существование жанра. Это его прозаический аналог, анализируя который, мы можем понять внутреннюю структуру «больших стихотворений» – диалогов. И тут нужно вспомнить идеи цитированного письма: «Композиция, а не сюжет… Связывай строфы не логикой, а движением души – пусть тебе одному понятным». И еще: «Нужно привыкнуть картину видеть в целом… Частностей без целого не существует». И ведущий принцип «больших стихотворений» – стремительное подчинение частностей целому. Так, река состоит из капель, струй, волн, но все они создают по законам гидродинамики единый поток, и смысл реки, как и ее эстетическая ценность, в том, что она – поток. В самом раннем, пожалуй, из «больших стихотворений» – «Ручье» жанр повторяет фактуру воды, бесконечно струящегося ручья, и все стихотворение – описание струения потока, вбирающего в себя окружающий мир. Это единство отнюдь не случайно.
В «больших стихотворениях» этот принцип потока реализуется еще и в нагнетении интонации, захватывающей сознание читателя, для чего необходимо большое пространство, стиховые длинноты: втягивание, поглощение читательского сознания, завораживание и – преображение. Один из главных принципов воздействия – композиционный! – повторения, бесконечные перечисления, когда неважны становятся сами слова, а важна их общность, их напор, их пространство, дифференцированное чисто условно, поток, – смысл которого в общей направленности движения. Это, собственно, метафора самой жизни…
Идея автономии литературы, которую Бродский с такой страстью обосновал в Нобелевской лекции, была мила ему и в те времена, но она – эта идея – вовсе не была равнозначна проповеди общественного изоляционизма. Сама борьба за независимость литератора уже оказывалась формой острой общественной деятельности. Что бы он позже ни декларировал относительно «презренья к ближнему у нюхающих розы», ему самому это презрение и равнодушие отнюдь не были свойственны. Иначе жизнь его пошла бы совсем по-иному. Бешено отстаивая собственную независимость, он отстаивал независимость человека вообще. Уже после ссылки – в 1970 году – он писал в цитированном стихотворении на 22 декабря:
- Когда вблизи кровавят морду,
- куда девать спокойный взор?
Можно сколько угодно умозрительно расширять пространство существования поэта, но главная сфера, в которой он взаимодействует с миром, – сфера общественная. Никуда от этого не денешься. И в этом смысле Иосиф был человеком чрезвычайно общественным. А поэт такого типа неизбежно связан с определенной общественной группой, слоем, который создает как бы малый контекст его существования. Эту группу, этот слой не надо путать с дружеским окружением. Молодого Пушкина выдвигало и поддерживало оппозиционное дворянство, активное и многочисленное. За Некрасовым стояла непримиримая разночинная интеллигенция.