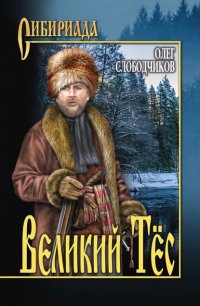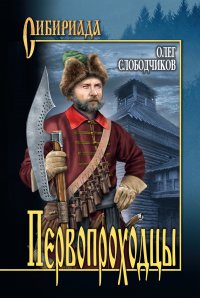Читать онлайн По прозвищу Пенда бесплатно
- Все книги автора: Олег Слободчиков
© Слободчиков О. В., 2015
© ООО «Издательство «Вече», 2015
1. Ермаковы поприща[1]
Клонился к земле иссохший ковыль, стелился по степи золотистыми стеблями, сырой ветер нес запах снега. Устало прядали ушами кони, зябко горбились в седлах казаки, потрепанные боями со шведами и царским разбором. Хопровская станица возвращалась к родным куреням. Пантелей Пенда в полусне-полуяви мотался в седле и тыкался лбом в конскую гриву. Ему уже хотелось одного: припасть к сырой земле и отдаться глубокому сну – пусть даже непробудному. Но лезла в голову казака всякая нелепица, бередила душу. Он заставлял себя мысленно читать молитвы, однако то и дело сбивался, а навязчивая память опять втягивала в рассуждения о пережитых обидах.
Новый царь-государь, Михейка, сын тушинского казачьего патриарха Филарета, хоть и был посажен на престол казаками да татарами, но едва вошел в силу – повесил атаманов, перепорол есаулов с пятидесятниками, а после смилостивился, отпустил хопровцев из-под Москвы на Дон и хлебом в дорогу пожаловал за былые верные службы.
Не помнили старики, чтобы казаки кому-то кланялись, а вот ведь поклонились ныне царствующему Михаилу Федоровичу и зловредным боярам его, тем самым, что залили Русь кровью, призвав на Москву ляхов, рейтаров да всякий латинянский сброд, чтобы защититься от своего же народа. Царскими кнутами обласканные, свесив чубатые головы промеж широких плеч, обещали они Михейке и боярам его впредь против Кремля не бунтовать и вести свою станицу к верховому Дону, на устье Хопра. Не научившись на своем веку просить, попросили позволения возвращаться сытым волжским путем, а не разграбленной стороной через Тулу.
После той царской милости и напал на Пенду неодолимый сон. Едва станичники пускали коней на выпас, он ложился на шею гнедого и спал. В ночь на таборе, пожевав что дали, бросил на землю потник, седло, упал на них в тяжелой кожаной рубахе, обшитой по груди и животу железными пластинами – бахтерцами, укрылся жупаном[2].
– Да когда ж ты выспишься, Пентюх? – удивленно чертыхнулся старый казак Васька Рябой, досадливо попихал его в бок гнутым носком сапога.
Глухо звякнули бахтерцы, Пантелей нехотя приподнялся на локте, раскрыл красные, будто ошкуренные глаза. Лохматый, нечесаный, что-то буркнул в густую смятую бороду и опять стал моститься ко сну.
Шумно всхрапывая чуткими ноздрями, ему в плечо ткнулся мордой гнедой. И конь не давал покоя, не понимал, почему хозяин не ведет к ручью, не поит, не чешет гриву. Рассерженный казак снова откинул полу жупана, сощурился на не закатившееся еще солнце и, устыдившись вдруг, виновато взглянул на гнедого, печально и ласково погладил жесткий ворс под крутой конской скулой. На глаза ему попался юнец в драном долгополом охабне[3] с истрепанными рукавами и полами, волочившимися по земле.
– Угрюмка! – позвал его Пенда осипшим голосом и приказал: – Напои коня! – А сам, тяжко вздохнув, свернулся на войлочном потнике, опять укрылся с головой, и вновь замельтешили в голове непутевые мысли.
Память заново унесла его в другую, будто приснившуюся жизнь: то малолетком шел он на Москву с войском царевича Дмитрия для мщения обасурманившимся боярам за попранную русскую правду, то бился с рейтарами под стенами Кремля, то лежал на плахе под кнутами…
– Пендюх! Мать твою! Опять спишь? – дядька Рябой вернулся от костра и раскричался, как ворона на падали. – Для разговора зовут!
– Я пенный[4], – буркнул казак из-под жупана.
– Чего мелешь-то? Это когда было? – у Рябого от услышанной нелепицы бороденка взъерошилась, как загривок у драчливого пса. – Вставай, не то отхлещу! – постучал кнутовищем по луке седла, положенного Пантелеем под голову.
Пенда, рыкнув, сбросил жупан, сел. Тлевшими угольями глаз бодливо уставился на посеченное морщинами, изрытое оспой лицо казака. Старик был скромно, но опрятно одет. После днища пути в седле уже умылся к ужину и вечерней молитве. Из-под островерхого малинового колпака с вышарканным бархатным отворотом по впалым щекам свисали влажные седые пряди волос.
– Сходи к ручью, глянь-ка на себя! – сказал он тише и ласковей, но брезгливо скривил тонкие, дряблые губы.
Пенда смущенно опустил глаза, почесал полусогнутыми пальцами растрепанный чуб, смятую бороду, пошарив под жупаном, вытащил колпак с золоченой кистью, натянул его до ушей, как московит, подхватив саблю в замшевых ножнах, поднялся с мрачным видом.
– О чем говорить? – заворчал, зевая и воротя лицо в сторону.
– О том, как дальше жить, – по-стариковски въедливо стал поучать Рябой. – Царского хлеба до Святок не хватит. На Дону нас голодных не ждут. – И добавил мягче, подталкивая молодого казака к ручью: – Опять зовут под атамана Ивашку Заруцкого. Сказывают, он ушел под Астрахань. С ним и с паном Лисовским нынче гуляют и донцы, и черкасы[5].
– Все одно вернемся на Дон, – подавил зевок Пантелей. – Больше некуда! – Потянулся до хруста в затекших костях. – Бояре – и те, что с нами были, и те, что против нас, – все теперь возле царя. Они меж собой помирятся, а нам обид не простят, – выдал назойливые мысли, опоясался и безнадежно добавил: – Было бы за кого воевать!
– Не за Ивашку же Заруцкого с паном Лисовским! – сверкнул задиристыми глазами старый казак. Тряхнул плечом, придержал правой рукой левую, обмотанную окровавленными пеленами.
В годы молодости Рябого Шадра отец Пантелея Пенды был уже старым казаком. Они вместе ходили на ногайцев: Шадра в свой последний, а Рябой в свой первый набег. Старик добыл там на саблю девку-ясырку[6] из плененных казачек и стал жить с ней наперекор станице, считавшей женатого казака пропащим и пенным – провинившимся. В яме, крытой камышом, они прижили сына.
С малолетства Пантелейка чудил: то был не в меру горяч и говорлив, то спал на ходу и умолкал на недели. Погодки на лету схватывали житейские навыки, а он, если начинал спрашивать-переспрашивать, – тихого доводил до брани, горячий за плеть хватался.
Пенного Шадру на казачьи круги не звали. Грозили по обычаю забить до смерти и ограбить, если станет, как мужик, пахать и сеять. Делали вид, будто не замечают тайных огородов, терпели за былые заслуги, раны и старость. Зато Пантелейке от самого рождения достались даром отцовская слава и его честь – он был свой, станичный, родовой казак.
Сам неграмотный, больше всего желал старый Шадра, чтобы сын стал писарем. Не было, по его разумению, в казачестве доли завидней. Атаманы, есаулы – только в походах власть, после снова голь, как все. Иных, бывало, подначальные люди и повесят после неудачного набега. А писарь – он всегда писарь и всегда в почете.
Едва научившись слагать буквы, Пантелейка вдруг заявил, что восчувствовал призвание к монастырской жизни. К нему уже в те годы пристало прозвище Пендус – старое топкое болото со всякой нечистью. Отец порол сына под горячую руку, хотя знал, что только распаляет его непомерное упрямство. Как умел, лечил от сглаза: думал, приворожили отрока калики-странники, проходившие станичными юртами.
Пантелейка же в отместку стал ходить к попу в острог учиться грамоте. Чем он попу не приглянулся, о том в станице говорили по-разному, но и драл тот его лозой, к злорадству старого Шадры, и гнал со двора. Христом Богом молил и отца, и самого отрока от него, темного постриженника, отвязаться. Но принудил-таки Пантелейка благочинного обучить себя грамоте. А притом всем на диво выучил Святые Благовесты и Жития святых. И когда поп, поражаясь успехам настырного ученика, стал звать его в дьяконы, заявил, что в монахи идти раздумал, а к белому поповству призвания не имеет.
Еще юнцом, в казачьих малолетках, Пантелей с таким рвением служил царевичу Дмитрию в кремлевской охране, что попал в его ближайшее окружение. Станичникам стало неловко звать его Пендусом или Пентюхом – стали называть Пендой. И когда чужаки удивлялись непонятному прозвищу, плутовато посмеивались: чтобы все понять, надо было знать и Пенду, и Шадру, и все хопровское отродье.
Прочили старые казаки – быть Пенде наказным атаманом в Раздорах[7]. Но судьба молодому и ревностному казаку была писана рукой трясучей, завязана пальцами корявыми. При царском венчании в Кремле, когда бок о бок усадили на трон малорослых царя Дмитрия с царицей-паписткой, все видели, что они ногами не достают до коврового половика, всем было смешно, но бес дернул за язык одного лишь Пендуса, и он вслух обозвал царя с царицей карлами. Вместо наказного атаманства молодого станичника секли кнутом. Били усердно, но головы с плеч почему-то не сняли. В тот раз он удивил хопровцев не столько своей бесноватостью, сколько Божьей к нему милостью.
После мнимой, подлинной ли гибели царя Дмитрия, мнимому или подлинному служил ему Пантелей под Тушином. Наученный кнутом, от дворни и бояр держался подальше. И в те годы собрал он вокруг себя разных малолеток из беглых холопов и посадских детей, которые своей удалью удивляли даже старых казаков.
Под Калугой, когда атаман Ивашка Заруцкий велел станице целовать крест царенку Ивану Дмитриевичу[8], Пенда, уже в пятидесятниках, в казачьей старшинке, орал на круге поносные речи, обзывая того Маринкиным выблядком. Боясь мести не раз предававшего станицу атамана, хопровцы решили укоротить пятидесятнику язык. И волокли уже его на плаху. Но станичная молодежь, подстрекаемая прибранной голью – Третьяком да Ивашкой Похабой, – отбила Пенду. Старшинку молодые удальцы бесчестили, станичному атаману его же булавой голову пробили.
Смута, судьба да Божья воля всех помирили. Ивашка Заруцкий с малым окружением вскоре бежал из земского войска. Воровского царенка повесили. Станичники перед Пендой повинились, атаман свою пробитую голову ему простил, а нынешним летом засучил ногами на царской виселице. К этому времени от двух сотен хопровцев осталась треть израненных, износившихся казаков…
Возле костра, куда Рябой привел Пенду, тесным кружком сидели полтора десятка воровских литвинов[9]. Были они по обычаю их страны при длинных усах и выстриженных бородах, в белых колпаках да в разной драной одежонке. Иные обуты в лапти и чуни[10]. Пробирались литвины из подмосковных лесов к Ивашке Заруцкому. Они не прочь были соединиться к зиме и с паном Лисовским. С жадностью доедая данный станичниками хлеб, рассказывали, что избранный на царство Романов со дня на день будет сброшен прощенными им боярами – известна верность жидов крещеных да врагов прощеных. И король Жигимонт грозит Московское царство предать огню за сына, которому на Руси крест целовали, а после отреклись.
Слушая их, старые казаки да поротая царем старшинка качали кручинными головами: другой уж год как Михейка Романов сидит на престоле, а отец его, Филарет, в патриаршем клобуке нынче един на всю Русь. Раз до поздней осени дожили, до лета теперь продержатся.
Еще сказывал один из литвинов, будто видел Ивашку Похабу, входившего в круг хопровской станицы. Пенда поднял голову, насторожился, сбил на ухо островерхий колпак, бросил быстрый взгляд на брательника[11] его, Угрюмку, жавшегося к старому казаку Кривоносу. В ветхом охабне с широкого чужого плеча, юнец походил на взъерошенного, испуганного воробья с переломанными крыльями.
– Жив Похаба! – отвечал литвин на оживленные расспросы. Рад был, что принес приятную весть. – Божьей милостью сидит в темнице Троицкого монастыря с попами, беглыми холопами и казаками. – Расправляя казанками пальцев пышные усы, литвин благостно закладывал кусочки хлеба за губу, жевал и говорил: – Богатый муж, которому Ивашка когда-то, в юнцах еще, дал на себя кабалу от голода, требовал его в свой дом на вечное холопство. Но царь не выдал Похабу за службы в земщине и после кнутов приговорил отправить его в Сибирь, в Сургутский острог через Пермь и Верхотурье…
Принесли литвины и весть о царских милостях Донскому войску: будто догоняют станицу государевы послы с жалованным всем донским казакам войсковым знаменем за помощь в спасении Русского государства, «чтобы было с чем против недругов стоять и на них ходить».
Третьяк, малорослый товарищ Пенды, как услышал про Похабу, так и впился пытливыми глазами в заспанное лицо пятидесятника. Это был чудной казак – за двадцать с лишним годков не вышел ни ростом, ни дородностью, ни бородой, а потому смотрел на всех пристально и строго, будто пытал, нет ли в ком насмешки над его видом. А расшалится, бывает, с юнцами – и не отличишь его от недоросля. Пенда, поймав на себе взгляд Третьяка, недовольно хмыкнул в бороду, мотнул чубатой головой и опустил долу изверившиеся глаза.
Станичники стали шумно обсуждать весть о царской награде, об обозах с хлебом, высланных Дикому полю[12] в придачу к знамени. Казаки повеселели и готовы были принять их как пеню[13] за кремлевский разбор. Станичный круг решил ни к Ивашке Заруцкому, ни к другим воровским атаманам не приставать, против православного мира не идти, но выждать и посмотреть, как Москва станет ладить с казаками.
Утром, расставшись с литвинами, станичники двинулись дальше. Вскоре замела по степи поземка. К Михайлову дню отряд повернул к знакомым верховьям Хопра. Коней казаки берегли, подолгу выпасали, где моталась на ветру высохшая трава. К острогу на устье не спешили и вестовых вперед не высылали – не было надобности встречать их, порубленных и нищих.
На крутобокой кобылке, стремя в стремя с Пендой, рысил по ноябрьской степи его товарищ Третьяк. И все буравил, все пытал пятидесятника немигающими глазами, пока тот не вспылил, оторвавшись от гривы конька:
– Ну чего тебе?
– Похабу спасать надо! – придерживая поводья, прошепелявил Третьяк выстывшими на ветру безусыми губами.
– Может, и надо, – неохотно согласился Пенда. – А может – не надо! Ивашку не спросишь.
Угрюмка, чужак в станице, недоверчиво поглядывал на невзрачного казачка. Голь, верстанная из таких же, как сам он, сирот-бродяг, Третьяк подговаривал казаков соединиться в отряд вольных гулебщиков и отбить Ивашку на пути в Сибирь. Казалось Угрюмке – куражится тщедушный казачок. По себе знал: голь на выдумки хитра и сильно догадлива, как прокормиться и выгоды извлечь. При скупости с камня лыко дерет, шилом горох хлебает – и то отряхивает. А в станице давали хлеб каждый день.
Не вступая в станичные споры, он держался возле старого Кривоноса, опекавшего его, как прежде опекал брата Ивашку. Опасался, что озлобленный казачий круг может повесить не только Третьяка, бунтовавшего с Ивашкой против станичной старшинки, но под горячую руку вздернет и его, Угрюмку, за былой грех брата и за сговор.
На Хопре, на походном стане, по старому казачьему обычаю Третьяк вышел на круг, бросил колпак под ноги и призвал добровольцев постоять за товарища. То, что откликнулся Ивашкин дядька Кривонос, Угрюмку ничуть не обрадовало. Старый казак Васька Рябой да бывший удалец Пантелей Пенда бросили свои колпаки рядом с колпаком Третьяка. Вот и все доброхоты.
Станичный круг решил против царя не идти, но гулебщикам, если они захотят порадеть за товарища на свой страх и риск, – не отказывать. Отряд двинулся дальше своим путем, а четыре казака да Угрюмка, за спиной Кривоноса на крупе его коня, повернули в другую сторону, на Волгу и Каму, к Перми.
Угрюмка боялся затеянного Третьяком дела, не верил, что брата можно отбить у самого царя. Но в станице прилепиться на зиму было не к кому, и ему ничего другого не оставалось, как довериться своей безысходной сиротской судьбе.
В Пермь-город, не разоренный Великой русской смутой, они прибыли в середине апреля. К радости местных жителей, в тот день с треском разорвало лед, по которому шла талая вода. Река вскрылась. У зимовавших здесь казаков станичники вызнали, что царский обоз со ссыльными ушел на Чусовую-реку по зимнику и где-то там застрял из-за распутицы.
– Ну вот! – то ли обиженно, то ли облегченно всхлипнул Угрюмка.
Рябой же беспечально ответил:
– Захотел на Марью кислых щей! Догоним! Сказывали наши люди, будто видели Похабу при сабле, а не в колодках.
Казаки продали отощавших лошадок и, к Угрюмкиной затаенной обиде, загуляли, ожидая конца половодья. Здесь застала их весть, что нынешней зимой лихой атаман и тушинский боярин Ивашка Заруцкий под Астраханью отдал Богу душу на добром и остром колу.
– Эх! Эх! – вздохнул Кривонос, крестясь и кивая на закат. – Прогневили Господа! Не будет там ни мира по старине, ни правды по Писанию, пока не станем за свой народ радеть, как Господь радел за единокровных по плоти.
Пенда хмуро помалкивал и пил вино, печалясь по своему гнедому. Навязчиво вспоминалось ему, как конь, проданный богатому мужику, удивленно задрал бесхитростную морду и с укором заржал, глядя на бывшего хозяина. От того конского взгляда стонал казак, уронив голову на кабацкий стол. А как услышал слова Кривоноса, так взбеленился.
– Где он, наш народ? – закричал, стряхивая кручину с глаз. – Забыл, как вы куренного Петруху хотели за царя выдать и на царство посадить? Не успел он ложно объявить себя – запил, загулял, захотел друзьям головы рубить за обидные слова… Тьфу! – плюнул под ноги, на тесовый пол: – Поганая кровь! – И выругался так, что, услышь его Богородица на небесах – заткнула бы ладонями свои Пречистые уши и лишила бы казаков благодати. Слава Богу, кабацкий люд Она ни видеть, ни слышать не желает.
– Ты Бога-то не гневи! – соскочив с лавки, завопил тощий как пес Рябой. – Прежде не укоротили язык – сейчас вырежем! – пригрозил, крестясь и тыча перстом в молодецкую грудь Пенды. – Сам Господь – не царям с боярами чета – с рождения от единокровников претерпевал гонения. Знал наперед, что предадут и распнут, но на казнь пошел за ту кровь, что текла в Его земных жилах, – вдруг через покаяние народ и спасется! Так то Бог! А ты кто, чтобы хулить данную Им тебе кровь?
Глаза Рябого пылали, шрамы оспинок налились кровью, бороденка дергалась. Пантелей побагровел, взглянул с бешенством на дядьку, но не нашелся, что ответить. Рот его стал подергиваться, кривиться, пальцы беспокойно сжались в кулаки. Он опустил лохматую голову. Не поднимая гневных глаз, допил из кружки, упал на лавку и вскоре захрапел.
Шел год одна тысяча шестьсот пятнадцатый от Рождества Христова: третья весна шаткого воцарения юного боярина Михаила Романова. Той порой на пути к Перми случайно сошлись две ватажки – устюжских и холмогорских торгово-промышленных людей. И бились они заодно на дорогах с разбойниками, и вместе откупались от властей. По вскрытии же рек пришли в Пермь-город.
Протрезвевший Рябой на шумном весеннем базаре покрутился возле холмогорцев в добротных кафтанах заморского сукна и вскоре вошел к ним в доверие. Через них он сошелся с устюжанами в московских штанах, в которых казаку ни сплясать, ни ногу задрать. Вызнав нужды торговых людей, Рябой привел к устюжанам и холмогорцам своих товарищей. В посадском храме казаки и Угрюмка целовали им крест – бурлачить и обозничать до Верхотурья-города без платы, за один только прокорм в пути.
На Василия-землепара, отстояв литургию в том же храме и отдав обетное число поклонов, обозники двинулись в Сибирь по Чусовой-реке, тем самым путем, по которому хаживал Ермак Тимофеевич – славный донской казак.
Вечерело. На отмелях разбитой волоками речки скрежетали днищами струги. Хрипели измотанные переходом бурлаки. Возницы стегали уставших лошадей и все одинаково чутко ждали конца дня. Еще не подал знак передовщик, а гулящим казакам почудилось, будто ветер прошелестел в ветвях могучих кедров: «Слава Тебе, Господи!»
Обоз подтянулся к стану с тремя ветхими шалашами вокруг выстывшего кострища. Остатки дров были заботливо покрыты берестой. К востоку в двадцати шагах от разбитого вязкого ручья стоял крытый черный крест.
Хмурые вогульские[14] ямщики распрягли тощих лошадок и попадали на войлочные потники. Холмогорские и устюжские промышленные люди обступили крест, скинули шапки, запели, крестясь и кланяясь, «Отче Егорий, моли Бога о нас…». В тот час по монастырям да по церквям на Руси служилась вечеря на весеннее поминовение великомученика Георгия Победоносца.
Донцы тоже побросали бурлацкие постромки там, где стояли, упали на сухую хвою под ближайшим деревом, стали стаскивать с себя мокрые, раскисшие бахилы. Легкая выворотная обувь с высокими мягкими голенищами, пропитанными дегтем, удобна по воде бродить и по лесу ходить, но к концу дня, осклизлая, она висла на ногах огромными разбухшими пузырями. Сбрасывая ее и поскуливая, Угрюмка кутал остуженные ноги в мокрые полы ветхого охабня. Рябой, едва разулся, стал ломать сухие ветки над головой. Прислушиваясь к пению промышленных, просипел простуженным горлом:
– А ведь завтра наш, казачий, Егорий!.. Голодный!
– Мы привыкшие! – с кряхтеньем развязал скользкие узлы и сбросил бахилы Кривонос. – Что на Егория у волка в зубах – и тому рады!
Третьяк резво вскочил на босые ноги, приплясывая, тоже принялся с треском ломать сухие сучья и бросать их Рябому.
– Купцы – скупцы! – насмешливо скривил безусые губы. – Складники[15] не лучше. Холмогорцы и вовсе жадны. Но на Егория хлеба дадут. Побоятся Бога!
Сивобородый Кривонос, не поднимаясь, пожал плечами, постучал кремнем по железному кольцу на ножнах и стал раздувать трут, вытягивая шрамленые губы. Вскоре под сосной у ручья задымил костерок.
Вот и скатилось солнышко красное на закат дня, ушло в истерзанный западный край, где выжженная земля была обильно полита христианской кровью, засеяна костьми. Заря-зорюшка, темная да вечерняя – девица, швея-мастерица, с блюда серебряного взяла иглу булатную, вдела нитку шелковую, рудожелтую, стала зашивать небесные раны кровавые. Наступили сумерки.
Вогульские ямщики, стреножив коней, так и лежали, не разводя огня, ждали обозного харча. Устюжские и холмогорские складники до сумерек готовили дрова, чинили ветхие шалаши. Уже в потемках они развели большой костер, стали готовить ужин и печь хлеб. От запахов, доносившихся с табора, обсохший Угрюмка то и дело сглатывал слюну.
По своему обычаю казаки съели полученный вчера хлеб за один присест и весь день постились. Угрюмка тоже съел все, что дали, хоть расперло от того живот. Он знал наперед: оставь на другой день краюху – придется делить ее на всех; надери с молодых сосенок заболони, навари – казаки съедят, а сами не пошевелятся, чтобы подкормиться. Приглядываясь к промышленным людям, у которых жизнь была устроена по чину, юнец с досадой думал, что его товарищи неправильные.
Щуплый Третьяк в зипуне с длинными до колен рукавами сходил к ватажному костру, взял казацкий пай толокна – сиротской овсяной муки – и хлебного кваса. Рябой, Кривонос и Угрюмка стали заваривать толокно кипятком. Третьяк с Пантелеем Пендой съели его сухим, запили квасом и легли у костра, согревая то один бок, то другой.
Пенда щурился на угли и молчал, как молчал с утра до вечера всю дорогу. Рябой, присматривая за ним, пояснял, что его призорила дочка Иродова – тоской-кручиной сушит кости молодца, недугами мучит. Он знал старый заговор, от которого у той девки глаза бы сквозь затылок вылезли. Пенда его шептаньям не противился, но и на веру их не принимал. Рябой еще и себя лечил – свою то и дело открывавшуюся сабельную рану.
Кривонос зевнул, крестя рот, блеснул глазами, перевернулся набок. Из сивых спутанных с бородой волос выглядывала плешина лица, перечеркнутая глубоким рубцом со вздыбившейся пипкой ноздрей. При свете костра да без шапки – таким только нечисть пугать.
– Угрюмка! – прокашлявшись, позвал ласковым голосом. – Сходи послушай баюна, после мне расскажешь!
– Угу! – послушно кивнул юнец, зябко придвигая к огню черные потрескавшиеся пятки: бахилы не просохли, а по холодной весенней земле идти босиком ему не хотелось.
Но вот они с Третьяком накинули на плечи подсохшую одежду и растворились во тьме. Нехотя поднялся Пенда, подхватил саблю. За ним, босым как все, неслышным шагом ушел Рябой. Кривонос отодвинул от разгоревшегося огня дубеющую от высыхания обувь, поворочался с боку на бок, но не уснул и тоже пошел следом за всеми.
Возле большого ватажного костра кружком сидели устюжане и холмогорцы. Одни в московских валяных шапках горшком-кашником, другие в новгородских – высоких и прямых с отворотом. Кольями торчали казачьи колпаки, на Угрюмке был шлычок непонятного вида: худая головная покрышка.
Все слушали белого как лунь старца. Баюн кормился сказками. Где-то на Каме-реке его подобрали холмогорцы. Нищих Бог любит – за то, что те Бога любят и почитают истинно. Убожья рука – счастливая. Желая милости Божьей и удач своему делу, они уговорили старца идти за ними в Сибирь за прокорм, одежду и православное погребение.
Кривонос приблизился к большому костру, когда старик закончил сказ о Егории Храбром, родившемся на святой земле православной от матери Софии, честно мужней вдовы. Теперь, посапывая, он отдыхал, а промышленные люди тихо переговаривались, прислушивались к звукам черного леса, поглядывали на звездное небо. Вредный устюжанин Нехорошко, редко выходивший из всегдашнего злобного раздражения, не удержался и напомнил дремавшему старцу:
– Неделя уже как идем Ермаковыми поприщами, а ты все только сулишь попеть о сибирском любимце богов! – Голос устюжанина проскрипел немазаным тележным колесом. Старичок со сморщенным лицом, с длинными, ниже ключиц, седыми прядями, с белой бороденкой клином вздрогнул и открыл тусклые глаза.
– У меня память хлестка! – похвастал дрожащим голоском. – Про богатырей и про людей Божьих пою. Народ хвалит… Вроде «Сон Богородицы» просили? Нет? Могу про Ермака! – Расправил седые усы, помолчал, что-то припоминая, поднял глаза к звездному небу: – Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе!.. – перекрестился. – Помянем же, братья, предоброго и храброго воина Ермака Тимофеевича Поволжского, атамана казачьего, с прославленной и доблестной дружиной его и воздадим достойную хвалу!
– Помяни, Господи! – хором подхватили ватажные.
Торопливо пробормотав молитву, перед началом всякого дела читаемую, и щурясь на пылавшие угли, старичок заговорил нараспев:
– Вспомним, как Господь Ермака Тимофеевича с товарищами прославил и многими чудесами превознес. Как отреклись воины Христовы от суетного мира и недолговечного своего житья, от богатства и почестей пустых, но возлюбили Господа, желая только ему угодить да царю-государю послужить, да головы буйные сложить за святорусскую землю, за святые Божьи церкви, за православную веру христианскую. И в том уверившись, ожесточили сердца свои непоколебимо: оружие держать крепко, назад не оглядываться, лиц своих от недругов не прятать и ни в чем им не уступать…
Старец заунывно замычал, выводя носом и горлом мелодию, запел, растягивая слова, сначала тихо, потом громче и громче. Он умолкал, чтобы набрать в грудь воздуха, и снова, носом и горлом, выводил ту же песнь. Казалось, будто звучало два голоса: один сказывал, другой изображал вой ветра, шум и рокот рек, шелест листвы.
А пел он о том, как после крещенских морозов, на день памяти святых чудотворцев Кира и Иоанна, пришли к Строгановым с Волги казаки-атаманы и Ермак Поволжский, чтобы люд православный да мирных татар оборонить супротив разбойных басурман, грабивших окраины сибирские. И прожили те атаманы с казаками в строгановских острожках два года и два месяца.
А после на память преподобного отца нашего Симеона Столпника, двинулись в Сибирь против воровского сибирского султана, московского данника и клятвопреступника Кучума.
А как ушли они, случилась беда: напал на строгановские и ближние татарские земли пелымский князь с войском, селения разорил, Чердынь-город осадил и едва не взял его на саблю, села, деревни, посады пожег, многих жителей пленил. А как узнал, что русские ратные люди ушли в Сибирь, испугался за дом свой и бежал с позором, бросив награбленное добро и пленников.
А в те поры Ермак, по неведению, да по ложному ли научению, повернул по реке Сылве и шел по ней с казаками, пока не наступила зима. Люди его поставили острожек по-промышленному, зимовали, воевали с вогулами и брали богатую добычу, за которую благодарили Бога, срубив часовню во имя Святителя Николы.
И была казакам во всем удача. Но страшила она, легкая, атамана. Велел Ермак есаулам следить строго, чтобы блудом да греховными делами сотоварищи на всех на них не навлекли гнева Божьего. Кто нарушал закон казачий, того всенародно ковали в железа на три дня; кто в грехах упорствовал да пытался вспять бежать, тому сыпали песок за пазуху и бросали в воду. И было казненных в ту зиму двадцать человек.
Жили казаки привольно и сытно. Но томила их кручина, что славы им так вовек не добыть, за дело богоугодное, за Русь святую не порадеть и грехов за прежние свои вины не отмолить. Не хлебом единым живы – собрались на круг и решили начать все заново, вернувшись с войском своим к Строгановым…
Начальными словами о Ермаке Тимофеевиче так пронял старик Пантелея Пенду, что у того зачесался шрам под бородой. Рядом с ним засопел перерубленной переносицей Кривонос, за спиной покрякивал Рябой – старым казакам тоже стало не по себе.
А на весеннем небе ясно и радостно вызвездило. Тишина вокруг да благодать. Вот месяц золотые рожки выскользнул из-под свода. С верховий ручья дохнул свежий ветерок с запахом талой земли. Кутаясь в зипуны и кафтаны, холмогорцы с устюжанами придвинулись к огню. Кто-то из молодых промышленных подкинул на угли хвороста. Пламя взметнулось к небу, народ, кряхтя и морщась, раздвинулся, заслоняя рукавами лица от жара и дыма.
– Если вернулись, за что ж тогда двадцать товарищей своих утопили? – звонким юношеским голосом задорно спросил Федотка Попов.
Это был пятнадцатилетний баловень, младший брат-заскребыш[16]холмогорского пайщика и ватажного передовщика Бажена Алексеева Попова. Поповских родственников в обозе было много, и Федотке как младшему дозволялись шалости, за которые его погодков наказывали.
Холмогорцы, радетели и блюстители древнего новгородского благочестия, приглушенно заворчали: юнец перебивал старца! Сивобородый передовщик пригрозил братцу пальцем. Устюжане осуждающе промолчали. Среди них были Федоткины одногодки. Им так не потакали.
Тишина стала томить. У костра решили, что старик задремал. Но тот, клюнув носом, встрепенулся, поднял сморщенное лицо с вислыми белыми прядями по щекам, поискал запавшими глазами Федотку.
– За то казнили, что тайно бежали, братскую клятву порушив, а войско вернулось по общему решению! – ответил подрагивавшим голосом.
– Что мир породил, то сам Бог решил! – поддержали сказителя складники.
Казаки – Пенда, Рябой и Кривонос – одобрительно хмыкнули в бороды. Третьяк прищурился, метнув быстрый, пристальный взгляд на старца.
Угрюмка шмыгал носом и водил глазами, наблюдая за собравшимися. Думал с тоской: «Еды всем хватало, добра было много, часовню в острожке поставили – чего не жилось?» Знал, не любят казаки запаса: крест на шее, оружие да носильное, что на плечах, а все иное – обуза. С ними наголодаешься.
Передохнув, старик повеселел, как крылья, откинул за острые плечи белые волосы, шевельнул вислой бороденкой, снова запел сипловатым голосом – о том, как после пелымского разорения были Строгановы к казакам ласковы, потому что не стало порядка в соседней земле Сибирской – в вотчине московского царя. Там хан Кучум, порушив свои и Едигеровы клятвы, подстрекал подвластные ему народы к разбою.
На этот раз не пожалели Строгановы для казаков ничего, в чем у тех была нужда, лишь бы проучить мятежного хана. Дали они им три пушки, а на каждых сто воинов – знамя, украшенное образами, в доспехи всех облачили, послали с ними попа и людей, вызволенных из татарского плена: литву, татар, русичей и немцев, чтобы ратным подвигом окупили свою свободу. И набралось полтысячи казаков да полсотни бывших пленников.
Атаманы с казаками да с наемными людьми приняли от Строгановых прощение Христа ради, отдали друг другу последнее целование и пошли к стругам, обещая, если Божьей волей возвратятся благополучно и с хорошей добычей, не только возместят добро, но и отблагодарят сверх того. А если выпадет доля горькая – клялись помянуть на том свете, перед светлыми очами самого Господа, благодетелей своих, Семена да Максима Строгановых.
По Чусовой-реке до устья Серебряного ключа, на котором затаборился обоз промышленных людей, дошли ермаковские сотни только к холодам…
– Что так мало шли? – прошептал Федотка на ухо брату, да так громко, что получил затрещину от кого-то из родственников.
– Здесь приказал Ермак рубить избы и крепить их стоячим тыном. Развалины его зимовья поныне, сказывают, целы, – пропел старец и продолжил о том, как пленники указали Ермаку речку Баранчу, что была в десяти верстах от него на сибирской стороне. И впадала она в Тагил. Атаман хотел перетащить туда волоком свои большие струги, чтобы не строить новых, но среди вековых деревьев и скал это сталось его людям не по силам. И бросили они свои большие суда…
Старик будто задумался, свесив голову, и вдруг тихонько всхрапнул.
Приглушенно загалдели люди, стали неспешно расходиться по шалашам и стругам. Кто-то мостился на ночлег у костра. Поднялся и Угрюмка. Зевая, пошел следом за казаками.
Еще на Каме-реке бывальцы пугали ватажных складников трудным волоком из Чусовой в Туру. Но говорилось это людьми, ищущими выгоды от промышленного обоза. С хитрыми пермяками в черных шлычках соглашался старый ермаковский казак Гаврила Иванов: оглаживал серебряную бороду, что-то старался припомнить и уклончиво ворчал – где, дескать, легко было? С большим почетом и подарками его приняли в обоз попутчиком на ватажный харч. Но ермаковец на Чусовой и на Тагиле реках бывал лет тому тридцать назад, а в Москву ходил через Лозьву и Чердынь[17], где нынче вольный торг был запрещен, а соболь выбит. Теперь он возвращался в Тюменский острог. Хвалился, что, подарив воеводе добытого в бою коня, ездил с ясачной казной на Русь просить у нового царя за долгие и верные службы атаманскую должность.
Когда обоз подошел к устью Серебряного ключа, обнаружилось то, о чем, предупреждали пермяки: здесь была прорублена дорога, мощенная гатями, и ямское подворье, содержавшееся вогулами. Складники же с чужих слов думали, что дорога та – не дорога, а конная тропа, а кони у вогульских ямщиков – полуживые одры.
Как ни плохи были кони, да и сами вогульские ямщики, державшие ям по принуждению, но обозу, ждавшему на Серебряном ключе больших трудов и расходов, было облегчение. Тут и открылось складникам, что можно было обойтись без донцов, нанятых в Перми. По крестоцелованию они продолжали давать им харч, но всем своим видом выказывали недовольство. Долгогривого, длиннобородого Пантелея иначе как пендюхом – то есть болваном, спать да брюхо чесать, – меж собой не называли. А нынче у костра, слушая баюна, делали вид, будто не замечают казаков.
– Ишь как разбирает ярыжников! – мостясь у раздутого огня, насмешливо прогнусавил Кривонос, скрюченными пальцами затолкал бороду под войлочную рубаху, до дыр стертую кольчугами и латами. – Прямо позеленели от злости, глядят, будто извести хотят. – Он сипло хохотнул и улегся.
Рябой, кряхтя и охая, снимал кафтан. Порубленная и натруженная рука ныла к ночи. Когда в Перми он убедил складников взять казаков бурлаками, сытые, не разоренные лихолетьем пермяки, искавшие заработка у проходящих караванов, от досады плевались, обзывая пришлых донцов голодранцами и ушкуйниками.
Пантелей Пенда полулежа, как дикий зверь, смотрел на угли, жевал сухую соломину крепкими зубами. Не стриженные после московского разбора[18] волосы рассыпались по молодецким плечам. По его хмурому лицу метался отсвет костра. То темнели, то высветлялись его глаза.
Рябой своим знахарским глазом видел, как билась в груди молодца тоска, корчила изнутри душу. Распеленав свою кровоточившую рану, он пошептал над ней заговоры, прочел молитву Пречистой Богородице, пробормотал напоследок: «Булат, прочь отстань, а ты, кровь, течь перестань…» Приложил к ране сухие травы, стянул ее туго и улегся.
– Зверьми зыркают, – опять пробормотал Кривонос недосказанное. – Дай волю – сожрали бы… За грош с чертом породнились.
– На то и купцы! – вытягиваясь на спине, прокряхтел Третьяк. С саблей под головой он лежал на зипуне в одной холщовой рубахе и смотрел в небо.
– Новгородцы – народишко скандальный, на злое слово скорый. Я сам из них, знаю, – перевернулся другим боком к огню Кривонос, как девку, прижимая к груди кривую ордынскую саблю.
– У голодных брань на шее не виснет, – раздраженно зевнул Третьяк. Ему не хотелось слушать пустопорожнюю болтовню, мешавшую мысленно прочесть молитву на сон грядущий.
Во тьме хрустели сухой прошлогодней травой уставшие кони. За деревьями тявкала лиса. Сонные потревоженные рыбы плескались в ручье. Ветер ли пробежал по верхушкам деревьев, леший ли, потряхивая ветвями, прислушивался к разговорам.
Смущенно покашливая, появился из тьмы старый тюменский казак Гаврила, который с Ермаком русскому царю на саблю Сибирь брал и в ней служил до сносу. Был старик бел как лунь и прям как оглобля. В казачьей суконной шапке, на сибирский манер обшитой куницами, в бухарском цветном халате под суконной киреей[19], он присел у костра, вытянув ладони к огню. На груди ермаковца поверх халата на толстой цепи висел полуаршинный кедровый крест. Глаза старика поглядывали молодцевато и весело. Кабы не морщинистая шея да не вислая кожа на запястьях, кто бы поверил, что он лет на двадцать старше старых уже Рябого и Кривоноса.
Третьяк с Пендой встали и поклонились. Угрюмка неловко подскочил и затоптался, не зная, как приветить старика. Кривонос с Рябым отодвинулись, уступая ему место возле огня и берестяную подстилку.
– Умудрил Господь старца! – удивленно покачал головой ермаковец, вспоминая сказителя. – Воистину, сердечное умиление! Здесь ведь все и началось! Тут каждый судьбу принял! – говорил, взволнованно озираясь, будто только что закончилась песнь. – Одни назад побежали и бесславно головы сложили, другие вручили жизнь Господу да атаману, и вышло кому как на роду писано… Мне-то куда было бежать? Десять лет с Ермаком казаковал. Вроде вас, нагрешил против Господа, против людей православных – в монастыре не отмолиться.
Ермаковец ласково взглянул на Угрюмку, перевел взгляд на иссеченные шрамами пальцы Кривоноса, на его лицо и вздохнул с укоризной:
– Мы Сибирь строили, вы – Русь разоряли! Нынче иной дорогой едешь – одни пустоши. Вроде вся земля беглецкая! – Он помолчал и добавил: – Туда шел с казной, чуть не каждый день от шишей[20] отбивался. За что про что у вас брат на брата так озлобился? Ничего не пойму.
– Не уживаются вместе, когда один на другого похож и оба к одному руки тянут! – процедил сквозь зубы Пенда, выдавая сокровенные мысли.
– Ты откуда родом-то? – хмуро спросил Кривонос ермаковца.
– С Поля, – браво улыбнулся старик щербатым ртом. – Где родина у казака, как не в Диком поле?!
– А я из новгородских вольных крестьян, – заговорил сердитым звонким голосом, без обычной гнусавости. – Много деды мои зол претерпели от московского холопья. С тех пор как Захарьин-Юрьев – родич нынешнего царя, опричнину на Новгород привел – не поднялись уже. Черносошные и те в Дикое поле уходить стали. И я на земле маялся нуждой, старался одолеть ее трудом, да только озлился. Думал уж, грешным делом, хоть бы сдохнуть скорей. Потом бросил все и ушел в Поле. А вскоре новый царь объявился. Мы его на Москву привели: при мне старая царица, мать-монахиня Марфа, целовала, сыном звала, бояре узнавали, Святой крест ему целовали. А после отреклись: подложный-де был – монах беглый… Это бояре на Москве испоганились! Бориску отравили, сына его удавили. Дмитрия-царя извели, царенка его на воротах повесили. Ваську Шуйского в монастырь заперли. Патриарха прежнего умучали. Вот и наказал Господь!
– Довоевались! – вздохнул Рябой, сердито зыркая на разговорившегося товарища. – По самые локти в крови христианской… А здесь – Пермь сыта! Вторую неделю идем – никто пограбить не пробовал… Чудно! – хмыкнул и поскоблил впалую щеку под редкой бородой.
– Без греха не прожить! – смиренно согласился ермаковец. – И мы не из корысти кровь проливали: все за правду, за обиды. После Бог вразумил! – Старик перекрестился со светлой печалью в глазах. – Молитесь! Спешите покаяться и отслужить, пока живы. Не старые еще. Но жизнь – она быстро летит, а Бог – Он все видит!
Пантелей вскинул голову, дернулся, будто искра залетела под бороду. Рябой метнул на него настороженный взгляд и закашлял: не понравилось ему лицо казака. А тот, сдерживая занявшуюся ярость, стал спрашивать подрагивающим голосом, будто каменья из-за щеки выплевывал:
– Зачем тебе, казаку, наказное атаманство из царских рук? В Диком поле все равны от сотворения. А в Сибири, значит, уж и старые казаки почитают за честь поделить меж собой власть, как придворные царские холопы в боярских шапках!
Старик удивленно посмотрел на длинноволосого, долгобородого молодца, притаенно улыбнулся, качнул головой, будто прощал острое словцо и возникавшую неловкость, стал обстоятельно рассказывать, как хорошо быть атаманом в немощные лета: и жалованье вдвое, чем у казака, и муки, круп так же.
– А на печи кто тебе даст лежать? – усмехнулся в бороду. – Сибирь – она и есть Сибирь. Здесь новорожденному повитуха сперва саблю покажет, после материнскую титьку да родного отца. Тем и живы: сабля вострая в руке да Господь милостивый на небе. А больше на кого надеяться? – Старик задумался, снова пускаясь в воспоминания, и вдруг осекся: – Я к вам по делу, казаки. У меня в шапке грамота Сибирского приказа. А в той грамоте царев указ – заковать буяна, сына боярского[21] Ваську Сараева с атаманом Евстратом. Посланы они были для служб, но, в Сибирь второй год едучи, в вотчине боярина Митрия Годунова крестьян били и грабили, одного из пищали убили, коров, свиней постреляли, многим ямщикам прогоны не платили… До Перми, по указу, я во всех селах за грабеж сыскивал и пытал расспросами: знаю, кто из атаманов, казаков и детей боярских в чем повинен… Своей властью могу любой обоз остановить, – горделиво приосанился старик, – и всех, кто при оружии, отправить на поимку буянов. И вас, гулящих, принудить к тому власть имею. Но какой в ней прок? – взглянул ласковей. – Купцы только за свое добро будут радеть. Поведу – пойдут, будто в штаны наложивши. У промышленных тоже радения к цареву слову нет. А вы, казаки, мне по душе. И купцы, вижу, вам не рады.
Старик опять благодушно взглянул на Угрюмку, примеряя его стать к своей молодости, и добавил:
– Надеюсь на вас, детушки!
Угрюмка сверкнул глазами, сжался в комок и уставился на угли, то и дело потряхивая плечами в сползавшем с них охабне. Казаки и ухом не повели на слова старого ермаковца.
– Послушаешь сказы – ваши-то дрались один против полусотни, – недоверчиво просипел Кривонос, поглядывая на ермаковца из-под нависших волос. – То ли брешут люди, то ли Бог так уж явно помогал?
Гаврила опустил голову в красной шапке, задумался и вдруг, всхлипнув, смахнул старческую слезу:
– Уходили за добычей и отмщением. От Строгановых, от церкви и от самого царя было благословение. А как помирилась Москва с ногайцами, так от нас отреклись: предали, как Христа… Отступить – татаровье умучит, на Русь вернуться – свои казнят. Бог рассудит! – сказал с жесткой хрипотцой и поднялся. – И на этом свете правда есть! Атамана Ермака Господь призвал на Преображение и дал ему погибель геройскую, а царя на другой год в муках и корчах, как ведьмака, прибрал на Дарью-грязнуху… Так-то вот! – С ожесточением погрозил кулаком во тьму.
Едва он скрылся, Угрюмка зашептал возбужденно:
– Сказывали, обоз братнин рядом!
– То мы не знаем! – раздраженно проворчал Пенда и перекрестился: – Бог ли помогает, бес ли прельщает? – Глянул на черневшие купеческие струги, мотнул головой вслед ушедшему казаку: – Без него тошно было, теперь и вовсе – будто камень на грудь положил.
– И мне душу разбередил, – проворчал Кривонос. – Обереги, Господи! Запоститься, что ли?
– Тишь-то какая, – бесстрастно зевнул Рябой. – Благодать! Ни порохом, ни падалью не пахнет – токмо прелой травой и листом. – Шумно, с сипением втянул в себя воздух. – Оно и легче, как этот Гаврила! Служи да служи в Сибири. Издали вроде и царь как царь, и бояре – люди. Коли других нет, этих почитать можно… Устал, прости, Господи! – шепнул со стоном, зябко кутаясь в зипун. – Ну да нам с Кривоносом, слава Богу, немного уж терпеть, а вам, коли не зарубят, не повесят да на кол не посадят, – еще грешить да грешить.
Едко дымил истлевающий костер. К утру на звездном небе опрокинулся черпак Медведицы. Устюжане с холмогорцами дружно кликнули святого Егория, разбудив всех работных. Рябой поднял голову, взглянул на ясные звезды, закряхтел, закашлял, пошарил рукой за изголовьем, подбросил сухих веток на кострище и стал раздувать огонь.
Проснулись Кривонос с Пендой, зазевали, крестя рты. Рябой поднес ладонь к носу, пробормотал:
– Егорий росу отпустил! Юрьева роса от сглазу и от семи недугов. Хвори снимает… Ну вот и дожили! Егорий на порог весну приволок, землю отпер, на теплое лето отпустил.
На таборе уже полыхал ватажный костер. Зашевелились Третьяк с Угрюмко, зябко поглядывали, как раздеваются казаки. Вывалявшись в росе, кряхтя от стужи, у огня присел Пенда, обтерся полой жупана, накинул его на голые плечи, стал сушиться. Крестясь, вышли на свет озябшие Рябой с Кривоносом, начали поторапливать молодых к купанию, пока роса не обсохла.
Серое утро неспешно наплывало из-за гор. Дремавшие в лапах кедрача птицы робко и сонно стали подавать голоса. Промышленные на таборе нестройно запели утренние молитвы. Громче заголосили пташки в лесу, призывая солнце. Заалел восток, разгоралась заря-зарница, полуночница.
«На Егория коням – отдых, казакам – веселье». Как ни спешили складники, но не взяли греха на душу: объявили дневку и отдых. Пополудни, подкрепив душу молитвой, тело едой и питьем, на таборе стали петь и плясать. Устюжане завели песнь про Божьего человека Алексия, как он, никем не узнаваемый, жил у отца на задворьях, как
- …злы были у князя рабы его:
- Ничего к нему яствы не доносили,
- Блюдья-посуду обмывали,
- Помои на келью возливали.
К казачьему костру опять подошел Гаврила-ермаковец. Его белая борода топорщилась помелом. Приняв приветствие, он сел, скинул колпак, размашисто перекрестился:
– Прости, Господи! И конца-то нет их заунывной песне. Уши вянут, и тоска кручинная сердце гложет, – раздраженно сверкнул глазами. – Споем-ка свою былину про подвиги благочестивых людей!
– Знаем и про матерого казака Илью Муромца, про волокиту Алешу Поповича, – подсказал Рябой. – Про то, как донские да волжские казаки дотла разорили ногайский город Сарайчик.
- С радостью Олексий нужду принимает,
- Сам Господа Бога прославляет.
- Трудится он, Господу молится
- Тридцать лет да все и четыре… —
доносилось с табора.
Старик сердито натянул колпак, тряхнул бородой и запел сильным голосом, стараясь заглушить чужую песнь:
- Жалобу творит красна девица
- На заезжего добра молодца,
- Что сманил он красну девицу,
- Что от батюшки и от матушки.
Третьяк в кафтане с длинными, связанными за спиной рукавами, с вырезами в них до самых плеч выхватил саблю, со свистом покрутил над головой и, притопывая, стал подпевать зычным голосом:
- И завез он красну девицу
- На чужу дальнюю сторону.
Заложив израненную левую руку за спину, тоже с саблей, стал приплясывать вокруг Третьяка Рябой, примеряясь скрестить с ним клинки.
В минуту затишья послышалась другая песня. Это холмогорцы, не претерпев до конца московских слез на византийской позолоте, завели песнь про удалого новгородца Ваську Буслаева. Как тот Васенька, на спор да играючи, в этих самых местах решил Урал-камень перепрыгнуть. Как груды белых черепов пророчили ему погибель. Не поверил им удалец, туда прыгнул, обратно скакнул, задел белой ножкой за хребет горный и оженился с белым горючим камнем, приложившись к нему с маху буйной головушкой.
Примолкли казаки, вслушиваясь в слова песни. А как закончили петь холмогорцы, Пенда усмехнулся зло и тряхнул долгогривой головой:
– Ни людям на пользу, ни врагу во вред, ни Богу в умиление. Расшиб башку нечисти на посмешище!.. Вот и мы так! – с вызовом, остро и сердито взглянул на Гаврилу, отвечая на вчерашний его вопрос.
К казачьему костру подступили устюжские юнцы: конопатый Семейка Шелковников, смешливый Ивашка Москвитин да Федотка Попов из холмогорцев. Они присели в стороне, зазывая Угрюмку с Третьяком сходить вверх по ручью, где, по сказам, стояли брошенные ермаковские струги.
– Знатно ваши поют! – взглянув на Федотку, похвалил ермаковец новгородцев.
Юный холмогорец скривил губы:
– Любят застолья. Наедятся, напьются допьяна, начнут хвастать, кто деньгами, кто сапогами, совсем дурак – женой. Потом подерутся, как водится. Пойдем уж лучше старые струги посмотрим.
Нахмурились казаки, не понравилось им, как юнец говорит о родне, но промолчали – не их человек, не им поучать. Сами грешны.
Ватажная молодежь и Третьяк с Угрюмкой убежали вверх по ручью. Устюжане, подобрев к вечеру, прислали казакам праздничной еды, рукобитьем не оговоренной. Московский люд хлебосолен.
В сумерках вернулся один Третьяк. Он бежал всю дорогу и теперь вытирал лоб шапкой.
– Завалило всех в пещере! Спасать надо! – одышливо крикнул готовившимся к ночлегу ватажным.
Бажен Попов трясущимися руками стал натягивать сапоги. Иные из холмогорцев начали срамословить казака, не понимая, как молодежь могла оказаться в пещере. Третьяк резко отвечал, не опуская пристального, немигающего взгляда. Остро щурились его влажные, обжигаемые соленым потом глаза.
– Спрашивал!.. Все живы, – неприязненно оправдывался перед наседавшими на него устюжанами и холмогорцами. – Не разобрать было завал одному – камни большие.
Вмиг собралось с десяток ватажных, готовых идти в ночь спасать родню. От казаков с ними пошел Пенда. С факелами отряд двинулся к верховьям ручья.
– Неспроста так встречает Сибирь! – сказал Рябой, задумчиво глядя в чернеющее небо. – Знак какой-то!
– Чего в пещеру-то полезли? – лениво зевнул Кривонос, лежавший у костра.
– Да клад ермаковский хотели сыскать! Еще чего ради под землю лезть! – ответил Рябой и пробормотал сонно: – Так и Сибирь – завлечет, заманит богатством всяким, а обратно не выпустит.
Ватажные со спасенными вернулись за полночь и разошлись по своим местам без обычного галдежа. Взбодрившийся, повеселевший Пенда молча лег у костра. Пламя высветило усталые лица Третьяка и Угрюмки. Рябой с Кривоносом сонно взглянули на них, плотней укрылись и ничего не стали спрашивать.
Разгоревшийся огонь обнажил во тьме тени обтянутых кожами купеческих судов. Угрюмка то и дело оглядывался на них, боязливо шмыгал носом. Вспоминались ему полусгнившие ермаковские струги, очевидцы и свидетели былинных лет. Они походили на огромных дремлющих зверей, терпеливо ждущих исцеления или кончины, еще издали пугали приближавшуюся молодежь. И тишина в пади была жутковатой. Ни сами струги, ни остатки стен Ермакова городка проходящие люди не трогали, хотя сухие дрова для костров приходилось таскать издали. И набожные русские, и заносчивые инородцы боялись прогневить воинственный дух любимца богов, знатного атамана.
Молодые залазили в струги, трогали деревянные уключины. Сквозь щели в днищах проросли трава и кустарник. Новые деревья обступали суда, подпирали потрескавшиеся борта. Иные березы, пропоров днище, парусили на ветру ветвями.
Тут и шепнул бес Угрюмке поискать ермаковский клад в пещерах среди скал. Расхрабрившись, он первым протиснулся в сырую темень подземелья. Слышал за спиной дыхание Федотки, перешептывание Семейки с Ивашкой. Вдруг перед ним замерцало во тьме лицо мужика с косматой бородой. Пытливые глаза пронизали сироту до самых кишок. Урюмка вскрикнул, отпрянув, сбил с ног Федотку. Хотел обернуться – не почудилась ли тень? Неожиданно тусклый свет в подземелье померк, раздался грохот. Пыль набилась в глаза и ноздри.
Юнцы на карачках бросились к выходу и остановились у вывалившихся глыб. По ту сторону в свете дня ясно виделось обеспокоенное лицо Третьяка. К нему можно было просунуть руку, но нельзя пролезть.
Долго бы искали здесь обозные свою молодежь, кабы у Третьяка не хватило ума остаться снаружи.
На другой день Рябой раз и другой выспросил подробности обвала в пещере, вдумчиво выслушал взволнованные рассказы Угрюмки. Помолчал, покачивая головой, почмокал впалыми губами.
– Неспроста зовет сибирский атаман! Приглядывается к вам, к молодым. Поди, в свои, сибирские, казаки примеряет на геройство! – изрек, скрывая плутоватую насмешку в редкой бороде и затаенно зыркая на побелевшего юнца.
Тот от страха разевал рот, водил по сторонам ошалелыми глазами, выискивая поддержку у спутников. Но казаки слушали Рябого спокойно и рассеянно, будто тот прочил их молодому спутнику долгие годы и богатство.
– Не моя доля! – испуганно закрестился Угрюмка. – Чур меня!
– Зря! – подначивал кичижник. – За правое дело в молодые годы живот положить – Богу угодить! Безгрешным вернешься к Отцу Небесному!
– Не меня! Не меня! – заверещал юнец, вконец смутившись. – Уж я погрешу, прости, Господи!
– Не бреши на ветер, черт старый! Не пугай мальца! – не выдержал Кривонос.
На мученика Савву Стратилата, перед голодным месяцем маем, расцветала рябина к доброму урожаю овса. На восходе румянилась заря утренняя, алая, выпуская красное солнце на синее небо. Едва прострелил первый луч в разоренную западную сторону, обоз тронулся по топкой разбитой колее.
Где волоком, где на покатах кони и люди тянули груженые струги. Поскрипывали тележные оси, распугивая ворон. Хрипели кони, покрикивали возницы. Заложив руки за спину, за обозом налегке шагал Гаврила-ермаковец. Полуаршинный кедровый крест похлопывал его по опоясанному животу, тяжелая сабля оттягивала плечо.
Старец-сказитель, взявшись рукой за борт струга, переставлял непослушные ноги в стоптанных, мешками обвисавших чунях. Белые пряди волос шевелились на усталой, согбенной спине. Старик подслеповато щурился, радуясь ясному утреннему солнцу.
Купцы своей выгоды не упускали. Хоть знали про государев запрет на торговлю от Перми до Верхотурья и все их товары были описаны людьми пермского воеводы, но в пути то и дело начинался тайный торг со встречными вогулами и татарами. Ермаковец, примечая хитрость барышников, начальственно хмурился. Купцы старались его уважить и задобрить, однако он не пил ни вина, ни пива, жалуясь на немощи и хвори. Его воздержанность в питье не сулила ничего хорошего. Ругать же ермаковца, даже за глаза, складники боялись и отводили душу на гулящих казаках, нанятых в Перми. Будто по их винам и ватажную молодежь едва не задавило в пещере.
Все-то в казаках сердило их, хотя работали донцы не хуже вогулов и сверх договора ничего не требовали. Жили они особняком, о чем думали, о чем говорили, зачем шли в Верхотурье – никто не знал. Одеждой изветшались: кафтанишки да зипунишки драные, обутка худая, у иных одни только бахилы – а им и заботы нет.
Еще под Пермью, на Чусовой-реке, стал накапывать холодный дождь, просекаясь блестками снежинок. Обозные взялись строить балаган. Казаки же сидели у огня, бездельничая. Думали промышленные, что те полезут ночевать в груженые струги. Но те высмотрели яму под вывороченным корневищем, набросали в нее кедровых веток, легли, прижались друг к другу, укрылись одеждой да берестой – и провели ночь. Наутро, как ни в чем не бывало, отдохнувшие, они были готовы к новым работам. Обозные же насквозь промокли, пока ставили балаган. Потом чуть не до утра сушились у костров и отсыпались до полудня.
Складники раз и другой велели дать казакам хлеба, после сказали, чтобы или сами себе пекли, или в черед, на всех. Печь для всех они отказались, всякий сам по себе распоряжался паевым харчем. Длинноволосый печальник в бахтерцах заливал муку холодной водой, размешивал, выпивал и ложился спать. Старые и молодые съедали сырьем не только муку, но и немолотую рожь. Иногда они пекли на прутках тесто.
На Марка-ключника обоз поднялся на сухую возвышенность, где чьим-то добрым помыслом был поставлен березовый крест с иконкой Николы Чудотворца. Вдали виднелось озеро с ручьями, стекавшими в Туру. В дымке высились горные вершины.
– Вот она, тайбола[22], – волнуясь, вглядывался в даль Гаврила-ермаковец.
Небо было пасмурным, в воздухе пахло дождем – мужикам на рожь, бурлакам на вошь. Обозные велели ямщикам распрячь и отпустить на выпас лошадок, а сами долго молились. Ямские вогулы кучкой сидели в стороне и с безразличным видом поглядывали на долину Туры. Угрюмка вымороженными глазами бросал пугливые взгляды то в одну, то в другую сторону. Он был наслышан о сибирской тайболе. Жутко вспоминался лик Ермака в пещере. Ни на закат, ни на восход не виделось ему вольного и счастливого пути. Куда поведут – туда иди, хоть бы и на кончину лютую.
Молитвы читал холмогорский передовщик с окладистой, как помело, бородой. Ему вторил устюжский пайщик с хитрющими глазами и оттопыренными ушами. Голова его с затылка походила на мышиную. Рябой наметанным глазом давно определил в длинноухом устюжанине знахаря и доку. Певшим купцам, как попам, прислуживал за дьякона и красивым, зычным голосом подпевал Третьяк, имевший большую охоту ко всяким церковным службам.
– Дьячишь важно! – хвалил его в перерывах Бажен Попов. – Голосом в хорошего попа!
На обнаженные головы ватажных закапал дождь, но, не успев намочить волос, прекратился. И засияла впереди радуга семи цветов. Люди запели громче и радостней, веруя: Бог Вседержитель дает знак, что не гневается на них, входящих в Сибирь. Вогулы же, глядя на радугу, стали еще угрюмей. По их приметам, обратный путь им предстоял по дождям.
Молясь, Бажен-передовщик то и дело обращался к ермаковцу Гавриле как к иерею за благословением. Тот важно кивал, крестясь и поглядывая вдаль.
После молитвы и полдника пасшихся коней опять загужевали в оглобли телег и в постромки стругов. Взялись за бечевы промышленные и работные. Все разом навалились, и обоз двинулся под уклон. К притоку Туры по заболоченной равнине была проложена узкая дорога, местами мощенная гатью. Храпели кони, чавкала вытаявшая болотина, кричали люди, подбадривая друг друга и лошадей.
Угрюмка бросил охабень в струг, в драной рубахе без рукавов тянул бечеву наравне с казаками. К ним подошел ермаковец. Пошагал налегке рядом с оборванцем, указал в сторону возвышенности:
– А мы туда переваливали, в Тагил. Ближе, но трудней. А вогулы да татары справно здесь жили… Не голодали.
– Кто не голодал? – не ослабляя постромку, переспросил Угрюмка.
– А никто не голодал! – уклончиво ответил ермаковец.
К вечеру обоз прибыл к обустроенному табору, где еще не выстыла зола в кострищах. Посреди просторной поляны стоял добротный балаган, крытый берестой. За ним, тускло серебрясь, выгибалась излучина речки. На берегу высился крест.
Едва обозные распрягли лошадей, разбрелись устраивать ужин и ночлег, на тропе показались двое верховых с луками за спиной и с вогульскими пиками поперек седел. Вскоре стало видно, что это казаки. Подъехав, они начали по-хозяйски осматривать поклажу, спрашивать обступивших складников про табак.
Передовщик не знал, как вести себя со здешними служилыми, и велел позвать ермаковца. Тот, прилегший было в балагане, выполз в одних холщовых штанах, но с саблей. Увидев его, казаки смутились, сошли с коней, стали кланяться и хотели ехать дальше. Но Гаврила задержал их к неудовольствию купцов. День был приятный: волок пройден, прощай пешая ходьба, поденная плата ямщикам. Радоваться бы да Господа хвалить, однако Гаврила объявил, что ему нужно в ночь и весь следующий день держать при себе шесть лошадей да пятерых помощников с оружием.
То, что старый казак принуждал обоз к дневке, – полбеды: все равно ватажные собирались валить лес и строить плоты. Но вогульских ямщиков они хотели отпустить с утра, а теперь надо было держать их еще день. Пришлых казаков угостить – тоже не прибыль. Рассчитывали обозные на помощь гулящих донцов, но ермаковец забирал их вместе с вогульскими лошадьми.
Передовщик про себя и чертыхался, и крепким умом смекал, что если дело важное, то все окупится: верхотурскому воеводе и таможенному голове подарков можно будет не давать, а досмотр товаров по пермской описи вдруг случится нестрогим. Тучный Бажен Алексеев поскреб седеющие виски и сказал Гавриле, чтобы брал что нужно, а уж они-то, купцы да промышленные люди, за государево дело потерпят.
Шалая весенняя речка уже входила в берега, унося мутные, взбаламученные воды на восток. Оседал по заводям сор половодья, покрываясь песком и илом. Сохли по берегам тина и плесень. Угрюмка хотел зачерпнуть чистой воды. Подошел к реке ниже табора, склонился над омутом и увидел сквозь редеющую муть конский остов. Перекрестившись, юнец поднялся против течения и наполнил котел из чистого родничка, стекавшего тонкой хрустальной струйкой в реку.
Казаки подкрепились в дорогу. Купец-передовщик выдал им три лука и две пищали. Они опоясались саблями. Угрюмка сунул за кушак топор, засапожный нож – за крепко связанную бечевой, густо смазанную дегтем голяшку бахила, затем сел на утомленную дневным переходом лошадь.
Послушание обозных и гулящих людей тронуло Гаврилу. Почтительно придерживаемый под локти служилыми сибирцами, он вскарабкался на спину кобыле. Старик молодецки приосанился, поддал в бока изработанной лошадки запятниками добротных сапог – и отряд отправился к ямской слободе, где гуляли сын боярский Васька Сараев и атаман Евстрат.
– Их там более двух десятков сабель, – опасливо сообщали верхотурские казаки.
– А нас восемь удальцов! – бесстрашно отвечал ермаковец, расправляя седую бороду по груди. – У меня грамота с указом. Да люди сказывают, атаман с сыном боярским передрались и казаки меж собой в ссоре.
Покатилось солнце ясное на закат дня, туда, где звенел булат и смрадные пороховые тучи ползли по выжженной земле. Пролитой кровью наливалась темная вечерняя заря. Будто приснилась донцам мирная весна: опять привычно рысили они в ночи, чтобы отбить товарища. И снова ныло сердце от тайных помыслов, от лихого коварства и неизбежной измены честному ермаковцу. А он, не давая отдыха лошадям, торопился поспеть в слободу к полуночи.
Остывал западный свод неба, будто омытый чистой ключевой водой и весенними дождями. Тусклая, словно мукой присыпанная, появилась на нем первая звезда. Вскоре и вовсе стемнело. Чертям на радость вышла полная луна. Длинные тени деревьев вытянулись на полянах. Леший то и дело подсовывал под копыта корни и сучки. Уставшие лошадки спотыкались и шумно вздыхали.
Старость и попу не в радость. Отвыкший от верховой езды, старый казак стал придерживать кобылку, хвататься за поясницу. По совету верхотурцев пробовал лечь на круп. Ему стало еще хуже. Тут Рябой вкрадчивым и ласковым голосом предложил спарить лошадей носилками и положить в них старика. А поскольку спаренные лошади пойдут медленней – их, донцов, отправить вперед.
Ермаковцу совет показался разумным. Хитрости в словах кичижника он не учуял, а лиц донцов впотьмах не увидел.
– Туру бродом не переезжайте, ручья держитесь… Начнут буяны обороняться – поднимайте слобожан и бейте их смертным боем. Перед воеводой и перед Господом я отвечу. С Богом!
Донцы подстегнули коней и зарысили торным путем. Но там, где им было указано, не свернули, а перебрели Туру и двинулись по мощенной гатью дороге.
У всех встречавшихся прежде людей Кривонос с Рябым осторожно выспрашивали о царевом обозе со ссыльными. Верхотурские казаки, не заподозрив тайного умысла, указали, где он остановился.
Казенный обоз ночевал возле Туры-реки. Белым пеплом подернулись угли костров, на сереющем небе гасли звезды, наплывал рассвет, первые пташки подавали голоса, призывая утреннюю зорьку. Караульный из пленных черкасов спал, уронив на колени голову в бараньей шапке. Татары и вогулы в здешних местах были мирными. Сказывали жители деревень, что пошаливала голытьба, возвращавшаяся на Русь. Мелкие промышленные и купеческие обозы они могли пограбить, но отряды служилых и ссыльных людей такие ватажки обходили стороной.
Старшим в обозе был плененный под Москвой лютеранин или папист, с его слов полковник, Иоган Ермес – долгоносый, тощий, в коротком шведском сюртуке и польской четырехугольной шляпе с обломанным пером он походил на стоячее коромысло. Под его начало были отданы пленные литвины, ссыльные черкасы и два монаха под надзором двух молодых стрельцов. Всех их царским указом отправляли в Сургутский острог. Туда же, к месту службы, с жалованьем пешего казака, после разбора и наказания следовал молодой кремлевский бунтарь.
За год, проведенный в застенках Троицкого монастыря, Иван Похабов повидал немало узников, лишившихся разума после кнута, колодок и полумрака подземелий. Он же благодарил Бога за неволю, попав в келью, набитую белыми попами, монахами и мирянами. В беседах с ними от тюремного безделья выучился читать и окреп духом. Иные умирали от тоски, а Ивашка, через двух иноков, пришел к пониманию своей прежней беспутной жизни и к покаянию.
Один иосифлянин, другой ниловец[23], те иноки не всегда уважительно и бесстрастно спорили между собой, а потом каялись друг перед другом и выясняли, где их вели жажда истины, а где – бес тщеславия.
Спорили они о Руси, о народе и его власти, о канонах и обрядах, во что Ивашка не мог и не хотел вникать по своему чину. Но одну истину он все же понял и принял всей душой: «всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет».
Сколько помнил себя – раздиралась Русь. Сосед завидовал соседу, если у того дом просторней, а амбары полней, город – городу, если у того церкви выше. Еще дед Ивашки не любил ни опричников, ни бояр, ни милостивейшего царя Бориса. И когда в годы его власти зачастили мор, голод, неурожаи да всякие напасти, дед не только вздыхал, туже затягивая опояску, но и злорадствовал: «Вот оно, грядет наказанье Божье – за грехи наши!»
Проснулся ссыльный казак в сумерках, привычно прислушался, глубоко вдохнул запахи леса, погасших костров. Хотел уж перекреститься, поблагодарить Господа, что встречает новый день не в заточении, но услышал приглушенный топот, затем ржание. Стреноженные обозные кони откликнулись из леса. Звуки и запахи табора ничуть не удивили Ивашку, а вот ржание, отрывистое, оборванное ударом плети или кулака по конской морде, слегка насторожило. Скорей по привычке, чем из опаски он придвинул к себе саблю и снова закрыл глаза, собираясь доспать утренние часы.
Вдруг раздались топот, свист и знакомое казачье гиканье. Ивашка выкатился из шалаша с обнаженной саблей, к нему подскочил караульный черкас в широких штанах, встал за спиной, стараясь разглядеть, кто потревожил ночлег казенного обоза. Краем глаза ссыльный казак увидел, как упряжной дугой из шатра выскочил Ермес и, прижимая к животу кафтан и сапоги, побежал к лесу. Следом за ним неспешно отступили литвины. Они волочили за собой пики и пищали.
Всадников было всего-то пятеро. Четверо в казачьих колпаках, один в шлычке. В полусотне шагов от табора они рассыпалась лавой, размахивая саблями, свистя и гикая. Ивашка, привычный ко всяким разбоям, вертел головой, готовясь обороняться. Черкасс перекинул с руки на руку пищаль без фитиля. Молодые стрельцы встали сбоку плечом к плечу. Один метнул бердыш под ноги коню. Тот споткнулся, упав на бок, всадник в худом охабне соскользнул с конской спины без седла и, пробороздив носом по земле, подкатился к Ивашкиным ногам. Когда он поднял голову и смахнул грязь с лица, тот ахнул, узнав брата.
– Этакую рань шумите, православные! Нехорошо! Нехорошо! Утро-то какое! Дар Божий! А вы его скверните! – крестясь и зевая, одергивая подрясник, из шатра вылез босой инок Герасим. Глаза его насмешливо блестели, курчавилась растрепанная бородка. Следом, в холщовой рубахе, выполз другой инок, откинул волосы с плеч, надел скуфью на нечесаную голову, ласково спросил разинувшего рот Кривоноса:
– Кого вам надобно?
Кривонос и Пантелей Пенда, смутившись от встречи с монахами, скинули колпаки, спрятали сабли.
– Дак, – прошепелявил Угрюмка, отплевываясь горьким дерном, – эта, ехали мимо…
– А перепутали мы вас с другим обозом, – бойко залопотал Рябой с хитрецой в глазах. – Тут где-то казаки гуляют: атаман Евстрат да сын боярский Васька Сараев… У нас грамота – остановить их велено и связать.
– Слышали про них, – пожал плечами инок. – Давно пора остепенить буянов. Но они, по слухам, в ямской слободе.
– Мы ночью верхами ехали, места незнакомые, видать, заплутали или леший вкруг лесом обошел. Вы уж не серчайте!
– Грех на вас сердиться! А вот неудобств вы нам наделали: войско наше разбежалось, передовщик опять в бега подался. Беда с ним. Помогайте теперь сыскать. Нам без него никак нельзя в Верхотурье явиться: воеводу прогневим.
Пантелей понял – выпало самое подходящее время, чтобы увезти Ивашку. Угрюмка ни глазам, ни ушам не верил и все крестился, боясь, что это только сон.
– Найдем! – дернув узду шатнувшейся от усталости лошади, сказал Пенда и строго кивнул Ивашке, будто они не были знакомы: – Пойдешь с нами!
Тот уже понял, ради чего объявились станичники. Глаза его блестели, по щекам разливался густой румянец. Накинув зипунишко и колпак, с обнаженной саблей в руке он понуро пошел за всадниками к лесу.
Едва скрылся из виду табор, казаки спешились, стали обнимать повзрослевшего Ивашку со щеками покрытыми редкой, кучерявящейся бородкой.
– Слава Тебе, Господи! Не зря упование возлагали… Помогла сила небесная, – крестились смеясь. – До Перми путь знаем, там по Каме, на Волгу и на Дон. А с Дона выдачи нет.
Ивашка, счастливый от встречи со станичниками, с братом, то смеялся и всхлипывал, то затихал, мрачнея, прятал смущенные глаза. На лице его выступили красные пятна. Он тряхнул головой и заговорил, прерывисто вздыхая и путаясь:
– Простите, братцы, не одной царской неволей иду в Сибирь, но Божьим Промыслом. Не сам себе судьбу ковал, такую Бог дал. Известно, судьба придет – ноги сведет и руки свяжет…
– Бог не без милости, казак не без счастья! – ободрил мнущегося дружка Пенда. – Если ты про крест, что царю Михейке целовали, так он казакам наперед его целовал, но обманул и предал.
– Его милости моя спина хорошо знает, – скривился Ивашка, пламенея от стыда и глядя в сторону.
– Ни с Речью Посполитой, ни со шведами, ни с казаками мира у Москвы нет, – неуверенно пробубнил Кривонос, любуясь повзрослевшим воспитанником и затаенно ощупывая его глазами. – Сегодня в Москве Романовы, кто будет завтра – неведомо.
– Кому быть царем – Бог решит. Кому вынется, тому сбудется, не минуется. Об этом благочинные вам сказать могут, не я, грешный. Они тоже царев хлеб да кнут отведали. Простите, братцы! – со слезой озирая собравшихся, виновато вскрикнул Ивашка, низко кланяясь. – Век заботы и любви вашей не забыть, и молиться за вас буду, покуда жив… Но вернуться не могу. Простите!.. Сказано: «если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за Мною». И мне так!
– Я с тобой, – плаксиво пробормотал Угрюмка, как птичка склонил голову на плечо, печальными глазами вытаращился на брата, а сердце его сжималось от жалости к себе самому.
У Ивашки ручьями потекли слезы по щекам, заблестели на редкой бородке. Свесил голову и старый казак Кривонос. Пенда, опустив глаза, теребил пальцами кожаный повод узды.
– Спаси тебя Господь, Пантелей Демидыч, – поклонился ему Ивашка, судорожно сглатывая воздух серыми кривящимися губами.
Тот смахнул колпак с лохматой головы, перекрестился на заалевший восток и ответил:
– Сочлись! Ты меня с плахи отбил. Я тебе волю дать хотел. Коли не нужна, что уж тут, – развел руками.
– Да не так все! – вскрикнул Ивашка в отчаянии от бессилия высказать, что было на душе.
Голодные кони торопливо щипали траву. Первые лучи солнца золотили верхушки деревьев. Набежавший порыв ветра прошелестел ветвями. Казаки вспомнили брошенного ермаковца и устыдились пуще прежнего.
– Согрешили против Гаврилы! – смущенно просипел Рябой.
– Надо возвращаться! – напомнил Третьяк. Достойно претерпев разочарование от встречи, он обнял дружка и отошел в сторону, не выказывая ни радости, ни печали.
– Прости! – слезно поклонился ему Ивашка.
– Не тебя, свою душу спасал перед Господом! – ответил тот с улыбкой на безусых губах. – Грех да беда не по лесу ходят – все по народу! – Вскинул светлые глаза: – Иной раз помянешь в молитвах – и ладно!
– Путь долгий, наговоримся в Верхотурье, – мотнул головой Пантелей, все чаще и опасливей поглядывая на небо и откидывая за плечо длинную прядь. – Жизнь грешная! Один грех искупая, другой на душу взяли! – Развернул лошадь со злой усмешкой.
Смутившись новым напоминанием об обманутом старике, донцы стали торопливо прощаться.
Литвины вернулись на табор, как только за верховыми побрел в лес Ивашка. Они пришли своей волей, хотя, убегая, прихватили оружие. Кое у кого в просторных карманах шаровар оказался припас сухарей.
Ссыльный Похабов солгал стрельцам, что казаки его бросили и уехали по своим срочным делам. Обозные недосчитались одного только передовщика – пленного еретика Иогана Ермеса.
– Опять к Печоре подался, – подозрительно оглядел вернувшихся молодой стрелец. – Я за ним давно надзираю: где ни остановится, с кем ни заговорит, окаянный, – все про путь к Пустозерскому острогу выспрашивает. Понятно – туда немцы на торговых кораблях ходят.
Оставив Ивашку старшим, стрельцы взяли сухарей, вскочили на отдохнувших за ночь лошадей и, пустив их рысцой, отправились искать своего беглого начальника. Вернулись они к полудню вместе с передовщиком. Ермес не вырывался, не оправдывался, смотрел на обозных налитыми презрительной тоской глазами да равнодушно хлопал белыми, как у поросенка, ресницами.
С благословения иноков беглеца выпороли и вновь передали ему власть. Поскуливая и полаивая на чужих языках, Ермес приказал на ломаном русском отдыхать, чтобы наутро идти к Верхотурью.
Пятерка донцов добралась до ямской слободы почти к полудню, когда с буянами было покончено. Гаврила под горячую руку огрел батогом Кривоноса и Пенду. Те смиренно промолчали, не уворачиваясь от ударов и по обычаю московских холопов отвесили по три земных поклона, а не один, как принято у казаков.
– Ну хоть солгите что! – гневно потребовал ермаковец с красными пятнами на лице. Он был в недоумении: не пьяны, голодны, без всякой воровской поклажи – заявились с выражением покорности и вины.
– Что врать? – смиренно поднял усталые глаза Пантелей. – Ошиблись дорогой, проехали мимо, на чужой обоз чуть не напали.
– Как проехали, если там брод? Я же говорил! – закричал старик, топая ногами.
– Среди ночи заплутали, не разобрались – где брод, где торная дорога с гатью. Да и не один там брод, а много…
– Известное дело, – торопливо закивал Рябой. – Леший обойдет лесом – глаза залепит. Бывает, меж трех сосен блуждают неделями.
Старик из сбивчивых объяснений донцов ничего не понял, но был рад уже и тому, что пропавшие вернулись. С двумя верхотурскими казаками он въезжал в слободу, уверенный, что донцы все сделали и ему останется только предъявить грамоту. На въезде их встретили караульные слобожане и, узнав, с чем приехали, мигом собрали народ. Добрая половина казаков, следовавших в Сибирь с атаманом и боярским сыном, тут же перешла на их сторону. Натерпевшись обид в пути, они со злорадством связали и побили буянов. Кнута и батогов Гаврила давать не велел, обещая, что тех выпорют по винам в Верхотурье на гостином дворе.
Остывая от негодования, он насмешливо спросил Пенду:
– Что волосищи-то поповские отпустил, печальник? В монастырь собираешься или вдовеешь?
– И вдовею, и сиротею, и в печали великой – и родину, и станицу, и жену потерял! – смиренно ответил тот. – А верного коня предал! – скрипнул зубами, разглядывая свои руки, пытаясь найти место беспокойным пальцам.
Старика такой ответ тронул и умилостивил.
– Прощаю вам вины ваши, – заявил великодушно, – ради правого дела, которое, с Божьей помощью, сделано. – Он кивнул на связанных и велел собираться в путь.
К вечеру отряд прибыл на табор. Передовщик Бажен, сын Попов, сперва ужаснулся множеству людей, но узнав, что у пленных и сопровождавших свой провиант, повеселел.
Был он ласков не только с ермаковцем, но и с донцами. От здешних людей узнал, что коней в Верхотурье не дадут. Строить суда придется самим. Поскольку плотников в городе мало, все они в почете у воеводы и определены на казенные работы. Теперь купчина благодарил Бога, что нанял пятерых работных в Перми, и надеялся задержать их против прежнего договора на строительство судов. Зимовать в здешних местах, обедневших соболем, ему не хотелось.
Лошади были возвращены вогулам. Среди оставленных на таборе казаки недосчитались одной, самой немощной. Вскоре Угрюмка увидел ее круп в мутной воде речки, стал показывать на него вогулам и промышленным. Те смущенно воротили глаза, но не интересовались пропажей. Угрюмку остепенил Рябой.
– Купили лошадь в складчину и поднесли дедушке водяному, чтобы жаловал ватагу! – прошепелявил, потряхивая редким клином бедняцкой бороды.
– Утопили коня! – проворчал Кривонос и тихо выругался.
На дереве с ободранной коновязью корой уже безбоязненно сидели вороны, почесывали лапами острые клювы и терпеливо ждали, когда обоз снимется с места.
Слободской ямщик, похлебав жидкой каши из обозного полдника, впряг дюжего коня в фуру, на которой привез старого ермаковца с пропившимися буянами. К новой радости передовщика, он не потребовал прогонов. Донцы же вместе с ватажными людьми начали строить плоты и к изумлению складников оказались искусными плотниками.
Работали не все. Дремал, греясь на солнышке, старик-сказитель, ермаковец Гаврила важно похаживал по табору и давал советы, пленные сидели в балагане под охраной бывших своих, обиженных ими казаков. Им работать было недосуг – нужно было думать о словах оправдания перед верхотурским воеводой.
Наутро днюющих путников навестил слободской приказчик Артемий Бабинов, человек, известный от самой Перми до Туринска. Это он открыл дорогу, по которой шел обоз и потом, по царскому указу, строил ее и все здешние мосты. Теперь Артемий встречал каждый идущий обоз с надеждой о царской грамоте с наградами за свои труды.
После ужина и молитв ватажные подкинули хвороста в большой костер, расселись и разлеглись возле огня. Пока сказитель собирался с мыслями, причмокивал да высасывал кашу, застрявшую меж старых зубов, устюжане запели про падение Адама, про плач его у ворот рая:
- Как расплачется Адам,
- Перед раем стоячи…
– Ай, раю мой, раю, – дружно подхватили холмогорцы, – прекрасный мой раю!
Услышав знакомый напев, Угрюмка заерзал, завертелся юлой. Невмочь как захотелось ему заткнуть уши и бежать без оглядки. Песнь навязчиво напомнила зиму, когда, побираясь по деревням, шел он со слепцами к сытому Нижнему Новгороду. Даже плечо заныло, будто до сих пор его сжимала цепкая рука убогого старца.
- Не велел Господь нам жить в прекрасном раю.
- Сослал нас Господь Бог на трудную землю.
– Ай, раю, мой раю, прекрасный мой раю! – снова во весь голос подпели холмогорцы.
Поскрипывая зубами, со слезами на глазах Угрюмка убежал за балаган, хотел спрятаться, забиться куда-нибудь, но не мог никуда деться от страшной песни. И бежать было некуда. С одной стороны река с заиленными конскими костями, со злющим водяным, с другой – тайбола, лес со зверьем, лешими да всякой нечистью. Да и поздно было бежать: колючей занозой сидела в голове жуткая песня, вызывая бессильную ненависть к своей доле и к прошлому. Познал он в жизни выходы из нужды и себя научился беречь, а спасаться от нестерпимых воспоминаний, связанных со стыдом, не умел. Так и сидел, весь выстывший, подрагивающий изнутри. Время от времени облизывал шершавые обветренные губы.
Лишь когда старец запел про атамана Ермака и про славную дружину его, стало легче. Успокаиваясь, Угрюмка поглядывал на ермаковца. Тот был весь в морщинах, а не сутулится, и взгляд у него ясный. Старый казак слушал песни про Ермака, хмыкал в бороду или недовольно кряхтел, иногда вместе со всеми дивился делам своей молодости, преданиям нынешних дней.
Баюн сидел так близко к огню, что зипун на нем едва не затлел. Старик заерзал, доброхоты отодвинули его от пылавшего костра, скинули одежду. Задралась давно не стиранная исподняя рубаха. Дряблая кожа, под которой виднелись кости, была исполосована сабельными шрамами.
Зипун остудили и снова надели. Старик же сбился со сказа и долго не мог вспомнить, на чем остановился и о чем пел. Холмогорцы загалдели о своем, насущном. Гаврила, придвинувшись к сказителю, стал выспрашивать, с кем тот воевал и где. Но старец ничего вразумительного ответить не мог. Стариковская память чудна.
– Как же ты былины помнишь, коли молодость забыл? – удивился казак.
– Какую ни есть старину раз услышу говором, вдругорядь песней – вовек не забуду, – стал хвастать старец. – Будто гвоздем кто приколотит. Мне бы только начало вспомнить. А после в нутре дух какой-то подымется – и ходит-ходит! Я одни слова пропою – он другие подает… Лют я петь. Запою – ничего больше не вижу!
Удивленно качал седой головой Гаврила. Промышленные нетерпеливо подсказывали, на чем старец сбился. Наконец он собрался с мыслями, поднял прояснившиеся глаза к небу. Галдеж стих.
Как старый боевой конь, почуявший запах пороха и сабельный звон, начинает перебирать больными копытами и задирать свисающую к земле морду, так ободренный вниманием старец нараспев заговорил ровным голосом все громче и уверенней. Он замычал носом, засипел горлом, запел о том, как по вскрытии рек двинулся атаман Ермак с верными есаулами и с войском своим в дальний путь, молясь Всемилостивейшему Спасу.
На Туре-реке, где нынче Туринский острог, жил татарский князец Епанча. Ему подвластны были тамошние вогулы. И услышал он про Ермаково войско, собрал людей своих и напал на казаков возле большой излучины.
И не было удачи тому князцу – получил он отпор кровавый, потеряв людей множество. Но не испугался казаков – двинулся сушей напрямик к другому концу излучины. Там укараулил плывущих и снова напал.
И решили казаки наказать Епанчу – другим народам для острастки. Высадились они возле его юрт, разграбили их, сожгли и поплыли дальше с боями, разоряя по пути селенья.
На Ильин день подошли они к городку, где нынешняя Тюмень, и завладели им. Вскоре вились к ним вогулы с самоедами[24], принесли дань и предложили править ими, как прежде правили татары.
И зимовали там казаки, у самых переделов Кучумовых. Через плененных и гостевавших мурз вызнавали о хане, передавали ему приветы, уверяя, что воевать с ним не будут. А тот хан Кучум прогневил богов, зарезав родственника своего и добровольного московского данника – прежнего хана Едигера, не по праву захватил престол и владел Сибирью.
Зимовали казаки в тепле и сытости. Тамошние народы на них не нападали, а войско убывало: строгановские люди то и дело бежали тайно на Русь, и оставались с Ермаком только верные ему казаки да есаулы.
Видели и они, что их силы тают, а татарские только собираются со всех концов земли. Понимали – скоро каждому надобно будет биться с десятью, а то и с двадцатью врагами. Иные волжские да яицкие казаки тоже стали подумывать – не вернуться ли на Русь? Атаманы же говорили, что бежать некуда, а победить или умереть со славой – можно…
К своему костру Третьяк с Угрюмкой вернулись затемно, когда огонек едва попыхивал на тлеющих углях. Чуть позже пришел и Пантелей Пенда. Они подкинули дров. Закряхтел, закашлял Рябой, приподнялся на локте. Перевернулся на другой бок Кривонос.
– Что сказывали? – спросил приглушенно.
– Все про Ермака, – так же тихо ответил Третьяк, наслаждаясь благодатной тишиной.
– Про народы из дальних полночных стран приказчик Бабинов говорил! – с жаром прошептал Угрюмка, боясь нарушить настороженный покой ночной тайболы.
– Брешет! – присел на корточки Третьяк. На лице его с кривой неловкой улыбкой мельтешили тени костра. Глаза были печальны.
– Что брешет-то? – поинтересовался Рябой.
– Сказывал, будто возле ледового моря живут люди, которые в холода спят там, где их застанет мороз. Идет, говорит, промышленный, вдруг – под деревом в лесу сидит замерзший человек, из носу сосулька до земли висит. А сам живой. Настанет тепло, оттает и пойдет, будто зимы не помня! Сказывал, если соплю застывшую сломить – уже не оттает, а подохнет.
– А еще, – с жаром зашептал Угрюмка, – будто возле ледового моря живут люди без голов, с одним глазом заместо шеи. А на спине, меж плеч, у них рот. Бросит рыбину через плечо – хрум-хрум – съел, дальше пошел.
– Брешет? – неуверенно зачесался Рябой. Не поднимая головы, хмыкнул: – Сам приказчик видел или от других слышал?
Угрюмка молчал, раздумывая.
– Тот приказчик дальше Тюмени не ходил! – усмехнулся Третьяк. – Лет уж двадцать в здешних местах живет.
* * *
После встречи с братом и со станичниками все валилось из рук Ивашки Похабы: стал коня запрягать – поставил в оглобли без хомута. Монахи удивленно переглядывались, но ни о чем не спрашивали. А Ивашке вспоминалось детство. Не любил он прошлой жизни – думал, что зря те годы в злобе потерял. До заточения, едва подступались всякие воспоминания, старался напиться вином или рвался в бой. Нынче молился и работал с остервенением, пока не обвисали руки. А прошлое исподтишка, крадучись, подступалось, нашептывало о себе…
Дед Ивашки, сорванный опричниками с родной земли, так и не смог заново пустить корни. Бобылем[25] мотался по городам и острогам, теряя родню и оставляя по посадам подраставших детей. Бродничал так с редеющей семьей, пока в преклонные уже годы не пристал с последним, младшим сыном к городу Серпухову. Там, в посаде, дали ему пустовавший дом с посильным тяглом да с наказом: при осаде города дом тот и другие дома поджечь.
Здесь вырос последний дедов сын – Ивашкин отец, прозванный за безудержное буйство Похабой. Здесь он женился на такой же крикливой и нахальной девке без роду без племени. За горячность и вспыльчивость Похабу часто бивали посадские и горожане. Дед, похоронив бабку, прилепился к непутевой сыновьей семье, терпеливо снося брань и попреки.
Сколько помнил себя Ивашка, родители или дрались, или ругались. Мать то и дело подстрекала детей против отца, ожидая, когда они подрастут и станут вместе с ней колотить его.
Всю-то Ивашкину жизнь были моры, засухи, голод и поветрия, косившие людей сотнями. И в умах у всех была смута. Вчера еще казавшиеся добропорядочными, соседи вдруг без всякой причины бросали тягло, начинали бродяжничать, юродствовать и пророчествовать; смиренные попы вдруг срывались в богохульство, оставляли приходы и с кистенем под рясой чинили разбой, одни из горожан за грош душу бесу закладывали, другие бескорыстно раздавали все, что нажито.
И пронесся по Московской Руси слух, будто объявился в Литве чудом спасшийся царевич Дмитрий. Втайне радовался русский народ, ожидая избавителя и искупителя грехов своих. И вот, случилось! С хохлатыми ляхами и с черкасами в огромных бараньих шапках, с бородатыми донцами в островерхих колпаках царевич подступил к городу. Бывшие там московские дворяне, воевода да городской сход решили ему не присягать, так как подлинного царевича никто не видел, а ждать указа из Москвы.
Черкасы с ляхами и донцы обложили город. Посад пришлось выжечь, а посадским людям запереться за городскими стенами в чужих домах, в тесноте великой. Едва в городе начался голод, Ивашкины родители, будучи захребетниками на чужом подворье, передрались до полусмерти. Мать отлежалась и, не простившись с детьми, бежала к ляхам. Вскоре Похаба увидел свою жену под стенами города гарцующей на добром коне за спиной бравого усатого молодца.
Над опозоренным мужем смеялись не только враги, но и горожане. В глазах у Похабы потемнело, он выстрелил в прелюбодеев из лука, но стрела упала на землю, не долетев до них. Хохот по обе стороны стал еще громче. В слепой ярости Похаба скинул портки и показал черкасам голый зад. И покарал Господь гнев его – вражья стрела на излете воткнулась в ягодицу. Тут уж затряслись стены города от дружного хохота осажденных и их врагов. Один Ивашка смотрел на родительский позор, вытирая слезы.
Отцов умишко и вовсе помутился: вырвал он стрелу из ягодицы, замотал кушак поверх поддернутых штанов и с топором да засапожным ножом прыгнул с двухсаженной стены в ров, а выбравшись, с такой яростью кинулся на всадников, что те, смеясь и отбиваясь, отступили. Исхитрясь той заминкой, осажденные распахнули ворота, сделали вылазку и изрубили приставленные к стене лестницы.
Ивашка же видел только то, как усатый удалец с матерью на крупе скакуна подлетел к отцу. Лихо сверкнула над его головой сабля, и осел он набок, выронив топор. Конь молодца развернулся, снова проносясь мимо порубленного. Мать, вцепившись в жупан всадника, на скаку склонилась и плюнула в умирающего мужа. Сын закрыл глаза, ожидая, что небо разверзнется и ударит молния. Но этого не случилось.
Дед умирал в чулане у городского дьякона, постанывая и прислушиваясь к звукам битвы. Младший шестилетний внук Егорка беззаботно играл старой мышеловкой. Сгибаясь в проеме низкой двери, в чулан вошел дородный дьякон в куцем, обгоревшем подряснике. Тяжело дыша, скинул с потной головы шлем, перекрестился на образок в головах старика, поправил кистень за кушаком и спросил раскатистым баском:
– Живой еще?
– Живой! – виновато просипел старик, оправдываясь, что никак не сподобится умереть и обременяет добрых людей. – Отпетых схоронили ли? – спросил жалобно.
– Похоронили возле церкви! – обыденно ответил дьякон, зачерпнул воды из бочонка, жадно и неловко напился, обильно намочив бороду и грудь. Бросил ковш на лавку, добавил, отдуваясь: – Без домовин, в одной яме, но в добром месте!
– В тесноте, да не в обиде, – простонал старик. – Бог простит! Ивашка-то живой? – скосил глаза на воина в подряснике.
– Который? – глядя в сторону, пророкотал дьякон, стал рассеянно вытирать рукавом мокрые усы, и старик почувствовал неладное.
– Да меньшой, – сказал дрогнувшим голосом.
– Меньшой на стене. Живой был, когда сюда шел.
– А старший как? – обмирая, пролепетал старик.
– Бешеный-то? – Дьяк помолчал, что-то выискивая в углу чулана. – Зарубили его днесь пополудни! – выпалил, тряхнув лохматой головой, взглянул на Егорку, снова перекрестился. – Бешеный он и есть бешеный: один бросился со стены на все войско. Легко отдал Богу душу… Ты, дед, помирай себе не торопясь: вместе с Похабой и отпоем.
Дьякон потрепал Егоркины не стриженные еще волосенки и вышел. Старик с трудом перекрестился, волоча руку по немощной груди, всхлипнул и слезливым голосом стал вспоминать былое, счастливое и чинное крестьянское житье в деревне из трех черносошных семей. Егорка слушал его вполуха. Что отца зарубили, воспринимал, как что-то давнее, не свое. И тут в чулан ворвался Ивашка.
За стенами избы слышались лязганье сабель, крики и звуки равномерных тупых ударов. Егорка насторожился, со страхом поглядывая на брата.
– Ворота ломают, – поднял бессильные глаза дед.
– Черкасы! – крикнул Ивашка и упал на колени: – Дед, благослови!
Старик торопливо и немощно перекрестил его голову, бормоча: «Благословен Господь наш ныне и присно, и во веки веков…» Затем благословил Егорку и поторопил:
– Прячьтесь, Христа ради! Спаси Бог попасть под горячую руку…
Ивашка схватил брата за локоть, поволок из дома, хотел бежать в церковь, но увидел, что туда толпой валят горожане, а усталые стрельцы в малиновых шапках неуверенно сдерживают натиск казаков. И он потянул брата в другую сторону, на выстывшее пожарище с черными трубами.
Подскочив к черной, обгоревшей печи, раскидал головешки и подтолкнул Егорку. Тот юркнул под просторный печной свод. Ногами вперед к нему влез чумазый Ивашка, заложил щель выстывшими головешками.
Сильно пахло золой. Егорка чихнул. Брат шикнул на него и больно ткнул локтем. Тот беззвучно затрясся всем телом. Младший брат всегда был обузой для старшего. Из-за него ему часто попадало за недогляд от скорых на расправу родителей. Эта неделя на стенах города, этот день, когда на его глазах был осмеян, а потом зарублен отец, и мать, весело гарцующая с врагами, – все казалось сном. Только здесь, в печной темноте и прохладе, он стал понимать, что все это не приснилось, а подрагивающий от страха брат с худыми, острыми плечиками – настоящий и единственный. Впервые Ивашка почувствовал, как тот ему дорог. Понял и то, что каждый миг их могут разлучить навсегда. Ему стало страшно не смерти, на которую он насмотрелся, а разлуки с братом.
Слышалась стрельба. Ивашка забылся, прижав к себе меньшого, и привиделось ему, будто живут они в своем доме, о котором рассказывал дед, отец с матерью ласковые и радостные, а Егорка совсем мал – едва говорить научился, и все мешает, все лезет, сердя его, Ивашку. Вдруг хватился – нет брата. Выскочил на улицу и увидел свой посад: речку за огородом, болотце, через него мостки на высоких сваях. Со страхом побежал к болоту, высматривая брата. Не было его там. Задрал Ивашка голову – и увидел меньшого, бегущего по мосткам над болотом. Забраться на них снизу было не по силам, вернуться к речке, откуда начинаются мостки, – уж некогда: потеряет из виду брата, не найдет потом. И побежал Ивашка по грязи, спотыкаясь о кочки, зная, что впереди топь, и стал кричать братцу, леденея от ужаса: «Угрюмка! Мамка пряники из города принесла!» Про пряники врал, лишь бы остановить брата. Тот оглянулся, шаловливо смеясь, но не остановился, продолжая резво бежать по гулкому настилу… Ивашка очнулся в слезах, обрадовался, что это только сон, прижал к себе брата.
Где-то истошно кричала баба, слышались пьяные песни и беспорядочная стрельба: резкие, сухие выстрелы без эха. Проснувшись, Егорка громко, в голос, зевнул. Ивашка шикнул было на него – и услышал:
– Кто пищит?
– Под печкой! Пальни картечью.
– Фитиль уже защипнул, – хмуро ответил тот, кому предлагали стрелять. – Ткни саблей!
Егорка, услышав разговор, сжался в комочек. У Ивашки гулко застучало в ушах сердце. Он торопливо перекрестился и вдруг со всей ясностью понял, что одному надо вылезть. Кто догадается, что их двое? Иначе брата не спасти. И как только он решился – страх прошел, сердце забилось ровно, почудилось – рядом запели ангелы.
Ивашка смиренно выполз из укрытия, встал в полный рост. Была темень. Во мраке виднелись два человека в больших лохматых шапках. Один с пищалью стоял возле пожарища, второй, с саблей в руке, пробирался по головешкам к печи.
– Юнец! – разочарованно зевнул казак с саблей. Другой, с пищалью, проворчал со свирепой пьяной злостью:
– Такой смолу и говно со стен лил, кошевого камнем зашиб до смерти.
Пьяный казак споткнулся, неловко махнув саблей, выругался, грозно приказал: «Иди сюда!» И пополз на четвереньках в обратную сторону. Ивашка покорно сделал шаг, другой, почувствовал под ногами утоптанную землю. Казак с пищалью поймал его за рукав, но рука, скользнув, сорвалась. Тут Ивашка и сиганул во тьму.
Ему знаком был каждый переулок. Блики пламени отражались на куполах церкви. Дом дьякона, где остался дед, догорал, высвечивая часть городской стены. Ивашка бросился было к воротам, подождал немного и, услышав за спиной топот, повернул в другую сторону, к угловой башне. Навстречу ему кто-то бежал. Он нырнул под мосток. Остро пахнуло в лицо нечистотами. Топот, хриплое дыхание и бряцанье оружия отдалились. Ивашка высунулся из укрытия, резко и воровато, как хорек, осмотрелся – возле башни никого не было.
В разбитые подошвенные бойницы даже тощему мужику было не пролезть. Ивашка всунул в щель голову и руки, выдохнул из груди воздух и протиснулся в полузасыпанный ров. Одним духом он проскочил выжженный посад и, озираясь во тьме, побежал к лесу по стылой весенней дороге. Душа ликовала, что ушел от преследователей и увел их от брата. Но радость была недолгой. В темном лесу, в безопасности, вспомнил он о Егорке и заплакал.
Бывальцы из горожан говорили – в захваченном городе надо исхитриться не попасть под горячую руку. На другой день враги отгуляются, устыдятся пролитой крови и подобреют. А на рассвете Егорка вылезет из укрытия, пойдет искать знакомых. Чужаки мальца не обидят: какие ни есть злодеи, но христиане. Соседи и знакомые сироту не бросят. От того, что Ивашка убежал, всем только лучше. Но душа обливалась кровью, а в ушах звучал приснившийся отчаянный крик: «Мамка пряники из города принесла!»
Так прошел день Егория вешнего, голодного. Выдал святой Георгий казакам гонимых гневом Божьим защитников города, как ни молили его с утра о помощи. Казаки ему родней. Но несмышленого мальца, крещенного его именем и прозванного домашними Угрюмкой, не мог не защитить.
Прошло семь лет. Серпухов служил двум самозванцам, а третьему отказал в крестном целовании. Стены были подновлены и укреплены, а на месте выжженного посада появились землянки. Увидев со смотровой башни сотню бородатых донских казаков в высоких колпаках, в городе ударили в колокола. Из убогого недостроенного посада выбежали бабы с детьми.
Сотня остановилась в полуверсте от стен. На вороном коне перед атаманом прогарцевал молодой казак. Был он бос, но в шитом золотом и жемчугами кафтане. Отделившись от своих, молодец поскакал к воротам. Посадские опасливо остановились. Донец поравнялся с ними, что-то сказал, и они стали возвращаться к землянкам.
Казак подъехал к воротам, его впустили. Был он очень молод и долговяз. Сидел в седле подбоченясь. Над верхней губой золотились усики. В том, как он соскочил с коня, поклонился воеводе, приказчику и двум сынам боярским, горожане узнали своего, здешнего жителя и возбужденно загалдели. Сам казак кого-то высматривал острым глазом.
– Не посадского ли Похабы пропащий сын? – спросили громко из толпы. На лице казака мелькнула улыбка, он пристально огляделся, выискивая говорившего. Вперед вышла пожилая печальница во вдовьей поневе, и казак узнал дьяконицу. Та всплеснула руками и, зарыдав, бросилась ему на шею.
Ивашка смахнул слезы и взволнованно спросил:
– Братец жив ли?
Дьяконица зарыдала так громко, что ее подхватили под руки и отвели в сторону. Казак, побледнев, откланялся горожанам, вынул из-за пазухи грамоту с висячей печатью и с поклоном передал воеводе. Тот, осмотрев печать, развернул грамоту, пробежал по ней глазами, подал одному из детей боярских и, крестясь на купола церкви, объявил:
– Казаки примеряют на царство или молодого сына Филаретова, патриарха Тушинского, или калужского воренка, сына царицы Маринки.
В толпе закрестились, одни – с радостью, другие – с опаской. Кто-то спросил:
– А как Владислав-лях?
– Еретик окаянный! Перекреститься не желает и на Русь не едет. Донские казаки, нижегородские и казанские люди – за русского царя! – сказал воевода и добавил: – От горожан, дворян и посадских зовут выборных в Москву. – Кивнул сыну боярскому и приказал: – Читай!
Тот поднял развернутую грамоту и стал громко читать ее.
Ивашка подошел к дьяконице, глядевшей на него умиленными глазами. Она зашептала:
– Чудо-то, Господи! Сотворил Господь преславное чудо! Вчера только вернулся в город брат твой. Тощий, изголодавшийся. Спит, бедненький, не ведает, радость-то какая. Как ты пропал, у меня он жил – мать-то, бесстыжая, в городе не показывалась. После сам ушел, – рассказывала дьяконица, то и дело вытирая слезы сморщенными пальцами.
Ивашка обмирал от нетерпения увидеть брата и верил, и не верил счастью.
– Хлебнул лиха… Да что же я! Пойдем. – Дьяконица потащила его за собой, причитая и смеясь: – Радость-то какая!
В тощем тринадцатилетнем отроке Ивашка долго не узнавал брата. И тот, со сна, со страхом посматривал на молодого казака, не веря, что он и есть беглый Ивашка. Смущенно и недоверчиво братья обнялись на глазах плачущей дьяконицы.
Поклонившись могилам, набрав земли в ладанки, они отстояли молебен в церкви, где были когда-то крещены. Походили по пустырю на месте их сгоревшего дома. Тому и другому все казалось новым, чужим. И люди были не те: ни прежних соседей, ни прежнего житья, что снились и вспоминались.
Ивашка оставил дьяконице золоченый кафтан и ускакал к Москве в стареньком зипуне, но с братом.
* * *
Поблуждав среди дремучих лесов, посеченных неглубокими оврагами, среди болот и выветрившихся скал, казенный обоз под началом Ермеса выехал к Туре-реке. На левом берегу, на высоком взгорье, за редкой вырубленной рощей завиднелся город с тремя башнями и с золочеными куполами церквей. Здесь заканчивалась старая Бабиновская дорога.
Город Верхотурье был построен через пятнадцать лет после Ермаковой гибели воеводой Головиным и письменным головой Воейковым неподалеку от бывшего вогульского городища. Первые насельники из казаков и стрельцов прибыли сюда из срытого и разобранного города Лозвы, через который в прежние годы купеческие караваны шли на Иртыш.
Вскоре после постройки Верхотурья сюда были присланы на постоянное жительство вологодцы и вятичи. Так московские князья выдирали ненавистные им новгородские корни. Но семена, подхваченные буйными ветрами, давали всходы на Сибирской земле.
Никогда не осаждались неприятелем крепкие стены этого города, даже в опасности от врагов не были. Но ни в каком другом сибирском городе не случались так часто пожары, как в Верхотурье.
Ямщики казенного обоза, смахнув шапки с голов, стали креститься на купола городской Троицкой и слободской Вознесенской церквей. Кони рысцой перебрели каменистую речку и, напрягаясь, потянули скрипучие телеги в гору к огороженной тыном ямской слободе и гостиному двору. Перед тыном слободы без всякого порядка торчали крыши врытых в гору землянок, лачуг и наспех срубленных изб.
Ямщики, правившие конями, были злы: им, пашенным людям, наделенным землей и освобожденным от всех иных податей, кроме ямской, платы с обозных не полагалось. Вымучить что-либо со ссыльных волокитой и отлыниванием – было дело безнадежное: им, подневольным, спешить некуда, а для ямщиков, оторванных от земли в самую горячую пору, каждый потерянный день был дорог. Поглядывая вокруг, они переговаривались, жалели здешних крестьян, которым среди лесов и буераков пашня давалась большим трудом. Но рожь росла обильно.
Возле первых изб обоз обступила шумная толпа ярыжников, разодетых кто во что горазд. Наперебой они стали спрашивать про вино и табак, шагали рядом с возками, заглядывали в поклажу, щупали ее вороватыми руками. Вместе с толпой обоз въехал в раскрытые ворота слободы. Не отстали здешние бездельники и возле яма, где обозные сложили свой груз и поставили охрану.
Едва Ивашка присел в тени, к нему подскочил ярыжник в высоком бухарском колпаке, протянул два зажатых кулака и, плутовато ухмыляясь, спросил, в каком денежка. Ивашка пожал плечами, кивнул на правую руку.
Ярыжник разжал пустой кулак и потребовал со ссыльного пятак.
– За что? – удивился Ивашка.
– Проиграл! – стал напирать ярыжник. Его обступали горластые дружки. Кто-то схватил колпак казака, чьи-то руки тянули к себе саблю.
Ивашка лягнул в живот самого наглого. Толпа гулящих взревела, кидаясь на помощь побитому. Похаба выхватил саблю из ножен, со свистом покрутил над головой и стал рассыпать удары плашмя. Еще миг – и дело дошло бы до крови: трое из гулящих выхватили длинные ножи. Но толпа вдруг притихла и поредела.
Расталкивая собравшихся прикладами пищалей, к казаку пробились обозные стрельцы. С ними был слободской приказчик. Заметив в волнующейся толпе малиновые шапки, на шум прибежали трое верхотурских стрельцов. Пинками и тычками они выгнали возмущенных бездельников за тын и заперли ворота. Вытирая разбитое лицо, ярыжник что-то кричал про долговой пятак и грозил жаловаться воеводе.
Приказчик был в красном стрелецком кафтане, обшитом по полам, обшлагам и вороту черными соболями. Сытое, одутловатое лицо его пучками прикрывала редкая бороденка клином. Он спросил, кто старший, и, насмешливо оглядев едва говорившего по-русски немца в шляпе с обломанным пером, потребовал проездные грамоты и описи. Затем с удобством присел на истертую до блеска коновязь, вслух по слогам стал читать бумаги. Кудахчущие куры настойчиво подбирались к его новым смазанным дегтем сапогам. Он попугивал их, болтая ногой.
Наметанным глазом слободской правитель определил, что в казенном обозе запрещенных товаров нет и таможенный досмотр не нужен. Дорожный провиант, по указу, даст воевода в городе. А вот куда отправить обозных на ночлег и временное жительство – решать ему. Почтительно поглядывая на монахов, он бегло осмотрел казенное имущество, сверил по описи котлы, ножи, ружья, сабли, топоры, запас пороха и свинца – все, чем торговать запрещалось. Потом, плутовато щурясь, спросил про вино, которого у обозных не было, и, почесывая затылок, пощипывая пучки бороды, стал раздраженно бормотать, что гостиный двор – для купцов за плату, татарское подворье – для инородцев. С них же, со ссыльных, что взять? Подумав, решил разместить их по избам слободы, у крестьян.
– За добром смотрите, – наказал строго. – Гулящих возле города больше, чем здешних жителей, – их гнус из лесов выгнал. Народ вороватый, ленивый. Зимой всякий змеем изгибается, за прокорм и ночлег, любой работе рад, а летом за работы берут дорого.
– И сколько, по вашим местам, дорого? – улыбаясь, полюбопытствовал инок Герасим.
– У пашенных в работниках, при хозяйских-то харчах, меньше чем за четыре рубля не нанимаются.
– Ну и бродники! – удивился Ивашка, остывший после драки. – Нам обещали за службы два целковых в год.
– Вам казна, а им купцы да черносошные платят, – усмехнулся приказчик. – Царь – вона где, – кивнул на закат, смахнул пыль с шитого соболями обшлага и добавил: – В Сибири никто на одно жалованное не живет.
Иноки, попрощавшись со спутниками, решили пойти к слободскому священнику.
– У него и ночуйте! – крикнул вслед приказчик. – А вы, – взглянул на обозных, – по трое разберитесь – отведу по дворам. С папистом что делать? – кивнул на Ермеса. – Казаки и крестьяне в свои дома не пустят… Придется на татарское подворье вести. Все одно – нерусь.
Приказчик велел снести весь обозный груз в амбар, запер его и приставил сторожем у дверей седенького старичка-инвалида из выслуживших тягло казаков.
Ивашка при сабле, стрельцы с пищалями и бердышами на плечах, которых никому не доверяли, пошли за приказчиком по узкой улочке. Из-под высоких заплотов уже лезла сочная крапива. Ленивые свиньи грелись на припекавшем солнце. Деловито кудахтали куры, разрывая отопревшую землю.
Высокие тесовые ворота рубленого дома – с подклетом, с глухой стеной на улочку – были заперты. Приказчик налег на них спиной и принялся колотить в ворота каблуками. Скрипнул закладной брус, распахнулась калитка, показался высокий сухощавый мужик с густой русой бородой, в длинной, до колен, бухарской рубахе и стоптанных чирках, неприветливо взглянул на приказчика, на служилых.
– Давно у тебя захребетников не было, кум, поди, работы накопилось? – с нетерпеливым вызовом вскрикнул приказчик, наливаясь краской. – Ты брось-ка им соломки в сенцах или еще куда, возьми добрых людей на ночлег. Да бабе скажи, чтобы кормила справно: парни молодые. Пока сыны вернутся с прогонов, они тебе и тес распустят, и крышу накроют.
– Войдите, Христа ради! – хмурый хозяин впустил троих в чистый двор, выстеленный плахами.
– Спаси тебя Господь! – крестясь, вошли молодцы.
Слободской житель неприязненно распрощался с приказчиком, запер ворота и повел гостей по высокому крутому крыльцу в сенцы. Из сеней, согнувшись вдвое в низкой, но широкой двери, гости вошли в чистенькую избу, перекрестились на образа в красном углу, возле оконца, прорубленного во двор. По теплу оно ничем не было закрыто.
Из-за тесовой загородки, отделявшей выстывшую печь от светелки, колобком выкатилась приземистая, полная, румяная женщина, охнула, всплеснула руками. Не спрашивая, как зовут гостей и откуда они, накрошила в миску ржаного хлеба, залила молоком и поставила на стол:
– Ешьте с дороженьки во славу Божью!
Служилые поклонились, поставили пищали и бердыши в угол, сели.
– Ой да какие красавцы, – любуясь гостями, заворковала хозяйка. Тучка набежала на ее моложавое лицо. Она всхлипнула, вспомнив о сыновьях, которые другой уж день были в ямском извозе, смахнула набежавшую слезу и снова радостно захлопотала.
Хозяин, рассмотрев молодцов, подобрел и стал рассказывать, поглядывая на кафтаны стрельцов, что пахотные в слободе живут справно и вольно: над ними один злыдень – приказчик. А в городе над служилым людом всякого начальствующего сброда не счесть – и все что-то требуют.
Ивашка, чтобы поддержать разговор и рассеять мрачные думы хозяина, спросил, не свояки ли они с приказчиком. Хозяин ответил – кумовья. Он перед пахотой снял подтекавшую крышу, и тут приказчик отправил сыновей в прогоны. Одному крыть не с руки, девок брать в помощницы – слобода засмеет: тем пора уж женихов высматривать.
– Мы поможем, – весело поднялись из-за стола постояльцы.
Но тут рассердилась и стала ворчать на мужа хозяйка-толстушка. Дескать, толком не накормив, не напоив, гостей на работу гонит – добры люди засмеют.
Она позвала дочерей и пошла во двор, к не остывшей еще летней печи. Из-за тесовой перегородки, смущаясь, выглянули две простоволосые отроковицы: одна лет тринадцати, другая – меньше. Прикрывая лица рукавами, с любопытством и озорством взглянули на проезжих молодцов, выскочили из избы следом за матерью.
– Невесты! – вздохнул повеселевший хозяин. – Год-другой, а там поманят такие же… И сбегут, дурехи, без родительского благословения на край света, на златокипящую чужбину. Уж все разговоры про богатых да удалых женихов.
Теплым вечером молодые стрельцы и казак помогали хозяину накрыть разобранную крышу. Работалось спокойно и радостно. Ивашка то и дело ловил себя на мысли, будто все ему чудится: тихая сытая жизнь, спокойный зажиточный народ, запах леса и трав. Казалось, вот прервется сон – и проснется он в сыром каземате, провонявшем потом и мышами. Того хуже – в землянке, с духом крови и трупным смрадом.
Они закончили работу на закате. На западе полыхало багровое зарево. Глядя на него, примолкли постояльцы. Угадав Ивашкину тоску, стрелец сказал вдруг:
– Там пожары и кровь – здесь тишь да благодать. Вот ведь. И на все воля Божья!
На Еремея-запрягальника, когда мужики на Руси с песнями выезжают из деревень пахать землю, на плотах и стругах обоз холмогорского купца плыл вдоль скалистых крутых берегов мелководной Туры.
Встречи со здешними народами начались задолго до подъезда к городу. В укромных местах здешние жители на лодках приставали к купеческому каравану, выспрашивали, какой товар те везут и где собираются торговать, при том они склоняли к запрещенным торгу и мене на пути к городу, рассказывая всякие истории о дальних купеческих походах, из которых, де, сами вернулись нищими.
Передовщик, кивая на арестованных и сопровождавших их казаков, разводил руками. Старый казак Гаврила грозил мосластым кулаком.
Уж видны были ворота Сибири – город Верхотурье. Каков он и где стоит, обозные знали от бывальцев. Но увидев почти отвесную скальную стену в двенадцать саженей, три шатровые башни над рекой, удивлялись, задирали головы, придерживая шапки.
На утесе стоял неприступный с реки город. Над стенами, окружавшими его с трех сторон, высился купол церкви с золоченым крестом. Чуть ниже города, у Жилецкой слободы, к скалистому берегу прилепилась узкая пристань. Крутой взъезд поднимался от нее к проездной башне.
– С реки такой город не взять! – поохал Рябой, задирая бороденку на скалу.
– Можно! – поперечно прогнусавил Кривонос. – На яру вместо тына – избенки… Вон там, – указал за реку, – пушки поставить да бить непрестанно. А по той расселине без лестниц послать полсотни удальцов… Но круто!
– Я бы с посада брал! – неожиданно подал повеселевший голос Пенда и стал расчесывать бороду пальцами. – Стены не высоки, и избы зря дозволили так близко к тыну рубить. – Спохватился, крестясь: – Прости, Господи! Опять безлепицу молвил. Живут же люди без крови и злобы. Милует Бог. Отчего ж там, – указал на запад помутневшим взглядом, – одни беды?
Обоз с почетом встречали у пристани два боярских сына, таможенный целовальник, казаки и стрельцы. На крутой лестнице и у воды толпилось до полусотни гулящих, посадских и горожан.
Лодка с купцами-пайщиками, одетыми в цветные кафтаны с высокими воротами и длинными, собранными в складки рукавами, разрезанными от самых плеч, пристала к причалу. В середине встречавших стоял седой и сгорбленный ермаковский казак. Был он полуслеп, глух и поддерживался под руки детьми боярскими. Тяжелая бухарская сабля, висевшая на костлявом плече, волочилась по тесовому настилу.
Толпившиеся горожане приняли пеньковый трос. Рядом причалил тяжелый плот с арестованными и сопровождавшими их казаками. Остальные лодки и плоты обоза поплыли к главной пристани у села Меркушино.
Ермаковец Гаврила в шелковом бухарском халате, по чину поддерживаемый под локти молодыми устюжанами, первым ступил на сходни. То ли положены они были небрежной рукой, то ли сила бесовская тешилась пополудни: сходни опрокинулись, Гаврила и поддерживавшие его молодые промышленные с шумом и плеском попадали в студеную воду.
Старый казак, сердито отплевываясь, поймал на плаву и накинул на голову мокрый колпак, схватился жилистыми руками за верхний венец причала. Горожане подхватили и выволокли его на сухой настил. Гаврила раздраженно оттолкнул помощников, хмуро отжал бороду. Высокий, седой, суровый и страшный в своей мимолетной ярости, он с хриплым рычанием шагнул к увечному старичку – поликоваться с ним трижды, крест-накрест, со щеки на щеку. Едва обнял товарища, тот, подслеповато щурясь, стал брезгливо отстраняться и удивленно просипел срывающимся петушиным голоском:
– Ты ли это, Гаврила?
– Я! – пророкотал ермаковец. – Прибыл с Москвы! Царя не видел, а боярам твой поклон передал.
– А что ты мокрый и склизкий, как налим? – натужно прокричал старичок, вытягивая шею и придвигая к губам ермаковца ухо, торчавшее из вислых седин.
– Старый дурак – глупей молодого… От Туры плыву на брюхе! – прохрипел казак Гаврила с остывающей злостью.
– Молодость не грех, старость не смех! Здоров ты еще! – осклабил беззубые десны старичок. – А я вот совсем немощен. Буду проситься у воеводы в монастырь. Не берет Бог за грехи наши. Ночами бесы кости выворачивают, как на дыбе… А ты поживи. Молодых учить надо.
Дети боярские, целовальник и приказчик уважительно помалкивали, терпеливо ждали, когда старики поговорят, и только после стали расспрашивать Гаврилу об арестованных и об обозе.
Купцы-пайщики степенно сошли на причал, сотворили перед иконами по семь поклонов. И клали-то они на себя крест по-писаному, поклоны вели по благочестивой старине. Затем, кланяясь собравшемуся народу и служилым людям, стали одаривать целовальника с приказчиком аглицкими сукнами. Опять крестясь и кланяясь на московский лад – троекратно, предъявили сынам боярским проездные грамоты. А те, смущенные присутствием возвращавшегося из Москвы казака-ермаковца с конвоем и арестованными, вели себя не по чину скромно. Мельком осмотрев грамоты и пермские описи товаров, один из них спустился в лодку, застеленную медвежьими шкурами. С ним сел таможенный целовальник. Они поплыли по течению за караваном к пристани – для сверки грузов с описями. Другой сын боярский повел Гаврилу-ермаковца сушиться, приказчик – гостей к воеводе и подьячему в город. За ними последовал конвой с арестованными.
На высоком крыльце Троицкой церкви купцов и складников встречал верхотурский воевода князь Дмитрий Петрович Пожарский в собольей шапке и бобровой шубе поверх кафтана, шитого жемчугами по вороту. При нем был подьячий Калина Страхов в бобровых портах и сафьяновых, как у воеводы, сапогах.
Не удостоив взглядом арестованных, воевода стал расспрашивать переодетого Гаврилу о пройденном пути и о новостях из Москвы. Затем заговорил с купцами о делах в Устюге Великом и Холмогорах, о дальнейшем пути, о привезенных товарах и о том, чем собираются они торговать в Верхотурье, что покупать.
Гостям воевода строго наказывал, чтобы к остякам и вогулам в юрты и по речкам не ездили, а торговали, съезжаясь на гостиный двор. Подьячий, дождавшись паузы в его речи, пригрозил: если начнут-де купцы торговать в других местах, то будут ловить их и пеню чинить по указу.
– По зимнику были у нас торговые гости из Нижнего Новгорода – уж хитрющи, как бесы, – напомнил ухмыляясь. Покосился на попа, перекрестился на икону над коваными дверьми в церковный притвор. Глаза его строго блеснули, щеки зардели от властного негодования. – Хотели государя-царя объегорить, но убытки великие претерпели. – Пристально взглянул на прибывших, строго добавил: – А жить вам, купцам, на гостином дворе, а работным вашим – где примут.
Купцы с поклонами одарили воеводу и подьячего, передали священнику дар и пожертвование для церкви. Верхотурцы стали приветливей, начали расспрашивать о трудностях пути и о ценах в Перми.
Вскоре подошли сын боярский с целовальником, ведавшие делами гостиного двора. С поклоном они доложили воеводе, что запрещенных товаров и товаров сверх описи у обозных не обнаружено. Гостям же, с милостивого дозволения воеводы, объявили, что, оценив таможенную и приворотную пошлины, всякий вещевой и меновый товар, да пудовую пошлину, и с амбара оброк, и с изб тепловую пошлину, определена им плата, которую надобно внести в царскую казну деньгами или салом и медом.
Денежная сумма была названа меньше той, на которую рассчитывали купцы. Они тут же внесли ее. Подьячий записал принятую пошлину в приходную книгу, сын боярский с целовальником при всех собравшихся положили деньги в деревянный ларец, на створки которого поп накапал воска с горящей свечи, а воевода приложил к нему свою печать.
Дело было сделано. Целовальник с подьячим вытерли взопревшие лбы собольими шапками и отступились от купцов. Помышляя о делах дня, воевода поднял светлые глаза на гостей и сказал задумчиво:
– Стоит у нас в слободе обоз с государевыми ссыльными: с казаками и монахами, следуют они до Сургута-города. Взять бы вам тех людишек к себе и вместе дойти бы до Тобольска или дальше. А то ведь судов свободных у меня нет.
Приземистый, кряжистый передовщик Бажен Алексеев сын Попов и купец Никифор Москвитин с мягким, румяным лицом, оба – с услужливыми взглядами, стояли перед лучшими людьми города. Задолго до Верхотурья они знали, что судов здесь нет, но услышав об этом из уст воеводы, прикинули стоимость розданных в поминки подарков и стали распрямлять почтительно изогнутые поясницы. Сминая в ладонях шапку, передовщик удивленно шевельнул бровями и взмолился:
– Батюшка государь и заступник, смилуйся! Не поспеть нам в Мангазею на плотах да на стругах. Потеряем товары и себе, и казне в убыток. Дай нам хоть плохонькую барку, а мы государево тягло на себя возьмем.
Устюжский купец, будто бы робея, хитроумно помалкивал, водил невинными и одновременно нахальными глазами с воеводы на подьячего, настораживал уши, запоминая всякое оброненное слово. А как примолк Бажен, разобиженно вздернул нос, слезливо запричитал посиневшими губами:
– Разорение нам великое… Долги неоплатные!
– Кочей нет до самого Обдорска. Хотите не хотите, а строить дешевле у нас, – сказал подьячий таким тоном, что лица купцов мигом посуровели да поумнели, поясницы распрямились, глаза стали смотреть прямо и спокойно.
– Дам вам корабельного теса сушеного и верфь, а вы, соединясь с обозными государевыми людьми, и мне коч построите, да на своих судах казенный обоз до Тобольского города доставите. А люди те на нашем коште будут. А наемным плотникам сами заплатите, и прокорм их – ваш, – изрек воевода таким голосом, что у купцов-пайщиков прошла всякая охота рядиться. Коли на всем пути не купить судов, уже то, что в городе давали тес, да еще сухой, – было счастьем.
– А построите казне коч – будет вам от меня всякая милость! – мягче добавил воевода и обвел строгим взглядом сынов боярских. Слова его были не только лаской гостям, но и приказом для служилых – во всем прямить прибывшим. А это много значило для купцов, спешивших в полночные страны.
Пятеро донцов, нанятых до Верхотурья, сидели на берегу и с интересом поглядывали на сибирский люд, не знавший ни бед, ни нужд новгородских, московских и северских городов. Угрюмка с Третьяком помалкивали, внимательно слушая старших. Пантелей Пенда беззвучно перемалывал нескончаемые свои думы, не удостаивая собравшихся ни взглядом, ни словом. Кривонос и Рябой неспешно перебрасывались словами с местными жителями и посмеивались, удивляясь здешним порядкам и нравам.
Сибиряки охотно рассказывали о житье, жаловались на бедность, на высокие цены и немирные туринские народы, хотя на город, успевший подгнить и местами разрушиться, ни разу никто не нападал. Спрос на работных был здесь непомерно велик – при том, что бездельников поблизости бродило множество.
Все помыслы этих вольных и служилых людей были в дальних краях, где богатство само за человеком гоняется, и на Руси, где, по их понятиям, были порядок и справедливость от власти. Себя же, оторвавшихся от отчих селений на Руси и не дошедших до благодатной земли, они почитали за несчастных.
Гулящие казаки с грустью и снисхождением слушали присевших у их огонька людей как малых и неразумных детей. Скажи им, что ляхов, шведов и рейтаров, обобравших до нитки добрую половину Руси и саму царскую казну, зазвали в Кремль сидевшие там и воевавшие против своего же народа русские бояре, что это они погубили под стенами Москвы тысячи невинных душ, а теперь окружают молодого царя и шлют указы от его имени, скажи, что сам молодой царь был кремлевским сидельцем и вместе со своим дядей Иваном Романовым предавал Русь на растерзание европейскому сброду, – за такую правду здешние люди если не забьют камнями до смерти, то объявят «государево слово и дело».
Осторожно и неохотно отвечали казаки на вопросы сибирцев, удивляясь их вольной, спокойной и благополучной жизни во времена, когда на Руси идет война – и не видно конца кровопролитию.
Вдруг с гиканьем вскочил Пенда. Глаза его дико сверкали, лицо пламенело, но не яростью, а решимостью и удалью. Он поддал ногой по пылавшей головешке. Та полетела в реку, вычерчивая огненную дугу, шлепнулась, поплыла по течению, шипя, дымя и потрескивая угольками. А Пенда поклонился Рябому и заговорил с жаром:
– Правду ты сказал про Спасителя! Не радели мы за народ, как Он. Меня на плаху волокли – знал, товарищи отобьют. Его на крест вели – ни ученики, ни родственники, ни исцеленные Им не вступились. Забыли Вседержителя! – вскрикнул весело. – И мы бежим, гонимые гневом Божьим, – погрозил кулаком на закат. И плюхнулся у костра так же резко, как вскочил. – Прости, Христа ради, если сердился на слова твои строгие, – взглянул ясными глазами на Рябого.
Ни верхотурцы, ни гулящие не поняли странной выходки лохматого молодца. И так как казаки оживленно заговорили между собой о непонятном для них, стали расходиться.
Покатилось солнце красное на закат дня, к верховьям Туры. Окрасилась багрянцем река. Поблескивая чешуей, плавилась рыба. То семеня мелкими, мышиными шажками, то замирая и прислушиваясь, к казакам подошел устюжский купец Никифор. Его длинные уши торчали из-под шапки, глаза щурились в принужденной почтительной улыбке.
Он подсел к огоньку на каменистом берегу, спросил любезным голосом, довольны ли донцы отработанным рукобитьем. Казаки настороженно примолкли. Рябой с кривой леденящей улыбкой безмолвно пучил на купца усталые, с красными прожилками глаза, пристально всматривался в его лицо, пытаясь понять скрытый смысл спрошенного. Никифор, не дождавшись ответа, стал прельщать казаков дальнейшими выгодами. Рябой засопел, следя за каждым его жестом, оберегаясь чарования. А тот без намеков и расспросов предложил новое рукобитье по совести и справедливости. Он понимал, что в вольной Сибири обманом и хитростью никого не удержишь.
– Вы люди не тяглые, время еще раннее: лето впереди, – рассуждал, водя пытливыми глазами. – Помогите нам построить два коча и коломенку – мы заплатим как здешним работным. А надумаете – идите с нами в Мангазею для вольных промыслов. Мы к вам присмотрелись. Вы наши порядки уразумели.
– Куда тебе два коча и коломенка? – гнусаво пролепетал Кривонос шрамлеными губами изуродованного лица. – Еще и струги волокли от самой Перми?
– Воевода приказал один коч казне построить, – охотно ответил купец. – Сухой лес дал, верфь и жилье при ней… Нам одного только ржаного припаса надо взять с собой до тысячи пудов: там, куда идем, места не хлебные. А еще до Тобольска велено везти ссыльных и служилых с казенного обоза. Они тоже плотничать будут. Даст Бог, в три недели управимся – по полтине на работника заплатим. Пойдете на промыслы покрученниками[26] – дадим содержание, кошт и треть с добытой рухляди. Подумайте, казачки, и послушайте, что здесь сказывают про Мангазею и Енисею. Там, бывает, в собольих онучах с промыслов выходят. – Ласковая улыбка на румяном лице покривилась, а в рыбьих глазах мелькнуло что-то хитрое и торжествующее, будто купец уже прельстил казаков своими посулами.
Краснобай и дольше бы говорил сладкие речи, заманивая на промыслы, а значит, на дармовые работы в пути, но уловил, как что-то переменилось у костра: юнец в драном охабне заерзал, тощий и малорослый казачок, с безразличным видом глядевший в сумеречное небо, вдруг уставился на него немигающими глазами, да и седобородые будто обратились в один пристальный взгляд, а долгогривый Пентюх с таким вниманием стал разглядывать темляк сабли, будто собирался ее продать. Устюжанин в недоумении умолк. Рябой вскинул на него цепкие глаза, спросил резко:
– Какой казенный обоз? Не тот ли, где носатый немец в передовщиках?
– Тот самый! – кивнул купец и почувствовал, как облегченно расслабились казаки. Спросил удивленно: – Повздорили?
– Было давеча… Ничего, помиримся! А над словами твоими подумаем! – сказал Рябой.
Купец даже смутился от этакого равнодушия. Глаза его сверкнули. Говорить стало не о чем. Он принужденно пошутил о кабаках, которых в городе было несколько, дескать, хошь пляши, хошь скоромные песни пой – если есть на что веселиться, и ушел по своим делам.
Рябой, чтобы не попасть под его чарование, стал что-то нашептывать, посыпал золой следы и то место, где сидел гость. После сбросил зипун, осмотрел обложенную травами рану. Довольный стянувшимся рубцом, пробормотал:
– Вон как роса егорьевская помогла!
Ни Рябой, ни Кривонос не заговаривали о предложении ватажных. Поднялся Пенда, разминая ноги, подбросил плавника в костер. Пригревшийся у огня Угрюмка задремал. Сквозь сон он слышал, как приглушенно рассмеялся Третьяк и сказал:
– Будто у нас хлеб на утро есть… Не на верфь – так на паперть: вам про падение Адама петь, мне на клиросе – что велят.
У костра раздался тихий общий смех. Это Кривонос пошутил:
– Мне-то, красавцу писаному, и на паперти подадут! А вам… Не знаю!
Четверо снова приглушенно рассмеялись. А Угрюмка как-то чудно, боком, скатился к самой воде. Вдруг стало казаться ему, что рассвело. В реке на аршин завиднелся каждый камушек. И разглядел он в глубине красный сафьяновый сапог с загнутым острым носком, высоким каблуком и отворотом на голяшке. Вскочил на ноги, обернулся к костру – никого. Ясный день дышал в лицо прохладой и прелью соснового бора. Схватил Угрюмка жердину с рогулькой и стал вытаскивать добрую обутку. Аж под сердцем захолодело, как увидел и другой, парный сапог. Предвкушал – если окажутся велики, набью соломки и сношу, а если малы – поменяю.
Вот уж он схватился руками за каблук и за гнутый носок, потянул – и увидел, что вытаскивает из воды утопленника с косматой головой, в блещущем шишаке. Глянул на его синюшную рожу и обмер от страха, с ужасом узнав казака, что явил себя в пещере. Отпрянул Угрюмка со вскриком. А топляк вдруг жутко шевельнулся, сел, раскрыл влажные, сердито мерцавшие глаза и пронзительно захохотал.
– А-а-а! – заорал Угрюмка с бешено колотившимся сердцем. И очухался в ночи, у костра. Мигали звезды. Рябой с Кривоносом полулежа удивленно глядели на него. Пенда с Третьяком еще не ложились.
– Утопленник привиделся? – смеясь, спросил Третьяк. Угрюмка, подвывая и поскуливая, боязливо закивал. – Это мы про погибель Ермакову, прости, Господи, к ночи вспоминали.
Юнец зябко придвинулся к самому жару. Подрагивая и крестясь, распахнул охабень, выжигая причудившийся смрадный холодок, повеявший от мертвеца.
– Господи, помилуй! Господи, помилуй! – повторял дрожащими губами. – Спаси и сохрани!
– До полуночи сны дурные, ложные! – насмешливо зевнул Рябой. – Что видел-то?
– Ермака утопшего! – с обидой вскрикнул Угрюмка. – Ой-е-ей! – С пытливой надеждой взглянул на кичижника. – Из реки его выволок. А он – хохотать! Страшно-то как, Господи, помилуй!
– Знать, приглянулся ты атаману! В свои, сибирские казаки зовет!
– Нет-нет-нет! Не пойду! – со слезами визгнул юнец, отчаянно мотая головой.
– Зря! – подоткнул под бок зипун Рябой. – Атаманы, цари, известные бояре – к счастью снятся. А вот поп или кто из причта… Как ни увижу – так ранят!
– Бог через них знак посылает, чтобы берегся! – вступился за церковный чин Третьяк. – Не потому ранят, что попа видел, а поп снится к тому, что ранить могут.
– Берегись не берегись – от судьбы не уйдешь! – посапывая, пробормотал Кривонос.
– Все равно не пойду в сибирские казаки! – шмыгнул носом Угрюмка, суетливо сбрасывая затлевший охабень. Перепуганными глазами зыркал во тьму на черную реку.
– Бог призовет – не спросит! – рассмеялся Пенда.
– Может, спросил бы и смилостивился, – мягко возразил Третьяк. – Да только крестьянствовать с малолетства учатся, торговле – от родителей. А нам, сиротам, или в служилых, или в работных быть. Иной доли добиться трудно! – вздохнул затаенно.
В темноте к костру казаков пришел Федотка, брат передовщика Бажена Попова, посидел у огонька, перебросился словами с Угрюмкой и Третьяком, потом, поглядывая то на Рябого, то на Кривоноса, передал наказ ватаги: если казаки согласны строить суда – пусть идут на верфь в Меркушино. Там приказчик даст кров. Если нет – пусть устраиваются как знают.
– Что скажем, братья-казаки? – обвел друзей бравым взглядом Пантелей и сам же ответил: – Надо помочь! С Ивашкой свидеться или заработать на вольные харчи.
– Не пропадать же с голоду! – степенно согласился Кривонос.
В Меркушино, побродив среди ветхих землянок, подгнивших амбаров и кровельных навесов, под которыми сушился корабельный лес, пришел в себя после забытья и морока удалой казак Пантелей Пенда. Ранним утром он ворвался в тесную землянку, где отдыхали товарищи, и стал ругать здешних плотников – откуда, мол, руки растут. Глядя на него, повеселели Кривонос с Рябым. Зевали, посмеивались в бороды, поддакивали.
Не дожидаясь пайщиков, Пенда высмотрел удобные места близ воды, где можно заложить кочи и коломенку, приглядел лес что получше и взялся за работу, всех поучая, хватаясь за одно да за другое.
Устюжане и холмогорцы сперва зыркали на него с недоверием, но подчинились, потому что сами слонялись по верфи, не зная, с чего начать. По случаю они были рады и такому приказчику, а вскоре поняли, что Пендюх, как звали Пантелея меж собой, – человек мастеровой, хоть и казак. Холмогорцы стали величать его Пантелеем Демидычем, похваляясь, что Великому Новгороду для величания царского указа не надобно[27].
Складники перестали наделять казаков харчем, теперь ужинали все вместе. На завтрак и полдник хлеб они получали выпеченным.
После долгих переговоров с купцами и меркушинским приказчиком вернулся Пантелей в землянку затемно и сразу лег. Наутро он поднялся первым, товарищи в сумерках выпучили сонные глаза, глядя на него. Рябой как раскрыл рот для зевка, так и обмер.
– Чего уставились? – пожал плечами Пантелей, надевая колпак.
Рябой с Кривоносом были так поражены, что не сразу заговорили.
– Чевой-то, думаю, у Пендюхи морда – сикось-накось? – неприязненно постанывая, запричитал Рябой.
Скинул Пантелей колпак – волосы были обрезаны в кружок, выстриженная борода что кочерыжка и только родовой чуб свисал на щеку.
– Ирод! Что с собой сделал! – загундосил Кривонос. – Ладно бы патлы поповские остриг – бороду почто испоганил, как папист?
– В смоле вывозил! За пазуху прятал – не уберег! – беспечально ответил Пантелей. – Ничего, другая вырастет, даст Бог.
Здесь же, на верфи, изогнувшись коромыслом, крутился долгоносый еретик с казенного обоза. Он все у всех выспрашивал, поучал, путая слова, горячо спорил из-за всякой мелочи. При этом пытливо вперивался в работных пристальным взглядом начальствующего человека. Сердясь, плотники хотели поставить его распускать плахи нижним пильщиком. Но еретик черновой работы чурался. Пошлявшись без дела, всюду гоним, заперся в курной избе, и по верфи прошел слух – читает колдовские заговоры о вредительстве. Обоз ные стрельцы и промышленные прибежали к ссыльным монахам, варившим смолу, стали просить их освятить избу, где заперся еретик, а самого его окропить святой водой, чтобы не нес тарабарщины.
Вскоре Ермес стал работать ни с кем не споря и оказался неплохим мастеровым: покорно распускал лес, тесал плахи. Обозные решили, что его вразумили монашеские молитвы и святая вода. Но приказчик сообщил за соборным ужином, что окаянный подал воеводе чертежи новой верфи и быстроходных судов, а о себе велел сказать, будто учился в навигационной школе в Риме.
К Николину дню воевода учинил обход города, слободы и верфи. В окружении сынов боярских и приказчиков он въехал на верфь на гнедом жеребце. Возле часовенки Николы Чудотворца, покровителя всех православных сибирцев, всех плавающих, странствующих и в дальний путь собирающихся, сыны боярские сняли воеводу с седла.
Помолясь с обступившим его работным людом, он сел в сколоченное наспех кресло, покрытое медвежьей шкурой. Ему вложили в руки саблю в ножнах и ларец с царскими грамотами. Князь-воевода был немало удивлен, что за короткий срок на верфи появились остовы судов, и велел привести к себе строителей.
С благословения купцов и монахов устюжане с холмогорцами подвели к воеводе пред его светлые очи Пантелея Пенду с остриженной головой и бородой, едва скрывавшей щеки.
– Чей ты будешь, детинушка? – пристально разглядывал его князь. – Под чьими знаменами воевал? А ведь мы с тобой встречались. Не припомню где, но помню, что не дружески!
– Не прогневись, князь, виделись мы в Москве, в доме Пожарских на Сретенке. Брал я с казаками на саблю дом брата твоего, Дмитрия, да тын сломал, когда тот стал хвалить шведского королевича на Московский трон, – безбоязненно отвечал Пантелей, глядя на князя прямо и спокойно. – И вы, Пожарские, теперь в царской милости, и меня государь простил, что радел за него, как за Господа. Ради него и двор ваш ломал.
У воеводы болезненно сузились глаза и зардели щеки.
– Не меня – князя Дмитрия Михайловича, благодетеля вашего, бесчестили, – резко и досадливо укорил казаков за прошлое.
– Все не без греха! – усмехнулся Пенда с нетерпеливым вызовом в глазах. – Когда брат твой служил стольником царю Дмитрию, я при палатах в карауле стоял, – покривил губы воспоминаниями. – После венчания царя с Маринкой усадили их на трон, а они ногами до пола не достают. Я вроде и в угол отвернулся, и прыснул-то со смеху тихонько. А брат твой с другого конца залы услышал и спину мне кнутом распустил… А когда я его, порубленного, отбивал да тащил в монастырь, он повинился: дескать, в зале той из одного угла в другом всякий шепот слышен. Не высеки он меня тогда – с обоих бы головы сняли… – Печальная насмешка над прошлым не долго печалила лицо казака. – А после царского развода я гулящий! – добавил, мотнув головой и вскинув прояснившиеся глаза. – Пришел в Верхотурье из Перми с купеческим обозом.
Купцы со складниками прислушивались к разговору воеводы с Пендой и холодели от страха. Они уже лихорадочно соображали, как откреститься и отречься от работного, если случится княжеский гнев.
Задумался князь, нахмурив лоб, изогнул дугой черную бровь. Ветер, пахнувший с реки, шевельнул мягкий черный ворс собольей шапки, играючи, обнажил голубой подпушек. Ласковое майское солнце заблистало в каменьях перстней на его пальцах. Опечалился и он воспоминаниями. Кашлянув, не стал прилюдно говорить о прошлом, но предложил:
– Оставайся на моей верфи приказчиком! Положу жалованье как конному казаку и будешь в моей милости.
У дородного холмогорского передовщика да у купца-устюжанина, стоявших перед воеводой без шапок, только что испуганные лица стали печальными, как перед новым побором. Они уже оценили радение и мастерство Пенды. Бажен Попов от досады сморщился так, что кабы не красный облупившийся нос, его лохматые брови спутались бы с бородой. При таком соблазне и при таком покровительстве удержать этого самого казака, напоминая о рукобитье, мог только Господь Всемогущий. Уводили работного высокой милостью, с которой не им, купчишкам, тягаться.
Вдруг, к удивлению обозных, Пантелей сказал с поклоном:
– Благодарю, князь, за честь, связан я словом с устюжанами и холмогорцами, иду с ними промышлять в полночные страны.
Передовщик ушам не поверил, но обветренное лицо его разгладилось, лохматые брови поднялись высоко. Воевода же подумал, что на душе казака черным камнем речным лежит непрощенная обида, и сказал с укором:
– Твоя воля! А то, что было – быльем поросло. Видишь сам – ни ваша, казацкая, правда не взяла, ни наша, княжеская. А Божьей правды нам, грешным, не понять.
Пантелей опустил глаза. Откланялся. Не так, как принято на Дону, а ниже. По московским же понятиям – едва кивнул, к неудовольствию и опаске купцов. И отошел он в сторону, снова перебарывая печаль пережитого, которую, казалось, уже сбросил с груди.
К князю подвели Ермеса в таком коротком заморском кафтанишке, будто ему собаки полы отгрызли. Тот откланялся на фряжский манер, помахав шляпой со сломанным пером, поскакав на цыпочках, как черт на копытцах, переломился в поясном поклоне, увидел, что из дыры в носке сапога вылезла солома, стал пальцем всовывать ее обратно. Среди сынов боярских пронесся ропот. Им показалось, что еретик насмехается над собравшимися честными христианами. Но князь развеселился, глядя на пленного. Рассмеялись и они, угодливо сменив гнев на милость.
– Ознакомились мы с твоими челобитными, – приветливо кивнул ему воевода. – Сколько времени надобно тебе, чтобы перестроить верфь?
– Месяц! – на латыни коротко ответил ссыльный и добавил с важным видом: – Мои корабли будут ходить быстро – в три, четыре раза быстрей здешних.
– Сколько денег просишь на те работы? – тоже на латинском языке протараторил князь.
– Тысячу талеров!
– Он берется строить большегрузные суда. Но как их до Иртыша вести по мелководью? – спросил по-русски князь, обернувшись к приказчику.
– Надумал канал рыть! – насмешливо ответил тот. – Или сплавлять на надутых бычьих кожах.
Воевода махнул рукой, и сын боярский отпихнул заморского мастера в толпу. Тут воевода приметил среди работных инока в подряснике. Указав на него пальцем со сверкнувшим перстнем, тихо спросил приказчика:
– Кто это?
– Ссыльный, Герасим, – сказал тот, учтиво склонившись. – Следует до Тобольска. Тамошние церковные власти решат, куда его определить на духовную службу.
Подведенный к воеводе монах взглянул на него, сверкнув светлыми, как драгоценные камушки, глазами, и поклонился по-монашески низко, пальцами двух рук касаясь земли.
Передав саблю и ларец с грамотами сынам боярским, князь встал из кресла, поглядывая на монаха удивленно и опасливо:
– Не ошибся! А ведь столько народу прошло перед глазами с тех пор! Думал, грешный, что тебя умучили. Помню, сильно прогневил ты государя, храни его Господь. Патриарха – и того более.
Ни у того, ни у другого не повернулся язык напомнить о винах инока, обличившего патриарха Филарета, что получил волю и митрополичий посох из рук одного царя, им же обозванного самозванцем, патриаршество – от другого самозванца. Благодетеля своего, царя Шуйского, предал, паписту-ляху крест целовал…
– Простили и сослали! – просто ответил монах, не зная, можно ли прилюдно напоминать князю о том, где они виделись.
Воевода земского ополчения князь Дмитрий Михайлович Пожарский под Калугой сделался болен и передал князю Дмитрию Петровичу власть над войском. Но подначальная ему рать из черемисов и татар перед боем разбежалась. Молодой царь и его двор, ненавидевшие Пожарских, так разгневались, что князь стал узником в Троицком монастыре и содержался в одной келье с монахами.
Не посмел и верхотурский воевода вспоминать о былом заточении при подручных людях, но и не отвернулся от знакомого, за милость к которому мог и нынче поплатиться. Движением руки подозвал стоявшего у кресла сына боярского и велел передать монаху добротную однорядку, стоившую дороже хорошего коня. Но не сейчас, а на Николин день.
Удивляясь великой княжеской милости, дети боярские стали обносить работных медом, поднесли чарку и Ивашке Похабе.
– Благодарю, князь, спаси тебя Господь и брата твоего Дмитрия Михайловича, – сказал он, принимая чарку. Выпив, кивнул инокам, Герасиму с Ермогеном: – Не узнал! Ну и ладно – без того велика честь.
Он не мог не сказать доброго слова о сроднике воеводы князе Дмитрии Михайловиче и о земском предводителе, купце Минине. Это их хлопотами была дана от царя воля холопам и кабальным, бившимся в земском ополчении. Их заботой шел Ивашка в Сургут-город, а не к богатому мужику на холопскую казнь.
Ссыльный Ивашка Похабов жил в одной землянке с казаками. Была она тесна. Из очажка дым по-черному поднимался сквозь решетку из прутьев, на которую бросали мокрую обувь и одежду, клубился по низкому потолку и выходил через дверь.
Вечерами передовщик бил в клепало[28], висевшее у часовни. На верфи затихал перестук топоров. Умывшись, работные собирались у ватажного костра. Из котлов шел дух каш и мяса, хлеба и кваса. Приварки раскладывали парящую еду по чуничным котлам. Кто-нибудь из иноков по знаку пайщиков читал молитву Господню. Пели все, а Третьяк громче всех, притом закатывал глаза, любуясь своим голосом.
Получив благословение, работные садились по чину и братски переламывали хлеб. Ели неспешно и благостно, по пятеро-шестеро, черпая ложками из котлов и отщипывая хлеб от караваев. Утолив голод обильной едой и питьем, ждали, когда доедят другие. Торопливость за соборным столом осуждалась. Поднявшись разом и помолясь, сытый народ расходился по землянкам и избам для отдыха, молитв и веселья. Многие из работных, ополоснув ложки и котлы, устраивались возле ватажного костра, поджидая, когда отдохнет и наберется сил старик-сказитель.
С рассветом все начиналось заново. Работали купцы-пайщики, промышленные складники и покрученники, работные, стрельцы и ссыльные монахи. Кашеварил сам передовщик, не доверяя другим или имея такое призвание. Он властно, со знанием дела приказывал, что в какой котел класть, и снимал пробу. Баюн, пленный Ермес и две меркушинские старухи были у него в приварках.
Ермес то и дело тыкал себя пальцем в грудь и лопотал, что он учился в поварской школе в Стокгольме, служил кулинаром у полковника Гносевского. Все, что ни готовил Бажен, казалось ему пресным. Ермес доваривал и досаливал свой котел, из которого ели еще и литвины с бритыми лицами, но каждый из своей чашки. Окаянный пробовал угощать из своего котла русских работных и убедился: что для европейца изысканно, для русича – отвратно.
Паписту не верили, строго следили, чтобы при варке над котлом не наклонялся, слов непонятных не шептал и сам бы в варево ничего не клал, не подсыпал. Старец, бывало, всхрапывал возле очага, но стоило Ермесу приблизиться – тут же открывал выцветшие глаза.
Пантелей носился по верфи, поспевая сразу в нескольких местах. Кривонос, Рябой и Третьяк называли его Пендой, обозные да работные верфи величали Демидычем. Пермяки звали Пентерей[29]. И так радел он за строившиеся кочи, что не всегда приходил ночевать к казакам.
Кривонос с Рябым были в большом почете у приказчика. Тот приставил к ним молодых учеников из города. Третьяк на всяких работах старался держаться поближе к монахам, услужить им и послушать их, часто уходил с ними на всенощные молитвы. Угрюмка и работал, и спал рядом с братом. Но, оставшись с ним вдвоем, скучал. Ивашка или наставлял его на ум, или пускался в рассуждения о правде жизни, наслушавшись монашеских разговоров.
Угрюмка с затаенной горестью поглядывал на него из угла. Все казалось ему: вот-вот придут на ум нужные слова, он их скажет и облегчит душу. Но вместо этого, раз за разом что-то перебарывая в себе, кусал губы.
И раз, и два наказывал Ивашка своему братцу меньшому здороваться со старшими первым, а не ждать, когда те его заметят. Но опять пожаловались работные: стоит, дескать, юнец, пучит на них глаза, а не кивнет даже.
Как ни сдерживал себя старший брат, как ни старался быть ласковым и спокойным, однажды вспылил, крикнув резко:
– Ты что же казаков позоришь!
Угрюмка втянул голову в плечи, опасливо взглянул на него зверьком с кривящейся улыбкой на посиневших губах, и обиделся втайне, больше чем на слепцов, много издевавшихся над ним.
– Ты объясни! – сдерживая себя, хрипел Ивашка. – Почему перед купцами хвостом метешь, а от честного люда морду воротишь?!
Не знал младший брат, что ответить, лишь краснел, бледнел и отмалчивался. Может быть, ждал, что старший обнимет и попросит прощения за все его поганое детство. Работным он стал кивать и кланяться при каждой встрече, будто невестке в отместку. Те только вздыхали, поглядывая на него жалостливо: «Сирота!»
По вечерам Угрюмка делал вид, что слушает брата. И все как-то молчаливо улыбался ему, кривя уголки губ, и заставлял себя думать, что брата доброго дал ему Господь. Только тот вспыхивает, как береста, да трещит, как хворост. А так ничего. Чаще он молчал, зевал, ложился спать рано, а уснуть не мог. Потом стал убегать к обозной молодежи для шалостей и веселья, оставляя брата наедине с мыслями.
Ивашке становилось страшно за них за обоих. Вспоминались непутевые родители, жуткий сон под выстывшей печью на обгорелом подворье. И от бессилия хотелось ему задрать по-волчьи голову и завыть.
Здесь, в Меркушино, у ворот Сибири, станичники почувствовали, как без споров и страстей пролег между ними дружеский, ласковый разлад: дружба, родство – дело святое, торги да промыслы – дело иное. Рябой, поглядывая на товарищей, старчески шевелил впалыми щеками, кряхтел, постанывал от былых ран. Кривонос мучился душой: болела она у старого казака за братьев. Это он когда-то отбил у озверевших мужиков тощего юнца, напомнившего ему свое сиротство. Избитого и заморенного Ивашку везли на казнь за то, что, спасаясь от голодной смерти, продал себя в холопство, а отъевшись, бежал.
Отбил его Кривонос не по правде – из неприязни к тамошнему народишку. Но случилось, что стал ему юнец вроде сына. Перебарывая себя и смиряясь перед неизбежным, он и начал разговор, которого все ждали и смущались.
– С Хопра-притока шли мы тебя спасать, – напомнил Ивашке, глядя на него налитыми тоской глазами. – Не леший завел – душами заплутали. Теперь уж каждый сам по себе. И я, грешный, думаю: коли не пойдешь ты назад, мне-то зачем на Дон возвращаться? Останусь здесь, на верфи. Вдовицу найду, даст Бог, или при церкви доживу в тишине и покое.
– Меня на Дону никто не ждет! – вспыхнул было, огрызнулся Ивашка и спохватился: – Прости, Христа ради! За добро твое не отслужил, старость твою не могу поддержать. Здесь неволей своей остаться с тобой не могу. В бега, на Дон – не хочу. И не могу. Позвал бы за собой – не пойдешь.
Понимали казаки, что оказались на распутье. Каждый выбирал свой путь, а куда он приведет – ведомо лишь Господу. Одно было ясно: помолясь друг за друга, отдав крестное целование, идти им дальше врозь. Свидятся ли еще на этом свете – неизвестно. Но там, на милостивом Суде Божьем, все равно встретятся и поведают друг другу о прожитом.
Набрался духу Ивашка, понимая, что товарищи ждут его слова, потому что ради него оказались здесь, стал говорить – то досадливо, то высокопарно, то приниженно, – что царским указом и Божьим промыслом дойдет с ватажными до Оби-реки, а после, при каком-нибудь казенном обозе, – к месту службы в Сургутский острог. И другого пути ему нет.
– Кто со мной пойдет – буду молить воевод о вас. Возьмут. В Сибири служилых мало, – говорил, не надеясь, что товарищи откликнутся. Иначе на добро их добром ответить он мог только молитвами.
Все молчали, опустив глаза. Это не удивляло Ивашку. Но молчал и Угрюмка: сидел насупившись, не поднимая глаз, терпеливо пережидал тягостный разговор.
– На Тихом Дону Ивановиче у меня родни не счесть! – вздохнул Рябой, старательно ополаскивая ложку. – Бог дал родиться казаком, им я и предстану на Суд. Господь не любит, когда о других пекутся, своих забывая… Да и степь снится. Здесь такого синего и ясного неба никогда не бывает. Соловьев, сверчков услышать хочу… Говорят, царь опять пожаловал донцов дарами и знаками отличия. Куда ему без нас!
Как ни трудна была сиротская судьба на Руси, не сравнить ее с униженной долей незаконнорожденного. Третьяк родился в семье торгового человека, уехавшего по делам на полтора года. Мать тайно жила с посадским вдовцом и прижила от него третьего сына. Когда вернулся муж, она оставила семью и ушла с младенцем в посад. Не скоро и не дешево удалось найти попа, который окрестил Илейку. На том родной отец посчитал свой долг исполненным и вскоре умер, а мать, бросив сына в его семье, постриглась в монастырь и там вскоре тоже умерла.
И остался Третьяк без приюта, без роду и племени, унижаем чужими и родными хуже холопского сына. Едва смог себя кормить – стал ходить по наймам. У нижегородского человека продавал яблоки и горшки. Ездил сидельцем в Москву, служил в кормовых казачках у разных хозяев. На судах плавал по Волге от Нижнего до Астрахани.
Житье бурлацкое ему быстро надоело. Очутившись в Казани, он нанялся вместо племянника стрелецкого пятидесятника и ходил в поход против турок. Военное житье ему нравилось – не нравилась зависимость. Жизнь научила надеяться на чужую помощь и искать ее. И пристал Третьяк к вольным казакам: подружился с двумя потомственными станичниками и через них вошел в казацкий круг.
Когда он вспоминал свое житье, даже бывальцы не верили – нипочем, дескать, в его годы всего, о чем говорил, не поспеть пережить. Все что мог Третьяк – это достойно нести в себе свое страдание, от позора рождения до телесного уродства. Ничего другого Господь ему не дал, взыскивая за грехи родителей.
Увидев Сибирь, он не думал о возвращении. Почем хлеб служилого человека – знал. С интересом слушал всякие небылицы о дальних странах, но не они прельщали. Втайне от казаков манила его судьба, для которой по малорослости и неказистости своей он меньше всего подходил: хотелось пахать землю, называться мужиком, жить в крестьянстве крепким домом и большой семьей, где он, Третьяк, был бы и кормильцем, и милостивым государем. И каждый год мечталось радоваться великому чуду, как мать сыра земля рождает росток от брошенного человеческой рукой семени. В многогрешной военной жизни не открылось Третьяку никакой иной правды, кроме крестьянской: матери-земли, рождающей хлеб, и матери-жены – рожающей землепашцев. И смутно блазнилось сироте, что где-то там, за урманом, вдруг отыщется такая доля и ему.
Угрюмка с завистью поглядывал на старшего брата и думал, что тот в своей жизни и погулять успел, и по палатам кремлевским походить, и в застенках царских посидеть. А что Бог дал ему, кроме нужды и унижений? А ничего! Без Ивашки он и в станице – нищий бродник, которого всякий может захолопить, и здесь, на сибирской украине, не находится возможности зацепиться за сытое и надежное место. И несет сироту бурным течением неизвестно куда из-под самого Серпухова. Но там он был хотя бы своим, посадским сиротой.
Вспоминая, на какую долю увез его брат со двора горожанки-дьяконицы, Угрюмка так озлоблялся, что даже лицо его кривилось. «Не пойду в Сургут нахлебником при ссыльных!» – решил твердо. Знал наверняка: сперва стань богат, а после уже, безбедным, в славе, с миром в душе, служи царю или Господу. Нет пакостней и продажней людей, чем люди голодные. Так думал он, почтительно слушая казаков, ни словом, ни взглядом не выдавая сокровенных мыслей: до Тобола-города было далеко. А хотелось сказать со светлыми слезами: «Не брани ты меня, милый братушка. Отпусти ты меня в путь-дороженьку. Видно, так на роду мне написано, видно, так на судьбе мне завязано – плыть далече, в страну полночную».
Пенда тряхнул родовым чубом, поднялся, заговорил обдуманно, с лицом спокойным и уверенным в своей правоте.
– Там, – кивнул на закат, – нас победили! Хоть и воюют до сих пор, а конец уж ясен. Не ляхи с литвинами, не рейтары, а хитроумные бояре с их помощью победили свой народ. Теперь они станут требовать себе шляхетских вольностей, как в Речи Посполитой, а нам – холопства навек. – Он обернулся с печальной усмешкой к Рябому: – Ласкает, говоришь, царь донцов? Привязанного быка хозяин так ласкает, занося нож, чтоб не дергался. А казаку Бог жизнь дает, чтобы правде послужить, честь и славу добыть! Какая честь в войне со своим же народом? За счастье почел бы я голову сложить за Русь, за святые наши церкви. Да как? Не сами же бояре будут за свои вольности сабельками махать – нас и пошлют против своих же. Дураки хитрыми и лживыми не бывают. Куда нам с ними тягаться – все равно обманут! В Сибири служить? – обернулся к Ивашке. – Тем же боярам через воевод и приказчиков покоряться. Своей кровью их победе славу воздавать! Нет! Поищу-ка я чести на новых, неведомых землях, как атаман Ермак. Так оно верней!
За всю дорогу от Москвы не говорил он дольше и складней, чем теперь. И вот сбил на ухо колпак, поклонился и, не дождавшись, что скажут казаки на его слова, вышел из землянки. Дел было много.
От зари до зари не утихала верфь. Кривонос работал в окружении посадских учеников, наслаждаясь почтением, поучая плотницкому делу и жизни. А как затухала заря темная, вечерняя, работные люди зазывали его к себе на ужин, а то и на ночлег, который у здешних жителей был обустроен лучше и удобней, чем у ватажных. Третьяк уходил к монахам. В землянке оставались Рябой, Угрюмка да Ивашка. Душевных разговоров у них не получалось, и была одна радость после трудного дня – послушать сказы баюна.
Старичок, исполняя возложенное на него тягло, устраивался у костра, поднимал подслеповатые глаза к черному небу, где молодой месяц средь чистых звезд показывал золотые рожки или луна укрывалась темным облаком, потом он крестился непослушной рукой и продолжал песнь про честного атамана Ермака Тимофеевича, про удалую дружину русских воинов, которые шли в Сибирь пограбить да устрашить местные народы, приносившие много вреда восточной стороне Руси, а добыли здесь славу великую.
Слушали промышленные и работные люди, как безбедно зимовало в Тюмени Ермаково войско. Но не склонились казаки ко греху от сытости и продолжали отмаливать пред Господом свои вины. Ермак же Тимофеевич молился непрестанно и пуще других чувствовал свои прежние согрешения: только и думал – как избыть Божий гнев.
И не оставил его милосердный Господь, в Святой Троице славимый Бог наш сведал сокровенные мысли и смилостивился, вложив в сердца атамана, есаулов и казаков добрые помыслы – идти без страха против басурманского царя Кучума, который православным христианам много горя принес.
И услышав глас свыше, Ермак с товарищами воздал хвалу Господу, и Божьим соизволением оставили они сытый город, поплыли стругами вниз по Туре-реке, во владения Кучумовы, хоть и слышали они, что собрал хан огромное войско. Ермак же в пути поддерживал ратный дух товарищей, говоря: «Не множеством полков победа дается, а помощью свыше».
И там, где впадает Тура в реку Тобол, в укромном месте подстерегали казаков шесть татарских мурз с войсками. И напали они на струги казацкие. И вступили казаки в бой без страха, и бились несколько дней, и взяли такую добычу, что не смогли везти ее с собой и зарыли богатства в землю. Сказывают, до сих пор ищут тот клад христиане и басурмане, а найти не могут.
Поплыли казаки дальше по Тоболу и дошли до устья реки Тавды, что впадает в Тобол по левому берегу. Но тамошние народы не дали им плыть вольно: возле Бабасанского юрта[30] встретило казаков войско ханского сына, царевича Маметкула.
Ертаульный[31], передовой отряд без страха вступил в бой и бился дерзко, пока не подошла казацкая рать. Ермак же бросился в сражение с такой отвагой, что кровь полилась рекой, и поле покрылось горами тел, и вражьи кони не могли пробиться сквозь них.
Когда руки казаков обвисали от усталости и не могли уже поднимать сабли, являлся им святитель Никола и ободрял, и прибывала сила в плечах. И шла непрерывная сеча пять дней. На шестой – басурмане дрогнули, гонимые гневом Божьим, побежали вместе с царевичем.
Миловал Бог воинов Ермака, но на мученика Афиногена[32], когда и пташки Божьи вспоминают о зиме, снова призадумались они: от земли Русской ушли далеко, войско казацкое поредело, а сила Кучумова только собирается со всех концов земли Сибирской.
Там, где остановились они для отдыха и подкрепления, начиналась старая дорога на Русь через Югорский камень. Идти дальше в глубь Сибири – путь никому не ведом. Стоять на месте – быть в беспрерывной осаде. Собрались казаки на круг, стали думать и спорить меж собой: те, что хотели испытать судьбу в Сибири, говорили одно, те, что хотели вернуться, – другое.
Дольше всех думал храбрый атаман Ермак Тимофеевич и, выслушав товарищей, поклонился Честному Кресту, Спасу, братьям по оружию. Боевая труба вострубила, и сказал он: «Ой вы, братья, атаманы и казаки – донские, волжские и терские! Примите решение здравым умом, чтоб нам не выбрать себе доли горькой и бесславной: на Волге нам жить – разбойниками слыть, на Дону нам жить – опальными быть, и здесь, в Сибири, ни покой, ни покорность народов не обещаны. Не шуточное дело мы содеяли, как разбили лодку-коломенку и разграбили казну государеву да из мушкета немецкого пулькой свинцовой убили посла царского. И теперь, как вернемся на Русь без победы, государь на нас разгневается. Разгневается и велит всех нас перехватать – по городам разослать да по тюрьмам. А меня, Ермака, велит повесить, потому как великому мужу и честь велика. А ежели мы государю нашему повинную принесем с землицей Сибирской, царь над нами смилуется и простит нам вину великую».
Выслушали атамана казаки и решили единодушно – Честной Крест друг другу целовать, чтобы о возврате на Русь не думать, на врага идти без страха, умереть друг за друга, но добыть славу великую…
Сморил сон старца, и работные стали расходиться для ночлега. Пантелей Пенда с Ивашкой Похабой долго еще сидели у ватажного костра, глядя незрячими глазами на затухающие угли.
– Вот ведь, – вздохнул Пантелей, – тоже грешны были. А Бог помиловал, наградил и прославил.
– И я говорю! – встрепенулся Ивашка. – Хватит отчину разорять. Служить ей надо. Цари меняются – народ и земля остаются!
– Самой земле только крестьянин служит, другие – через воевод, через бояр и царя, – вдумчиво возразил Пенда. – Разве мы Дмитрию или Михейке неверно служили? И не заметим, как царь да бояре бесам предадутся. Через них и сами станем антихристу служить.
Уставился Ивашка на товарища мутными глазами, не нашелся что сказать. Вскочил на ноги и закричал с негодованием:
– Да не так все! Ты у монахов спроси! Они умные. Они скажут!
Пенда не дрогнул, не шевельнулся, задумчиво глядя снизу вверх на товарища:
– Ответ-то перед Господом самому за себя держать! – проговорил тихо и внятно. – На монахов не сошлешься!
В конце мая, на святого Василиска, когда на Руси начинают петь соловьи, суда были готовы к спуску. Слободской и городской священники освятили их, работные с молитвами спустили на воду. Устюжские и холмогорские купцы, как принято от века, накрыли столы для всех работавших, выставили брагу и мед, угощали кашей и рыбой.
Прибывший на освящение судов воевода князь Пожарский осмотрел новые кочи, белой ручкой, унизанной перстнями, поколупал смоленые борта, каблуками сафьяновых сапог потопал по палубам. Затем повеселевший воевода спустился на берег, сел в приготовленное кресло, сказал, что доволен работным людом, и пригласил всех желающих под свою милостивую руку для работ при городе Верхотурье, в слободы и посад.
Старые казаки Рябой с Кривоносом встали из-за стола и поклонились ему. С завистью глядел на них Угрюмка, но сам не посмел подняться, холодея от мысли встретиться взглядом с Ивашкой. А сердце его опять сжималось от жалости к самому себе, слезы готовы были покатиться из глаз.
Князь отпил меду из одной братины и послал ее начальным да работным с верфи, отпил из другой – послал купцам-пайщикам да своим приказчикам.
Работные же подняли чаши за здоровье милостивого князя, справедливого воеводы, за его пособников – приказчиков, детей боярских и всех верхотурских людей.
Вот и пришла пора расставаться. Отстояв литургию, Ивашка слезно поклонился Кривоносу, обещая всю оставшуюся жизнь молиться за него, а доведется первым предстать перед Господом, то замолвить слово за благодетеля.
И Кривонос смахнул благодарные слезы с посветлевшего лица, на котором разгладился даже сабельный рубец, благословил воспитанника благословением родительским, отпуская в дальние края и в суровую жизнь. Зазвучали слова, которых Кривонос никогда прежде не произносил, и показалось Ивашке, что напутствует его не казак, а родной дед – почудился вдруг его полузабытый голос.
– Будь ты моим словом крепким укрыт в ночи и в полуночи, в часе и получасье, в пути и дороженьке, во сне и въяве – сокрыт от силы вражьей, от нечистых духов сбережен, от смерти напрасной, от горя, от беды, сохранен на воде от потопления, в огне от сгорания. А придет час твой смертный, ты вспомяни, мое дитятко, про любовь родительскую, про хлеб-соль, обернись на родину славную, ударь ей челом семерижды семь, распростись с родными и кровными, припади к сырой земле и засни сном сладким, непробудным.
Откланялись казаки своим старикам, Рябому с Кривоносом. Ватажные с молитвами оттолкнули от берега груженые плоты, струги, коч и коломенку, осторожно вышли на проходимые глубины реки. А как прошли они мелководье, купеческие товары и ржаной припас, купленный в Верхотурье, перегрузили с плотов на коч, догрузили коломенку. Вскоре увидели они за кормой черный дым до самого неба. Это горел город Верхотурье.
Холмогорцы с устюжанами налегли на весла, помогая течению нести суда, втайне радовались, что миловал Бог вовремя убраться с верфи. После пожара всех бывших в городе купцов ждали большие поборы в пользу погорельцев. Чтобы не отвернулась от ватаги удача за радость греховную и не оставил Бог милостью, купцы велели монахам наложить на всех десятидневный пост и следить, чтобы пустыми разговорами народ себя не тешил, а только молился.
К кочу то и дело подходили на лодках местные жители и вели мену. Они рассказывали, что Туринск возник благодаря ямщикам – как ям между Верхотурьем и Тюменью. Здесь, на месте юрта мурзы Епанчи, сначала была устроена ямская слобода, позже поселились казаки и пашенные крестьяне.
Крестясь на купола городской Борисоглебской церкви, поминая в молитвах первых русских святых князей Бориса и Глеба, которые и при явной угрозе для своей земной жизни не подняли мечей на единокровного брата, холмогорцы, устюжане, промышленные, ссыльные да служилые неспешно плыли по реке и с печалью вспоминали свою вздорную, скорую на распри родню.
Мелкая своенравная Тура несла караван к полноводному Тоболу. Один из стругов шел впереди, промеривая глубины, за ним осторожно двигался тяжелый коч. По знаку передовщика люди на коче с криками носились с борта на борт, отталкиваясь шестами то от одного берега, то от другого.
За кормой коча шла тяжелая барка-коломенка с ржаным припасом. На ней плыли казаки. И не было здесь ни криков, ни суеты. На корме сидел Пантелей Пенда, на носу – Ивашка Похабов, по бортам – Третьяк с Угрюмкой да ссыльные усатые черкасы. Все они лениво и неспешно поглядывали по сторонам, прислушиваясь к плеску воды на перекатах. Время от времени кормщик указывал рукой в ту или иную сторону. Казаки упирались шестами в дно или налегали на весла. Выйдя на стрежень, двое подгребали, удерживали судно от разворота, остальные ложились на мешки с рожью и подремывали.
Вот и прибыли в самый старый из русских город Сибири – Тюмень. Закончив дальний путь, здесь сошел на берег тюменский казак-ермаковец Гаврила. Как с родственником, простились с ним ватажные и обещали, если будут возвращаться тем же путем, навестить – живого или мертвого, а до той поры молиться за него.
Обнял старик Угрюмку да Третьяка, наложив на них крестное знамение рукой, рубившейся за атамана Ермака. Он уже знал, какую долю выбрали молодые, проворчал тому и другому на ухо:
– Не дело гоняться за богатством. Служить надо – остальное тебя само найдет!
Обнял седого ермаковца Пантелей. Поклонился ему по-казацки, не снимая шапки, и простился. Не было у него мыслей о возвращении.
Купцы не стали торговать в Тюмени, поспешая в полуночные страны: высадили на берег старого казака, предъявили грамоты тюменским целовальникам да сынам боярским и продолжили путь.
Дородный Бажен Алексеев сидел на корме коча и обиженно хмурил нависавшие на глаза брови. Купцы-пайщики переругались между собой. Поповская родня перегрызлась с москвитинской – и все из-за неумелого кормщика. Уже к полудню сплава по Туре сам передовщик был чуть жив от усталости, холмогорцы с устюжанами валились с ног, и все же по нескольку раз в день им приходилось сниматься с мели.
Кормщиком на коч избрали Никифора Москвитина, длинноухого, с редкой бедняцкой бороденкой устюжского купца-пайщика. Всегда настороженный, он внушил раздосадованным промышленным уверенность, что будучи кормщиком, на мель коч не посадит.
И правда, едва Никифор начал править гребцами, отмели стали встречаться реже. Ватажные даже подняли парус, но ветра не было, и парусина полоскалась на мачте. Гребцы сонно гладили веслами воду, слушали плеск волны, редкий скрип уключин, отдаленное пение птиц. Наслаждаясь летним солнцем и прохладой реки, они то и дело впадали в такое блаженное состояние безвременья, что не хотели уже ничего другого, только бы сидеть так в полудремотном забытьи до скончания века.
Но юный Федотка Попов, сколько на него ни шикали земляки, сперва тихо и ненавязчиво, потом громче стал приставать к посапывавшему сказителю:
– Дед! Не здесь ли Кучум цепи натягивал, чтобы не пустить Ермака? Вроде яр? Только невысокий?
Старичок, дремавший на солнце, встрепенулся, задрал голову, помигал подслеповатыми глазами, спросил, который день плывут от Туринска и не дошли ли до Иртыша. А выслушав ответ, зевая и постанывая, стал моститься, чтобы снова лечь.
– Дед, мы, наверное, на устье Туры. А может быть, в Тоболе: впереди вода до края, другой берег далеко.
– Пологий берег-то? – спросил старик.
– Пологий! – отвечал Федотка.
– Тобольск не скоро! – старичок снова сел. Нахохлившись рассерженным воробышком, поежился, пошмыгал носом в белой бороде и стал выискивать в голове слова былины про эти места. Гребцы бросали на юнца рассерженные взгляды, с сожалением стряхивали с глаз блаженную дрему.
– Чего пристал? – проворчал кто-то из холмогорских родственников. – Будет вечер – будут сказы! Надо было прошлый раз слушать.
Но старик, путавшийся во времени, уже услышал в себе вещий голос и заговорил нараспев о том, как на святого преподобного Макария[33] вышли струги казацкие на устье Туры-реки, что впадает в Тобол с правой стороны. И встретилось им главное ханское войско, где крутой, высокий, длинный яр.
Увидел на том яру Ермак силы несметные, и дрогнуло его сердце. Взмолился он ко Господу, и была его молитва услышана: знамя с образом Спаса само собой поднялось с места и пошло левым берегом по течению реки. Увидев чудо, воспряли духом казаки, двинулись за знаменем без страха. Бесчисленные стрелы летели в них и не причиняли вреда. А как миновали они опасный Долгий яр, так знамя снова встало на свое место в струге.
Увидел хан Кучум, что силой казаков не одолеть. Стал думать хитрость. У Караульного яра, где Тобол узок, а берег крут, велел протянуть через реку цепь железную и поставил при ней большой отряд. Сказывают, будто Ермак, узнав о засаде и ханской хитрости, оставил в стругах по одному только кормщику, а вместо казаков рассадил чучела из хвороста. Сам же с остальными сошел на берег и напал на врага с суши.
А татары в то время видели, как над плывущими стругами засверкало облако. И в том облаке, в сиянии чудном, появился царь, престол которого несли на плечах крылатые воины. И держал тот царь в руке обнаженный меч и грозил им. И если кто в видение стрелял – отнимались руки, а на луках рвалась тетива. И напал на басурман великий страх. И побежали они.
Ермак же с казаками дошел до Иртыша. Здесь, возле устья Тобола-реки, жил знатный татарин Карача. На первый Спас, на святую Авдотью-малиновку, напали казаки на его улус и добыли еды вдоволь и богатство всякое. Захватили они много золота, серебра и драгоценных камней, хлеба, скота и меда. И, благодаря Господа за победу, решили легкий Успенский пост держать сорок дней, чтобы вымолить у Бога другие удачи и помощь.
На Покров Пресвятой Богородицы хан Кучум вышел на битву с новым войском. Ермак с казаками, помолившись, двинулся навстречу без страха. И долго бились они, а устав, отступили друг от друга без победы. И так стояли войска одно против другого три недели. Сделался вскоре лютый холод, и казаки, чтобы не замерзнуть, решили напасть на врага – победить или погибнуть.
Крикнув «С нами Бог!», бросились они на войско Кучумово и, потеряв в бою сто семь товарищей, разгромили его. Были в том бою у хана Кучума пушки. Но казаки словами заповедными заговорили их, и пушки стрелять перестали. Сказывают, хан в ярости сбросил их с высокого берега в Иртыш. Спасая жизни, бежали с поля боя хан Кучум с царевичем Маметкулом.
Заперся хан в своем городе Искере. И было ему видение, будто окружили его крылатые воины и убеждали покинуть страну, которой правил не по праву. Собрал хан драгоценности и на другую ночь бежал с близкими людьми и мурзами.
Казаки же на святого Дмитра, когда воробей и тот под кустом варит пиво да поминает всех павших в битвах за Русь, подошли к ханской столице, чтобы взять ее боем. Но Божьей волей она была пуста.
Так славный казак Ермак Тимофеевич со своими атаманами и есаулами сел в Искере, стал править землями сибирскими и многими народами. И послал он к русскому царю есаула Ивана Кольцо с казаками. Те отправились в зиму на лыжах и нартах по Волчьему пути, через Тавду и Чердынь…
Запал у старца заканчивался, последние слова он напевал, позевывая и шамкая. Белая голова мотнулась, свесилась на грудь. Но настырный юнец, с любопытством поглядывая по сторонам, не отставал:
– А после на том месте Тобольск срубили?
Главный пайщик разлепил сомкнутые веки, раздраженно пошевелил бровями и ответил братцу:
– Тобольск-город на Иртыше строил письменный голова Данила Чулков. Это на двенадцать верст ниже татарского Искера.
Бажен бывал в Сибири и был наслышан о Тобольске. Он посмотрел на берег, потянулся, расправил по груди густую бороду.
– А что старый Искер и здешний народ? – теперь стал приставать к брату Федотка.
– Искер – не старый был город, а татары – пришлые, – Бажен повел дородными плечами, потер затекшие руки. – Прежде тут жили чудские народы и другие – неведомого имени. Сказывают, ушли в землю бесследно.
Старик-баюн посапывал, приткнувшись головой к мешку с душистыми сухарями. Гребцы бодро поглядывали вокруг, веселей двигали веслами. К Федотке с любопытством придвинулся конопатый устюжанин Семейка Шелковников. Кто-то из холмогорцев на носу коча хотел уже запеть, но оборвал песню на полуслове, кашлянул и притих. Поддержанный вниманием ватажных, Федотка спросил брата:
– Как уходят в землю? Она же твердая?
– А как казаки норы роют, прячутся и живут в них? – усмехнулся в бороду Бажен. – Залезли в погреба да в ямы, стали копать, а кровлю над собой подожгли, чтобы других следом не пустить. Так, наверное.
– Зачем? – опять спросил Федотка.
– Может, Бога прогневили, – пожал плечами брат. – А может, хотели переждать лихие века. Придет срок – объявятся.
Караван плыл мимо пологих берегов с заливными лугами. Пройдя мелководный перекат, коч и коломенка вышли на глубокую воду. По знаку кормщиков гребцы придерживались стрежня, не давая течению развернуть судно поперек реки.
Удалившийся далеко вперед ертаульный струг вдруг встал на якорь. Караван неторопливо приблизился к нему. Плывшие на судах люди увидели на правом берегу при впадении Тобола в Иртыш множество суетящегося народа. На песчаной отмели, покрытой редким корявым тальником, сохли длинные лодки с задранными носами и кормами.
Взглядам обозных открылось странное зрелище. В разноцветных пестрых халатах, в чалмах и в высоких колпаках вокруг лодок бегали, махали руками торговые бухарцы. Один, по пояс голый, с обритой головой, высунув синий язык, висел в короткой удавке на сучке корявой лесины. Ноги его были поджаты, колени касались земли. В стороне, у курящихся костров, собралось до полусотни русских людей. Неподалеку от них паслись стреноженные кони.
Увидев торговый караван, русские и бухарцы стали махать руками, зазывать к берегу. Устюжские и холмогорские люди велели всем промышленным и служилым приготовить ружья, сами опоясались саблями и повели малые суда к берегу. Коч и коломенку они оставили на стрежне, бросив на дно каменные якоря.
Как выяснилось вскоре, русские люди стояли здесь табором со вчерашнего вечера. Они шли из Тобольска в калмыцкие степи искать золото в старых курганах. Бухарцы в этом же месте пристали нынешним утром по великой нужде: два их судна повредили днища на перекате. Курганщики, увидев терпящих бедствие, бросили веревки и вытащили лодки на берег.
Много бухарского товара было испорчено. На солнце сох листовой табак, который последние годы высоко ценился не только среди ясачных народов, но и среди русского населения. Сохли ткани и фрукты. Нанятый бухарцами вож-лоцман повесился, едва выбрался на сушу.
Осмотрев на берегу суда, бухарцы обнаружили, что тонули они не по его вине. В верховьях Иртыша китайцы продали им сгнившие лодки, обклеенные смоленой бумагой и кожами. Сделано это было так искусно, что подделка обнаружилась только здесь.
Обозные купцы ходили среди разложенных для просушки товаров, цепким взглядом высматривали выгоду в чужой беде. А выгода могла быть не малой. Если вольная торговля винами запрещалась, то за табак сами бухарцы на гостиных дворах рядились до двухсот рублей за пуд.
Ивашка с Угрюмкой равнодушно осмотрели восточные сладости и ткани, крестясь, прошли мимо удавленника и направились к русским кострам с не убранными еще после ночлега седлами и потниками. Тоболяки толпились возле приставших судов, предлагая стрельцам и промышленным в обмен на запрещенные к торгу порох и свинец золотые безделушки из курганов.
К костру, возле которого присели братья, подошли гулящие в рубахах из крашеной холстины без всяких оберегов и вышивок. Одежда курганщиков удивила Похабовых. Они хотели отойти к другому костру, но рыжий детина с хитрющими глазами кивнул им как близким.
– Высоко цените свои спины! – усмехнулся с укором и добавил разобиженным голосом: – Велика беда – воевода выпорет! В Тобольске на золотник девяносто копеек товарами дают. Чем вам продавать – сподручней из могильного хлама пули лить… – Рыжий рассеянно взглянул на Ивашку, потом еще раз – пристальней. Лукавые искорки в его глазах погасли, губы стали подрагивать. Он силилось выглядеть веселым, но лицо его удивленно вытягивалось. Детина долго буравил молодого казака пристальным взглядом, потом сбил шапку на затылок и с недоумением спросил: – Где я тебя видел прошлым летом?
– На Москве, в гостях у царя! – ответил Ивашка насмешливо и небрежно. – Прямо оттуда следую до Сургута.
– Бреши! – с досадой перебил рыжий. Рот его, опушенный кучерявой бородой, как-то чудно перекосило. Он желчно осклабился: – По курганам твоя морда знакома. Ты прошлый год калмыцкий скот угонял? У меня глаз верный. Помню, какому-то нехристю голову отрубил…
– Видел удальцов, – раздраженно хмыкнул Ивашка, – но тех, что покойников грабят, впервой! Пусть и калмыцких!
– Это не калмыцкие могилы, – обиженно возразил другой гулящий в опояске с крестами. – У них морды плоские, да и не закапывают они своих покойников. Это золото принадлежало нашему народу, что в землю ушел и города свои бросил: черепки у покойников наши – остромордые… Свое у своих берем!
Рыжий вдруг хлестнул себя ладонью по лбу, отступил на шаг и несколько мгновений не мог выговорить ни слова, а только разевал рот. Затем он кинулся к другому костру, приволок оттуда под руку мужика в крестьянской рубахе и шапке, отороченной горностаем.
– Вспомнил! – указал пальцем на Ивашку и перекрестился. Глаза его сверкали, на щеках алели пятна. – Вот чудо! Покажи-ка морды! – приказал мужику.
Пахотный, взглянув на Ивашку, отпрянул, икнул, выпучил глаза и, боязливо отмахиваясь левой, правой рукой троекратно перекрестился. Удерживаемый рыжим детиной, он дрожащими руками достал из кожаной сумы две золотые бляхи, смыкавшиеся между собой хитроумным сцепом. На одной из них была искусно отлита или выкована голова в островерхом казачьем колпаке, похожая лицом на Ивашкину, но с пышной бородой. На другой – круглая, с пухлыми щеками, голова степняка: то ли мертвая, то ли со смеющимися, смеженными в щелку глазницами, большая, крепкая рука держала ее за косу и соединялась с ней выемкой.
Угрюмка, взглянув на поблескивавшее золото, тоже перекрестился. Сходство было сильным. Только подлинный брат был моложе казака на бляхе. Ивашка же долго рассматривал безделушки, не понимая, отчего рядом с ним испуганно перешептываются. Он несколько раз соединил и разъединил бляхи, разглядывая, как устроен разъем. И ему вдруг так захотелось иметь эту безделицу, что готов был снять с себя все, кроме сабли, и отдать курганщику. Ивашка поднял глаза и спросил, что пашенный хочет за бляхи. Но тот под его взглядом только мычал отступая и мотал головой. Затем он и вовсе убежал седлать коня.
Рыжий, притащивший пашенного к братьям, тоже был в растерянности. Вокруг них собиралась толпа курганщиков. Все они, поглядывая на бляхи и на Ивашку, испуганно расспрашивали, какого тот роду-племени и где жил прежде. Услышав, что ссыльный царским указом водворяется в Сургутский острог из монастырских застенков, курганщики заволновались, стали переругиваться между собой, обвиняя кого-то в чем-то.
Пенда с Третьяком увидели, что вокруг дружков едва не дерутся, придерживая сабли, побежали на подмогу. Но курганщики уже не обращали внимания ни на казаков, ни на Ивашку с золотыми бляхами. Они собрались в круг и, о чем-то переговорив, споро стали седлать и запрягать коней. Рыжий опасливо подскочил к костру, возле которого стояли казаки, схватил седло с переметной сумой, заступ и убежал, ни слова не говоря.
– Эй! – шагнул следом Ивашка. – Зипун дам!
С ним никто не торговался. Косясь на золото, курганщики разбегались. Вскоре, погоняя коней, они двинулись в сторону Тобольска, откуда совсем недавно выехали в калмыцкую степь.
А на берегу среди разложенных на солнце товаров шел тайный торг. Бухарцы и купцы азартно рядились. Несколько раз они сходились, чтобы ударить по рукам, и опять все расстраивалось из-за какого-нибудь пустяка. Из-под сухого дерева, почти не дававшего тени, поджав ноги, высунув язык, на них щурился удавленник.
Подмокший табак купцы выменяли за два крепких смоленых струга. Все равно они не были пригодны для плавания по морю, а глубины стрежня позволяли догрузить коч и коломенку. Китайские и бухарские ткани были выторгованы за пушнину, тайно наменянную в пути от Камы до Верхотурья.
Бухарцы остались сушить товар и хоронить покойника. Их путь лежал в Тюмень, где с давних пор они торговали беспошлинно. Ватажные переправили грузы на коч и коломенку, сами перебрались в них. Здесь сразу стало людно и тесно. Подняв каменные якоря, отталкиваясь шестами, люди развернули коч и коломенку по течению, вывели их на стрежень и поплыли вниз по полноводному Иртышу.
Догорала заря темная, вечерняя. Розовела и блекла рана небесная, зашитая иглой булатной, ниткой шелковой, рудожелтой, стянутая пеленами вечными. Караван пристал к берегу. Люди стали высаживаться на сушу.
Продуваемый ветром, пологий песчаный берег вытянулся на полверсты. Вдали виднелись безлесые холмы. Задрав тупой смоленый нос с восьмиконечным крестом, в тихой заводи встал коч. Стрельцы и казаки с уханьем вытаскивали на песок груженую коломенку. Неподалеку от воды, на открытом месте, обозная молодежь раздувала костер.
Теплым вечером радостно плескалась рыба, пуская круги по воде, клином расходились волны от острых щучьих спин.
– И где мы? – озирался старичок, в сумерках сведенный по сходням с коча.
– Под Тобольском! – ответил устюжский складник Лука Москвитин. – Недалеко уж!
Места были ему знакомы. И двух лет не прожил Лука в Устюге Великом, вернувшись на Иртыш, где торговал и промышлял несколько лет. На отчине он начал после возвращения латать дом, но бросил: тот так обветшал без хозяина, что легче было срубить новый. Отдала Богу душу хворая жена. Старшие дети отделились и жили крепко. Все переменилось на родине, и Лука никак не мог найти себе кормовое место по душе. Брат его Гюргий, тоже бившийся всю жизнь в нуждах на разных промыслах и на мелкой торговле, много расспрашивал о Сибири. От услышанного загорелся отправиться на дальние промыслы и стал подговаривать к возвращению Луку. Тот не противился, только удивлялся сам себе: простился с Сибирью беспечально, да, видать, она его присушила.
– Проспал Ермакову могилу, дед, и я, грешный, запамятовал! – весело прокричал он на ухо старику.
Да и не до того было, чтобы оглядывать берега, случился день суетный. Долго простояли с бухарцами, а после еще коч с мели снимали. Радуясь и благодаря Господа, что не застряли посреди реки на ночь, проплыли мимо Епанчина юрта.
Ночь была тихой. Прохлада и ровно веющий речной ветерок угомонили гнус. Жарко горел костер, дым и пламя поднимались к звездному небу.
– Дела и заботы наши! – виновато вздыхал кормщик Никифор. Ему было стыдно, что ругал Бажена, а сам на большой иртышской воде недосмотрел отмель. – Надо было побывать на Ермаковой могиле, – лепетал услужливо и суетливо. – Помолиться да земельки взять. Путь далек. Один Бог знает, что впереди. – Устюжанин виновато поглядывал на холмогорского купца и старался задобрить его.
В котлах подходила каша. На углях допекался свежий хлеб. Бажен, с раскрасневшимся лицом и опаленными бровями, снимал пробу: долго дул на ложку, ворчал на приварков. Пошевеливая бородой, задумался, смежил веки. Но вот расправил усы и, довольный пробой, кивнул, велев раскладывать еду по котлам.
Когда парящую кашу разнесли, разложили хлебы, разлили квас по кружкам, ватажные и служилые поднялись на соборную молитву. Потом сели, каждый возле своего котла, и братски преломили хлеб. Насытившись питьем и едой, придвинулись к огню. Трудный, но благоприятный день, тихий вечер, звездное небо и тепло костра объединяли всех тихой радостью. И только монахи незаметно удалились для ночных молитв.
Старичок, отоспавшись днем, к вечеру ожил и повеселел. Когда пришел его черед, прокашлялся, поправил растрепавшуюся белую бороду и подрагивавшим голосом запел о Ермаковой погибели:
– Помянем же, братья, предоброго и храброго воина Ермака Тимофеевича, атамана казачьего, с прославленной и доблестной дружиной его и воздадим им достойную хвалу. Вспомним, как их Господь Бог прославил да многими чудесами превознес. Как отреклись они от суетного мира и недолговечного своего земного житья, от богатства и почестей пустых, но возлюбили Господа и желали только ему угодить, царю-государю послужить да головы буйные сложить за святорусскую землю, за святые Божьи церкви, за веру православную. И в том уверившись, ожесточили они сердца свои непоколебимо, чтобы оружие держать крепко, назад не оглядываться, лиц своих от недругов не прятать и ни в чем им не уступать.
Не прерывая мелодии, выводимой носом и горлом, старец отдышался и запел о том, что у хана был слуга, за прежние вины приговоренный к смерти, но до поры гулявший на воле. И принес он ханским воеводам весть, будто на лошади переплыл на остров среди Иртыша и видел там казаков спящими.
Хан не поверил повинному, пообещав удавить его утром. Тогда он снова пробрался в казацкий табор и принес три русские пищали да три ладанки.
На этот раз хан отправил на остров лучших мурз с войском. Воины прокрались к казакам и многих передушили, перерезали спящими. А тем, кто Божьим промыслом проснулся и вступил в бой, крикнул Ермак Тимофеевич громовым голосом, чтобы прорубались к стругам. Сам же отступал последним, заслоняя товарищей своих, и бился как разъяренный лев.
Просеклись его друзья-товарищи к стругу, оттолкнулись от берега. Пробился к ним и Ермак Тимофеевич. И отбился уже от наседавших врагов. Осталось только прыгнуть в струг – и спасся бы атаман. Но было на нем два панциря. Бесовским умыслом и Божьим попущением он оступился в потемках, рухнул в воду и утонул.
Так закончилась земная жизнь атамана, которую долго не могли отнять враги. И было это в ночь на Преображение Господа Бога и Спаса нашего.
Мертвое тело отыскалось на Отдание Преображения Господня у татарского селения. Внук татарского князца ловил рыбу и увидел человечьи ноги в воде. Он захлестнул их петлей, вытянул тело на берег. По панцирям тамошние жители догадались, какого утопленника принесла река.
Мурза хотел снять с мертвого Ермака панцири – но из тела носом и горлом полилась кровь. Татары удивились нетленности плоти и стали думать, нельзя ли как-то отомстить атаману за свои обиды.
Собрались на берегу басурмане, положили раздетое тело на помост, и каждый пускал в него стрелу, а из ран текла и текла свежая кровь. Прискакал к ним хан Кучум со знатными мурзами, с остяцкими и вогульскими князцами. Мстя за обиды, сам колол Ермака саблей, пока не устала рука.
И так лежало тело атамана шесть недель. И дивились татары, что ни одна птица не села на него. В то время многим из них во сне были видения, что тело надо похоронить. Из-за тех видений некоторые тамошние насельники лишились ума. И стали они раскаиваться, что плохо обошлись с мертвым. Стали жалеть, что при жизни не избрали атамана, которому так щедро помогали боги, своим ханом.
И похоронили они Ермака Тимофеевича по татарскому обычаю на своем кладбище, на правом берегу Иртыша. Зарыли тело под сос ной, устроили тризну, на которой съели тридцать быков и десять баранов.
Один панцирь атамана был дан остяцкому князцу Алаче, другой взял мурза Кайдаул, живший там, где отыскалось тело. Его родственник Сейдяк взял кафтан, а сабля досталась мурзе Караче.
И обнаружилось вскоре, что те вещи исцеляют больных, помогают при родах, на охоте и на войне. Мусульманские муллы запрещали говорить об этом, наказывали не прикасаться к Ермаковому оружию и к его одежде, запрещали указывать место, где погребен славный воин. Но каждую субботу над могилой мерцал свет, как от свечи, а в родительские субботы появлялись столбы пламени до неба…
Долго молчали у затухающего костра ватажные люди. Слушали, как потрескивают угли, смотрели на пламя, на звезды, и каждый думал о своей доле. Старец-баюн поклевывал носом. Кто-то из устюжан приглушенно всхрапнул и стыдливо осекся.
– Вот и нам, – с печалью напомнил холмогорец Бажен сын Алексеев Попов, – не забыть бы, что удача балует до поры. После за нее Бог взыщет.
Угрюмка же с ужасом поглядывал на черную реку, в которой поблескивали звезды, и все мерещился ему хохотавший утопленник, все казалось, что веет от воды жутким запахом тлена. Он долго не мог уснуть, и так и эдак укладываясь у костра. Ляжет спиной к реке – чудится, будто ему в спину смотрит бородатый муж в шишаке. Ляжет лицом – в каждом плеске волны блазнился скользкий утопленник, выползающий на берег.
И вот после долгого пути завиднелся в небесной дымке город на горе. Издалека различались его высокие рубленые стены, купола церквей и теремов. И над всеми ними высоко вздымалась восьмигранная сторожевая Спасская башня. Выше туч подняла она над Сибирским краем православный крест.
В трех верстах от Тобольска караван пристал к пологому песчаному берегу неподалеку от обнесенной валом пашенной слободы. Из распахнутых ворот, придерживая сабли, вышли три казака. Один из поднявшихся на борт представился слободским приказчиком. Не требуя с купцов ни проезжих грамот, ни подарков, предупредил, что в окрестностях Тобольска нельзя торговать оружием, панцирями, шлемами, копьями, саблями, ножами, топорами, железом и вином. Другой казак, осанистой наружности, лукаво ухмылялся:
– В городе сплошь старые ермаковцы. Они друг перед другом куражатся, кто праведней службы несет, а меж собой все спорят, кто подлинный ермаковский, кто с Болховским, Глуховым да с другими князьями в Сибирь пришел. Спуску от них вам не будет. А потому вы бы нам заповедные товары продали да и плыли бы со спокойной душой.
– Родимые! – сочтя себя обиженным, запричитал холмогорец, зыркая из-под косматых бровей. – Все, что по недосмотру в Перми дозволили провести, в Верхотурье да в Тюмени отняли. В тамошних городах мы припас хлеба купили – и тот с песком. В Мангазею уж не для торга следуем – на промыслы, чтобы босыми не вернуться по домам. – Губы купца вздрагивали, руки не могли найти места. Длинноухий Никифор в подмогу холмогорцу закатывал глаза и отчаянно крестился.
Уверения купцов в несчастьях ничуть не тронули казаков, они только досадливо отмахивались – дескать, из полночных стран нищими возвращаются только дураки и пропойцы. Правда, таких много повсюду.
Справившись о слободских ценах на хлеб, купцы стали искренне сокрушаться, что купили припас в Верхотурье. Они зазвали приказчика с казаками на коч, угостили их, расспросили о городе, его людях и порядках.
К тобольской пристани караван подошел после полудня. Отсюда город на горе и крест на башне казались вознесенными под самое небо. Как ни трудно было удивить граждан Великого Устюга и Холмогор искусными деревянными стенами и храмами, но и они охали, оглядывая Спасскую башню в двадцать пять саженей высотой.
От пристани к базару тянулся долгий взвоз с ярусной лестницей в две с половиной сотни ступенек. По ней неспешно спускались тобольские небожители в дорогих одеждах. Шли они встречать гостей и узнать новости из дальних западных стран.
Купцы-пайщики, устюжане и холмогорцы принарядились, суда украсили зелеными ветками и цветами. Казаков, которые не имели другой одежды, кроме той, что была на них, просили скрыться с глаз.
В первом ряду прибывших встречали тобольские казаки и дети боярские в меховых шапках с суконными верхами. За ними толпились барышники и гулящие, для которых каждый караван был и поживой, и вестью с родины.
Не увидев среди встречавших подручных людей воеводы и письменного головы, о которых много было выспрошено у слободских казаков, Бажен Алексеев разгладил по груди бороду, крестясь на купола церквей и на чудотворный образ, висевший над пристанью, ступил на свежие плахи настила. Вперед себя он пустил только ссыльных монахов. Тут все они сотворили семипоклонный начал по писаному, по ученому да по благочестивой старине.
– Всему честному народу православному! – кланяясь на три стороны, приговаривал степенно Бажен сын Алексеев Попов. – Верхотурские казаки и тюменский Гаврила Иванов – Ивану Грозе, Гавриле Ильину, Пинаю и всем ермаковским служилым велели первым поклоном кланяться.
По сведениям, собранным в пути, в Тобольске служили бывшие ермаковские соратники со своими родственниками, казаки письменного головы Чулкова и первостроители, числом до пяти сотен. Атаманом старой ермаковской сотни был Гаврила Ильин, лет с двадцать гулявший с Ермаком да после него служивший в Сибири три десятка лет. Конными казаками правил престарелый ермаковский есаул Иван Гроза.
Среди встречавших в первом ряду стоял увечный и слепой атаман Пинай, строивший Верхотурье, Туринск, Тюмень, другие города. В молодые годы он прибыл в Сибирь с пятью сотнями стрельцов под началом князя Болховского – на помощь Ермаку. С приходом этого отряда начались несчастья, голод, мор, которых боялся и ждал Ермак, как предвестника своей гибели.
Пинай в числе немногих выживших в Сибири стрельцов после гибели атамана ушел на Русь, но вскоре вернулся с другим отрядом и теперь, в немощной старости желал одного – сделать вклад в Чудов монастырь в память об убиенных товарищах да с миром отойти за ними.
Купцы, складники, служилые, монахи и Ермес-передовщик ушли в крепость на поклон к воеводе и письменному голове. Покрученники, обозная молодежь да Ивашка Похабов со ссыльными остались при судах. Тобольские дети боярские и целовальник наложили восковые печати на купеческие товары и поджидали таможенного голову. Возле судов крутились местные ярыжники и гулящие, заводя разговоры.
Донцы при саблях сидели на борту коча у пеньковых тросов и поглядывали, чтобы чужаки не лезли на суда. А те, за разговорами будто забываясь, то и дело старались сойти с причала. Двух особенно пронырливых и настырных Пенда с Похабой скинули в воду под хохот собравшихся. Литвины с черкасами на коломенке тоже не церемонились с нагловатым людом. Но к ним, ссыльным по иноземному списку, не так охотно подступали с разговорами.
Сквозь толпу, собравшуюся на причале, уверенно протиснулись странного вида гулящие. На голове одного была лихо заломленная соболья шапка, на плечах висела короткая кожаная рубаха, замшевые, до дыр вытертые штаны были заправлены в стоптанные ичиги. За ним шел дружок или родственник в шубном кафтане, надетом на голые плечи.
– Здорово ночевали, казаки! – Детина в собольей шапке подступил к Пантелею Пенде, но на борт не полез, назвался: – Я Васька Ермолин по прозвищу Бугор! Это мой брат Илейка, – кивнул на кряжистого и мордастого парня в шубе. – Не слыхал?
– Не слыхал! – сдержанно ответил Пантелей, – А говор у тебя знакомый. Где жил, где гулял?
– Я везде гуляю, – неопределенно ответил верзила, смахнул шапку на ухо, сел на край причала, свесив ноги к воде. Брат его тоже присел напротив донцов. Васька спросил: – Куда путь держим?
– На Березов! – ответил Пантелей. Ему понравилось, что гулящие не переступили черты, хотя шли как на приступ, а теперь сидели с таким видом, будто предстоял долгий разговор.
– А далее? – насмешливо оскалился Бугор, поблескивая белыми зубами в бороде.
– А дальше – как Бог даст, – ожидая, что нужно гостям, ответил Пантелей. Сияющее лицо Бугра, молчаливая приветливость его брата успокоили казаков. – Думаем, в Мангазею, промышлять! – добавил нехотя.
Гулящие рассмеялись. По толпе на причале тоже прокатился сдержанный смех. На недоуменные взгляды казаков Бугор весело ответил:
– Пока за Камнем услышат, где соболь, – там его уж нет. Повыбили возле Мангазеи, нынче за Турухан ходят. – Белозубая улыбка опять сверкнула в усах под облупившимся красным носом, глаза смотрели испытующе. – Бывали мы в Мангазее прошлый год, – кивнул на брата. – Путь знаем: и лыжный, и Обью через губу. Кому – златокипящая Мангазея, кому – горсть сухарей за головного соболя. Выйти бы до холодов на Турухан. В Енисее-стране богатства невиданные: соболя, сказывают, как мышей, по зимовьям давят. Но вам туда к зиме не поспеть. Съедите припас в Мангазее и вернетесь голью.
Васька намеренно помолчал, разглядывая груз на палубе, не дождавшись расспросов, приглушенно, так, чтобы не слышали на причале, добавил:
– Я в Енисею другой путь знаю. Сведи меня с хозяевами – ничего не утаю. Поверите: сколько вывезем рухляди – вся будет наша, а добыть там – и ленивый свое возьмет.
– Свести-то можно, – неохотно отвечал Пенда. – Да только от Перми много людишек похвалялись, что знают, где богатые промыслы, а сами рубахи не имеют, – насмешливо окинул взглядом остяцкую шубейку, обмотанные бечевой лавтаки на ногах Илейки.
К вечеру, когда вернулись купцы-пайщики, а Ермес остался ночевать у кого-то из служилых папистов, Васька Бугор с братом сидели на палубе коча, по-свойски прихлебывали травяной отвар и хрустели ржаными сухарями. Вокруг них собрались устюжская, холмогорская молодежь, казаки и стрельцы – все слушали рассказы о Мангазее, о жизни промышленных.
Не оказывая большой чести купцам, гости стали повторять сказанное. И говорили так складно, что обозная молодежь сверкала глазами, готовая сорваться по первому зову в неведомые страны. Все ватажные были наслышаны в пути про Великий тес – тайную тропу промышленных встреч солнца по самым диким и непроходимым местам. Говорили, что начинается Великий тес от Тобольска. Васька с Илейкой первыми объявили, что знают ту тропу и хаживали по ней. Но – недалеко…
Васька стал вдруг торопливо оправдываться:
– На нее только выйди. После, по затесям, иди и иди. – Пристально оглядел собравшихся.
Пенда впился в него немигающими глазами и, перебив кого-то из складников, спросил:
– Ну и куда тот тес ведет? Где кончается?
Васька язвительно рассмеялся, угрюмо примолк, вперившись в казака немигающим, многозначительным взглядом, важно пошевелил усами:
– Про то и на дыбе никто не скажет! – заявил, давая понять, что знает больше, чем говорит.
На гостей посыпались другие каверзные вопросы, на которые они отвечали только тупыми улыбками. Но внезапно расспросы прекратились. Гостям стало неловко от наступившей тишины. Упоение властью над слушателями как-то разом сошло с их лиц, снисходительные улыбки покривились, и Бугор с братом вдруг рассердились. Васька задергался, заерзал, глаза его злобно сузились.
Бажен потеребил окладистую бороду и проговорил рассудительно:
– Оно все, может быть, и так. Только как же нам вверх по Оби идти, если немирная Пегая Орда бунтует? Воевода тобольский не может сыскать управы на те народы, куда уж нам?
Васька стал отвечать резко, что все ордынские мурзы – его кунаки, а от пегих людей он знает заветные слова, слышанные от Супоньки Васильева, который ходил в Енисею через Нарым. Наконец совсем запутался, смутился и в отчаянии вскрикнул:
– Не хотите идти прямым путем! И ладно! Дайте нам припас в зиму! Вернемся – половину добытого отдадим и за припас расплатимся. – Поскольку купцы молчали, раздумывая над его словами, он торопливо добавил: – Согласны и под кабалу.
Чувствуя, что им перестали верить даже те, кто еще недавно слушал раскрыв рот, Васька Бугор взял себя в руки и с прежней улыбкой стал грозить:
– Не вы – другие поверят. После мы посмеемся. Сулили вам богатство даром – отнекивались. Другой год, может, мы будем пайщиками, а вы у нас покрученниками. В Сибири всякое бывает… Нам бы только припас собрать. – Васька хлопнул собольей шапкой по сношенному ичигу. – Где и как на Великий тес выйти – не скажу: старые промышленные убьют. Но чтобы не думали худого, укажу путь по рекам: от устья Иртыша Обью вверх мимо Сургута-острога до третьего многоводного устья по левую руку. По той реке идти до истока встреч солнца. Из верховий волок на Енисею-реку. Сплыть по ней до Усть-Таморы по правую руку. Там утес стоит, а на вершине – вечный, неугасающий огонь. И на берегах тех рек – каменные города и высокие дворцы, но в безлюдье и запустении, иные обрушились, а какие народы их строили – никто не знает.
– А ты бывал? – спросил Ивашка Похабов, щупая золотые бляхи на шебалташе[34].
– От оленекских тунгусов слыхал, что из той Тунгуски-реки можно попасть в великую реку, – голос Васьки Бугра перешел в сиплый шепот, – где живут наши люди, ходят в одежде русской.
Помолчав с таким видом, будто страшно раскаивается в сказанном, Васька вскинул печальные глаза, а сердито помалкивавший Илейка спросил в упор:
– Что решите? Неужто век будете с товарами по Сибири таскаться да каждому служилому кланяться, когда богатства несметные наших рук ждут?
Купцы долго советовались со складниками, вспоминая главного сибирского удальца – атамана Ермака и дружину его. Те люди тоже были первыми, а много ли нажили? Богатство досталось тому, кто шел следом. После соборного ужина, обильно накормив гостей, они сказали, опечалив не только Бугра с братом, но и многих ватажных:
– Против Пегой Орды не пойдем, даже если воевода даст согласие и подмогу. А если за вас верные люди поручатся, в покруту возьмем.
– Эх, срамословы устюжские, моржееды холмогорские! – разочарованно замотал головой Васька Бугор. – Купецкую сметку имеете, а ума Бог не дал! – Он не стал ни убеждать, ни уговаривать: нахлобучив шапку, сошел на причал. Обернувшись, бросил: – Вдруг надумаете – найдите нас в городе, на Никольской улице, у пешего казака Глотова.
– Надо бы одарить! – подсказал устюжанин Никифор холмогорскому купцу.
– Постойте! – окликнул их Бажен. – За все сказанное – спаси вас Господь, и примите дар!
Бугор с братом вернулись, с любопытством поблескивая глазами. Купец порылся в товарах, вытащил на свет и тряхнул напоказ две льняные нательные рубахи, ценившиеся в здешних местах, где даже простой люд ходил в белье бухарского шелка.
Илейка рассмеялся. Скинул шубный кафтан и натянул рубаху на голые плечи. Кто-то тихо пробубнил в коче:
– Пожалеем еще!
И только Федотка Попов – родич главного пайщика, спросил будто сам себя:
– Отчего на горе огонь не гаснет? Ведь снег зимой, а летом дождь?
Купцы не спешили расстаться с товарами в столице Сибири, вызнавали о ценах и о спросе в низовых обских селениях, где торг был выгодней. Промышленные и служилые ради любопытства бродили по городу и примечали, что все здешние порядки были связаны с жизнью и службами оставшихся в живых ермаковских казаков, которых в городе было больше сотни.
Сказывали горожане, что воевода за какие-то провинности или за старческую немощь решил с почетом заменить старого атамана ермаковской сотни сыном боярским Богданом Аршинским. Ермаковцы возмутились самоуправству и отправили челобитную царю, по которой Гаврила Ильин был восстановлен в атаманстве, а головой конных казаков, несмотря на преклонные лета, оставался Иван Гроза. От него пошли многие тобольские служилые Грознины.
Ивашка Похабов с братом Угрюмкой тоже гуляли по богатому городу, разглядывая стрельчатые окна с искусно вставленной слюдой, кованые железные запоры. Всякий горожанин, увидев проезжих зевак, почитал за долг рассказать о строении, возле которого те остановились. Едва подошли братья к Спасской башне, из ворот вышел стрелец с бердышом и улыбаясь пояснил:
– По всей Сибири нет города краше, а башни выше. Стоишь под шатром, в караульне – вся земля под тобой. А как засвищет ветер – башня скрипит и качается. Иной новик от страха делается там ни жив ни мертв[35].
У Казачьих ворот, где в пяти дворах жили иноземцы, Угрюмка с Ивашкой сыны Похабовы нос к носу столкнулись с Ермесом, выходившим из дома здешнего немчины Саввы Француженнина. Ивашка заговорил с ним об обозных делах. Ермес, кивнув на добротный дом, из которого вышел, с гордостью признался на корявом языке, что ходил к своему человеку поболтать по-латыни.
Он говорил с братьями весело и приветливо, хотя из-за них был унижен под Верхотурьем по диким российским нравам. Впервые Ермес не думал о бегстве. Он посмотрел, как обжились здесь его единоверцы, – и будущее уже не представлялось ему таким беспросветным и безрадостным, как прежде.
От избытка добрых чувств Ермес сообщил, что с помощью друзей добивается у воеводы разрешения остаться на поселении в Тобольске. Он хотел удивить ссыльного казака и дать ему понять, что где бы они не находились, между ними всегда будет разница. Но Ивашка слушал его равнодушно и насмешливо.
Здешние новости так и сыпались из обозного еретика. Он тут же рассказал, что ватага курганщиков, собиравшаяся на все лето в степь зорить древние могилы, вернулась через день, встретив на пути чудского мужика с казацкой саблей. Это событие взволновало город больше позапрошлого года, когда две сотни курганщиков вернулись из обских степей, отбиваясь от калмыков.
Слободской порядок не прижился в столице Сибири: на улице от Казачьих ворот до тюрьмы стояло двадцать дворов, из них пять принадлежало иноземцам и казакам «литовского списка», пять – русским пешим казакам, два – посадским, три – вдовам, два – тюремным сторожам. Двор вдовы Дарьи Кочатихи Ермес осматривал с особым вниманием. От единоверцев он уже знал, сколько пшеницы, сколько соли лежит в ее амбарах, и полагал, что вскоре все это будет принадлежать ему.
В центре города, возле церкви, к братьям привязались злющие собаки. Защищая брата, Ивашка отбивался от них саблей в ножнах, но после того как зловредный пес порвал на нем холщовые штаны, в сердцах разрубил яростному зачинщику мохнатую башку. Стая разбежалась, но из подворотни выползла седая горбатая старуха и прошамкала: «Где собаку убьют – там и человеку убитым быть! Псы – как люди: чем трусливей, тем мстительней. Берегись теперь, служилый!»
В Тобольске обоз задержали до Аграфены-купальницы. В ночь, едва отгудели колокола после вечери и стала потухать поздняя заря, купцы-пайщики засуетились, забегали. Оказалось вдруг, что наутро ни в одну из бань в посаде близ причала не попасть. Греть бани стали с вечера, и дымы несло вниз по Иртышу. Холмогорцам и устюжанам так хотелось на утренней зорьке попариться, что Никифор-ведун все-таки прельстил какой-то захудалый дом хорошей платой, и хозяева обещали истопить к утру баню для промышленных гостей.
Казаки же по своему обычаю в потемках, до зари-полуночницы, ушли на высмотренный травянистый берег, чтобы для оздоровления тела выкупаться в росе. Факелов с собой они не взяли, надеясь на молодые глаза и негустую темень. Но месяц, золотые рожки, насмешливо посияв, скрылся в ту ночь за тучей. То гасли, то вспыхивали далекие звезды за набегавшими облаками. И накрыла донцов такая кромешная тьма, что даже под ногами ничего не стало видно. Такой темноты в Сибири никто из них не видывал. Слышалось лишь, как поплескивает сбоку река.
Вытягивая руки, они стали подниматься от воды на пологий берег, раздвигали зеленые ветки кустарников, берегли глаза. Вдруг Пантелей остановился на полушаге, прислушиваясь. Ивашка, Угрюмка да Третьяк тоже замерли: то ли русалки-моргуньи охали, то ли выпущенные в ночное коровы вздыхали среди кустов. Коров казаки сильно опасались: срамно было среди ночи вывозиться в свежих лепехах так, что после ни отмыться, ни отстираться.
Неожиданно зашуршала трава, раздалось приглушенное хихиканье. «Русалки!» – Пенда осенил себя крестным знамением, поправил на груди кедровый крест и, позвякивая бахтерцами, бесстрашно скинул кожаную рубаху. За ним все другие разделись, сложили в кучу одежду и, распластавшись по мокрой траве нагими телами, стали кататься по ней, растираться росой.
Угрюмка, захлебываясь от полуночной стужи и сырости, нашептывал: «С гуся – вода, с лебедя – вода, с сиротки Егория – худоба!» Вдруг руки его коснулись обнаженного тела. Подумав, что это Третьяк, он покатился в другую сторону, но и там столкнулся с кем-то. Стыдливо с брезгливостью отпрянул, думая, что коснулся носом чьей-то ягодицы. Вдруг то место, где полагалось быть пояснице, звонко хохотнуло. Вынырнул из-за облака проказник-месяц, и Угрюмка увидел голую русалочью грудь, девичье лицо со спутанными мокрыми волосами. Руку протяни – оттененное округлостями, перед ним таинственно мерцало девичье тело. От него шел жаркий, дурманящий дух. Гулко застучала кровь в голове, сердце загрохотало так, что юнцу показалось, будто сырая земля затряслась, заходила ходуном. Он вскрикнул пугливо и сладостно, как зверь. Зачурался.
Завизжали девки, подскочив на человеческих ногах. С воплями и смехом их повыскакивало из травы до полудюжины. Казаки кинулись к одежде. Из темных кустов раздался дружный девичий хохот.
Похватав во тьме что нашарили, донцы выбежали к воде и стали торопливо одеваться. Блестела черная гладь, возле реки уже различались силуэты людей.
– То ли девки в росе купались, то ли мигуньи шалят? – крестясь бормотал Пантелей.
Угрюмка стучал зубами от страха и сырости, похихикивал от чарования, стоял сам не свой от шалых глаз, от мокрых спутанных волос, от ощущения близости женщины. Обмирала душа, признавалась с тоской: позови, помани только та мокрая и обнаженная – не устоять ему, рабу Божьему Егорию, не воспротивиться.
Ивашка одел зачарованного брата, подтолкнул в сторону пристани. Угрюмка послушно зашагал и не заметил, что уходит в воду. Ивашка схватил его за руку, повел за собой. Тот переставлял ноги, ничего не понимая. Так и дотащился до коча. Лег на палубу, укрывшись шубным кафтаном, смотрел на черную воду, на серое небо с блиставшими звездами, а видел литые тела девок на мокрой от росы траве, ощущал тепло и аромат ночной шалуньи. Пенда с Ивашкой и Третьяком переговаривались посмеиваясь. Он же в мечтах своих лелеял томное видение, сладостно отдавался чарованию блестящих глаз, а в ушах звенел и звенел девичий смех.
На рассвете Угрюмку окатили водой. Испуганного, замороченного, с хохотом бросили за борт. Это вернулись из бани ватажные. Казаки, попавшие им под руку, тоже были облиты. Весь город обливался и купался, очищаясь от душевной и телесной скверны.
К пристани то и дело подходили горожане, посадские и гулящие, предлагали банные веники, а также коренья, которые ищутся только в ночь на Аграфену. Пополудни устюжская родня выменяла на табак одолень-траву, спасающую в пути от бед и напастей. К вечеру выяснилось, что это корень шиповника причудливого вида. Отвели глаза и ведуну Никифору и ввели его в траты. Лихого же человека, так чудно рассказывавшего о находке одолень-травы, след простыл.
Угрюмка весь день говорил невпопад, и ложка из рук вываливалась, и спал на ходу. Похаба с Пендой не в шутку беспокоились, что ему и праздник не в праздник, и предстоящая разлука не разлука. В том, что ночью столкнулись со здешними девками и молодыми бабами, уж не было сомнений. О том и посадским было известно. Да и сам Пантелей вспомнил – как вышел месяц, увидел он голый бабий зад и ноги, но не хвост. Знающие люди уверяли, что русалки кинулись бы к воде, а те побежали к селению.
Угрюмка слушал товарищей и брата, кивал: дескать, все правильно, а на душе билась рыбиной, убивалась щемящая тоска.
В ночь на Купалин день, отстояв в посадской церкви вечерю, ватажные вернулись на суда. Из казенного же обоза пришел только Ивашка Похабов. Монахи остались на берегу при церкви, Ермес заночевал у папистов, а черкасы, литвины и стрельцы – в городе.
Холмогорцы и устюжане развели костер рядом с пристанью и тихо переговаривались. Все их разговоры были о русалках да о нечисти, которые веселятся этой ночью, про клады, что открываются в ночь на Иванов день. Будто в полночь земля разверзается – клады просушиваются, и можно увидеть в ямах котлы, бочки с серебром и золотом.
Про русалок старые промышленные говорили с опаской, попугивали молодых, дескать, моргуньи выставляют из воды наружу только человечью часть тела и поют, и манят неопытных юношей чарующими песнями. Они же, не умея противостоять страстному наитию, бросаются в воду и тонут.
Угрюмка лежал на коче в одиночестве, не желая ни с кем разговаривать, слышал голос холмогорского пайщика Бажена, ясно представлял, как тот хмурит косматые брови, наставляет:
– Редко кому удается добыть клад. И за то следует расплата – погибель, слепота или беспамятство. Про деда моего сказывали: чтобы знать тайное и скрытое, в юности сторожил он папоротников цвет…
Что говорил купец дальше, Угрюмка не слышал. За бортом послышался плеск, будто огромная рыбина ударила хвостом по воде. Затем влажные ладошки звонко шлепнули, схватились за верхнюю обшивку коча. Он поднял голову и нос к носу столкнулся с мокрым девичьим лицом. Темные волосы липли по щекам, глаза весело поблескивали в ночи.
Угрюмка отпрянул, крестясь. Девка с приглушенным смехом опять бултыхнулась в черную воду и поплыла за корму. А он дурень дурнем сидел на палубе, накладывал на грудь крест за крестом, всхлипывал и ругал себя за то, что не хватило ума или духу броситься следом и плыть за ней.
– …Кто то золото из клада возьмет – будет кружить по лесу, пока не положит на место! – Это уже говорил устюжский купец Никифор. – Без тяжкой кабалы клад в руки не дастся. Только стукнет заступ по крышке – коли не провалишься в преисподнюю, то услышишь хохот нечистой силы. И тень хозяина будет ходить, в самые очи заглядывать…
Старик-баюн не был востребован в ту ночь. О нем забыли, думая, что спит. Но старец бодрствовал. Угрюмка услышал его сиплый голос и грубоватую хрипотцу брата. Они разговаривали между собой.
Старик никогда прежде ни о чем никого не просил, но, увидев золотую безделушку из кургана, даже надоел Ивашке с просьбами. Наверное, он чувствовал, что скоро расстанется со ссыльным, клянчил еще и еще раз посмотреть чудскую бляху. И щупал ее, и к глазам подносил, и дряблой седобородой щекой терся, кряхтел и тужился от какой-то нутряной надсады. Угрюмка слышал, как Ивашка нетерпеливо вспылил:
– Сколько щупать будешь? На дню по десять раз даю! Еще и ночью!
Старик всхлипнул, прошамкал, оправдываясь:
– Ни спать, ни исть – все стоит перед глазами потеха бесовская. Все чудится, будто вижу город каменный, стены высокие. И городу тысячи лет. Народишка там лицом вроде русский, одеждой – чужой. И попы чудно одеты, а кресты наши – издревле русские.
И будто весь город меж собой в ссоре. Плосколицый круглоголовый степняк сидит рядом с князем, глаза щурит, насмехается. Он вернул городу какие-то святые лики, что были утеряны давным-давно, а в награду требует, чтобы князец взял в жены его племянницу.
А этот, остроголовый, что на бляхе, будто воевода. И голова у него что затесанная острожина. И много в городе таких остроумов. Но только этот кричит, что всех прельщает сатана, а Бог попускает: забыли-де заветы предков – погибнет город, если им будут править кровосмешенцы, и потомство проклянет ныне живущих.
А народишка злится, бунтует и кричит, будто круглоголовый вернул священных рыб, – впредь город и его семя будут вечно счастливы.
Тогда остроум твой и говорит, что по законам благочестивой старины будет биться с круглоголовым смертным боем. И если единый Бог даст ему победу – не случится преступного брака.
Попы посоветовались меж собой и приговорили: если остроголовый победит, то браку не быть, но победитель будет принесен в жертву богу для заступничества за город.
– Бес морочит! – жалостливо вздохнул подобревший Ивашка. – И меня, бывает, так проймет – едва отмолишься. – Он ощупал знакомые выпуклости золотых блях на шебалташе. Снова вздохнул: – Монахи пристают, чтобы выбросил безделушку. Уж руку заносил, хотел бросить в воду – будто кто отводил и удерживал. Далее-то что виделось, не помнишь? – спросил старика. – Отрубил ли голову?
– Как не помнить? – простонал баюн. – У меня память хлесткая. Хочу забыть – не могу. А дух подымается из нутра, подымается. Я и Бога благодарю, что дал мне этот дух, и сам ему, бывает, не рад. Мучит он.
– Отрубил? – нетерпеливо спросил Ивашка.
– Отрубил! – крестясь ответил старичок. – А попы того воеводу тут же удавили и обоих на одном костре сожгли.
Глядел на ясные звезды Угрюмка, и виделись ему каменный город, о котором рассказывал старец, русалка с мокрыми волосами. Она насмешливо глядела на споривших жителей, на непримиримого, буйного брата Ивашку.
За бортом опять так громко бултыхнулась вода, будто вспучилась и забурлила. Мокрые ладони с гулким плеском уцепились за коч прямо возле изголовья Угрюмки. «Ухвачу и обниму! А там – будь что будет!» – вскинулся он, холодея от жуткого восторга, и нос к носу столкнулся с бородатым мужиком.
Бухарского шелка рубаха облипла по выпиравшим булыжниками жилам на плечах и на груди. Вода с шумом стекала с густых волос, с бороды. Глаза горели угольями, как у убийцы с занесенным ножом.
Угрюмка отпрянул, вскочил и заорал крестясь:
– Чур меня, чур!.. Не пойду в твое войско!
Мужик захохотал так громко и раскатисто, что его услышали ватажные на берегу. Блеснув глазами, он резко оттолкнулся от борта, с шумным плеском бросился в черную воду, зафыркал, уплывая в непроглядную темень. К вопящему от страха брату подскочил Ивашка, обхватил его сзади. Угрюмка махал руками, брезгливо стирая с лица брызги, отплевывался, лягался, вырывался и визжал:
– Не хочу в Сургут! Не пойду в казаки!
2. Полночная страна
Деды дедов русских людей, а тем их деды сказывали, что на Иванов день солнце-коло о трех резвых золотых конях мчится встреч мужу – ясному месяцу. А тот, истосковавшись по любимой, ждет не дождется встречи. Недолго милуются вздорные супруги после тягостной разлуки, как встретятся – так и поссорятся. И снова небесная печальница, птица-лебедь, накроет белый свет черными крыльями-обидами. Рассорятся между собой день и ночь – брат с сестрой, начнут препираться, как два супостата. По ночам черти станут биться на кулачках, а люди помышлять друг на друга зло. И только утренняя зорька, девица красная, глядя на вечный раздор, прольет печальные слезы – целительную росу.
Отплытие из Тобольска пайщики назначили на утро после поминовения Петра и Февронии – святой благоверной княжеской четы, прожившей долгую, счастливую жизнь и умершей в один день. Супруги завещали родственникам похоронить их в одном гробу, но те, смущенные причудой стариков, положили тела для отпевания раздельно. К утру же – Божьей милостью и чудом Господним – покойных нашли в одном гробу в супружеских объятиях, разъединить которые никто не смог. Так и похоронили.
Стоял Угрюмка в посадской церкви, ревностно клал поклон за поклоном, а службы не слышал. Не разлукой с братом – блудными помыслами была полна голова. Представлялась ему его суженая не нищей бродяжкой, а красавицей с насмешливыми глазами ночной пловчихи, с волнующей выпуклостью груди, верной и умной, как княгиня Феврония.
На Иванов день Ивашка Похаба сильно рассердился на меньшого братца. Но после церкви, послушав о житии благоверных Петра и Февронии, смирился, подумал покаянно, вправе ли он тянуть Угрюмку за собой, вдруг у того судьба милостивей служилой сибирской доли? И все щупал золотую пряжку, будто она могла что-то подсказать, старался понять и смиренно принять волю Божью о судьбах рода Похабовых. Вечером, перед расставанием, вздыхая и кручинясь, он благословил меньшого на дальние промыслы, пробормотал, отводя глаза:
– Ну вот, опять врозь! Судьба, видать, такая!
За братским застольем собрались все бывшие обозные: купцы, промышленные, стрельцы и ссыльные. Один только Ермес-еретик остался на берегу у единоверцев. Пуская по кругу братину с медом и пивом, купцы благодарили всех за помощь в пути, желали ссыльным доброго здравия и приятных служб. Каждый промышленный, ссыльный ли, поднимая братину в свой черед, кланялся на три стороны, говорил слова добрые и прощальные, обещая помнить друзей до смертного часа.
Еще не расставшись с обозными передовщика Ермеса, купцы уже за братским столом заговорили о будущих торгах и промыслах, о том, как им сберечь и приумножить товар, складников с полуженниками[36]да покрученников не обидеть.
Исполнив волю верхотурского воеводы, они доставили в Тобольск казенный обоз. Главный сибирский воевода князь Иван Михайлович Катырев-Ростовский благодарил их за это и обещал свою милость. Но милостью его оказался наказ вместо ссыльных взять на борт нового мангазейского воеводу Андрея Палицына с его людьми и сообща, без всякого промедления, следовать через Березов и Обдорск в Мангазею-город.
Холмогорцы и устюжане вызнали через близких людей, что новый мангазейский воевода на прежних местах служб мзды и подарков не брал, во всем прямил молодому царю верой и правдой. Из того следовало, что до самой Мангазеи им нельзя будет ничего: ни купить, ни продать. Про тайные Обдорские торги надо было и думать забыть.
Пантелей Пенда, узнав, кто назначен новым воеводой в Мангазею, язвительно хмыкнул, кивнул Третьяку. Прежняя горечь скривила его губы в отрастающей бороде:
– Троицкого келаря Авраамия Палицына помнишь? Радел с казаками за Михейку Романова, против игумена, против воли митрополичьей шел с нами заодно. Не забыл его государь – родич в воеводы вышел. И сам он нынче при царе.
– Этот Палицын, сказывают, под Торопцом уж воеводой был, – кивнул в сторону города Третьяк, насмешливо глядя на товарища. – Бог милостив! На все Его воля!.. А ты будто сердишься?
Пантелей Пенда смущенно пожал широкими плечами:
– Понять хочу! К нам ли милостив?
Едва заалела заря ранняя, роняя росу на травы тучные, на лист окрепший, ссыльные и служилые простились с ватажными, а на судно поднялся воевода Палицын, одетый скромней иного сибирского казака. И скарба при нем было мало, и сопровождавших – всего два сына боярских из Березова-города, юный сын тамошнего атамана и два березовских казака.
Люди воеводы, много раз ходившие из Тобольска в Березов, не стали поучать ватажных, где и как плыть, устав от тобольских дел и сборов, они улеглись на судне в удобных местах и спали почти до полудня. Воевода бодрствовал, осматривал казенный груз, сверял записи по грамотам и книгам. Складники стали робко обращаться к нему с расспросами, им надо было вызнать его склонности и слабости. Палицын отвечал ласково и обстоятельно. Это настораживало устюжан и холмогорцев: они не могли обнаружить в нем ни самодурства раба, вырвавшегося из-под царской власти, ни алчности холопа к подаркам и почестям.
В последний раз блеснули на солнце купола тобольских башен и пропали за яром, дремучий черновой лес подступил к самому берегу. После очередного разговора, почесывая затылки и бороды, купцы тихо спорили: то ли глуп, то ли слишком умен этот воевода, то ли простодушен, то ли хитер? Известно, быка надо бояться спереди, жеребца – сзади, а неведомого зверя – со всех сторон. И ломали они головы – что за тайные мысли были у воеводы, когда говорил: «Этот год остяки не пожелали давать ясак в Мангазею, а отправили его вместе с жалобой в Тобольск»?
Как стала потухать заря вечерняя, купцы и вовсе обессилели от догадок. Хмуря косматые, вислые брови, ссылаясь на убытки, Бажен Попов покаялся воеводе, что из милосердия скупил у бухарцев моченый табак, а теперь и бросить жаль, и с собой везти накладно.
Палицын ответил прямо, без хитростей, что в последней челобитной просил царя запретить торг табаком. Сибирские нехристи и русские люди повадились мешать толченые листья с водой и пропивались с того пойла хуже, чем с вина. Но пока от царя не было никакого наказа, и он своей властью изымать табак не станет, если, конечно, не увидит явного вреда воеводству. Сказал – как озолотил. Многие заботы купцам облегчил.
Многоводная река да попутный ветер несли в полуночную сторону коч со стругом и коломенку. Через неделю караван подошел к тому месту, где Иртыш сливался с мутными водами Оби. На диво донцам, не бывавшим севернее Великого Новгорода, ночи стали неслыханно короткими. Едва наступали сумерки, суда приставали к берегу. Не успевали люди поужинать и помолиться к ночи, солнце снова выходило на небо.
Вскоре прояснились и те редкие сумерки с едва различимыми звездами, встретились на небе сестрички ласковые: заря вечерняя, темная, с зарею утренней, красной. И свет поборол тьму. Черти с визгом ринулись в подземные убежища, запирая ворота меднокаменные до других времен. Отдыхая от ратных трудов, могучий старец Илья Пророк вложил огненный меч в ножны, и расправились седые брови на его суровом лице.
Две реки, соединившись, растекались по равнине, образуя сотни проток и стариц. Ватажные кормщики стали плутать среди них, выспрашивая березовских людей, куда вести караван. Те, по наставлению воеводы, сами взялись править судами. Места были им знакомы.
Не доходя двадцати верст до устья Сосьвы, выше которого стоял непашенный город Березов, коч со стругом и коломенкой повернули в узкую протоку. Вода в ней была стоячей, как в озере. Промышленные с песнями налегали на весла и когда заметили за бортами судов течение, воеводские люди объявили, что это уже не Обь, а Сосьва. Дальше можно было идти самосплавом до Березова-города.
Холмогорец Бажен Попов в том городе бывал и вел торг, но по прошествии лет многое забыл о пути среди проток и островов. На расспросы устюжан и холмогорцев березовские казаки степенно отвечали, что в здешних краях, на Оби, нет мест, удобных для поселений. Сосьва в низовьях течет почти в одном направлении с Обью. Между реками много низких мест, заливаемых весенним половодьем. И только северный берег Сосьвы благодаря высоте сухой.
Караван приближался к старинному городу, поставленному промышленными, пермяками-зырянами да новгородцами задолго до Ермака. Звонко шлепая себя по щекам, люди отбивались от наседавшего гнуса. Федотка Попов спрашивал подремывавшего баюна:
– Дед, здешние люди говорят, будто город этот старый, а Сибирь молода. Сколь Березову лет?
– Сто! – не задумываясь ответил старец и поправился: – А то и больше. Сказывают, еще у деда Грозного царя служил воевода Курбский. И в те еще годы ходил он с войском за Югорский камень, тогда еще застал здесь город, заселенный мезенцами и зырянами. Отряды Ермака, что бежали на Русь после гибели атамана, тоже добирались до этих мест…
– Белогорье! Красота-то какая! – глядя на восток, на холмы в дымке, радовался погодок Угрюмки с Федоткой Ивашка Галкин – поздний сын березовского атамана-ермаковца. В сопровождении двух казаков он ходил с таможенной казной в Тобольск к главному сибирскому воеводе и теперь возвращался домой, исполнив поручение отца-атамана. Казачок важничал среди ровесников, до их шалостей не снисходил. С обозными разговаривал степенно, часто хмурил рыжие брови и напрягал горло, выговаривая слова сиплым баском. Только в конце пути, увидев родные места, Ивашка разволновался.
Угрюмка не понимал его восторгов: невыспавшийся, поеденный гнусом, он оглядывал поросшую лесом, сырую, заболоченную равнину, приземистые холмы, с тоской вспоминал подмосковные леса, привольные северские степи. Молодые устюжане Семейка Шелковников с Ивашкой Москвитиным тоже с тоскливыми лицами оглядывали окрестности. Атаманскому сыну показалось, что они чего-то недопонимают, и он с пылом стал указывать шапкой на завидневшиеся купола церкви, на башни города.
– Вон-на, Калтокожские юрты, – защебетал звонким голосом, – а там, к полночи от Белогорья, – мольбище. У вогулов и остяков есть своя богородица. Сказывают, сидит с сыном на блюде, вся из золота. Дикие воду на них льют и с того блюда пьют, чтобы здоровье укрепить.
Угрюмка вспомнил курганщиков и рассказы стариков на Иванову ночь о всяких кладах. Федотка стал насмешливо выспрашивать:
– Поди, здешний люд про золотую бабу только и думает? Сибирцы все про золото говорят да про меха.
– Не-е! – замотал головой атаманский сын. – Нам ворованного даром не надо… Сказывают старики, трое лихих людей нашли ту бабу. Двое сразу померли, третьего отыскали в болотах остолбеневшего. Принесли его в город, батюшка ему язык отпустил, он и рассказал, что видел с товарищами и что они замыслили.
У диких заговор есть, – зашептал крестясь, – кто ту бабу увидит и захочет украсть – там и помирает… Они много чего по тайге прячут. У них своя Святая Троица есть, святой гусь – и все из золота… Как-то идем с казаками через болото, видим – островок. Вышли посушиться – берестяная юрта, по сторонам от входа в вогульской одежде из рыбьих кож две бабы деревянные. Мы, помолясь, в юрту-то глянули – шайтан… Деревянный.
– А кабы золотой? – вспомнил Угрюмка чудскую бляху.
– Спаси, Господи! – сморщив нос, боязливо перекрестился казачок. – По нашему ли догляду случайному, по другой ли причине в тот год бунт остяцкий был. Мы в крепости отсиживались. А прошлый год пожар случился. – Он вдруг смутился своей невольной горячности, надел отороченную куницами шапку, поправил длинную саблю на боку и прежним сипловатым баском стал наставлять попутчиков: – Не-е! На чужих богов пялиться – беда неминучая!
Восьмиконечный крест на носу коча стал нацеливаться на черные сваи пристани. Судно медленно разворачивалось. Распахнулись тесовые ворота города. Встречать караван вышло едва ли не все население Березова. На берегу собралось до сотни человек. Радостно звонили колокола Вознесенской церкви, со стены палили крепостные пищали. Воевода Палицын велел приветствовать березовцев холостыми выстрелами. Казаки и дети боярские подсыпали пороху на запалы пищалей, раздули фитили и дали нестройный ответный залп.
Семисаженный плоскодонный коч неуклюже пристал к причалу. Ниже к вязкому берегу приткнулась коломенка. На пристани, крытой почерневшим тесом, прибывших встречал березовский воевода в собольей шубе, накинутой поверх парчового кафтана с высоким воротом. По одну сторону от него стоял письменный голова в собольих штанах, заправленных в сафьяновые сапоги, по другую – седобородый атаман в собольей шапке, в кафтане, отороченном собольими лоскутами. В руках он держал древко хоругви. В первых рядах с иконами Михаила Архангела и Николы Чудотворца стояли поп с дьяконом, приказчик, два сына боярских в красных шапках. За ними толпились лучшие люди города с детьми и женами.
С берега были поданы широкие сходни. Воевода Андрей Палицын, крестясь и кланяясь на три стороны, ступил на них красными сапожками. С двух сторон его поддерживали под руки сыны боярские. За воеводой неспешно двинулись березовские казаки с атаманским сыном. После всех сошли купцы. Крестясь, они приложились к иконам, откланялись березовскому воеводе, письменному голове, атаману и всему честному люду, собравшемуся на берегу.
Угрюмка с завистью глядел, как атаманский сын, на голову ниже сопровождавших его казаков, сошел следом за мангазейским воеводой, степенно откланялся горожанам, березовскому воеводе, письменному голове, атаману. Срывающимся баском стал докладывать об исполненном поручении. Всем своим видом он показывал старшинство по чину и роду.
Тень великого Ермака через подвиги отца падала на него. Как тяжкий, но спасающий крест, с ранних лет он нес отблеск славы, которую не смел запятнать. И слава отца предопределяла его поступки. Это были другие судьбы – не те, что у Похабовых: без роду и племени, то посадских, то беглых, то казаков, то гулящих – и везде только наполовину своих.
Промышленные прибывшей ватажки отстояли вечерю в Воскресенском соборе перед иконами, которые были принесены в Сибирь дружиной Ермака. После службы и исповеди Ивашка Галкин повел донцов в соборную избу городовой казачьей сотни. Время было позднее, но северный день не думал кончаться. В одних домах давно спали, возле других сидели на лавках городские девки, с любопытством поглядывали на гостей, перешептывались и приглушенно прыскали от смеха. Угрюмка в ветхом охабне с чужого плеча, в шлычке да в чунях из невыделанной кожи стыдливо опускал глаза. Ему казалось – смеются над ним.
В прошлом году город горел. Стены были подновлены, но за ними еще чернели погорелые дворы, кособочились пропахшие сырой золой времянки. Угрюмке это неприятно напомнило что-то из детства. И если бы не Пантелей Пенда, рвавшийся смотреть Ермаково знамя, он бы вернулся на коч.
Город засыпал. Притихли даже собаки и петухи, хотя солнце только склонилось к лесу, пламенея в одночасье зарей вечерней и утренней. Караульные позевывали на стенах, уныло поглядывали в прозрачную, ясную даль.
На крыльце соборной избы, завернувшись в собачью нагольную шубу, полулежа похрапывал белобородый старик. Одной рукой он обнимал тяжелую саблю в сафьяновых ножнах, другую подложил под седую голову.
– Дед Полено! – громко крикнул атаманский сын. – Саблю украли.
Старик открыл глаза, скосился на темляк, опутанный бородой, неспешно сел и, покряхтывая, приветливо взглянул на Ивашку.
– Кого привел? Купцов ли, промышленных?
– Своих не узнаешь? Казаки с Дона! – крикнул Ивашка. Видно, старик был туговат на ухо. – Покажи Ермаково знамя, шибко хотят видеть.
Сильно приволакивая левую ногу и припадая на нее, старик отпер дверь, пропустил всех в избу, с гордостью указал на знамя, расправленное по стене. Угрюмка отметил про себя, что холст от ветхости выцвел, а кожаные латки ссохлись.
Пантелей Пенда, смахивая слезы рукавом жупана, попросил разрешения приложиться к полотну. Караульный казак по прозванью Полено величаво и снисходительно кивнул:
– Иных от хвори исцеляет!.. А мне милости не-ет! – Зевнул, крестя бороду. – В церкви не согнуться – спину ломит… И нога… – Старик похлопал ладонью по приволакивавшейся левой, пошамкал: – Грешен! С атаманом Брязгой много немирных перевешали за ноги. Не всегда по вине: бывало – для острастки.