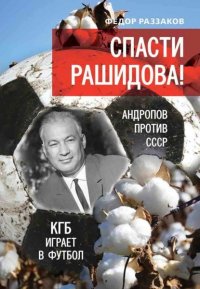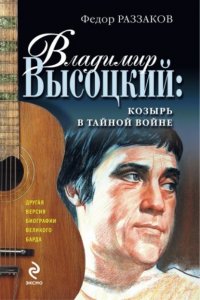
Читать онлайн Владимир Высоцкий: козырь в тайной войне бесплатно
- Все книги автора: Федор Раззаков
ПРЕДИСЛОВИЕ
За почти тридцать лет, прошедших с момента смерти Владимира Высоцкого, о нем в разных странах вышли сотни книг. Факт, несомненно, отрадный, если бы не одно «но»: несмотря на то что написаны они разными людьми и посвящены различным периодам в жизни и творчестве Высоцкого, подход у них неизменно один – либеральный. В основе этого подхода лежит следующий принцип: предмет исследования (Высоцкий) априори объявляется носителем положительного начала, а почти все отрицательное в его судьбе олицетворяет собой государство, а конкретно – советская власть. Подобный подход вполне логичен, если учитывать, что и сам Высоцкий принадлежал к либеральному лагерю, а также то, что именно представителей этого политического течения можно смело назвать победителями в том противостоянии, которое длилось в нашей стране примерно с середины ХХ века до начала нынешнего – вплоть до сегодняшнего мирового финансового кризиса. В итоге победители усердно мифологизировали мировую и постсоветскую историю, пытаясь таким образом как оправдать себя, так и закрепить свои идеологические позиции.
Идея этой книги родилась у автора на волне упомянутой мифологизации, как естественное желание взглянуть на предмет исследования с иных позиций. Это своего рода ответ тем высоцковедам и либералам, кто упорно не желает видеть в теме «Владимир Высоцкий» иных подходов, кроме устоявшихся. Кто боится нетрадиционного анализа таких скользких тем в биографии своего кумира, как «Высоцкий и евреи», «Высоцкий и КГБ», «Высоцкий и французская компартия» и т. д. Даже если таковые темы ими и затрагиваются, то исключительно тенденциозно – причем тенденция опять же либеральная, с явным антисоветским уклоном. У книги, которую читатель держит в своих руках, тенденция иная – просоветская. На мой взгляд, пришла пора обнародовать и ее – не все же одним либералам подгонять под себя историю, руководствуясь принципом, что победителей не судят.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
МЕЖДУ РУССКИМ И ЕВРЕЕМ
Владимир Высоцкий родился 25 января 1938 года в Москве в интернациональной семье. Его мама – Нина Максимовна Серегина – была русской, а отец – Семен Вольфович (Владимирович) Высоцкий – евреем. Мама будущего поэта и актера родилась в 1912 году в Москве, ее родителями были русские люди крестьянского происхождения: Максим Иванович Серегин (одно время он работал швейцаром в московской гостинице «Фантазия») и Евдокия Андреевна (домохозяйка). Отец Владимира родился в 1915 году и род свой вел от евреев с польскими корнями: Вольфа Высоцкого (имел несколько специальностей: юрист, экономист, химик) и Деборы (Ириады) Бронштейн (работала акушеркой).
Интернациональный союз еврея Семена и русской Нины продержался недолго и распался спустя три с половиной года. Формальным поводом к этому стала война, куда Семен Владимирович был призван фактически с самого начала (служил в войсках связи). Там он и встретил свою новую любовь – Евгению Лихолатову, к которой ушел в конце 43-го. Отметим, что его новая супруга была то уже не чистокровной русской – в ее жилах текла и армянская кровь (родилась она в Баку, в девичестве была Мартиросовой, а Лихолатовой стала, когда вышла замуж за сотрудника Главного управления Шосдора НКВД СССР Ростислава Лихолатова). Самое интересное, чтоо и Нина Максимовна, выйдя вскоре повторно замуж, опять выбрала не своего соплеменника – славянина, а человека с нерусской фамилией Григорий Бантош. В итоге юный Высоцкий, который попеременно проживал то в одной семье (у матери), то в другой (у отца), опять оказался в интернациональном окружении.
Среди детских и юношеских друзей Высоцкого были дети самых разных национальностей, но евреев среди них было опять же немало. Среди последних: Игорь Кохановский, Яков Безродный, Аркадий Свидерский, Анатолий Утевский, Аркадий Вайнер, Владимир Меклер, Всеволод Абдулов и др. Особенно много времени в детские и юношеские годы (1949–1955) Высоцкий проводил в квартире Утевских (она находилась в том же доме, где жил и герой нашей книги: Большой Каретный переулок, 15): юриста Бориса Самойловича и его жены, бывшей актрисы немого кинематографа. Вот как об этом вспоминает их сын Анатолий:
«Поскольку мы с Высоцким постоянно были вместе, многие считали нас братьями. Даже в воспоминаниях о Высоцком кое-кто упорно называет меня старшим братом Володи (Анатолий был старше Высоцкого на четыре года. – Ф. Р.). Думаю, Володю наш дом привлекал уютом, теплом и добрым к нему отношением моих родителей…
Володя приглянулся моему отцу. Порой они вели долгие беседы о книгах, о каких-то жизненных ситуациях. И если Володька некоторое время не появлялся, отец спрашивал, где он, почему не приходит. (Отметим, что Борис Самойлович Утевский был весьма известным в стране юристом, в разное время встречавшимся с такими выдающимися людьми, как юристы А. Ф. Кони, И. В. Крыленко, Н. П. Карабчиевский, Ф. И. Плевако, писатель А. М. Горький, певец Ф. И. Шаляпин, политик А. В. Луначарский и т. д. Когда в самом начале 60-х Утевскому, по причине ухудшения здоровья, понадобилось сменить квартиру на более комфортную – с лифтом в подъезде, – он написал письмо лично Хрущеву, и такая квартира ему была тут же предоставлена. – Ф. Р.)
В наших семейных походах в кино иногда участвовал и Володя. Обычно это случалось тогда, когда мне лень было одному ехать за билетами. Он охотно соглашался, выторговывая порцию мороженого. После кино мама обычно приглашала Володю на чашку чая. И это была ее маленькая хитрость. Дело в том, что мы с отцом пытались под разными предлогами улизнуть от обсуждения увиденного фильма. Володя же с радостью принимал участие в таких разговорах. Они подолгу сидели с мамой в столовой, несколько раз подогревался чайник, добавлялось варенье в вазочки… Я удивлялся терпению друга и пытался вытащить его из столовой. Он отмахивался, а потом сердито выговаривал: «Не суйся, твоя мама дело говорит…»
В нашем дворе маму называли «барыней». Может быть, за то, что она была всегда элегантна и даже тяжелые сумки носила с каким-то изяществом. А может быть, за шик красивой женщины, который она сохранила еще со времен немого кино. И за то, что не любила судачить у подъезда, обходила стороной местных кумушек и лишь кивала им в знак приветствия. Мама была гордой. Володя сказал как-то с восторгом: «Господи, какая же у тебя мама!..»
В 1955 году, когда Высоцкий решил съехать от отца (с Большого Каретного) и переехал жить к матери (дом №76 на Первой Мещанской), трехкомнатную квартиру в коммуналке они делили опять же с еврейской семьей Яковлевых: Гисей Моисеевной и ее сыном Михаилом (позднее Высоцкий упомянет эту женщину в своей песне «Баллада о детстве»). Отметим, что Михаил был на 12 лет старше Высоцкого, но это вовсе не мешало их близкому общению, вплоть до того, что первый посвящал второго во многие свои дела и увлечения. Среди последних фигурировал знаменитый КВН – Клуб веселых и находчивых, в котором еврейская молодежь занимала не последнее место (А. Аксельрод, А. Донатов и др.). Таким образом, еврейское окружение (и его влияние) на Высоцкого было большим и существенным практически с младых ногтей, и длилось оно на протяжении всей его жизни.
Первый поворотный момент в жизни Высоцкого случился в 1956 году. Именно тогда он бросил учебу в Московском инженерно-строительном институте (МИСИ) и вступил на актерскую стезю – поступил в Школу-студию МХАТ. Судя по всему, на этот шаг Высоцкого в первую очередь подвигли личные мотивы – любовь к искусству, к которому он приобщился в юношеские годы, когда посещал драмкружок в Доме учителя под руководством В. Н. Богомолова. Однако учитывая, что каким-то особенным актерским талантом Высоцкий в юности не блистал, а также то, что в СССР подобных кружков были десятки тысяч и большинство кружковцев также мечтали стать артистами, шансов для поступления у нашего героя было, прямо скажем, немного. Но большим подспорьем ему в этом деле стали события, которые были тесно увязаны все с тем же еврейским вопросом.
Именно в 56-м еврейская элита стала предпринимать активные шаги к тому, чтобы вернуть себе то влияние и положение в обществе, которые она имела каких-нибудь 20 лет назад – до сталинской «кадровой революции» конца 30-х, когда вождь народов заметно оттеснил ее от власти. Почему оттеснил? Видимо, он усмотрел в еврейском влиянии не пролетарскую, а мелкобуржуазную основу и испугался, что если оно продолжится, то социализму грозит перерождение в свою полную противоположность – в капитализм. Причем при активном содействии Запада. По его же словам: «Международный капитал не прочь будет „помочь“ России в деле перерождения социалистической страны в буржуазную республику».
В борьбе с надвигающимся злом Сталин прибег к комбинированному способу: административно-идеологическому. Начались репрессии, а также руль государственного управления страной начал разворачиваться в русскую (державную) сторону, поскольку а) подавляющую часть пролетариата в СССР составляли именно русские и б) Сталин прекрасно понимал, что в предстоящей войне с германским нацизмом (а что такая война случится уже в ближайшем будущем, он нисколько не сомневался) основная тяжесть ляжет опять же на русских, которые тогда составляли 75% населения СССР. Как писал известный философ и историк В. Кожинов:
«Кардинальные изменения политической линии Сталина в середине 1930-х годов главным образом определялись, надо думать, очевидным нарастанием угрозы войны – войны не „классовой“, а национальной и, в конечном счете, геополитической, связанной с многовековым противостоянием Запада и России…»
Выиграть эту войну Сталин мог только в единственном случае: собрав страну в единый и мощный кулак, а также опираясь на патриотизм не просто советского, а русского народа. Ведь в ближайшем будущем именно «русскому Ивану» предстояло взвалить на себя всю тяжесть небывалой войны и доказать всему миру, кто он – гой или герой. Именно поэтому начался поворот сталинского режима к традиционному пониманию Родины и патриотизма.
Отметим один любопытный факт. Еще в середине 20-х в низах общества в большом ходу была карикатура, нарисованная неизвестным художником. На ней была изображена река с высокими берегами. На одном из них стояли Троцкий, Зиновьев и Каменев (все евреи), на другом – Сталин, Енукидзе, Микоян, Орджоникидзе (все кавказцы – три грузина и один армянин). Под картинкой был весьма лаконичный текст: «И заспорили славяне, кому править на Руси».
Суть карикатуры была понятна каждому жителю СССР: страной правят в основном люди не русские. Однако эта ситуация стала меняться уже во второй половине 20-х годов, когда из высшего руководства партии (из Политбюро) были выведены евреи Троцкий, Зиновьев и Каменев. В 1934 году Политбюро было уже более чем наполовину славянским: из 10 его членов и 5 кандидатов десять человек были славянами (русскими и украинцами), один еврей, три кавказца и т. д. Точно такие же процессы постепенно происходили и в низовых структурах власти, где славян также становилось все больше.
Эти процессы, естественно, не могли понравиться той части советской элиты, которая обладала немалым большинством, – евреям во власти. Объединившись с другими противниками Сталина, они затеяли убрать его из руководства. Так внутри высшего советского руководства (государственно-партийного и военного) в 1936–1937 годах созрел заговор (дело «Клубок»). Однако Сталин оказался расторопнее. Начались репрессии, которые вышли далеко за рамки политических, затронув собой и миллионы простых советских людей (то есть война элит затронула и низы общества).
Репрессии серьезно зачистили руководящую советскую верхушку, формировавшуюся два десятилетия. В среде либеральных историков до сих пор бытует мнение, что репрессии 1937 – 1938 годов своим острием были направлены главным образом против евреев. Но так ли это было на самом деле? Да, в числе жертв значительное количество составляли лица именно данной национальности. Но связано это было только с тем, что они, во-первых, доминировали практически во всех руководящих звеньях советского общества, во-вторых – их было много среди заговорщиков (Тухачевский, Якир, Гамарник, Фельдман и др.). Как уже говорилось, они ринулись во власть сразу после революции 17-го года, и этот процесс с тех пор длился непрерывно (особенно сильным он был в годы НЭПа). А ведь еще прозорливый философ В. Розанов в 1917 году в своем «Апокалипсисе нашего времени» предостерегал евреев от «хождения во власть», утверждая, что «их место – у подножия трона». Увы, эта точка зрения была проигнорирована – уж больно сильным оказался соблазн. Как отмечал все тот же историк и философ В. Кожинов:
«Широко распространены попытки толковать 1937 год как «антисемитскую» акцию, и это вроде бы подтверждается очень большим количеством погибших тогда руководителей-евреев. В действительности обилие евреев среди жертв 1937 года обусловлено их обилием в том верхушечном слое общества, который тогда «заменялся». И только заведомо тенденциозный взгляд может усмотреть в репрессиях 1930-х годов противоеврейскую направленность. Во-первых, совершенно ясно, что многие евреи играли громадную роль в репрессиях 1937 года; во-вторых, репрессируемые руководящие деятели еврейского происхождения нередко тут же «заменялись» такими же, что опрокидывает версию об «антисемитизме»…»
Возвращаясь к Высоцкому, напомним, что он не избежал «кровнородственной связи с еврейством». Во-первых, по отцовской линии, во-вторых – по линии своих будущих жен. Правда, сначала, по молодости лет, он женился на женщине славянских (русско-украинских) корней – Изольде Жуковой, с которой познакомился в самом начале своей учебы в Школе-студии МХАТ. Причем здесь он почти в точности повторил путь своего отца. Как мы помним, тот тоже сначала женился на славянке, но их брак продлился чуть больше трех с половиной лет. Его сын прожил со своей первой женой почти столько же – четыре года (с осени 57-го по осень 61-го). После чего женился на женщине с еврейскими корнями – Людмиле Абрамовой. Впрочем, не будем забегать вперед и вернемся во вторую половину 50-х.
Высоцкий бросил МИСИ в самом начале 56-го, а в Школу-студию МХАТ поступил летом того же года. Именно тогда весь мир оказался взбудоражен докладом Н. Хрущева «О культе личности Сталина», произнесенным им на ХХ съезде КПСС (февраль 56-го). Этот доклад произвел в обществе эффект разорвавшейся бомбы и всколыхнул буквально всех, в том числе и людей, кто старался быть далеким от политики. К последним относился и наш герой – Владимир Высоцкий. Однако и ему после хрущевского доклада пришлось искать мучительные ответы на многие вопросы, касающиеся как недавнего прошлого, так и настоящего. В частности – предстояло определиться по главному вопросу: об отношении к Сталину. И Высоцкий определился, навечно занеся его имя в свой «черный список».
Отметим, что он в этом плане прошел типичный путь многих антисталинистов. Например, до 56-го он относился к вождю народов вполне благожелательно и в момент его смерти (а Высоцкому на тот момент было уже 15 лет) даже разродился стихотворением «Моя клятва», где написал следующее:
- Опоясана трауром лент,
- Погрузилась в молчанье Москва,
- Глубока ее скорбь о вожде,
- Сердце болью сжимает тоска…
Как мы теперь знаем, эту свою клятву Высоцкий хранил в сердце недолго, после чего нарушил без всякого зазрения совести, превратившись в ярого антисталиниста. И большим подспорьем ему в этом было его окружение – та либерально-интеллигентская среда, в которой он продолжал активно вращаться после поступления в Школу-студию МХАТ. В этой среде Сталин проходил по категории злодеев – нечто сродни Гитлеру. Таким образом еврейская элита мстила вождю народов за его кадровую революцию конца 30-х, а также за свой многолетний страх, который она вынуждена была испытывать при строительстве его державно-патриотического проекта.
Вопрос об отношении к Сталину краеугольным камнем лежал в основе идеологии двух важнейших политических течений, боровшихся за место под кремлевским солнцем: державников и либералов-западников. Если последние воспринимали вождя народов однозначно как злодея, то державники смотрели на него более диалектически: признавая за ним отдельные тяжкие грехи (властолюбие, жестокость), они в то же время многие его неблаговидные поступки объясняли влиянием внешних факторов – фракционной борьбой внутри партии, сложной международной обстановкой и т. д.
Высоцкому подобная диалектика была чужда, и все его знания о временах сталинского правления, судя по всему, базировались на рассказах таких людей, как Б. Утевский или А. Синявский (один из его преподавателей в Школе-студии МХАТ). Да еще на материалах доклада Хрущева на ХХ съезде, который хотя и воздавал должное отдельным сталинским решениям, однако в целом оценивал его правление крайне негативно. Именно так к нему и относился Высоцкий, который считал, что вождь народов повинен чуть ли не во всех недостатках и пороках советской системы. Кумиром либералов тогда был Ленин, дело которого, как они считали, Сталин предал и опорочил.
Итак, атаку Хрущева на Сталина еврейская элита целиком и полностью поддержала, за что и нарекла то время высокопарным словом «оттепель» (с легкой руки писателя Ильи Эренбурга), на что державники вскоре ответили своим определением – «слякоть» (с легкой руки Михаила Шолохова). Еврейской элитой также были поддержаны и другие начинания Хрущева, в том числе и заявления о том, Советский Союз готов к мирному сосуществованию с Западом и что диктатура пролетариата себя изжила и на смену ей должно прийти общенародное государство. Хотя фактически народ к управлению страной допускать никто не собирался, зато неограниченные возможности получала бюрократия, которую Хрущев почти полностью освободил от страха наказания (существенно ограничив роль репрессивных органов).
Все эти заявления ясно указывали на то, что новый руководитель государства был типичным волюнтаристом (в чем его правильно обвинят соратники несколько лет спустя). Таким образом он, видимо, решил усыпить бдительность Запада и осуществить своеобразную мировую революцию: переориентировать большинство стран третьего мира в социалистическом направлении, победить капитализм мирным путем и уже в недалекой перспективе (через 20 лет) построить в СССР коммунизм.
Поскольку сближение с Западом подразумевало под собой проведение либеральных реформ, Хрущев смело пошел на них, совершенно не опасаясь разрушить многое из того, что с таким трудом возводил Сталин. Со стороны даже создавалось впечатление (и оно, судя по всему, было верным), что Хрущеву невероятно нравится разрушать воздвигнутое ранее. Как говорится, ломать не строить. В итоге этот процесс принес больше вреда, чем пользы.
Фактически при Хрущеве были заложены предпосылки для будущего развала СССР, а именно: произошла разбалансировка политического и экономического управления страной, дискредитация идеологии, взяло свой старт некритичное соревнование с капиталистической системой, которое в итоге привело к переформатированию (обуржуазиванию) как высшей государственной элиты, так и большинства простого населения. А началось все вроде бы с невинного на первый взгляд лозунга «Догоним и перегоним Америку!». В этом лозунге решающим было первое слово, которое невольно ставило советских людей перед вопросом: раз надо догонять, значит, мы в числе отстающих? Как напишет чуть позже И. Шафаревич:
«Россию столкнули на чужой путь, а русский народ – в некотором смысле „идеологический“, мы можем жить, понимая, что жизнь наша идет к какой-то цели. А вот перегнать кого-то – таким смысл жизни быть, конечно, не может. Когда Россия была поставлена в положение „догоняющего“, она тем самым признала отказ от поиска своего пути. И тем самым признала себя „отстающей“, а западные страны „передовыми“ – автоматически из этого следует. Это была духовная капитуляция перед Западом, перед всей западной цивилизацией…»
Кроме этого, началась почти открытая борьба за влияние внутри самой советской элиты между двумя, уже упоминаемыми выше, течениями – державным и либерально-западническим. В условиях жесткой сталинской системы они вынуждены были весьма осторожно балансировать на грани прямого противостояния, а когда это сделать все же не удавалось, то тогда следовали репрессии (как это было в конце 30-х–40-х и в самом начале 50-х). Но после смерти вождя народов и связанным с этим ослаблением репрессивного аппарата, созданного им, политические течения получили значительно большую свободу в своей деятельности и даже стали дробиться. В итоге к середине 50-х державники не только разделились на три крыла: центристы-государственники, сталинисты и почвенники, но стали все дальше расходиться в своих взглядах на политическое и экономическое развитие СССР. Например, сталинисты исповедовали более жесткие методы в руководстве страной, в классовом подходе к событиям, происходящим как внутри ее, так и вовне. В своих воззрениях они исходили из того, что «холодная война» сродни войне горячей и поэтому требует от советских людей не меньшей мобилизации и бдительности.
Центристы и почвенники смотрели на «холодную войну» несколько иначе. Они считали устаревшим сталинский лозунг о том, что по мере строительства социализма классовая борьба обостряется, и полагали, что с господами-капиталистами рано или поздно можно договориться жить если не в согласии, то в мире. Почвенники к тому же стояли на националистических позициях и особо отстаивали приоритет титульной нации (русских) над остальными. Отметим, что сталинисты, среди которых тоже было немало русских, во многом разделяли национализм почвенников, однако он в их понимании опять же основывался на сталинском подходе: как уже отмечалось выше, с середины 30-х годов вождь народов начал выделять русских из всех наций, населявших СССР (особенно заметно это было в иделогии), однако этот процесс имел свои пределы и жестко пресекался, если рамки, очерченные Сталиным, нарушались (пример: «ленинградское дело» конца 40-х).
Что касается либералов-западников, значительное большинство которых составляли евреи, то они остались монолитны как организационно (хотя ни о каком официальном членстве, как и в остальных течениях, речь и здесь не шла), так и идейно: они также были против классового подхода, но главное – стояли на позициях более тесного сотрудничества с Западом, которое, по их мнению, сулило СССР большие выгоды: во-первых, если не окончание «холодной войны», то, во всяком случае, снижение ее накала, и во-вторых – мощный рывок в политическом и экономическом развитии посредством введения в советскую систему элементов западной демократии и рыночного хозяйства.
Принципиальное разногласие между державниками и западниками проходило именно по границе вопроса о размерах и формах сближения с Западом: в то время как государственники и почвеннники в целом были готовы поддержать подобное сотрудничество, сталинисты выступали за существенное ограничение подобных контактов и их жесткую фильтрацию (например, для них было категорически неприемлема установка связей почвенников с белогвардейско-монархической эмиграцией в Европе). Поэтому державников часто называли охранителями, а западников прогрессистами.
Наверное, единственным пунктом, где сходились интересы всех перечисленных выше групп, была позиция к репрессивной политике Сталина в отношении самой элиты. Оно было отрицательным. В итоге в этом вопросе был достигнут консенсус: то есть на смену репрессиям должна была прийти более мягкая и щадящая политика, которая убирала из сталинской конструкции страх представителей элиты за свою жизнь, заменив его страхом за свою карьеру. Для этого, собственно, и была сужена роль главного репрессивного органа – КГБ. Как покажет будущее, во многом именно эта реформа и приведет в итоге к перерождению большей части советской элиты и предательству ею интересов страны.
Отметим, что западные спецслужбы не только хорошо были осведомлены о всех нюансах существующих разногласий внутри советской элиты, но и тщательно их изучали и, что называется, «вели» – то есть постоянно пытались на них влиять, как внутри страны, так и вне ее. Для этого в ЦРУ в самом начале 50-х годов был значительно расширен «советский отдел», посредством включения в него филиалов из дочерних спецслужб практически всех западных странах (например, издательство «Посев» и радиостанция «Свободная Европа», расположенные в ФРГ и курируемые тамошним БНД под прикрытием ЦРУ, большой упор в своих материалах делали на обработку советских почвенников и западников). Отметим, что в той же БНД к работе против Советов были привлечены нацистские преступники – те, кто ушел от возмездия благодаря укрывательству со стороны противников СССР.
Главную ставку на свою победу в будущем западные спецслужбы делали все же на западников, особо выделяя среди них еврейскую интеллигенцию. Эта прослойка занимала существенные позиции в элитах большинства стран Восточного блока (в СССР, ЧССР, Венгрии и Польше) и могла, по мнению западных стратегов, вольно (или невольно) помочь им разрушить Восточный блок изнутри. И первые попытки в этом направлении были предприняты вскоре после смерти Сталина: во время восстания в Венгрии в 1956 году и в ходе политического кризиса в Польше год спустя. В обоих случаях детонатором событий была именно элита еврейского происхождения (например, в Венгрии евреи составляли значительное большинство в органах МГБ), которая во многом была ориентирована на сближение не столько с Западом, сколько с Израилем и его верным союзником США.
В своих идеологических атаках на СССР западные спецслужбы активно использовали все тот же доклад Хрущева «О культе личности Сталина», произнесенный на ХХ съезде. Шеф ЦРУ Аллен Даллес немедленно дал команду своим сотрудникам раздобыть копию текста доклада. И те выполнили задание, благо это не составляло большого труда – текст документа оказался на руках у многих руководителей социалистических компартий, и кто-то из них (по одной из версий, это были поляки) передал его за рубеж. В итоге доклад оказался в ЦРУ и там в него внесли 34 фальшивые правки (они усугубляли обвинения в адрес Сталина и социализма вообще). После этого Даллес передает доклад своему брату, государственному секретарю Джону Фостеру Даллесу, а тот в свою очередь публикует его сначала на страницах «Нью-Йорк таймс» (4 июня 1956-го), а потом и французской «Монд» (6 июня) (отметим, что обе газеты принадлежали еврейскому лобби: одна в США, другая во Франции).
Когда слух об этих публикациях дошел до СССР, то в ответ… не последовало никакой официальной реакции, хотя обычно в подобных случаях власть всегда разоблачала «происки буржуазных фальсификаторов». Видимо, такова была установка Кремля: ведь публикации в западных газетах играли на руку Хрущеву, который готовил уже новую атаку на своих политических оппонентов внутри страны. И козыри на руках у него опять были убойные: на том же ХХ съезде он сумел существенно обезопасить свои тылы, проведя в состав ЦК КПСС множество своих сторонников. Так, среди членов ЦК более трети – 54 из 133 – и более половины кандидатов – 76 из 122 – были избраны впервые. Отметим, что во многих случаях это были люди, ранее связанные с Хрущевым: более 45% работали на Украине, были на Сталинградском фронте, работали с Хрущевым в Москве.
Как уже отмечалось, еврейская элита горячо поддержала «оттепель» и повела мощное наступление на советское руководство с тем, чтобы застолбить за собой стратегические высоты. И в этом деле им самую активную помощь оказывали их зарубежные соплеменники (что во многом и пугало советские власти). Отметим, что в международном коммунистическом движении евреи всегда играли одну из ведущих ролей. Ведь они составляли чуть ли не половину состава всех европейских компартий не только на Востоке, но и на Западе. Не осталось в стороне от этого процесса и мировое еврейство (международный сионизм), которое посредством этой карты ставило целью существенно поколебать авторитет СССР в мире. В итоге с весны 56-го советское руководство было буквально атаковано внутренними и внешними евреями сразу с двух сторон.
Эта атака была не случайной, а прямо вытекала из действий противоположной стороны – державников, – которые стали активно выдвигать на авансцену большой политики так называемый «русский вопрос», подразумевавший расширение прав русского большинства. В этих целях в верхах был, что называется, продавлен проект создания Бюро ЦК КПСС по РСФСР (это решение осуществлялось в рамках решений ХХ съезда КПСС о расширении прав союзных республик и было проведено в жизнь 27 февраля 1956 года). Помимо председателя (им стал по совместительству Н. Хрущев), в состав Бюро вошли три секретаря ЦК КПСС, первые секретари обкомов наиболее крупных областей (Московской, Ленинградской, Горьковской), а также руководитель правительства России.
В рамках этого политического Бюро, объединившего в первую очередь политиков-державников, начали создаваться и другие структуры, которые стали объединять державников-идеологов: писателей, художников, кинематографистов, музыкантов, ученых и т. д. В итоге в РСФСР были созданы свои: Союз писателей, Союз художников, Союз композиторов, Сибирское отделение Академии наук СССР в Новосибирске. С июля 1956 года стал издаваться печатный орган РСФСР – газета «Советская Россия», создано общество «Знание» РСФСР.
На фоне этих событий начала свою активизацию и противоположная сторона – еврейская. Как пишет «Краткая еврейская энциклопедия»: «Сотни советских евреев из разных городов в той или иной форме принимали участие во встречах возрождающихся сионистских групп и кружков, активными участниками этих групп были старые сионисты, сохранившие связь с родственниками или друзьями в Израиле…»
Заграничные евреи действовали не менее активно. Уже в мае 1956 года в Москву прибыла делегация французской социалистической партии, которая в своих переговорах с Хрущевым особое внимание уделила… положению евреев в Советском Союзе. Советский руководитель ответил следующим образом:
«В начале революции у нас было много евреев в руководящих органах партии и правительства… После этого мы создали новые кадры… Если теперь евреи захотели бы занимать первые места в наших республиках, это, конечно, вызвало бы неудовольствие среди коренных жителей… Если еврей назначается на высокий пост и окружает себя сотрудниками-евреями, это, естественно, вызывает зависть и враждебные чувства по отношению к евреям».
В августе того же года Москву посещает делегация канадской компартии, которая опять же озабочена «еврейской проблемой» в СССР. Члены делегации так и заявляют: мол, у нас есть специальное поручение добиться ясности в еврейском вопросе. Однако Хрущеву и здесь хватило упорства отрицать какие-либо притеснения евреев в СССР. Более того, он пошел в атаку на канадцев, заявив, что у него у самого невестка – еврейка, а также сообщил, что у евреев есть ряд негативных черт – например, ненадежность их в политическом отношении.
Хрущев знал, что говорил. Судя по всему, он был прекрасно осведомлен об их роли в том перевороте, который готовился в конце 30-х, но еще больше знал об их роли в конце 40-х. Тогда (в 1948-м) Сталин помог евреям обрести свое государство – Израиль, в надежде, что оно станет верным союзником СССР в «холодной войне». Однако израильтяне в итоге переметнулись на сторону более богатого Запада. То есть те же американцы попросту купили израильскую элиту, а евреев в самих США попросту запугали, устроив судилище над супругами Розенберг (они передали секреты атомной бомбы советской разведке и были за это казнены по приговору их же соплеменника – судьи Верховного суда США Кауфмана). Причем евреи, в надежде спасти супругов, пытались дать взятку самому президенту Трумэну, но тот не изменил своего решения, поскольку в деле была замешана геополитика.
Но вернемся к событиям 1956-го.
Общаясь с делегацией канадской компартии, Хрущев поддержал Сталина (!), который в свое время не захотел отдавать евреям Крым, а выделил им место для их автономии на севере страны – в Биробиджане. «Колонизация Крыма евреями явилась бы военным риском для Советского Союза», – заявил Хрущев. (Отметим, что за два года до этого Хрущев, видимо, чтобы эта проблема больше не дискутировалась, передал полуостров Украине.)
Короче, как ни настаивали канадцы на признании советским руководством того, что евреи являются пострадавшей от советской власти нацией (речь даже шла о публикации сответствующего постановления ЦК КПСС!), Хрущев на это не пошел. В ответ он заявил следующее: «Другие народы и республики, которые тоже пострадали от бериевских злодеяний против их культуры, их работников искусств, с изумлением задали бы вопрос: почему заявление только о евреях?»
Между тем дело на этом и не думало заканчиваться. В октябре 26 прогрессивных еврейских лидеров и писателей Запада обратились к советским руководителям с публичным заявлением, где требовали признать совершенные в недавнем времени несправедливости в отношении советских евреев и принять меры для восстановления еврейских культурных учреждений.
После этого воззвания в советском руководстве произошел раскол: многие руководители стали выступать за то, чтобы пойти навстречу еврейской общественности. В планах этих людей было создание еврейского издательства, еврейского театра, еврейской газеты, литературного трехмесячника, созыв всесоюзного совещания еврейских писателей и культурных деятелей и создание комиссии по возрождению еврейской литературы на идише. Однако в этот процесс внезапно вмешалась большая политика, а именно события на Ближнем Востоке, где в октябре 1956 года началась арабо-израильская война. Советский Союз в ней занял сторону первых, что, естественно, не могло понравиться еврейской элите в СССР.
Все эти события перевесили чашу весов в СССР в сторону державников и сталинистов – то есть тех, кто не хотел идти навстречу еврейским притязаниям. Правда, полного разгрома этих притязаний не последовало, да и не могло последовать – не для того Хрущев затевал «оттепель» и разоблачал Сталина. Поэтому уже со следующего года (1957-го) начались определенные послабления евреям: были разрешены еврейские чтения и концерты по всей стране (последние в год посещало порядка 200–300 тысяч человек), изданы книги Шолом-Алейхема (целое собрание его сочинений), стал выходить журнал «Советиш Геймланд» и т. д.
В это же время в кинематографе появилась так называемая «новая волна», существеную роль в которой играли режиссеры-евреи, причем некоторые из них прошли фронт (Григорий Чухрай, Александр Алов и др.). Вообще среди советской творческой интеллигенции значительную долю составляли евреи, и почти все они по-прежнему поддерживали Хрущева в большинстве его реформ (за исключением ближневосточной проблемы). И хотя евреи часто критиковали Хрущева за его непоследовательность, однако в то же время надеялись на то, что он приручаем – то есть рано или поздно сумеет стать их опорой в борьбе за те преобразования, которые помогут им вновь вознестись на вершину советского политического Олимпа и сделать страну удобной для проживания прежде всего им, евреям.
В среде творческой элиты наиболее остро размежевание между державниками и либералами проходило у литераторов. Вот как это описывает историк Н. Митрохин:
«В 1957 году размежевание между литературными группировками начало приобретать институционализированные и признаваемые партийно-государственным аппаратом формы. Решение о создании СП РСФСР было принято вскоре после выступления Н. С. Хрущева на встрече руководителей страны с участниками Третьего пленума правления ССП 13 мая 1957 года – первого выступления, четко направленного против той части интеллигенции, которая ожидала либерализации в стране (Хрущев, по-видимому, разочаровался в политических реформах, был напуган антикоммунистической революцией в Венгрии и ростом недовольства среди студенчества и молодежи). В декабре того же года прошел учредительный съезд нового союза, на котором его председателем стал «беспартийный большевик» Л. Соболев, а многие другие русские националисты или люди, сочувствующие этим взглядам, заняли административные посты. Центральный печатный орган СП РСФСР – газета «Литература и жизнь» – стал оппонентом любых либеральных начинаний в литературе, а принадлежащий союзу альманах (затем журнал) «Наш современник» стал одним из главных журналов движения русских националистов. Некоторые из подчинявшихся СП РСФСР местных писательских организаций и многие региональные журналы также попали под влияние русских националистов и стали проводниками их политики…»
Несколько особняком в этом ряду стояли кинематографисты, которым тогда в отличие от писателей не разрешили создать полноценный Союз, и в итоге было создано всего лишь Бюро Союза работников кинематографии (июль 1957-го). Думается, связано это было с тем, что половина работников кинематографии были евреями (больше, чем где-либо), которым советские власти, даже несмотря на «оттепель», опасались давать широкие полномочия.
ГЛАВА ВТОРАЯ
С КЕМ ПОВЕДЕШЬСЯ…
Именно с 1956-го еврейская молодежь, ринувшаяся в престижные вузы, получила более широкие возможности для поступления туда, поскольку власти сняли некоторые ограничения в приеме туда евреев. Ведь после сталинской «кадровой революции» конца 30-х доля последних среди студентов значительно сократилась. Так, если в 1936 году она в 7,5 раза превышала общую долю евреев в населении страны, то двадцать лет спустя – уже в 2,7 раза. Однако «оттепель» дала еврейской молодежи существенный шанс в этом деле. Отметим, что к тому времени (конец 50-х) евреев в СССР насчитывалось почти 3 миллиона и большая их часть (почти 2 млн. 200 тысяч) жила в крупных городах, что облегчало еврейской молодежи процесс поступления в вузы.
Кроме этого, значительное число преподавателей там опять же составляли евреи, которые теперь получили возможность делать существенные поблажки своим молодым соплеменникам. И даже несмотря на то, что наш герой – Владимир Высоцкий – являлся евреем лишь наполовину, да и то лишь по отцу (а у евреев в этом деле предпочтение отдается матери), и во всех анкетах писал, что он русский, в любом случае он имел чуть больше шансов поступить в вуз, чем любой из тех советских абитуриентов, кто приехал в Москву искать счастья на актерском поприще и не имел в своих жилах ни капли еврейской крови. Опоздай Высоцкий лет на пять с поступлением в творческий вуз, и тогда ситуация могла бы сложиться совершенно иначе – в начале 60-х власти начнут сокращать прием евреев в некоторые вузы. Но во второй половине 50-х ситуация играла на руку евреям. Даже тем, которые являлись ими наполовину, поскольку среди евреев всегда бытовало твердое убеждение, что еврея наполовину не бывает. Короче, Высоцкий был замечен. О том, кем именно, рассказывает театровед Александр Гершкович:
«Педагог по мастерству Высоцкого Борис Исаакович Вершилов (один из основателей еврейского театра „Габима“, близкий друг М. А. Булгакова), набиравший в 1956 году актерский курс, поверил в Высоцкого и под свою ответственность настоял на зачислении его в Школу-студию…»
Отметим, что никакими выдающимися талантами Высоцкий на момент поступления не блистал, да и во время учебы какое-то время был в числе пусть крепких, но середняков: у него были нелады со сценической речью, танцами и другими дисциплинами. Кроме этого, он уже начал грешить по части выпивки. За эти «художества» его легко могли отчислить из вуза еще в самом начале, но этого не случилось – во многом благодаря заступничеству нового руководителя курса (вместо умершего в 58-м Б. Вершилова) Павла Массальского, который в молодости сам любил «заложить за воротник» и поэтому снисходительно относилсяся к загулам своих студентов. Как рассказывает театровед Б. Поюровский:
«У Володи академических срывов не было. Никогда. По линии поведения – были. Но Павел Владимирович Массальский – руководитель курса – так все „замазывал“, что от этого и следа не оставалось. И не только по отношению к Володе, но и по отношению к любому своему студенту. Он этим славился. С ним никто ничего не мог сделать, и его студенты всегда грешили дисциплиной. Павел Владимирович был человеком несказанной доброты и редкостного благородства. Его все очень любили и бывали у него дома.
Павел Владимирович обожал Володю, и я считаю, что беда Высоцкого в дальнейшем была во многом связана с обожанием Массальского. На других курсах очень строго было насчет выпивки, а на этом – просто. Правда, в те годы Павел Владимирович был уже болен и говорил мне, что после шести часов вечера ему нельзя пить даже чай. Только стакан кефира. Но из-за того, что он сам когда-то выпивал, был снисходителен к этому греху у других. И, конечно, его студенты этим грешили…»
Вообще увлечение Высоцкого спиртным было большой редкостью в еврейской среде. Еврей-пьяница – это было нонсенсом. Но мы помним, что Высоцкий был евреем лишь наполовину, и именно вторая его половина (русская), видимо, и подвела его по этой части. Вполне вероятно, недуг передался ему по наследству от его деда по материнской линии – Максима Ивановича Серегина, который был уроженцем села Огарево Тульской губернии. В 14-летнем возрасте он приехал в Москву на заработки и сначала подносил чемоданы на вокзалах, а позднее устроился швейцаром в гостиницу с поэтическим названием «Фантазия». Его чрезмерное увлечение алкоголем, видимо, через поколение передалось внуку.
А началось все, как уже говорилось, в юности. В пяти минутах ходьбы от дома №15 по Большому Каретному, в котором жил Высоцкий, в 1-м Колобовском переулке, раскинул свои владения построенный еще при последнем российском монархе винный завод. Поэтому окрестным жителям вино доставалось чуть ли не даром – рабочие выносили. Может быть, поэтому свои первые эпиграммы Высоцкий называл соответствующим образом: «Напившись, ты умрешь под забором» (написана в 1962 году и посвящена Игорю Кохановскому, с которым Высоцкий сидел за одной школьной партой), «Кто с утра сегодня пьян?» (написана в том же 62-м и посвящена лидеру их дворовой компании Левону Кочаряну), «В этом доме большом раньше пьянка была» (написана в 1963 году и посвящена однокурснику Высоцкого по Школе-студии МХАТ Георгию Епифанцеву, пять лет спустя сыгравшему роль Прохора Громова в телефильме «Угрюм-река»).
Друг юности Высоцкого сценарист Артур Макаров позднее вспоминал: «В нашей компании было принято – ну как вам сказать – выпивать. Сейчас я пью немного, но не только по причине того, что я старше и болезненнее, а по причине того, что редко наступает в тебе такой душевный подъем, такое созвучие души с компанией, когда хочется это делать дольше, поддерживать в себе, дабы беседовать, развлекаться и для этого пить, иногда ночи напролет.
Мы не пили тупо, не пили для того, чтобы пить, не пили для того, чтобы опьянеть. Была нормальная форма общения, подкрепляемая дозами разного рода напитков».
Но как бы романтично ни звучали слова Макарова об идейной основе юношеского пития, все же факт остается фактом: именно те шумные застолья приучили Высоцкого к спиртному. Ведь в той компании только он, и еще его одноклассник Владимир Акимов, были самыми младшими, и поэтому желание подражать, ни в чем не уступать своим старшим товарищам толкало Высоцкого в объятия спиртного. Даже за вином в ближайший магазин на углу Каретного и Садовой бегали именно они, салаги – Высоцкий и Акимов.
В те же юношеские годы Высоцкий пристрастился и к другому делу, определившему впоследствии его судьбу, – игре на гитаре. Началось же это в 1955 году, когда к 17-летию мама подарила ему первую в его жизни гитару. Одноклассник Высоцкого Игорь Кохановский позднее вспоминал:
«Когда я учился в 8-м классе (1953 год), кто-то из соседей по квартире показал мне пять-шесть аккордов. Варьируя их, можно было вполне сносно подыграть любой песне. Довольно быстро я набил руку и исполнял почти весь репертуар Александра Вертинского… Через два года Володя – тогда мы оканчивали 10-й класс – попросил меня научить его струнным премудростям. Он тоже довольно быстро освоил нехитрую музграмоту, но до моих «технических изысков» ему было тогда далеко».
Когда Высоцкий поступил в Школу-студию МХАТ, увлечение гитарой не являлось для него преобладающим. Но все тот же педагог Борис Вершилов заставил его обратить на это дело самое серьезное внимание. Вот как об этом потом будет вспоминать наш герой:
«Борис Ильич (многие советские евреи заменяли свои истинные имена и отчества на русские. – Ф. Р.) сказал мне: «Вам очень пригодится этот инструмент», – и заставил меня овладеть гитарой. Он прочил мне такую же популярность, как у Жарова, и поэтому, дескать, необходимо уметь играть на гитаре, но до жаровской популярности мне далеко (Михаил Жаров прославился на всю страну своими «куплетами Жигана» в первом звуковом советском фильме «Путевка в жизнь» 1930 года выпуска. – Ф. Р.)…»
Если Вершилов подвиг Высоцкого всерьез заняться игрой на гитаре, то другой человек – поэт, композитор и певец Булат Окуджава – сподобил его заняться певческим искусством. По словам Высоцкого, он услышал однажды на магнитофоне песни Окуджавы и решил переложить собственные стихи на нехитрую гитарную музыку. Тем более что гитарная песня тогда входила в большую моду, свидетельством чему было и возникновение движения бардов, и исполнение гитарных песен с большого экрана (подобные песни пели любимые народом актеры вроде Николая Рыбникова, Юрия Белова и т. д.).
Булат Окуджава стал исполнять свои песни публично с 1956 года. Вспоминая те годы, критик К. Рудницкий писал: «В комнаты, где пел Окуджава, тесной гурьбой набивались слушатели. Юноши и девушки приходили с магнитофонами системы „Яуза“. Его записывали, его переписывали. Записи Окуджавы быстро расходились по стране. Люди приобретали магнитофоны по одной-единственной причине: хотели, чтобы дома у них был свой Окуджава.
Вот это было внове. Раньше-то поклонники Утесова или Шульженко собирали пластинки, чтобы под звуки очередного шлягера скоротать субботний вечерок, а то и потанцевать. В этом же случае возникла совсем иная потребность: певец понадобился как собеседник, как друг, общение с которым содержательно, волнующе, интересно. Слушали не песню, не отдельный номер – слушали певца… Он еще ни разу не появился на концертных подмостках, а его уже знали повсюду».
Анатолий Утевский, на глазах которого Высоцкий впервые взял в руки гитару, вспоминал: «Петь Володя начал еще мальчишкой. Садился на диван, брал гитару и тихонечко, чтобы не мешать присутствующим, что-то пел, подыгрывая себе. Мне его занятия на гитаре были неинтересны, к тому же он подбирал по слуху чужие, где-то услышанные мелодии. Пытался он сочинять и что-то свое, но получалось невразумительно – жизни он не знал, словарный запас был невелик… И тем не менее Володя упорно терзал гитару, учился посредством слова выражать мысли…»
Судя по тому поэтическому наследию Высоцкого, которое было опубликовано после его смерти, первые его песни датированы самым концом 50-х. В этих песнях еще нет того жесткого конфликтного стержня, который станет присущ последующим песням Высоцкого, хотя и целиком бесконфликтными их тоже назвать нельзя. Например, в песне «Если б я был физически слабым…» главный герой раздираем весьма непростыми внутренними противоречиями:
- Если б я был физически слабым –
- Я б морально устойчивым был, –
- Ни за что не ходил бы по бабам,
- Алкоголю б ни грамма не пил!..
Главный конфликт героев песен Высоцкого (а через них и его самого) в то время был завязан еще не на системе, а на пагубной привычке – пристрастии к спиртному. Поэтому практически во всех тогдашних его песнях присутствует выпивка.
Конфликт с системой будет вызревать в Высоцком постепенно и не без влияния того окружения, в котором он будет вращаться. Если бы он, к примеру, остался в МИСИ и получил профессию строителя, наверняка этот конфликт проявился бы тоже. Но он бы имел совсем иную форму. Это не был бы конфликт с системой, а лишь с отдельными ее недостатками или пороками. Однако судьба уготовила Высоцкому другую среду – интеллигентскую, да еще в основном еврейскую, которая всегда была критически настроена по отношению к существующей власти. Особенно со второй половины 30-х, когда руль государственного строительства был повернут в державно-патриотическую сторону. Именно в этой среде Высоцкому доходчиво и объяснили, что советская система не есть идеал, а скорее даже наоборот. Что на земле есть другая система, западная, и тамошняя демократия гораздо глубже и эффективнее советской. И что именно к такой демократии и надо стремиться. Наверняка Высоцкий и сам задумывался об этом, но эти мысли не могли выстроиться в единое целое, поскольку не имели под собой научной основы. Она появилась у нашего героя только тогда, когда он с головой окунулся в либерально-еврейскую среду. Именно она, что называется, «вправила ему мозги»: во-первых, подняла его образовательный уровень на приличную высоту, во-вторых – указала тот путь, по которому отныне будет развиваться его конфликтная натура.
Итак, став студентом Школы-студии МХАТ, Высоцкий стал активно вращаться в среде еврейской интеллигенции. Так, он становится частым гостем в семье писателя Виктора Ардова и его жены, артистки МХАТ Нины Ольшанской, – через знакомство с сыном Ардова Борисом (он был сводным братом Алексея Баталова, которого Ольшанская родила еще будучи в браке с другим человеком – артистом МХАТ В. Баталовым). Кроме этого, он входит в другую известную мхатовскую семью – Осипа Наумовича Абдулова, опять же познакомившись в июне 1960 года с его сыном Всеволодом – абитуриентом Школы-студии МХАТ. Этого человека Высоцкий потом станет называть своим самым близким другом. Вот как о первой встрече с Высоцким вспоминал позднее сам В. Абдулов:
«Моя первая встреча с Высоцким? Пришел я в Школу-студию МХАТ. А такая традиция – выпускники, несмотря на жуткую свою занятость – госэкзамены, дипломные работы, – обязательно не пропускают приемных экзаменов. Наверное, как это в песне прозвучит: „Я видел, кто придет за мной“. Вот они хотели увидеть – кто же придет за ними к тем же педагогам, на тот же курс. Мы туда шли, где Володя Высоцкий только что прокрутился эти четыре года. И они сидели и за нас болели. Володя стал за меня болеть, помогать мне. И так получилось, что мы подружились, чтобы уже не расставаться последующие двадцать лет. Мы с ним встретились, и никогда между нами не было выяснения – кто младше, кто старше, а я младше его почти на пять лет…»
Во многом благодаря еврейской поддержке стали раскручиваться песенная и киношная карьера Высоцкого. Так, в качестве протеже его первых концертов оказались известный кинорежиссер Сергей Юткевич (автор фильмов о Ленине) и директор студенческого клуба МГУ Савелий Дворин. Именно первый уговорил второго приблизительно в 1960 году пригласить к себе на концерт «одного студентика с последнего курса Школы-студии МХАТ, кажется, из класса Массальского». Свидетель того концерта, родственник нашего героя Павел Леонидов, позднее вспоминал:
«Дней за пять до того концерта Дворину позвонили из 9-го управления КГБ и сообщили, что на концерте будет сам Поспелов (62-летний Петр Поспелов в те годы был не кем-нибудь, а кандидатом в члены Президиума (Политбюро) ЦК КПСС и секретарем ЦК по идеологии, лауреатом Сталинской премии и Героем Социалистического Труда. – Ф. Р.). Управление КГБ просило у Дворина места для охраны и план зала, фойе, закулисной части и т. д. и т. п…
Заканчивать концерт должен был жонглер Миша Мещеряков, работавший в ритме и темпе пульса сошедшего с ума… Перед Мещеряковым вышел на сцену парнишка лет восемнадцати на вид, подстриженный довольно коротко. Он нес в левой руке гитару. (Это и был Владимир Высоцкий.) Сел опасливо и как-то боком, потом миновал микрофон и встал у края рампы, как у края пропасти. Откашлялся. И начал сбивчиво объяснять, что он, в общем-то, ни на что не претендует, с одной стороны, а с другой стороны, он претендует, и даже очень, на внимание зала и еще на что-то. Потом он довольно нудно объяснял, что в жизни у человека один язык, а в песне – другой и это – плохо, а надо, по его мнению, чтобы родной язык был и в жизни, и в книгах, и в песнях – один, ибо человек ходит с одним лицом… Тут он помолчал и сказал нерешительно: «Впрочем, лица мы тоже меняем… порой…» – и тут он сразу рванул аккорд, и зал попал в вихрь, в шторм, в обвал, в камнепад, в электрическое поле. В основном то были блатные песни и что-то про любовь – не помню песен, а помню, как ревел зал, как бледнел бард и как ворвался за кулисы, где и всего-то было метров десять квадратных, чекист и зашипел: «Прекратить!» С этого и началась Володина запретная-перезапретная биография…
Володю после концерта караулили иностранные студенты часа два, а мы с Двориным улизнули через аудитории. Дворин благодарил Володю, жал ему руку, а на меня косил смущенный, добрый и перепуганный глаз…»
Здесь отметим несколько моментов. Во-первых, присутствие на рядовом, в общем-то, мероприятии (на клубном концерте) такого высокопоставленного деятеля, как Петр Поспелов. Он относился к «русской партии» в Президиуме ЦК (державник-государственник) и по роду своей деятельности (идеология) вынужден был внимательно следить за тем, чем живет общество. А там, как я уже отмечал, вовсю набирала популярность бардовская песня (тогда ее называли «гитарной»), а также уголовной фольклор. Поэтому понятно возмущение Поспелова блатным репертуаром Высоцкого и появление за кулисами взвинченного сотрудника «девятки».
Отметим, что для Поспелова его взгляды обернутся весьма печальным образом: осенью 1961 года, когда на XXII съезде КПСС Хрущев поведет новую широкомасштабную атаку на Сталина и державников, Поспелов будет выведен из состава кандидатов в члены Президиума и отправлен в почетную ссылку – директорствовать в Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК КПСС. А Высоцкий, как мы знаем, благополучно продолжит свою карьеру на гитарном поприще. Это к реплике мемуариста о том, что у Высоцкого была «запретная-перезапретная биография». Видимо, не такая она была и запретная. Впрочем, об этом речь еще пойдет впереди.
Другой интересный момент того концерта – желание иностранных студентов, присутствовавших на концерте, пообщаться после него именно с Высоцким. Чем же так привлек наш молодой герой иностранцев, которые наверняка мало что понимали в блатной лирике, исполняемой им? Думается, интересовала их личность самого певца, который в их глазах выступал полпредом полузапрещенного искусства в СССР. Запад вообще очень много станет уделять внимания исполнителям советской бардовской песни (посредством своих русскоязычных печатных изданий и радиоголосов) и особенно певцам «блатной» и социальной тематики. Ларчик здесь открывался просто: популяризация уголовного фольклора представляла прекрасный шанс западным идеологам, во-первых, отвращать советских людей от официального искусства и приобщать их к будущему торжеству зэковской морали (той самой, что восторжествует в России после развала СССР), во-вторых – на этом поприще легче было стричь купоны на теме «ужасов тоталитаризма».
Что касается вхождения Высоцкого в большой кинематограф, то там ситуация выглядела еще проще: чуть ли не половину тамошних работников составляли евреи, которые чаще всего помогали друг другу в карьерном продвижении. Как известно, первая роль Высоцкого в кино состоялась в 1959 году и ничем особенным не запомнилась. Может быть, потому, что режиссер был русского происхождения – Василий Ордынский с «Мосфильма». Фильм назывался «Сверстницы». Работу в нем Высоцкого можно назвать настоящей разве что условно: он появился на экране всего на несколько секунд и с одной-единственной фразой «Сундук или корыто». А вот его первая действительно большая роль состоялась год спустя в фильме двух других режиссеров, причем дебютантов: еврея Льва Мирского и армянина Фрунзе Довлатяна, «Карьера Димы Горина» на Киностудии имени Горького. Однако расскажем обо всем по порядку.
Летом 60-го Высоцкий с успехом закончил Школу-студию МХАТ и в качестве места работы выбрал Театр имени А. Пушкина. Его прельстило то, что в этот театр пришел новый режиссер – Борис Равенских (Ровенский). Был он родом из Курской области, а азы актерского и режиссерского мастерства постигал в Москве у двух выдающихся евреев: Всеволода Мейерхольда (Равенских считался одним из его самых любимых учеников) и Соломона Михоэлса.
Слава пришла к Равенских в самом начале 50-х, когда он поставил на сцене Театра сатиры спектакль «Свадьба с приданым» (эту постановку тогда же перенесли на широкий экран). В 56-м последовала новая удача режиссера – спектакль «Власть тьмы» по Л. Толстому на сцене Малого театра, который стал заметным явлением в советской театральной жизни. В нем явственно звучала мысль об опасности потребительской идеологии, которая главенствовала на Западе и могла в будущем захватить также и советский социум. Как писала театровед Т. Забозлаева:
«Равенских связал категорию социального зла в спектакле не с нищетой и бесправием личности (то, что всегда выпячивали либералы. – Ф. Р.), а с напором потребительских инстинктов в человеке, с его жаждой урвать от жизни больше, нежели положено тебе твоим трудом и талантом (именно эта идеология и победила в постсоветской России. – Ф. Р.). Не случайно знаменитый спор о банке оказался одним из центральных эпизодов спектакля. «Банка», как говорил Аким – своеобразный сказочный горшочек с кашей, – явился в спектакле символом безбедного существования: идут проценты, и пахать-сеять не надо. Но столь желанная и наконец обретенная освобожденность от труда обернулась опустошенностью души, беспросветным, пугающим мраком…»
«Власть тьмы» стал первым советским спектаклем, который два года спустя был показан в Париже. Естественно, когда Равенских возглавил Театр имени А. Пушкина, то многими это было воспринято как новая ступенька талантливого режиссера на пути к вершинам. Подумал так и Высоцкий, но очень быстро разочаровался. По его же словам: «Приглашали туда, и сюда… Я выбрал самый худший вариант из всего, что мне предлагалось. Я все в новые дела рвусь куда-то, а тогда Равенских начинал новый театр, наобещал сорок бочек арестантов, ничего не выполнил, ничего из этого театра не сделал, поставил несколько любопытных спектаклей, и все».
На мой взгляд, разочарование Высоцкого было вполне закономерным. И дело тут было не только в том, что ему там не находилось больших ролей. Высоцкого уже тогда начал терзать внутренний конфликт (как с его собственным внутренним Я, так и со средой, его окружавшей), и ему для выброса эмоций нужны были созвучные этому пристанища. В песне таковым стал блатной репертуар, а вот с театром тогда вышла неувязка – он его не нашел («Таганка» тогда хоть и существовала, но это был театр сугубо прогосударственный, творивший в жанре социалистического реализма, а в либеральный «Современник» Высоцкого, когда он надумает туда попасть, просто не возьмут, о чем речь еще пойдет впереди). Короче, Высоцкий оказался в чуждом для него месте. Театр имени А. Пушкина при Б. Равенских взял крен в зрелищную, балаганную сторону, а Высоцкому нужен был театр социальный, конфликтный. Как писала все та же Т. Забозлаева:
«…Используя драматургический материал как сценарий для режиссерских импровизаций, Равенских попытался поставить спектакль-праздник, спектакль-зрелище, откровенно балаганный („Свиные хвостики“) или плакатный („День рождения Терезы“). Само собой разумеется, без психологической разработки характеров, без претензии на глубокомыслие, с обилием музыки, песен, танцев. Первые постановки Равенских в Театре Пушкина имели как бы несколько „культпросветное“ значение. Но уровень, на котором эти режиссерские задачи были выполнены, оказался значительным, что не преминула отметить чуткая критика 1960-х. И главное, конечно, – в театр пошел зритель, над окошечком кассы появились аншлаги…»
Высоцкий от этого успеха был далек. В Пушкинском театре он с самого начала оказался на подхвате, балаган этот не разделял и в итоге практически никому там оказался не нужен. Разве что знаменитой актрисе Фаине Георгиевне Раневской – еврейке, которая, судя по всему, понимала его чувства и сочувствовала им, поскольку «балаган» под управлением Равенских тоже резко не одобряла. Как вспоминает первая жена Высоцкого И. Жукова:
«В театре у него была заступница – великая женщина и великая актриса, единственная женщина, к которой я по молодости ревновала Володю. Это – Фаина Георгиевна Раневская. Они обожали друг друга. И как только его увольняли, Фаина Георгиевна брала его за руку и вела к главному режиссеру. Видимо, она чувствовала в этом тогда еще, по сути, мальчишке, который в театре-то ничего не сделал, большой неординарный талант».
Итак, в театре Высоцкому помогала Фаина Раневская. Замечательная актриса, но продержавную советскую власть не любившая буквально до животных спазмов. Нелюбовь эта зиждилась не только на политической платформе, но и на личной. Уже тогда ходили слухи, что Фаина Георгиевна придерживалась нетрадиционной сексуальной ориентации, а это дело в СССР сурово каралось – вплоть до тюрьмы. И хотя в богемной среде практически никого за это не сажали, однако страх наказания все равно существовал. Во многом из-за этого страха в том же 61-м из страны сбежал ленинградский балерун Рудольф Нуриев. Раневская его примеру не последовала, но сам этот шаг очень даже поддерживала. Например, известен случай, который произойдет чуть позже – когда из страны надумает уехать Павел Леонидов (двоюродный брат Высоцкого). Вот как он сам опишет это в своих мемуарах:
«На площади Маяковского встречаю Фаину Георгиевну Раневскую. Эту актрису не смогла погасить даже советская власть. Актриса небывалой яркости, она играет и в жизни. Идет, сама целый мир, не видя мира вокруг, но это только кажется. Метра за три она кричит: „Уезжаешь?“ Я отвечаю, что да, уезжаю. „Ну и дурак“. Смотрю на нее вопрошающе, хочу пояснений. Они не заставляют себя ждать. Посреди страны стукачей она кричит: «Из этого дерьма надо не уезжать, а улетать!«…»
Но вернемся в самое начало 60-х.
Итак, в кино руку помощи Высоцкому протянули еврей Лев Мирский и армянин Фрунзе Довлатян (последний вполне мог знать, что мачеха у Высоцкого – женщина с армянскими корнями Евгения Лихолатова). Оба режиссера вспомнили о Высоцком в тот самый момент, когда он уже не надеялся попасть в их картину. А началось все в середине июля 60-го, когда Высоцкий принял участие в пробах на одну из ролей в фильме (они проходили в Большом ботаническом саду в Москве). Высоцкий пробовался сначала на роль шофера Софрона – шебутного парня из бригады монтажников, а потом – на роль бригадира монтажников Дробота.
Однако эти пробы Высоцкого не произвели должного впечатления на двух начальников с киностудии: ее директора Бритикова и худрука Сергея Герасимова. Отметим, что последний, как и Высоцкий, был полукровка – наполовину еврей, наполовину русский. Однако киношные евреи его откровенно нелюбили, поскольку Герасимов всегда и всюду в открытую поддерживал державников, за что удостоился от еврея Сергея Эйзенштейна прозвища «красносотенец». Короче, эти люди Высоцкого забраковали в обоих случаях. Но последнее слово оказалось отнюдь не за ними.
В начале осени съемочная группа отправилась на натурные съемки в Карпаты, в город Сколе (полтора часа на электричке от Львова). Съемки там начались 17 сентября и шли вполне благополучно. Но спустя неделю у молодых режиссеров стали возникать проблемы дисциплинарного характера. Особенно много хлопот стал доставлять им актер Лев Борисов (брат актера Олега Борисова; в 90-е Лев прославится ролью Антибиотика в телесериале «Бандитский Петербург»), который играл шофера Софрона. Мало того, что он постоянно учил дебютантов, как надо снимать кино, так он еще и дисциплину нарушал – позволял себе приходить на съемочную площадку «подшофе». В итоге терпение режиссеров лопнуло. 26 сентября Борисову объявили, что договор с ним расторгнут и он может уезжать обратно в Москву. А в столицу полетела срочная телеграмма на студию, чтобы в Сколе был прислан другой исполнитель – Высоцкий. И это при том, что режиссеры прекрасно были осведомлены о том, что тот тоже любил «заложить за воротник», однако ему этот грех был милостиво прощен. Так в послужном списке нашего героя оказалась первая относительно крупная роль в кино – шофер монтажников Софрон.
Кстати, свою вторую заметную роль в кино – матроса в «Увольнении на берег» (1962) – Высоцкий заполучил благодаря помощи его бывшего соседа по дому №15 в Большом Каретном переулке Левона Кочаряна (он был вторым режиссером фильма) и Феликса Миронера (режиссер-постановщик). То есть опять Высоцкого приютил интернациональный еврейско-армянский тандем. Все было в полном соответствии с аббревиатурой из четырех букв – СССР, которая расшифровывалась как Союз Советских Социалистических Республик. В этом Союзе подавляющее большинство наций (а их было больше сотни) жили в дружбе и согласии, деля на всех одну общую судьбу. Определенное этническое размежевание существовало в высшей советской элите (отсюда и существование группировок державников и либералов), однако в низах общества люди все-таки старались жить дружно и сплоченно. И стержнем этой дружбы были именно русские – титульная нация в СССР. Все как у А. Пушкина, который писал: «Русская душа, гений русского народа, может быть, наиболее способны, из всех народов, вместить в себя идею всечеловеческого единения… Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только… стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите…»
Та интернациональная компания, в которой с детства вращался Высоцкий, была тому ярким примером. Среди ее участников в ходу было следующее четверостишие, придуманное ими же самими:
- И артисты, и юристы
- тесно держим в жизни круг,
- есть средь нас жиды и коммунисты,
- только нет средь нас подлюг!
Один из участников той компании – сценарист Артур Макаров – впоследствии так прокомментировал эти стихи, названные «Гимном тунеядцев»: «Я был и остаюсь убежденным интернационалистом… Это сейчас я пообмялся, а тогда при мне сказать „армяшка“ или „жид“ – значило немедленно получить по морде. Точно так же реагировали на эти вещи все наши ребята. Так вот, в этой компании подлюг действительно не наблюдалось. Крепкая была компания, с очень суровым отбором».
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
НИЩЕЕ ВРЕМЯ – ПРЕДДВЕРИЕ СЛАВЫ
Осенью 61-го Высоцкий снялся в своей третьей крупной кинороли, а также круто изменил свою личную судьбу – познакомился с женщиной, которая не только стала его второй женой, но, главное, родила ему впоследствии двох детей. Речь идет о ленфильмовской ленте «713-й просит посадку» и актрисе Людмиле Абрамовой. Отметим, что и в этом случае без «еврейской руки» не обошлось: и ее, и Высоцкого в эту картину привел (вернее привела) один человек – второй режиссер фильма Анна Давыдовна Тубеншляк (главным режиссером был Григорий Никулин). Вот как она сама вспоминает об этом:
«Володю Высоцкого я нашла раньше: договор на съемки мы с ним подписали еще в июле… Как-то я была в московском Театре Пушкина и обратила внимание на молодого человека с гитарой – у него было очень любопытное, неординарное лицо. Если честно говорить, я даже не помню, в каком спектакле я его видела – у него там была проходная роль (как почти во всех спектаклях Театра Пушкина, где он принимал участие. – Ф. Р.). Вот так я и познакомилась с актером этого театра Володей Высоцким, записала его координаты и сказала, что обязательно вызову его на пробу. Всенепременно. Мы с ним распрощались.
Тут же меня встретил Борис Петрович Чирков, с которым я очень много лет была в самых дружеских отношениях – мы даже одно время вместе работали в ленинградском ТЮЗе. Он в это время работал в Театре Пушкина и спросил меня: «Кого выудила?»
– Высоцкого.
– Он парень очень одаренный, но ты с ним натерпишься.
– Ну что ж – не он первый, не он последний, – сказала я.
Володя работал в Театре Пушкина только второй сезон, но, очевидно, показал себя в каких-то делах не лучшим образом, я так полагаю. Я не стала выяснять, в каких именно, потому что, честно говоря, меня это не волновало: меня интересовал прежде всего сам актер… (Замечу, что на роль американского морского пехотинца, помимо Высоцкого, претендовало еще несколько молодых актеров, среди которых был и его приятель Михаил Туманишвили. Но выбрали в итоге именно Высоцкого. – Ф. Р.).
А с Людмилой Абрамовой дело вышло так. На главную женскую роль была утверждена актриса Нинель Мышкова, но она уехала в Киев, пробовалась там в какую-то двухсерийную картину – ей это показалось значительно интереснее нашей работы, и перед началом съемок, когда все актеры были уже утверждены, мы остались без главной актрисы. Надо было в срочном порядке искать нужную даму, и меня отправили в Москву…
Первым учреждением, в которое я кинулась, был ВГИК. Поначалу я стала смотреть старшекурсников, потому что, согласитесь, дама на такую роль должна быть неизвестной, интересной, «зазывной» – я бы даже сказала. Мне предложили курс… честно говоря, я уже не помню, у кого училась Люся. Я увидела барышню высокого роста, с очень любопытным лицом, посмотрела на нее и решила: «Это то, что нам надо!» Мы поговорили, сели в какой-то городской транспорт, поехали к ней домой, предупредили бабушку и маму, и, испросив разрешения во ВГИКе, мы в тот же день уехали в Ленинград…»
Знакомство Высоцкого и Абрамовой произошло при весьма необычных обстоятельствах. Собственно, любая другая девушка при них наверняка зареклась бы знакомиться с Высоцким и обходила бы его потом стороной. Но Абрамову, которая в институте была провозглашена первой красавицей и удостоилась титула «Мисс ВГИК», эти обстоятельства почему-то нисколько не смутили, а даже наоборот – подстегнули сойтись ближе с, в общем-то, невзрачным на вид Высоцким, да еще угодившим в пьяный скандал. Впрочем, послушаем ее собственный рассказ об этом:
«Оформить-то меня в Ленинграде оформили, но пока поставят на зарплату, пока то, пока се… А я уже самые последние деньги истратила в ресторане гостиницы „Европейская“, в выставочном зале.
Поздно вечером 11 сентября я поехала в гостиницу, ребята меня провожали. У каждого оставалось по три копейки, чтобы успеть до развода мостов переехать на трамвае на ту сторону Невы. А я, уже буквально без единой копейки, подошла к гостинице – и встретила Володю.
Я его совершенно не знала в лицо, не знала, что он актер. Ничего не знала. Увидела перед собой выпившего человека. И пока я думала, как обойти его стороной, он попросил у меня денег. У Володи была ссадина на голове, и, несмотря на холодный дождливый ленинградский вечер, он был в расстегнутой рубашке с оторванными пуговицами. Я как-то сразу поняла, что этому человеку надо помочь. Попросила денег у администратора – та отказала. Потом обошла несколько знакомых, которые жили в гостинице, – безрезультатно.
И тогда я дала Володе свой золотой перстень с аметистом – действительно старинный, фамильный, доставшийся мне от бабушки.
С Володей что-то произошло в ресторане, была какая-то бурная сцена, он разбил посуду. Его собирались не то сдавать в милицию, не то выселять из гостиницы, не то сообщать на студию. Володя отнес в ресторан перстень с условием, что утром он его выкупит. После этого он поднялся ко мне в номер, там мы и познакомились…»
Через несколько дней после этой встречи Высоцкий отбил телеграмму в Москву другу Анатолию Утевскому: «Срочно приезжай. Женюсь на самой красивой актрисе Советского Союза». Самое интересное, жениться Высоцкий собирался, не только не оформив развода с первой женой Изой, но даже не поставив ее в известность о своем новом увлечении. И эту новость он скрывал от жены почти полгода – до марта 62-го. Потом Иза узнала об этом сама – в Ростов-на-Дону позвонил кто-то из ее знакомых и буквально ошарашил новостью о том, что ее муж не только живет с другой женщиной (в квартире последней), но и то, что та беременна от него (и это при том, что ровно год назад, когда забеременела сама Иза, мама Высоцкого устроила ей скандал, из-за которого у нее случился выкидыш). Короче, официальной жене Высоцкого было от чего впасть в отчаяние. Она немедленно связалась с мужем: «Это правда?». – «Нет, – соврал Высоцкий. – Я вылетаю к тебе и все объясню». – «Как влетишь, так и вылетишь», – последовал лаконичный ответ, после чего Иза повесила трубу. А чтобы муж-изменник ее не нашел, она уволилась из ростовского театра и переехала в Пермь. И в течение двух лет она с Высоцким не общалась, он даже адреса ее нового не знал.
Вообще в те дни Высоцкому казалось, что его жизнь идет наперекосяк: он живет с новой женщиной, не расторгнув своего официального брака с первой женой, уходит из второго театра (Миниатюр), не проработав в нем и месяца. Он, кажется, ловит свою птицу удачи, не имея представления, что она из себя представляет и где обитает.
Давая определение тем годам в жизни Высоцкого, его жена Людмила Абрамова с горечью отметит: «…начало 60-х – такое время темное, пустое в Володиной биографии… Ну нет ничего – совершенно пустое время».
Об этом же и слова Олега Стриженова: «До „Таганки“ оставалось еще почти два с половиной года безработицы, скитаний по киностудиям с униженным согласием играть любые мелкие роли, какие-то кошмарные изнурительные гастроли на периферии…»
Да и сам Владимир Высоцкий запечатлел свое тогдашнее состояние в песнях.
- Так зачем мне стараться?
- Так зачем мне стремиться?
- Чтоб во всем разобраться,
- Нужно сильно напиться.
Кстати, о песнях Высоцкого. Именно в начале 62-го слава о нем как о певце блатной романтики начинает выходить за пределы Москвы. То есть совсем недавно, в конце 50-х, когда он только начинал свою песенную карьеру, блатной темы в его творчестве практически не было, а теперь она стала основой его песенного репертуара. Почему? На мой взгляд, здесь было несколько причин, причем все в той или иной мере лежали в плоскости политики.
Начнем с того, что именно в конце 50-х – начале 60-х в советском обществе началась широкомасштабная кампания по борьбе с преступностью, ставившая целью не просто снизить ее уровень, а… вообще искоренить в ближайшие два десятилетия (об этом чуть позже официально заявит Н. Хрущев). К этому делу были подключены не только органы МВД, но и общественность. В ноябре 1958 года по инициативе ленинградских рабочих в стране возникли первые Добровольные народные дружины. К середине следующего года в стране уже было 84 тысячи таких дружин, насчитывающих в своих рядах более 2 миллионов человек. Это чуть позже ДНД в массе своей превратятся в показушное мероприятие, за участие в котором людям приплюсовывали три лишних дня к отпуску, а тогда, в 50-х годах, это была реальная поддержка милиции в борьбе с уличной преступностью.
В том же 1958 году свет увидели «Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик», которые заменили собой действовавшие с 1924 года Основные начала уголовного законодательства СССР и союзных республик. Особенностью «Основ» 58-го года являлось сужение и смягчение ответственности за деяния, не представляющие большой опасности для общества и государства. Вместе с тем «Основы» усиливали ответственность за некоторые наиболее тяжкие преступления. В частности, они предусматривали ужесточение наказания для рецидивистов и других опасных антиобщественных элементов.
В советских СМИ эта кампания освещалась самым широким образом, причем первое время эйфория от нее была такая, что многие преступники реально «завязывали» со своим преступным прошлом и заявляли об этом публично на всю страну (посредством СМИ). Первым такую инициативу проявил некий четырежды судимый вор-рецидивист, который написал покаянное письмо самому Хрущеву (дело было в начале 1959 года). В письме сообщалось следующее:
«Начать свою старую преступную жизнь я не могу и не могу вернуться к семье, так как бросил ее без денег и в долгах. За пять лет, как я уехал, я не совершил ни одного преступления.
Я не боюсь ответственности и прошу Вас ответить советом, как мне быть. Я буду ждать ежедневно в течение этого времени, как только у меня хватит силы воли, буду ждать беседы с Вами. Если сочтете нужным меня арестовать, я и с этим согласен…»
Получив это письмо, Хрущев пригласил автора к себе. Их встреча состоялась через несколько дней и была, можно сказать, исторической. Глава государства, выслушав горести бывшего вора, пообещал ему помочь. Хрущев, в частности, сказал: «Я позвоню секретарю горкома партии, попрошу его, чтобы обратили внимание на вас, устроили на работу, помогли бы приобрести квалификацию… Вам дадут кредит, чтобы вы построили себе домик, или же попрошу, если есть возможность, чтобы вам дали квартиру, и тогда вы будете платить меньше…»
Как глава государства сказал, так, естественно, все и было сделано. Бывшего вора приняли на работу, он получил новую квартиру.
В конце мая того же года об этом случае Хрущев рассказал участникам Третьего съезда писателей СССР. А уже через три недели в ЦК КПСС родилась записка, в которой излагалась реакция заключенных страны на этот эпизод из речи Хрущева. Вот лишь небольшие отрывки из той записки:
«Выступление на III съезде писателей товарища Хрущева Н.С., и особенно в той части речи, где он говорил о приеме на личную беседу бывшего вора, привлекло исключительное внимание заключенных, содержащихся в местах заключения МВД РСФСР.
Подавляющее большинство заключенных положительно высказываются об этом выступлении, заявляя о том, что их судьба не потеряна, о них все больше проявляют заботу руководители партии и правительства.
Так, заключенный Ш., содержащийся в ИТК Свердловской области, говорил: «Действительно, жизнь в нашей стране в настоящее время изменилась, это видно из речей руководителей правительства. В настоящее время есть забота о тех лицах, которые раньше совершали преступления, их устраивают на работу, оказывают материальную помощь. Такой заботы нет ни в какой капиталистической стране…»
Заключенный П. (Кемеровская область) заявил: «Такого еще не было, чтобы руководители партии и правительства уделили внимание бывшему вору. А вот Н. С. Хрущев это сделал».
Заключенный Б., 1929 года рождения, осужденный к 3 годам ИТК, сказал: «Н. С. Хрущев верит нам, заключенным. Это не просто выступление, а указание, чтобы к нам, заключенным, после освобождения не относились так, как относились раньше. Теперь, после этого выступления, наверное, будет легче с пропиской, отразится и на новом кодексе, сроки будут давать меньше… Вот говорили, что Н. С. Хрущев жесткий представитель власти, а он нет, принял нашего брата и помог ему, это просто надо быть душевным человеком. Нет, что и говорить, а Хрущев все-таки голова, все он видит и везде успевает…»
В ИТК № 9 УМЗ Горьковской области заключенный П., 1935 года рождения, подлежащий условно-досрочному освобождению, ознакомившись с речью Н. С. Хрущева на съезде писателей, сказал: «Эта речь приведет к значительному уменьшению преступности. Я вырезал эту часть речи, где говорится о воре, и ношу ее на груди. Когда я освобожусь и поеду устраиваться на работу, она мне поможет…»
Все эти события не могли остаться без внимания заокеанских идеологов «холодной войны», которые вовсе не были заинтересованы в том, чтобы преступность в СССР пошла на снижение. Нет, рецидивистов на парашютах они к нам из-за океана не забрасывали, однако популяризировать тот же уголовный фольклор принялись весьма активно. Так, на западных радиостанциях, вещавших на СССР, было увеличено количество часов, отведенных блатным песням и рассказам о них, а в антисоветских издательствах начали печататься книги и брошюры на эту же тему, которые потом тайно привозились в СССР по различным каналам.
Руку помощи Западу в этом деле протянули и советские либералы-западники, которые ко многим подобным инициативам, спускаемым с кремлевского верха, относились, мягко говоря, скептически. Не могли они остаться в стороне и теперь, когда дело касалось такой проблемы, как борьба преступностью, где западники занимали однозначную позицию: советская власть сама преступна по своей сути, и все беды страны происходят от этого. А в качестве убойного аргумента приводили свою излюбленную тему – гулаговскую.
Отметим, что блатные песни всегда были популярны в СССР, однако у этой популярности были свои взлеты и падения. Причем к взлетам этим руку прикладывали все те же либеральные интеллигенты. В первый раз это случилось во времена НЭПа (20-е годы). Тогда одним из самых известных деятелей на этом поприще был писатель Исаак Бабель, который написал сценарий к первому советскому фильму «про бандитов» – речь в нем шла о легендарном одесском налетчике-еврее Михаиле Винницком, известном как Мишка Япончик (у Бабеля он был выведен под именем Бени Крика). Фильм по этому сценарию в 1927 году снял режиссер Борис Шумский, однако власти в самый последний момент запретили его к показу, обвинив в романтизации уголовного мира.
На тогдашней советской эстраде одним из самых известных популяризаторов уголовной романтики был опять же еврей Леонид Утесов (Васбейн), который пел эти песни с середины 20-х. Однако в самом начале следующего десятилетия те же власти запретили ему (как и другим его коллегам, исполняющим подобный репертуар) это делать. И Утесов весьма успешно переквалифицировался в певца лирического направления.
Второй взлет интереса к блатной тематике выпал на конец 50-х – начало 60-х (будет еще третий взлет – в 70-х). Он был связан с тем, что в те годы началась широкая реабилитация жертв сталинских репрессий и на свободу стали выходить тысячи бывших зэков. Все они несли с собой в гражданскую жизнь лагерные привычки, в том числе и тамошний фольклор: блатную «феню», песни. Тогда даже выражение такое появилось, запущенное с легкой руки поэта-либерала Евгения Евтушенко: «Интеллигенция поет блатные песни» (то есть даже в среде интеллигентов стала модной романтизация уголовной жизни). При этом немалую роль в приобщении широких масс к подобному фольклору играли именно евреи, многие из которых были склонны к различным нарушениям закона. Видимо, поэтому в дореволюционные времена именно они составляли большинство политических преступников (насчитывая среди населения России всего 4,2%, евреи тогда среди «политических» составили аж 29,1%!), а также среди уголовников и разного рода мошенников (одна знаменитая Соня Блювштейн, она же Сонька Золотая Ручка, чего стоит!). Кстати, и блатную «феню» придумали именно они – евреи.
Одним из неофициальных популяризаторов блатной песни в среде либеральной интеллигенции был педагог Высоцкого по Школе-студии МХАТ Андрей Синявский, который на эту тему написал целый трактат под названием «Тюремная консерватория». В нем он, в частности, писал:
«…Блатная песня тем и замечательна, что содержит слепок души народа (и не только физиономии вора), и в этом качестве во множестве образцов может претендовать на звание национальной русской песни, обнаруживая – даже на этом нищенском и подозрительном уровне – то прекрасное, что в жизни скрыто от наших глаз…»
Согласимся с автором в том, что блатная песня – это слепок души народа. Возразим в другом: что это слепок отнюдь не лучшей стороны человеческой души, так сказать, ее темной стороны. И беда тому обществу, которое возьмет в качестве своего ориентира именно эту сторону. В сегодняшней России так и получилось: здесь блатная – и ее верная сестрица приблатненная – песни по сути стали законодательницами мод в искусстве, вытеснив на периферию русскую народную песню. Скажете, случайно это произошло? Уверен, что нет, если учитывать, кто именно строит нынешний капитализм: господа либералы, духовные ученики того же А. Синявского. В том же своем трактате тот заметил:
«Славен и велик народ, у которого злодеи поют такие песни. Но и как он, должно быть, смятен и обездолен, если ворам и разбойникам дано эту всеобщую песню сложить полнее и лучше, чем какому-либо иному сословию. До какой степени поднялся! До каких степеней упал!..»
Слова-то верные, но одно хотелось бы спросить у их автора: зачем же надо было так активно помогать ворам и разбойникам сложить блатную песню полнее и лучше? Впрочем, вопрос этот неуместный, учитывая, к какому лагерю принадлежал Синявский – к либерально-западному. А именно его представители, как уже говорилось выше, и «курировали» блатную песню, активно выдавая ее за национальную (правда, без уточнения, какая именно нация имеется в виду). В то же время подлинную русскую народную песню пропагандировали представители противоположного легеря – державного. И не случайно, что именно с конца 50-х, параллельно росту популярности блатной песни, новый импульс для своего развития получил на советской эстраде и русский фольклор, где тогда засверкали новые имена (взамен старых в лице Лидии Руслановой и Марии Мордасовой, которые отошли на второй план). Это были: Ольга Воронец (в 1956 году она стала солистской Москонцерта, а с начала 60-х обрела всесоюзную славу, появившись на экранах ТВ), Людмила Зыкина (в 1960 году, уйдя из хора имени Пятницкого, она стала выступать сольно), Александра Стрельченко (ее слава началась после 1962 года, когда она, пройдя стажировку в ВТМЭИ, пришла работать в Москонцерт в качестве исполнительницы русской народной песни).
Так что даже на поприще массовой песни борьба двух течений (державного и либерального) происходила не менее интенсивно, чем в политике. И так же, как и там, была скрыта от широких глаз – то есть имела подковерный характер. Владимир Высоцкий в этой борьбе играл далеко не последнюю роль, поскольку именно с начала 60-х избрал для себя в качестве любимого песенного жанра блатную песню. Она оказалась ему особенно близка, так как все свое детство он провел в неблагополучном, с точки зрения правопорядка, районе. Окрестности вокруг Каретных улиц – Малюшенка, Косая, Бутырка – были буквально нашпигованы хулиганскими компаниями. Вечерами, а то и днем, приличному человеку там было пройти опасно – легко можно было нарваться на какого-нибудь уркагана или отмороженную шпану. Например, в соседнем с Большим Каретным Лиховом переулке «мазу держали» братья Долбецы, а в помощниках у них были персонажи с весьма колоритными кликухами: Мясо, Фара, Бармалей. Вспоминая о знакомых Левона Кочаряна (он жил в том же доме, что и Высоцкий, но несколькими этажами выше), тот же А. Утевский пишет:
«Круг Левушкиных знакомств был весьма пестрым, полярным и многоплановым. Некоторые его приятели составляли далеко не самую интеллектуальную часть общества. Скорее они примыкали к криминогенной, авантюрной его части. Со многими из них я был знаком. Кое-кого знал и Володя, которому тогда весьма импонировал их авантюрный образ жизни, возможность разными путями легко зарабатывать деньги и так же лихо, с особым шиком и куражом прокутить их. Днем они занимались какими-то сомнительными делишками, а вечером собирались в модных тогда ресторанах „Спорт“, „Националь“, „Астория“, „Аврора“. Эти ребята, несмотря на принадлежность к блатной среде, были фигурами весьма своеобразными, добрыми по своей натуре и обладавшими чертами справедливых людей. Авторитет Левы был у них огромен…»
Драматургия блатных песен позволяла Высоцкому ставить в них проблемы социальные, в частности – высвечивать конфликт отдельного индивидума не только со средой, но и со всем социумом (советским, естественно). Этот конфликт с определенного момента стал особенно бередить бунтарское нутро Высоцкого. Причем взгляд на этот конфликт у него формировался под влиянием либеральных, а не державных воззрений, которые прямо вытекали из той среды, в которой он продолжал вращаться, – то есть среды по большой части интеллигентско-еврейской. Она включала в себя его родственников по линии отца, а также ближайшее окружение: семьи Утевских, Яковлевых, Абдуловых, Ардовых и т. д. Сюда же входила и студенческая среда – преподавательский состав Школы-студии МХАТ почти весь состоял из либеральной интеллигенции, вроде того же Андрея Донатовича Синявского, которого Высоцкий не просто любил, а боготворил.
Много жаргонных словечек, пригодившихся Высоцкому в его блатном творчестве, он почерпнул из общения со своим отцом и дядей (младшим братом отца) Алексеем, который жил на Украине – сначала в Гейсине, потом в Мукачеве, куда юный Высоцкий приезжал отдыхать. Оба Высоцкие-старшие любили блатные песни, особенно нэпманских времен. Например, от них он узнал и выучил куплеты Зингерталя «На еврейском, на базаре», которые впоследствии использовал в спектакле Театре на Таганке «10 дней, которые потрясли мир» (правда, несколько изменив начальные строчки – заменив «еврейский базар» на «Перовский»).
Короче, Высоцкий должен был прийти в блатную тему, и он в нее пришел. Это было предопределено с самого начала, чего сам он, кстати, не скрывал. Еще на заре своей песенной карьеры он сочинил песню под названием «Сорок девять дней», которую можно смело назвать гражданско-патриотической: в ней речь шла о подвиге четырех советских моряков, которые волею судьбы оказались на барже в открытом море и продержались там 49 дней, пока к ним не пришла помощь. Однако эта песня оказалась единственной в своем роде и по сути была «проклята» Высоцким с самого начала. Вот как он сам охарактеризовал ее тогда же, выведя недрогнувшей рукой следующее резюме: «Пособие для начинающих и законченных халтурщиков». И далее: «Таким же образом могут быть написаны поэмы о покорителях Арктики, об экспедиции в Антарктиде, о жилищном строительстве и о борьбе против колониализма. Надо только взять фамилии и иногда читать газеты».
Таким образом, уже тогда Высоцкий выразил свое главное творческое кредо – никаких сделок с официозом. Отметим, что кредо это родилось на фоне поистине грандиозных свершений, которые тогда происходили в СССР и которые многих сверстников нашего героя вполне искренне завораживали. Например, в тех же газетах и журналах публиковались весьма простенькие стихи непрофессиональных поэтов, которые славили многие тогдашние начинания: целину, освоение космоса, ту же борьбу с преступностью и т. д. и т. п. Взять, к примеру, будущего коллегу Высоцкого по «Таганке» Леонида Филатова. В конце 50-х он подвизался писать в одной из ашхабадских газет (он жил там до своего переезда в Москву) гражданско-патриотические басни, призывающие молодых людей осваивать самые разные профессии. Другой их будущий коллега по актерскому цеху – Георгий Бурков – в те же годы задумал писать трактат о… грядущей победе коммунизма. Короче, многие молодые люди в те годы были по-настоящему увлечены пафосом грандиозного строительства, которое велось в СССР. Однако Высоцкий этого энтузиазма оказался практически начисто лишен, о чем наглядно свидетельствует история с песней «Сорок девять дней». Зато блатная тема захватила его, что называется, с головой.
Есть масса свидетельств того, что многим людям, кто слушал ранние песни Высоцкого, они нравились (будь иначе, наш герой вряд ли бы стал это дело продолжать). Причем в числе его почитателей были не только люди простые (что называется, «от сохи»), но и достаточно образованные. Среди последних, например, был уже упоминавшийся выше педагог Высоцкого в Школе-студии и будущий известный диссидент Андрей Синявский. По словам однокурсницы Высоцкого М. Добровольской:
«Синявский весьма ценил эти первые песни Володи. „Это был воскресный день“ или „Татуировка“… Да, ведь Андрей Данатович вместе с женой Марией Розановой сами прекрасно пели блатные песни!
Синявский был большим знатоком и ценителем такого рода народного творчества, и именно это он ценил в Володе. Как мне кажется, именно Синявский заставил Высоцкого серьезно этим заниматься… Он считал, что Володино раннее творчество ближе к народному. И до сих пор – мы недавно с ним разговаривали – Андрей Данатович думает, что это у Володи самое главное, настоящее…»
Обратим внимание на последнее утверждение. Синявский считал настоящим в творчестве Высоцкого блатной репертуар, а, скажем, не военный. Это не случайно, учитывая то, что для многих либерал-интеллигентов военная тема была поистине ненавистной. Особенно заметно это стало с середины 60-х, когда кремлевское руководство, возвращая руль государственного управления в державно-патриотическую сторону, стало повышенное внимание уделять теме Великой Отечественной войны (именно тогда был возвращен из опалы маршал Г. Жуков, открыт мемориал Неизвестного солдата в Александровском саду в Москве, стал широко отмечаться праздник 9 Мая и т. д.). С этого момента либералы объявили открытую войну советскому военному официозу, противопоставив ему свой ответ – так называемую «окопную правду». Песни Высоцкого о войне по сути родились из этого ответа, но, как видим, они не всех либералов удовлетворяли. Для того же Синявского они, оказывается, были «не самыми настоящими».
Возвращаясь к блатным песням Высоцкого, отметим, что сам он отдавал им должное, считая их прямым мостиком к своим последующим, более серьезным произведениям. По его словам (сказанным им за два года до смерти):
«Я начал со стилизации так называемых „блатных“ песен. Они мне очень много дали в смысле формы. Меня привлекала в них несложная форма с весьма незатейливой драматургией и простой идеей – без хитрого и сложного подтекста. Эти песни окрашены тоской по человеческой близости. Окуджава, который писал иные песни, выражал эти чувства другими средствами. Я же (сам, кстати, выросший на задворках) отражал в песнях „псевдоромантику“ и брожение беспокойного духа пацанов проходных дворов».
Об этом же и слова второй супруги Высоцкого Людмилы Абрамовой: «А почему он начал писать песни, которые – Володя Высоцкий? А что делать актеру, когда ему нечего играть? А что делать Актеру с самой большой буквы – Великому Актеру! – когда ему нечего играть? Он сам себе начал делать репертуар. То есть не то чтобы он делал его сознательно: „Дай-ка я сяду и напишу себе репертуар…“ Так не было. А вот когда есть потребность себя высказать, а негде: в „Свиных хвостиках“, что ли, или в „Аленьком цветочке“ (в перечисленных спектаклях Театра имени А. Пушкина Высоцкий играл в массовке. – Ф. Р.)? Вот он и зазывал своих друзей, придумывал всякие штучки-дрючки, чтобы актеры похохотали. Это не уровень актерского творчества, это уровень актерских забав. А кто бы ему написал такую пьесу, да еще гениальную, про то, как шли в Монголию, про двух «зека»? Кто? Да еще дал сыграть одного «зека», да другого, да повара с половничком? Кто бы ему тогда написал пьесу про штрафников?»
Безусловно, что Владимир Высоцкий искал самовыражения как актер, но на сцене этого не находил. Ведь в Театре миниатюр были задумки поставить спектакль по его песне «Татуировка», но дальше проекта дело так и не пошло, поскольку организаторы этого действа вовремя осознали, что власти вряд ли разрешат подобную постановку, как пропагандирующую блатную романтику. Поэтому единственным средством самовыражения для Высоцкого оставалось его песенное творчество, ведь песни его были нечем иным, как своеобразными мини-спектаклями.
Была еще одна причина, по которой Высоцкому самой судьбой была уготована участь петь блатные песни, – голос «с трещиной». Человек с таким голосом, кажется, был просто рожден для того, чтобы петь «Нинку» или «На Большом Каретном». И не зря поэтому сам Высоцкий, отвечая в июне 70-го на вопрос анкеты: «Чего больше всего боитесь в жизни», ответил: «Потери голоса».
А мы-то, пацаны 60-х–70-х, слушая песни Высоцкого, думали, что голос его не иначе как «пропитой». Да и сам Высоцкий как-то однажды рассказал следующее: «Я со своим голосом ничего не делаю, потому что у меня голос всегда был такой. Я даже был когда-то вот таким маленьким пацаном и читал стихи каким-то взрослым людям, они говорили: „Надо же – какой маленький, а как пьет!“ То есть у меня всегда был такой голос – как раньше говорили, „пропитой“, а теперь из уважения говорят – с „трещинкой“.
Когда в 56-м Высоцкий поступал в Школу-студию, о нем тогда говорили: «Это какой Высоцкий? Хриплый?» И Высоцкий тогда пошел к профессору-отоларингологу, и тот выдал ему справку, что голосовые связки у него в порядке и голос может быть поставлен. А то не видать бы Высоцкому актерской профессии как собственных ушей.
Но вернемся в начало 1962 года, когда песни Высоцкого начинают широко гулять по Москве и ее окрестностям, а то и дальше. Слава эта самого молодого певца пугает, и не случайно: дело в том, что именно тогда начались официальные «наезды» на гитарную песню, которые во многом были вызваны повышенным интересом к ним западных идеологов. Главным объектом нападок стал кумир Высоцкого Булат Окуджава – наиболее талантливый исполнитель из числа либерал-еврейской интеллигенции.
Кампания в прессе против него началась в конце ноября 1961 года, когда в ленинградской газете «Смена» была опубликована большая статья И. Лисочкина под названием «Цена шумного успеха», которую весьма оперативно – 6 декабря – перепечатала центральная и многомиллионная «Комсомольская правда». Автор заметки, побывав на концерте Окуджавы в ленинградском Дворце искусств имени К. С. Станиславского, так описывал увиденное (привожу рассказ с некоторыми сокращениями):
«И мы пошли, судьбы своей не чая, не подозревая того, что налицо окажутся все компоненты „литскандала“. Двери дворца были в этот день уже, чем ворота рая. Здесь рвали пуговицы, мяли ребра и метался чей-то задавленный крик: „Ой, мамочка!..“ Поскольку по непонятной причине пропусков оказалось по крайней мере в три раза больше, чем мест в зрительном зале, и большое число желающих так и не смогло проникнуть внутрь дворца, есть смысл рассказать о том, что происходило дальше за его закрытыми дверями…
На сцену вышел сам поэт – довольно молодой темноволосый человек с блестящими глазами. Он прочел первое стихотворение «Не разоряйте гнезда галочьи…». В зале воцарилась неловкая тишина. Прочел «Стихи о Родине». Опять тишина. «Двадцатый век, ты страшный человек» – тишина снова. После «Осени в Кахетии» один из слушателей, не выдержав, хлопнул в ладоши, и поэт застенчиво сказал:
– Не надо…
Пятое стихотворение «Воспоминание о войне» понравилось. Похлопали. Так и пошло. Тому, что нравилось, хлопали, тому, что не нравилось, – нет. «Шумного успеха» не было. Было ощущение большой неловкости и, если хотите, стыдности того, что происходило и происходит. В зале сидели мастера искусств, люди, великолепно знающие настоящую поэзию, огромную, великую, необозримую, которая бурей врывается в сердца и умы. Рассчитывать на то, что они начнут рыдать от игриво-салонного «Я надышался всласть окопным зельем», было несерьезно.
Стихи сменились «напеванием». Это несколько оживило обстановку. Во втором отделении из публики требовали откровенно кабацких «Петухов», а автор лукаво утверждает, что он забыл текст и что эта песня ему уже не нравится.
А потом все кончилось. Мнения после концерта высказывались разные. Один бросил категорично и зло:
– Ерунда и шарлатанство!
Другой заметил с раздумьем:
– Несколько песен Окуджавы мне очень нравятся, а на остальные я не обращаю внимания…
А третий сказал не без юмора:
– Самое интересное – то, что происходило у входа. А все остальное – так… ничего себе…
А почему же все-таки свалка у входа? Где же тайные пружины, которые заставили весьма культурных людей столь неприлично штурмовать узкую дверь? Кажется, их несколько…
Говорить об Окуджаве и о том, что он пишет, действительно очень сложно. Здесь не обойдешься какой-то единой оценкой. И поэтому хочется поговорить об Окуджаве в частности и об Окуджаве – в целом.
Вначале – «в частности». Все написанное здесь ни в коем случае нельзя рассматривать как попытку лишить его почетного звания поэта. У него есть хорошие стихи. Есть и настоящие песни, необычные и лиричные: «Веселый барабанщик», «О последнем троллейбусе», «О Лене Королеве», «О бумажном солдатике», «Дежурный по апрелю». Они привлекательны своеобразностью, непохожестью на то, что мы слышали раньше, глубокой душевностью, интимностью в хорошем смысле этого слова. Но волею названных обстоятельств песни стали «запретным плодом», пошли перематываться с магнитофона на магнитофон, а за ними потянулось такое количество поэтического мусора и хлама, его же ты, господи, веси…
Творчество Окуджавы «в целом» отличается от того, что «в частности», как день от ночи. О какой-либо требовательности поэта к самому себе говорить не представляется возможным. Былинный повтор, звон стиха «крепких» символистов, сюсюканье салонных поэтов, рубленый ритм раннего футуризма, тоска кабацкая, приемы фольклора – здесь перемешалось все подряд. Добавьте к этому добрую толику любви, портянок и пшенной каши, диковинных «нутряных» ассоциаций, метания туда и обратно, «правды-матки» – и рецепт стихов готов. Как в своеобразной поэтической лавочке: товар есть на любой вкус, бери что нравится, может, прихватишь и что сбоку висит.
И берут. Не все читали Надсона, Северянина, Хлебникова, многих других. Не все, к сожалению, отличают золота от того, что блестит, манеру от манерности, оригинальность от оригинальничания.
Дело тут не в одной пестроте, царящей в творческой лаборатории Окуджавы. Есть беда более злая. Это его стремление и, пожалуй, умение бередить раны и ранки человеческой души, выискивать в ней крупицы ущербного, слабого, неудовлетворенного… Позволительно ли Окуджаве сегодня спекулировать на этом? Думается, нет! И куда он зовет? Никуда.
Часто говорят о «подтексте» стихов Окуджавы. Подтекст – он нынче в моде. И это обстоятельство позволяет под хорошим лозунгом протаскивать всякий брак и «сладкую отраву». Вот три произведения подряд: «Когда метель ревет, как зверь…», «Тула славится пряниками, лебеди – пухом…» и «Вся земля, вся планета сплошное туда…» с заключительными строчками: «Как же можно сюда, когда надо туда?» Невооруженным глазом видна здесь тенденция уйти в «сплошной подтекст», возвести в канон бессмыслицу. А вот и ее воинствующий образчик – «Песня о голубом шарике»:
- Девочка плачет,
- Шарик улетел,
- Ее утешают,
- А шарик летит…
Необычайное привлекательно. И раздается не всегда верный звон гитары московского поэта. Что греха таить, смущает этот звон и зеленую молодежь, и любителей «кисленького», людей эстетствующих и пресыщенных. Тянутся за этим всякая тина и муть, скандальная слава и низкопробный ажиотаж.
Не всем наверняка понравится тон этой статьи. Но она писалась не холодным академическим пером. Хотелось назвать вещи своими именами, так, как они есть. Вызывает поэт Булат Окуджава «в целом» искреннее возмущение. Талант, пусть большой или маленький, – штука ценная. Жаль, когда он идет на распыл, на кокетство, на удовлетворение страстей невысокого класса. Куда пойдет поэт дальше? Туда, где «в грамм добыча, в год труды»? Или – «сшибать аплодисмент» за оригинальность на очередном «капустнике»? Давать ему менторские советы, конечно, не хочется. Дело совести поэта, что именно выносить на суд общества. И, разумеется, не только дело, но и обязанность общественности давать спокойную и точную оценку его творчеству. В этом смысле Дворец искусств оказал плохую услугу поэту, устроив этот вечер…»
После столь неблагожелательной публикации Окуджава вынужден был временно свернуть свою концертную деятельность. А претензии к нему продолжали множиться. 6 марта 1962 года на фирме «Мелодия», где собирались выпустить долгоиграющую пластинку с песнями Окуджавы, постановили таковую не выпускать. А чуть больше месяца спустя – 20 апреля – удар по барду нанесла газета «Вечерняя Москва». Там была опубликована статья И. Адова «Бремя славы», где автор, в частности, писал:
«…Кто же эти любители песенного творчества Б. Окуджавы? Скажем прямо – в большинстве своем это падкие до всяких „сенсаций“, экзальтированные молодые люди, которых привлекает все, что считается „модным“, что способно вышибить слезу у непритязательных обывателей. Их вполне удовлетворяют многие произведения поэта, в которых легко различить и сентиментальность, и ложную патетику, и даже пошлость. Не так уж далеки от истины те, кто называет Б. Окуджаву „Вертинским для неуспевающих студентов“.
Было бы несправедливо утверждать, что у поэта нет произведений, отмеченных печатью настоящего дарования. Есть у него стихи и песни хорошие – лирические, в большой мере самобытные, исполненные раздумья, проникнутые мягким юмором. И тем более досадно, что поэт не в состоянии проявить подлинную требовательность к своему творчеству, что он невзыскателен к теме.
Слушаешь его песни одну за другой и думаешь: а не обкрадывает ли себя поэт, насильно втискивая в нескончаемо унылую, надсадную мелодию свои стихи?..
Мы убеждены, что, если бы на лучшие тексты Окуджавы написал бы музыку композитор, которому творчески близок поэт, песни прозучали бы иначе. Освобожденные от мрачного музыкального сопровождения, высветленные, выведенные из душного круга, они приобрели бы крылья. А как выиграл бы поэт от такого содружества с композитором!
Познакомишься с удачными произведениями Булата Окуджавы, опубликованными в его сборниках, и недоумеваешь, как он смог написать после этого песни «под гитару», о том, что девочка плачет – шарик улетел, девушка плачет – все жениха ждет, женщина плачет – муж ушел к другой, плачет старуха – мало на свете прожила…
Или вот строфа из наиболее ценимой «любителями» песни: «Полночный троллейбус плывет по Москве, верша по бульварам круженье, чтобы всех подобрать потерпевших в ночи крушенье… крушенье…»
А вот и такое настроение – «и давит меня это небо и днем»…
Невольно вспоминаешь ресторанного Лещенко, недоброй памяти старую цыганщину и блатные напевы из цикла «позабыт – позаброшен».
И вот вступаешь в безмолвный спор с поэтом, который не может же быть в такой мере глух, чтобы не уловить во многих своих произведениях интонации душещипательного мещанского романса. В далекие времена на этот жанр были падки приказчики и сентиментальные гимназистки…
Порой закрадываются сомнения: а не жаждет ли Б. Окуджава славы эстрадного исполнителя, который в погоне за успехом не прочь и «играть на публику»? А нужна ли истинному поэтическому дарованию дешевая слава?
Стоит заметить, что Б. Окуджава, возможно, и ищет ее. Иначе почему же он соглашается так часто давать свои концерты. Только в течение одного месяца бюро пропаганды Союза писателей организовало 29 его выступлений в различных аудиториях!..
Живи он (Окуджава. – Ф. Р.) интересами и мыслями нашей молодежи, знай ее пытливый ум, горячее стремление быть полезным родной стране, поэт понял бы, что его песни «под гитару» бесконечно далеки от запросов юношей и девушек, к которым он адресуется. Им чужды и упаднические интонации многих стихов, поэтические банальности и довольно убогие, построенные на однообразном лейтмотиве мелодии песен. А главное, что отвращает молодежь от песенного творчества Окуджавы, – это полное, так сказать, несовпадение его с настроениями и устремлениями молодого поколения строителей коммунизма.
Булат Окуджава – поэт одаренный, но избранный им путь не приведет к успеху. Духовное потребление молодежи нельзя удовлетворить салонно-застольными сочинениями…
Проявите больше уважения к своему современнику, поэт, проникните в его огромный и светлый мир, ближе узнайте его, дайте ему то, чего он достоин».
И все же, несмотря на столь зубодробительную критику, нашлись люди, которые не побоялись протянуть Окуджаве руку помощи. В том же 1962 году его приняли в Союз писателей СССР, что было, конечно же, странно, учитывая недавние «наезды» на него в прессе. Вскоре после этого возобновились и концертные выступления певца, а центральная печать перестала на него «наезжать».
Но это будет чуть позже, а пока газетная кампания напугала многих бардов, в том числе и Высоцкого, который как раз специализировался на «блатных напевах». И если Окуджава удостоился звания «Вертинского для неуспевающих студентов», то по Высоцкому плакало другое прозвище – «Лещенко для выпивающей молодежи». Поэтому, чтобы не искушать судьбу, он на какое-то время берет себе псевдоним Сергей Кулешов. Под этим именем его песни и становятся известными в начале 60-х. Послушаем по этому поводу рассказ очевидца – куйбышевца Г. Внукова:
«В начале 1962 года мы с ребятами завалились в ресторан «Кама». Ресторанчик второго класса, но там всегда все было: любые мясные и рыбные блюда, сухие вина двух десятков сортов, не говоря уже о крепких напитках…
И вот однажды я слышу, поют рядом ребята под гитару: «Рыжая шалава, бровь себе подбрила…», «Сгорели мы по недоразумению…». Я – весь внимание, напрягся, говорю своим: «Тише!» Все замолчали, слушаем. Я моментально прокрутил в памяти все блатные, все лагерные, все комсомольские песни – нет, в моих альбомах и на моих пленках этого нет. Нет и в одесской серии. Спрашиваю у ребят, кто эти слова сочинил, а они мне: «Ты что, мужик, вся Москва поет, а ты, тундра, не знаешь?» Я опять к ним: «Когда Москва запела? Я только две недели тут не был». Они: «Уже неделю во всех пивных поют „Шалаву“, а ты, мужик, отстал. Говорят, что какой-то Сережа Кулешов приехал из лагерей и понавез этих песен, их уже много по Москве ходит».
Это случилось в самом начале января 1962 года, и так я впервые услышал имя Сережи Кулешова. Я попросил у ребят слова, мне дали бумажку со словами, я переписал их и вернул бумажку обратно. Как я сейчас об этом жалею: это был Высоцкий со своей компанией, а той бумажке, исписанной его рукой, сейчас бы цены не было. Высоцкий мне позднее признался, что тогда, в начале 60-х, он всем говорил, что эти песни поет не он, а Сережа Кулешов».
Однако эта слава хотя и тешит в какой-то мере самолюбие Высоцкого, однако в материальную выгоду не оборачивается – он по-прежнему представляет из себя голь перекатную. Редкое явление в еврейской среде, где люди умеют «делать деньги». У Высоцкого это не получается, хотя у него уже на подходе первенец (сын Аркадий родится в ноябре 62-го). И причина крылась не столько в неумении Высоцкого «зарабатывать башли», сколько в его нееврейской болезни – алкоголизме. Как откровеннно пел он сам в одной из своих песен начала 60-х:
- …Мне б скопить капитал,
- Ну а я спивался.
Из-за этой болезни те же соплеменники из киношной среды, которые раньше помогали Высоцкому с работой, теперь чаще всего вынуждены ему отказывать, поскольку не уверены в том, что он их не подведет – не сорвет съемки.
Отметим, что полукровство Высоцкого его протеже не смущало, поскольку евреи, как уже отмечалось, очень сплоченны и исповедуют принцип, что еврея наполовину не бывает. Поэтому помогать друг другу (будь ты чистокровный еврей или полукровка) они считают для себя делом святым и не отказываются от этого даже в самые неблагополучные периоды. А времена начала 60-х в этом отношении были именно такими: еврейская проблема тогда буквально балансировала на качелях большой политики, то взлетая вверх, то стремительно срываясь вниз.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
ЕВРЕЙСКИЕ КАЧЕЛИ
Как мы помним, еще в конце 50-х советские евреи стали отвоевывать себе значительные привилегии, отнятые у них два десятилетия назад. Однако этот процесс не происходил гладко, поскольку у него имелись и свои противники, которые боялись предоставлять евреям более широкие права (недаром сам Хрущев в беседе с иностранными защитниками советских евреев заявил, что последние «ненадежны в политическом отношении»). Определенным кругам на Западе подобная боязнь была только на руку, поскольку давала неплохие шансы с помощью разного рода провокаций вбивать клин между евреями и советским руководством. Одной из таких провокаций было широко известное «дело Бориса Пастернака», датированное 1958 годом.
Поводом к провокации стал роман «Доктор Живаго», законченный Пастернаком в середине 50-х. Красной нитью в нем проходила идея классового примирения белых и красных, которая так сильно стала будоражить умы советской либеральной интеллигенции после смерти Сталина. Именно за это книга и угодила на родине в разряд запрещенных. Когда в марте 1956 года Пастернак передал ее для издания в отечественные журналы «Новый мир» и «Знамя», власти запретили публикацию. Тогда книга оказалась на Западе.
В ноябре 1957 года «Доктор Живаго» был опубликован в Италии на итальянском языке, но не вызвал большого ажиотажа у тамошних читателей. Однако он чрезвычайно понравился специалистам из ЦРУ, которые увидели в нем удобный материал для провокации международного масштаба. По замыслу стратегов из Лэнгли (там располагается штаб-квартира ЦРУ), чтобы придать этой истории вселенскую огласку, надо было наградить «Доктора Живаго» ни много ни мало… Нобелевской премией. Однако сделать это можно было только в том случае, если бы произведение было опубликовано на родном языке (оно же, как мы помним, было издано на итальянском). Тогда цэрэушники провели хитроумную комбинацию.
Они обратились к знакомой Пастернака графине Жаклин де Пруайяр, у которой хранилась рукопись романа, с просьбой, чтобы она предоставила им текст книги. Но графиня эту просьбу тактично отклонила. Тогда ЦРУ с помощью своих коллег из итальянской разведки похитило рукопись: во время вынужденной посадки самолета в Милане разведчики тайно изъяли рукопись из чемодана хозяйки и в течение двух часов сделали фотокопию, после чего вернули все на место. После этого книга ушла в набор сразу в двух местах: в Америке и в Европе (при этом издателей использовали «втемную» – то есть через посредников, не засвеченных в связях с разведкой, а также использовалась бумага из России и русские шрифты). В результате этих манипуляций в августе 1958 года «Доктор Живаго» был издан на русском языке и представлен на суд членов Нобелевского комитета. А уже спустя два месяца Пастернаку была присуждена Нобелевская премия по литературе «за выдающиеся заслуги в современной лирической поэзии и на традиционном поприще великой русской прозы».
Поскольку советские власти были прекрасно осведомлены о политической составляющей этой истории (они догадывались о «руке ЦРУ» в ней, но всех деталей не знали), поэтому реакция была соответствующая: на Пастернака началась мощная атака. Писатель был исключен из Союза писателей и, под давлением властей, вынужден был отказаться от премии. Но этот шаг не сбавил накала дискуссии: чуть ли не по всей стране были проведены собрания, на которых люди осуждали писателя и его творение.
Основная вина за этот скандал лежала на западных провокаторах, которые специально раздули его в расчете на то, чтобы расколоть советскую интеллигенцию. И им это удалось, поскольку значительная часть советских либералов-западников оказалась на стороне гонимого писателя. Что касается кремлевской власти, то она в этом конфликте всего лишь защищалась. Вот как озвучил позицию властей и тех, кто был на ее стороне, писатель из стана державников-сталинистов Всеволод Кочетов:
«Для чего же говорится о независимости литературы от каких-либо обязанностей перед обществом, о ее – только в таком случае – свободе? Мы давно в этом разобрались, для чего. Исключительно для того, чтобы увести литературу от классовой борьбы на стороне трудящихся классов: сначала ее как оружие борьбы затупить, сделать аполитичной, безыдейной, а затем, если удастся, перековать наново, уже в другом духе. Что ж, шумели, шумели наши противники о свободе литературы от служения политике, а стоило появиться роману „Доктор Живаго“, открыто политическому, но антисоветскому, как этот роман был признан у реакционеров выдающимся литературным образцом. Механика проста: все, что служит политике капиталистов, что полезно ей, – создано на основе „свободного, истинно художнического“ творчества; все, что служит делу трудящихся классов, делу строительства социализма и коммунизма, то есть идет против политики капиталистов, – это уже нечто, что создано „под давлением“, „под нажимом“ или написано „лакировщиками“, которые, дескать, служат не столько высокому искусству, сколько своему личному благополучию, так сказать, прислуживаются.
Механика-то проста, но передающие механизмы, с помощью которых она осуществляется, частенько бывают так тщательно закамуфлированы и так хитроумно раскрашены, что получается с виду, будто бы они «за», а не «против»…»
В результате разразившегося скандала сильнее всего пострадал Борис Пастернак, который оказался буквально между молотом и наковальней. Вследствии случившегося он серьезно подорвал свое здоровье и спустя полтора года (в мае 1960 года) скончался. Эта смерть вызвала массовое паломничество либеральной интеллигенции в Переделкино, где состоялись похороны писателя. Высоцкий туда не поехал, хотя мысли такие, судя по воспоминаниям очевидцев, у него были (из его окружения там был Всеволод Абдулов, с которым он, как мы помним, познакомился именно в это время).
Во многом именно из «дела Пастернака» на свет в том же 60-м родилось и советское диссидентство, костяк которого составила интеллигенция еврейского происхождения в лице таких деятелей, как А. Левитин-Краснов, А. Гинзбург и др. Отметим, что последний в июле того же года был арестован КГБ и осужден на два года за выпуск «самиздатовского» журнала «Синтаксис». В свою очередь Запад стал активно помогать еврейскому диссидентскому движению в СССР, причем как идеологически, так и материально.
Что касается русского диссидентского движения, то оно поддерживалось куда менее активно. А возникло оно почти тогда же и опять же не без участия тогдашней власти. Дело в том, что в начале 60-х Хрущев начал широкомасштабную кампанию против православия, видимо, опасаясь роста русского национального самосознания. Как итог: в Ленинграде в 1962–1964 годах на свет появилась первая русская правозащитная организация – ВСХСОН (Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа). В нее вошли: И. Огурцов, М. Садо, Е. Вагин, Б. Аверичкин и др.
Как уже отмечалось выше, идеологическим фундаментом, на котором базировалось советское либеральное движение и диссидентство (их еврейские ветви), было отношение к сталинизму – он ими объявлялся целиком преступным. Высшее советское руководство в лице Хрущева и его сторонников хотя и делало ряд оговорок (оно видело в сталинизме отдельные положительные моменты), однако в целом разделяло эти взгляды. Поэтому либералы были уверены, что, пока Хрущев находится у руководства, есть шанс навсегда похоронить не только сталинизм в СССР, но и саму возможность нового державного возрождения. Подчеркнем: их волновало именно это, а не поиски правды в сталинских временах. Ведь они прекрасно понимали (как и хрущевцы), к чему именно могут привести эти поиски. А привести они могли к самым нежелательным для них же последствиям: например, к всплытию на поверхность такой скользкой темы, как участие высокопоставленных евреев в репрессиях 20-х – 30-х годов (ведь именно они взяли в свои руки почти весь советский репрессивный аппарат) против, в первую очередь, русского народа (бывших дворян, офицеров, священников и т. д.). Евреям это было надо? Естественно, нет.
Диссиденты-евреи были выгодны Западу именно из-за своей антидержавности, которая почти в открытую противоречила русскому началу. Как верно заметила в свое время публицист Татьяна Глушкова, имея в виду подобного рода диссидентов и инакомыслящих:
«Здесь никогда не было опоры на традицию, национальную традицию (и тем самым культуру), а на одни лишь „хельсинкские“ и тому подобные соглашения… Мы видим борьбу с точки зрения западных ценностей, не менее, а более чуждых, враждебных русскому духу, чем даже здешний коммунистический интернационализм и атеизм…»
Вообще проблема натиска определенных сил на традиционные устои стала весьма актуальной во второй половине 50-х годов во многих странах мира. На том же Западе, к примеру, это были так называемые «сексуальная» и «рок-н-ролльная» революции. В Великобритании широкую славу в начале 60-х приобрела рядовая 53-летняя учительница рисования Мэри Уайтхаус, которая развернула у себя в стране общенациональную кампанию под девизом «Очистим ТВ от грязи». Целью этой кампании, которая буквально всколыхнула всю страну, было поставить заслон передачам, которые высмеивали традиционные британские ценности.
В Советском Союзе продвижение подобных «революций» было затруднено из-за существования «железного занавеса». Однако наивно было полагать, что западные стратеги «холодной войны» не имели возможностей найти в этой конструкции бреши, через которые они могли бы запускать революционные вирусы. В итоге в начале 60-х на свет родилось диссидентское движение, а во второй половине того же десятилетия к нам пришла и «рок-н-ролльная революция» (с «сексуальной» дело обстояло иначе – она тогда не пошла, поскольку слишком явно ломала глубинные, христианские традиции, которые были сильны даже в атеистическом СССР). Что касается диссидентства, рок-н-ролла и так называемого «чистого искусства» (то есть бесклассового), то они шаг за шагом начали отвоевывать себе позиции именно с 60-х.
Отметим, что диссиденты умеренно критиковали Хрущева и весь свой гнев направляли на тех его соратников, кто олицетворял для них даже намек на саму возможность повторения того, что Сталин совершил в середине 30-х – начал процесс возвращения русскому народу тех долгов, которые большевики задолжали ему с 17-го года. Одним из таких раздражителей в составе хрущевского Президиума ЦК КПСС был чистокровный русский Фрол Козлов, которого Хрущев одно время даже рассматривал в качестве своего преемника на посту Первого секретаря ЦК КПСС.
Едва эта новость стала широко известна в кругах элиты, как Козлов подвергся мощной атаке со стороны либералов. Когда летом 1962 года у него случился инфаркт (здоровье было самым слабым местом этого неординарного политика), либералы чуть ли не до потолка прыгали от радости, надеясь, что дни Козлова сочтены. Однако тот быстро поправился. Тогда поэт Евгений Евтушенко посвятил Козлову стихи под характерным названием «Наследники Сталина». В них имелись строчки, которые сведущие люди поняли без всяких объяснений: «наследников Сталина, видимо, сегодня не зря хватают инфаркты». Отметим, что это стихотворение понравилось Хрущеву и он дал команду опубликовать его на страницах главной газеты страны – в «Правде».
Хрущевская отмашка была не случайной, а прямо вытекала из его антисталинской политики, которой он продолжал придерживаться, к вящей радости либералов. Своеобразным апогеем этой политики явились события октября 61-го, когда на XХII съезде КПСС Хрущев не только провел новую мощную атаку на Сталина, но и вынес его из Мавзолея. Последнее событие случилось 31 октября, когда тайно, под покровом ночи, тело вождя народов было перезахоронено на аллее неподалеку от Мавзолея. Этот радикализм Хрущева привел к печальным последствиям: как во внешней политике (сначала окончательный разрыв с Китаем, потом – Карибский кризис, который едва не поставил мир на грань ядерной войны), так и во внутренней (трудности в экономике, еще большее идеологическое размежевание внутри элиты).
Например, двигая вперед космонавтику и создавая Ракетные войска стратегического назначения, Хрущев в то же время значительно сокращал другие рода войск (на один миллион военнослужащих), что только расшатывало один из важнейших оплотов режима – Вооруженные силы. Одновременно с этим Хрущев устроил беспрецедентные гонения на Русскую православную церковь: при нем на территории СССР было разрушено церквей больше, чем при Ленине и Сталине, вместе взятых. Наконец, своими во многом огульными (и далекими от подлинной правды) разоблачениями Сталина Хрущев дискредитировал не только КПСС, но существенно поколебал в сознании советских людей веру в то, что они строят самое справедливое общество на Земле.
На почве значительных побед, выпавших на период его правления (одно покорение космоса чего стоило!) у Хрущева, видимо, случилось такое головокружение от успехов, что он посчитал себя человеком, могущим одним рывком перебросить страну, только-только начинавшую оправляться от последствий страшной войны и ведущую другую войну – «холодную», в светлое будущее. И вот уже на том же XXII съезде КПСС Хрущев провозглашает скорое построение коммунизма в СССР: он должен был наступить уже через 20 лет – в 1980 году. На чем основывал «кремлевский мечтатель» свои надежды, сказать трудно, поскольку почти все, что он тогда предпринимал как руководитель государства во внешней и внутренней политике, вело не к торжеству коммунизма, а скорее к его похоронам.
Естественно, идеологи «холодной войны» на Западе все это учитывали и продолжали весьма эффективно использовать хрущевский волюнтаризм себе во благо. К той же еврейской проблеме пристегивались любые действия Кремля, которые в той или иной мере касались евреев. Например, в 1961 году Хрущев дал команду правоохранительным органам начать кампанию по борьбе с хищениями социалистической собственности. В итоге под дамоклов меч МВД и КГБ угодило и значительное количество евреев, которые составляли костяк предприимчивых людей – так называемых «цеховиков» (владельцев подпольных цехов по выпуску левой продукции). Едва об этом стало известно на Западе, как в тамошних СМИ немедленно поднялась волна по обвинению советских властей в… государственном антисемитизме. Как напишет позднее «Еврейская энциклопедия»: «В 1961–1964 годах за экономические преступления было казнено в РСФСР – 39 евреев, на Украине 79, по другим республикам – 43…»
Однако по этим же делам и в это же время было казнено и несколько десятков людей русского происхождения (а также лиц других национальностей СССР), но это совершенно не означает, что советские власти тем самым проводили геноцид против русских. Ведь всех этих людей судили и казнили не за их национальность, а за конкретные преступления – за хищения в особо крупных размерах.
Именно в самый разгар кампании по борьбе с расхитителями социалистической собственности (на календаре был уже 1962 год), впервые после «дела врачей», израильский представитель поднял в ООН вопрос о… положении евреев в СССР. Он в открытую заявил, что евреев в СССР притесняют, вводя очередные ограничения на их прием в высшие учебные заведения, а также в некоторые организации.
Все эти события только накаляли обстановку в среде еврейской интеллигенции, способствуя все большей ее радикализации. Характерно, что известный кинорежиссер-еврей Григорий Козинцев, некогда воспевший советскую власть в своей кинотрилогии о Максиме (1935–1939), именно в начале 60-х взялся экранизировать «Гамлета», где СССР уже представал в ином качестве: в образе мрачной «Дании-тюрьмы», где плетутся интриги, совершаются подлые убийства и честному человеку нет иного выхода, как сразится со злом, победить его, но и умереть одновременно.
Другой известный кинорежиссер – Михаил Ромм (на его курсе в те же самые годы училась вторая жена Высоцкого Людмила Абрамова) – в конце ноября 62-го выступил в ВТО с пламенной речью, которую в высших сферах сочли настоящим манифестом именно еврейской интеллигенции, напуганнной возможностью возвращения в советскую идеологию державного контекста, сродни тому, что вернул когда-то Сталин в середине 30-х. Как писал А. Солженицын:
«Выступление Ромма имело очень большое значение для дальнейшего развития диссидентского движения. С этого момента Ромм стал как бы духовным лидером советского еврейства. И с тех пор евреи дали значительное пополнение „демократическому движению“, „диссидентству“ – и стали при том отважными членами его…»
Отметим, что Ромм не случайно начал свою речь с критики продержавной увертюры П. Чайковского «1812 год». Вот как это выглядело в устах режиссера:
«Есть очень хорошие традиции, а есть и совсем нехорошие. Вот у нас традиция: два раза в год исполнять увертюру Чайковского „1812 год“.
Товарищи, насколько я понимаю, эта увертюра несет в себе ясно выраженную политическую идею – идею торжества православия и самодержавия над революцией. Ведь это дурная увертюра, написанная Чайковским по заказу. Это случай, которого, вероятно, в конце своей жизни Петр Ильич сам стыдился. Я не специалист по истории музыки, но убежден, что увертюра написана по конъюктурным соображениям, с явным намерением польстить церкви и монархии. Зачем советской власти под колокольный звон унижать «Марсельезу» – великолепный гимн Французской революции? Зачем утверждать торжество царского черносотенного гимна? А ведь исполнение увертюры вошло в традицию…»
Здесь Ромм явил себя в качестве типичного последователя линии троцкистов-бухаринцев, которые в 20-е годы делали все от них зависящее, чтобы выкорчевать из сознания русского народа традиции и героические деяния их предков. Они яростно боролись с православными праздниками вроде Рождества и Нового года, называя их религиозными пережитками. Однако Сталин, разбив в начале 30-х оппозицию, занялся державостроительством: вернул русским людям не только многие из их прежних праздников (Новый год с елкой вновь стали праздновать в СССР с декабря 1935 года), но и героическую историю их предков (в середине 30-х появились новые учебники истории, где победа России над Наполеоном в 1812 году уже не воспринималась как цивилизационная катастрофа Запада, как война реакционного русского народа против республики, наследницы Великой французской революции). И увертюра П. Чайковского «1812 год» (ее запретил к исполнению в 1927 году Главный репертуарный комитет) вновь стала исполняться публично.
Как пишет о той же речи Ромма историк А. Вдовин: «Пятикратный лауреат Сталинской премии впервые публично и недвусмысленно высказался об известной кампании против „космополитов“ конца 40-х годов, утверждая, что она была создана искусственно, носила антисемитский характер и по существу сводилась к избиению писательских кадров. Виновниками этого „избиения“ назывались здравствующие „антисемиты“ Н. М. Грибачев, В. А. Кочетов, А. В. Софронов и „им подобные“. Они же, по мнению Ромма, проводили открытую диверсию против всего нового и яркого в кинематографе.
Выступление произвело сенсацию в интеллигентской среде, его текст широко разошелся в списках по Москве, став одним из первых документов самиздата. ЦК КПСС по существу уклонился от рассмотрения жалоб названных писателей, избранных в высшие партийные органы, сохранив тем самым двусмысленность своего отношения к ситуации…»
Историк прав насчет писательской жалобы, однако что касается Ромма, то он после своей речи все же пострадал – его вынудили уйти с преподавательской работы во ВГИКе. Правда, спустя три года он сумел вернуться на прежнее место. При сохранении звания «духовного лидера советского еврейства».
Судя по всему, Высоцкий имел возможность не только ознакомиться с текстом роммовского выступления, но участвовать в дисскусиях на эту тему – ведь он был вхож в дома некоторых представителей еврейской интеллигенции. Как уже говорилось, он посещал семьи Утевских, Синявских, Абдуловых, где собирались именно пророммовские компании и вели долгие беседы на разные темы, в том числе и на политические (без этого в СССР было никуда – подобные беседы назывались «кухонными»). Вспоминает В. Абдулов:
«В нашем доме Володя попадал в такое окружение, которое вряд ли было у него на Большом Каретном. Там собиралась блестящая компания: Кочарян, Утевский, Макаров, Шукшин, – но им еще только предстояло состояться.
А тут была другая, потрясающая среда. Собирались невероятные люди, все было пропитано атмосферой театра. То есть Володя находил в этом доме, может быть, не то, чего искал, но то, к чему подсознательно стремился. Весь этот дом – легенда, сейчас он увешан мемориальными досками, а в те годы большинство удостоившихся их были живы, ходили по нашему двору, заглядывали друг к другу в гости.
Когда Володя попал в Театр Пушкина, он познакомился там с народной артисткой СССР Фаиной Георгиевной Раневской (отметим, что этого высокого звания артистка была удостоена в хрущевскую «оттепель» – в 1961 году. – Ф. Р.). Их разделяла невероятная дистанция, хотя сама Фаина Георгиевна славилась своей коммуникабельностью и демократичностью. А в этот дом она была более чем вхожа, приходила на все семейные праздники. И когда Володя появлялся, он заставал ее здесь. Они могли общаться на равных…»
Между тем были тогда и другие примеры того, как еврейская тема, пусть и преодолевая большие препоны, становилась достоянием не только широкой советской общественности (обсуждалась на интеллигентских «кухнях»), но и мировой (кстати, речь М. Ромма в ВТО в печатном виде была тоже опубликована за рубежом, а также цитировалась разными радиоголосами). Например, так было с Тринадцатой симфонией Дмитрия Шостаковича.
Эта история началась за месяц до роммовской – 21 октября 1962 года. В тот день, развернув очередной номер газеты «Правда», Шостакович натолкнулся на стихи Евгения Евтушенко: «Бабий Яр», «Страхи», «Карьера» и др. Особенно сильно композитора потрясло первое стихотворение, где речь шла о расстреле фашистами в сентябре 1941 года в киевском Бабьем Яру 100 тысяч человек, из которых почти 40 тысяч были евреями, а остальные представляли разные национальности, населяющие СССР. Так на свет появилась Тринадцатая симфония, известная как «Бабий Яр». Однако, как только она была написана, вокруг нее стала складываться почти детективная история, рождение которой прямо вытекало из того скандала, который уже случился с Роммом в ВТО.
Дело в том, что определенным силам во власти сильно не понравилось, что целая часть симфонии посвящена не просто трагедии Бабьего Яра, а именно трагедии евреев в Бабьем Яру (в стихах Евтушенко это особенно подчеркивалось). Учитывая ситуацию с роммовским скандалом и тем резонансом, который он приобрел не только в СССР, но и в мире, появление симфонии, где доминировала бы еврейская тема, было расценено советскими властями как нежелательное. Зная об этом, многие певцы стали отказываться от участия в предстоящем представлении. Среди последних оказались такие исполнтели, как Е. Мравинский, И. Петров, А. Ведерников, Б. Гмыря и др. Но Шостакович упорно продолжал поиски певцов. Наконец свое согласие исполнить вокальные партии дал Виктор Нечипайло из Большого театра. Дирижером согласился быть Кирилл Кондрашин.
Но едва начались репетиции, как сверху вновь была предпринята попытка их сорвать. В «Литературной газете» появилась критическая статья о стихах Евтушенко. В ней, в частности, прямым текстом отмечалось, что поэт однобоко отражает трагедию Бабьего Яра: слишком выпячивая «еврейскую проблему», он тем самым принижает роль других народов, в том числе и русского, в победе над фашизмом.
Естественно, эта статья не могла остаться не замеченной теми, кто имел непосредственное отношение к Тринадцатой симфонии. В результате в день премьеры, 18 декабря, от своего участия в концерте отказался В. Нечипайло, сославшись на плохое самочувствие. Его место согласился занять Виталий Громадский из филармонии. Но на этом детектив не закончился. Буквально за час до начала концерта дирижеру К. Кондрашину позвонил сам министр культуры РСФСР Попов и настоятельно попросил его сыграть симфонию без первой части – без «Бабьего Яра». Но Кондрашин это сделать отказался, резонно заметив, что такой поступок вызовет ненужный ажиотаж среди западных гостей, присутствующих на концерте.
В конце концов премьера Тринадцатой симфонии состоялась. А вот повторное исполнение в январе 1963 года уже вышло к слушателям с купюрами. Их внес сам автор текста Е. Евтушенко, который накануне концерта опубликовал в «Литературной газете» новый вариант «Бабьего Яра», в который были внесены правки. Например, была выброшена строка: «Каждый здесь расстрелянный – еврей, каждый здесь расстрелянный – ребенок». Шостакович оказался в сложном положении, поскольку переделывать музыку под новые стихи уже не было ни времени, ни желания. Но сделать это было необходимо, так как в противном случае концерт просто бы запретили.
Именно во время второго исполнения Тринадцатой симфонии кем-то в зале была сделана пиратская запись, которая затем попала на Запад. Так ее услышал остальной мир.
Все эти скандалы не прибавляли оптимизма еврейской элите в СССР и стали серьезным поводом к тому, чтобы в ее среде все сильнее стали распространяться слухи, что «оттепель» (когда тепло именно евреям) заканчивается. Отразилось это и на умонастроениях нашего героя – Владимира Высоцкого, который в 1962 году написал песню «Весна еще в начале». Суть ее в том, что Весна («оттепель») еще в начале, а главного героя внезапно арестовывают и отправляют по этапу в лагеря.
- Весна еще в начале,
- Еще не загуляли,
- Но уж душа рвалася из груди, –
- И вдруг приходят двое
- С конвоем, с конвоем.
- «Оденься, – говорят, – и выходи!».
- Я так тогда просил у старшины:
- «Не уводите меня из Весны!»…
Между тем во многом горемычная судьба Высоцкого тех лет объяснялась в основном его пристрастием к спиртному. Он и сам хорошо понимает это и летом 62-го на какое-то время «завязывает» с алкоголем. И хороший результат после этого не заставляет себя ждать: в Театре имени Пушкина ему доверяют первую большую роль – шофера Саши в спектакле «Дневник женщины».
Не остается в стороне и кинематограф. Причем там руку помощи Высоцкому (тем же летом) вновь протягивают его соплеменники – евреи: режиссеры Александр Столпер с «Мосфильма» и Вениамин Дорман с Киностудии имени Горького. Отметим, что на обеих студиях о Высоцком уже ходит дурная молва, как о человеке сильно пьющем. Поэтому наравне с «хорошими» евреями на пути нашего героя возникают и «плохие». Одним из них был начальник актерского отдела «Мосфильма» Адольф Гуревич, который категорически возражает против того, чтобы Высоцкий снимался в лентах его студии. Однако, учитывая, что эта пагубная привычка была свойственна многим актерам (как молодым, так и опытным), Гуревич в то же время понимает, что с этой напастью бороться в какой-то мере бесполезно. Поэтому всю ответственность за возможные плохие последствия перекладывает на плечи самих режиссеров, у кого эти пьющие артисты должны были сниматься. Так было и в случае с «Живыми и мертвыми» (там за Высоцкого поручился не столько Столпер, сколько второй режиссер Левон Кочарян – приятель нашего героя по Большому Каретному), так будет и в дальнейшем (в следующем году Высоцкий снимется еще в одной мосфильмовской ленте «На завтрашней улице», и Гуревич опять переложит всю ответственность за это на плечи режиссера).
В «Живых и мертвых» Высоцкому досталась крохотная роль молодого солдатика, а в комедии «Штрафной удар» он сыграл спортсмена. Причем Дорман в итоге фактически встанет на точку зрения Гуревича и с тех пор заречется приглашать Высоцкого в свои ленты. Почему? Дело в том, что на съемках его картины Высоцкий «развязал» и в порыве пьяного гнева ударил администратора фильма термосом по голове. Хорошо, что дело не кончилось госпитализацией пострадавшего, иначе актера-буяна ждало бы суровое наказание – для него случился бы настоящий «штарфной удар». Заметим, что Дорман окажется не одинок в своем выводе относительно Высоцкого: после этого скандального случая тот больше никогда не снимется ни в одном фильме Киностудии имени Горького.
Однако роль Высоцкого в «Штрафном ударе» по своему объему окажется значительно больше столперовской и по праву может считаться четвертой крупной ролью актера в кино. Правда, эпизодической, поскольку до главных его пока не допускают. Видимо, внешность Высоцкого отпугивала режиссеров. Ведь тогда в советском кино в большом фаворе были герои романтического плана – симпатичные, одухотворенные, а у Высоцкого и рост был мелковат, и черты лица довольно грубоватые. Достаточно перечислить тех актеров, кто завоевал себе славу в те годы, чтобы стало понятно, что Высоцкий в этот ряд не вписывался:
1960 год – Эдуард Бредун («Любовью надо дорожить»); 1961 год – Василий Макаров («Операция „Кобра“), Алексей Локтев („Прощайте, голуби!“), Александр Демьяненко („Карьера Димы Горина“); 1962 год – Владимир Коренев («Человек-амфибия»), Валентин Буров («Семь нянек»), Лев Прыгунов («Увольнение на берег»), Александр Збруев, Олег Даль, Андрей Миронов («Мой младший брат»), Евгений Жариков («Иваново детство») и др.
Впрочем, были и актеры-некрасавцы, которые в те годы начали свое восхождение к вершинам славы. Например, Савелий Крамаров, Ролан Быков или Евгений Евстигнеев. Однако у первого во-первых, было неподражаемое лицо (одно из тысячи), которое добавляло ему особого шарма, во-вторых – он был чистокровным евреем. Что касается Быкова и Евстигнеева, то они, как и Высоцкий, были полукровками (русский/еврей), но в отличие от него первый имел за плечами опыт режиссерской работы и весьма ценился в этой среде, а за вторым стоял театр «Современник» (самый пролиберальный на тот момент в стране).
Кстати, Высоцкий в начале 60-х тоже пытался устроиться в штат этого театра, даже сыграл там в одном из спектаклей. Однако то, как он показал свою роль, было расценено современниковцами как «дурная эстрада». Впрочем, может быть, это было только предлогом, а истинной причиной невзятия Высоцкого было его пристрастие к спиртному (тот же дебют в «Современнике» Высоцкий отметил с друзьями на широкую ногу). Видимо, сам сильно пьющий Олег Ефремов просто не захотел иметь у себя еще одного такого актера: в таком случае дисциплина в его вотчине могла вообще рухнуть. А с ней в «Современнике» уже тогда были большие проблемы, поскольку «горькой» там злоупотребляли многие. Например, в воспоминаниях об Олеге Дале, который попал в штат «Современника» как раз в начале 60-х, говорится, что приобщился он к «зеленому змию» именно в этом театре.
Но вернемся к Высоцкому.
За съемки в «Штрафном ударе» ему выписали гонорар в сумме 1034 рубля 24 копейки. Деньги, в общем-то, приличные, но они тут же разлетелись в разные стороны: надо было кормить первенца, да и долгов у молодых родителей было выше крыши. Высоцкий устроился работать в театральную студию, что располагалась в клубе МВД имени Ф. Дзержинского, однако ставка там была мизерная – 50 рублей в месяц. Можно было, конечно, обратиться за помощью к родителям Высоцкого, но он этого делать не хотел – гордость не позволяла. И кто знает, какие мысли посещали нашего героя в те невеселые для него годы. Может быть, и закрадывались в его сердце сомнения относительно давнего спора с отцом и дедом по поводу выбора своей профессии. Ведь, поступив вопреки воле родителей в театральную студию и получив актерскую профессию, Высоцкий к 63-му году ничего, кроме житейской неустроенности и душевного разлада с самим собой, так и не приобрел. И жена его, Людмила Абрамова, вспоминая те годы, горько констатирует: «Работы нет, денег ни гроша. Я потихоньку от родителей книжки таскала в букинистические магазины… Володя страдал от этого беспросвета еще больше, чем я. Скрипел зубами. Молчал. Писал песни. Мы ждали второго ребенка…»
Когда в конце 63-го Людмила Абрамова сообщит Высоцкому о скором пополнении семейства, Высоцкого это известие мало обрадует. «Денег нет, жить негде, а ты решила рожать!» – пытался он увещевать свою жену. Разговор этот происходил на квартире Кочарянов, и вмешательство Левона предопределило его концовку. «Кончай паниковать! – сказал Кочарян другу. – Ребенок должен родиться, и весь разговор!»
В мае Высоцкий вновь отправился в Казахстан на съемки очередного фильма. Это была драма из разряда жестких (этакая «жесть по-советски»). Правда, по названию об этом сказать было нельзя – фильм назывался… «По газонам не ходить». Однако таким образом авторы ленты, видимо, хотели усыпить бдительность цензуры. Речь же в фильме шла о восстании рабочих на одной из строек Казахстана – там делами заправлял жестокий начальник, некогда руководивший стройкой, где работали зэки. Высоцкому предназначалась роль одного из помощников главного героя. Однако из этой затеи ничего не вышло. Практически в первый же съемочный день (16 мая) прямо на съемочной площадке Высоцкому стало плохо, и он потерял сознание. На «Скорой помощи» его доставили в больницу, где он провел несколько дней. Узнав об этом, директор «Казахфильма» решил не рисковать здоровьем молодого артиста и дал команду немедленно найти ему замену.
Если с кино дела у Высоцкого шли неважно, то гитарное творчество, что называется, било ключом – к этому времени большинство его песен уже распевалось по всей Москве и области. По рукам вовсю ходили магнитофонные записи, сделанные на разных квартирах, где выступал молодой певец. На одной из таких вечеринок, на Большом Каретном, 15, побывал знаменитый шахматист Михаил Таль, оставивший об этом свои воспоминания:
«С Высоцким мы познакомились весной 1963 года… Тогда имя молодого артиста Владимира Высоцкого было уже достаточно известным. Естественно, с прибавлением уймы легенд, но имя было у всех на слуху… Нас представили друг другу, и через две минуты у меня сложилось впечатление, что знакомы мы с ним тысячу лет. Не было абсолютно никакой назойливости…
Там было очень много людей… Хотел Володя этого или нет, но он всегда был в центре внимания. С настойчивостью провинциала практически каждый входящий на третьей, пятой, десятой минутах просил Володю что-то спеть. И Володя категорически никому не отказывал».
О тех же временах оставил свои воспоминания и артист Владимир Трещалов, который снимался с Высоцким в «Штрафном ударе», а позже прославился исполнением роли Сидора Лютого в «Неуловимых мстителях»: «Я договорился со звукооператорами телевидения, и эти ребята в аппаратном цехе студии Горького записали Высоцкого. Тогда Володя пел почти час. Это было в самом начале лета 63-го. Запись эта довольно быстро распространилась, и песни Высоцкого пошли гулять по Москве».
К этому времени репертуар Высоцкого был уже достаточно внушителен, но львиную долю в нем составляли «блатные» или «приблатненные» песни. Среди таковых значились: «Красное, зеленое, желтое, лиловое» (1961), «Татуировка» (1961), «У тебя глаза как нож» (1961), «Рыжая шалава» (1961), «В тот вечер я не пил, не ел» (1962), «На Большом Каретном», «За меня невеста отрыдает честно» (1962), «Серебряные струны» (1962), «Катерина» (1963), «Кучера из МУРа укатали Сивку» (1963), «Это был воскресный день» (1963), «Эй, шофер, вези – Бутырский хутор» (1963), «Я женщин не бил до семнадцати лет» (1963), «Мы вместе грабили одну и ту же хату» (1963) и др.
Уже в наши дни некоторые высоцковеды, разбирая «по косточкам» эти песни, уверенно заявляют, что в их основе лежит сильная нелюбовь Высоцкого к советской власти. Вот как, к примеру, это выглядит в устах исследователя Якова Кормана:
«В этой песне („Серебряные струны“. – Ф. Р.) конфликт между лирическим героем и советской властью уже обострен до предела. Хотя власть в тексте прямо не названа, однако ясно, что именно она лишила лирического героя свободы и хочет с ним расправиться:
- Я зароюсь в землю, сгину в одночасье.
- Кто бы заступился за мой возраст юный!
- Влезли ко мне в душу, рвут ее на части –
- Только б не порвали серебряные струны!..
…Лирический герой знает, что никогда не увидит свободы, так как живет в несвободном советском обществе, в «тюремных стенах»…
В песне «За меня невеста отрыдает честно» (1963) ситуация во многом похожа на ту, что и в «Серебряных струнах», – лирический герой вновь лишен свободы:
- Мне нельзя на волю – не имею права,
- Можно лишь – от двери до стены,
- Мне нельзя налево, мне нельзя направо,
- Можно только неба кусок, можно только сны…
Как и в «Серебряных струнах», здесь появляется мотив несвободы и запретов, установленных советской властью, которая, как и в предыдущей песне, порвала струны у гитары лирического героя, то есть лишила его возможности петь (а эта возможность для него дороже самой жизни: «Вы втопчите меня в грязь, бросьте меня в воду,/ Только не порвите серебряные струны!»…»
Думаю, исследователь отнюдь не преувеличивает – так оно и было на самом деле. Хотя наверняка найдутся и скептики: ведь сам Высоцкий никаких устных или печатных комментариев на этот счет не оставил. И, следуя кормановским умозаключениям, по сути можно в любых песнях (и не только принадлежащих Высоцкому) отыскать какой-то потаенный смысл. И все же, беря во внимание многочисленные воспоминания очевидцев тех событий, в которых они также упоминали эту «высоцкую нелюбовь» к действующей власти, остановимся на этой точке зрения. И, взяв за основу выводы Кормана, задумаемся вот о чем: какие события так взвинтили Высоцкого против советской власти, если еще совсем недавно – в конце 50-х – он пел достаточно аполитичные песни, а спустя три-четыре года уже взялся обвинять власть в том, что она буквально засадила его в тюрьму («можно только неба кусок, можно только сны»). Ведь образ жизни, который вел тогда Высоцкий, явно указывал на то, что его несвобода заключалась лишь в том, что он не имеет возможности исполнять свои блатные песни со сцены Кремлевского дворца съездов, а также по радио и ТВ. В остальном же руки у него были отнюдь не связаны: он поет свои песни на «квартирниках», после чего те весьма оперативно распространяются по стране на магнитофонных лентах. И в тюрьму Высоцкого за это никто не тащит. Даже когда эти песни воочию услышал один из высокопоставленных кремлевских руководителей – Петр Поспелов, – все ограничилось лишь вспышкой начальственного гнева и не более. Даже в околоток Высоцкого тогда не отправили.
Между тем действующая власть много чего хорошего дала Высоцкому, но он об этом в своих песнях предпочитает не упоминать. Например, он совершенно бесплатно получил высшее образование, причем имел возможность поступить в два разных вуза: один обычный (строительный), другой престижный (театральный). С голоду он тоже не умирает: имеет возможность периодически сниматься в кино, меняет театры, ездит по стране с «халтурами». Да, зарабатывает при этом не шибко, но только ли власть в этом виновата? Более того, она даже готова лечить его от пагубной болезни, укладывая (опять же бесплатно) в свои наркологические клиники. Но все эти преимущества социализма Высоцким (впрочем, как и другими либералами) в упор не замечаются, поскольку такая объективность может разом обрушить его уже начавшую складываться карьеру инакомыслящего.
Представим себе, если бы Высоцкий стал сочинять песни на те же блатные темы, но с обратным смыслом: как преступники завязывают со своим неблаговидным прошлым, устраиваются на работу и живут вполне добропорядочной и счастливой жизнью (а таких случаев в тогдашней советской действительности были тысячи). Единомышленниками певца такая поэзия тут же бы была объявлена прихлебательской, и его звезда в либеральной среде моментально бы закатилась. Высоцкий это прекрасно понимал, поэтому и завязал с «прихлебательской» поэзией еще в начале своей карьеры (после уже упоминавшейся песни «Сорок девять дней»). И взялся сочинять произведения о тотальной несвободе (как своей, так и всего общества). Причем свои ощущения он, как и положено поэту, намеренно гипертрофировал, дабы сильнее драматизировать ситуацию, поскольку именно такой подход позволял ему максимально эффективно использовать свой талант. Этого требовал конфликтный характер Высоцкого, в противном случае он работал бы вхолостую. Кроме этого, подобный драматизм импонировал публике – что называется, «заводил» ее с пол-оборота.
- …А на вторые сутки
- На след напали суки –
- Как псы на след напали и нашли, –
- И завязали суки
- И ноги и руки –
- Как падаль по грязи поволокли…
Спору нет, что в СССР было множество всевозможных запретов и табу, которые сегодня кажутся по меньшей мере странными. Однако не стоит забывать, что это был по сути социалистический эксперимент, который проводился фактически с чистого листа. Заметим, что нынешний российский капитализм строится по-иному – основываясь на многолетнем западном опыте, однако все ли гладко проходит у наших господ-капиталистов? Сколько всего они напортачили за эти почти два десятка лет своего капиталистического заемного строительства: тут и грабительская приватизация, и расстрел парламента, и две чеченские войны, и дефолт, и монетизация льгот и т. д. и т. п. А тут еще и мировой финансовый кризис грозит России не меньшими катаклизмами. Короче, как пел сам Высоцкий: «Куда там Достоевскому с записками известными…» (автором имелись в виду «Записки из мертвого дома»).
Возвращаясь к теме несвободы, отметим, что любое общество можно назвать таковым. Как верно заметил историк и философ В. Кожинов: «В конечном счете американский тоталитаризм уничтожает не внешнюю свободу, как в СССР, а внутреннюю – что по-своему страшнее». Вот почему сегодняшняя Россия во многом проигрывает СССР и никогда, судя по всему, не сумеет достичь его грандиозных результатов ни в экономике, ни в культуре: потому что разрушает внутреннюю свободу человека. Потому и нет сегодня таких людей, как Владимир Высоцкий: сама система, пагубная в своей сути, их не воспроизводит.
Неудовлетворенность окружающей его действительностью начала проявляться у Высоцкого в самом начале 60-х. Сначала это было социальное неудовольствие, потом к нему добавилось политическое. Такой путь прошли многие советские люди, однако отнюдь не все. Взять, к примеру, известного философа Сергея Кара-Мурзу – ровесника Высоцкого (он на год его моложе – родился в 39-м).
Первый отрезок жизни (детство и юность) у них по сути одинаковый. Кара-Мурза тоже родился в Москве, в войну был в эвакуации, затем вновь вернулся в столицу. Здесь закончил десятилетку, поступил в институт – в МГУ, на химический факультет. И вот тут сходство их (с Высоцким) биографий, а также воззрений, заканчивается. Как вспоминает сам С. Кара-Мурза:
«В это же время (конец 50-х. – Ф. Р.) в университете возникли ячейки диссидентов. Многие из них учились в МГУ, были на три-четыре года старше меня. Они зримо присутствовали в «пространстве» университета. А в 1960 году, когда я делал диплом (уже в Академии наук), доктрина перестройки вчерне, в сыром виде уже оформилась. Ее идеи были на слуху, обсуждались у костра, в экспедициях, на вечеринках. Сразу же возник идейный раскол, но тогда никому не казалось, что это приведет к каким-то политическим последствиям. Еще было стремление усовершенствовать советскую систему, а не разрушить ее. Она и критиковалась от «правильного социализма».
Мне в те годы была ближе химия, научная работа. Я принимал советскую систему как данность, в которой вполне можно и нужно жить – конечно, не совать свою руку в какой-то маховик государства. Другие со страстью искали пути, чтобы эту систему исправить. Они глубоко копались в текстах Маркса и Энгельса – и постепенно сдвигались к отрицанию советской системы. Было странно, что при этом никакого нового знания о советской системе не получали. Все мы знали о ней примерно одно и то же – а пути наши расходились…
Я понимаю, что если не принять тип русского общежития как нечто полностью свое, то он непереносим. Те, кто оценил, насколько он спасителен во время бедствий, – это одно. А те, кто его не принял и стал поэтому явным или скрытым русофобом и антисоветчиком, – мои экзистенциальные враги. Но я их хорошо понимаю: их толкнула к этому важная причина – неприятие того жизнеустройства, в котором тебе предъявляются большие требования, а взамен гарантируется только выживание стране. И тебе лично, как частице страны, – по мере возможности…»
Существует еще одна точка зрения на то, почему Высоцкий избрал стезю социального и политического бунтаря. Все дело (как и в случае с алкоголизмом) в особенностях его организма, а именно в том, что у него, выражаясь научным языком, была «недостаточно эффективная регуляция настроения». Что это такое? Вот как описывает данное явление один из сторонников этой теории – руководитель Наркологического центра Яков Маршак:
«На земле существуют три царства: это животные, растения и грибы. Только животные обладают поведением, потому что им нужен инструмент заботы о самом главном – самоощущении. Хорошо это или плохо, но у человека возможна вся шкала уровней удовлетворенности – от адских мучений до райского блаженства. Обычно мы этого не замечаем и живем где-то вокруг душевного равновесия. Радуемся хорошему, печалимся от плохого. Существуют центры мозга, активностью которых создается наше настроение. Естественно, что существует и регуляция деятельности этих центров. Оказывается, что некоторая часть людей рождается с недостаточно эффективной регуляцией настроения…
Расовые, этнические различия значительно меньше, чем различия между людьми счастливыми и несчастливыми изнутри. Если вдруг какое-то из звеньев регуляции центров настроения не срабатывает, люди вынуждены искать себе счастье. Это похоже на состояние утопающего человека, который не замечает, что его окружает красивое побережье и т. д. Ему просто надо выплыть и глотнуть воздуха. А есть люди, которые приехали на этот курорт и плавают. Для них важно – не утонуть. То есть не превратиться в несчастного…»
Исходя из этой теории, можно предположить, что Высоцкий изначально родился с синдромом несчастного человека. Отсюда и его постоянная неудовлетворенность окружающим миром – будь то личная жизнь (а он, как известно, находился в постоянном поиске своей второй половины и по-настоящему ее так и не нашел), творческая или социальная (он был тем самым утопающим, который не замечает красот побережья – тех же преимуществ социализма – и борется всего лишь за глоток воздуха; причем так было бы с Высоцким везде, а не только в советском социуме, что наглядно докажет его будущая зарубежная одиссея). Этот конфликт подстегивал его воображение, являлся мощным допингом для его неординарного таланта.
Читаем дальше Я. Маршака:
«Что предоставляет нам природа как биологическим существам? Оказывается, что все стайные млекопитающие обладают навыком делать себе хорошо, когда рождается дискомфорт, при помощи обижания. И у человека способов обижания значительно больше, чем у животных. Ударить, оскорбить и т. д. Вы едете на машине, подрезал вас кто-нибудь, и вы говорите про себя – козел! Этот человек не слышит вас, так зачем же вы это сказали? Чтобы сделать себе приятно!
Те люди, которые рождаются с дефицитом удовлетворенности, способны объединяться в общности и считать допустимым и вполне законным метод обижания чужеродных для себя…»
Судя по всему, такой общностью для Высоцкого станет Театр на Таганке, куда он попадет в 64-м. Начиная с его руководителя Юрия Любимова, там, видимо, было достаточно много людей с дефицитом удовлетворенности. Объединившись, они с большим энтузиазмом (и талантом) принялись сообща «обижать чужеродных для себя» – более счастливых, чем они, людей. И Высоцкий среди таганковцев оказался самым выдающимся несчастливцем.
И вновь вернемся к словам Я. Маршака:
«Несчастливые люди являются двигателями прогресса. Они постоянно ищут новые формы быстрого удовлетворения…
Откуда берутся поэты, композиторы, оставившие след в истории? Александр Сергеевич Пушкин, написав поэму, скакал на крыльце и кричал: «Ай да Пушкин, ай да сукин сын!» Он творил в свое удовольствие. И это удовольствие теперь испытывают другие люди. Но, кроме этого, Пушкин был игроком, после смерти поэта император выплачивал за него огромные суммы по карточным долгам, чтобы спасти имя. Умер Пушкин на дуэли. Любимый народом Владимир Высоцкий – тоже яркий пример. Это люди особо креативные, особо талантливые. Как сделать их счастливыми и обезопасить от медленного самоуничтожения?..»
Последний вопрос, на мой взгляд, неуместен. Если таких людей сделать счастливыми, то мир лишится их гениального таланта. Видимо, само Провидение сделало их несчастными, чтобы они, как писалось выше, «двигали прогресс». Другое дело – к чему этот прогресс ведет, да и прогресс ли это вообще? Например, лучше стало жить в мире после того, как был разрушен Советский Союз? Ведь с его падением был по сути уничтожен тот баланс сил, который удерживал мир от скатывания в пропасть новой разрушительной войны. Возвращаясь к Высоцкому, зададимся вопросом: на той ли стороне баррикад он сражался, «двигая прогресс»? Думаю, каждый ответит на этот вопрос по-разному.
Однако вернемся в первую половину 60-х.
В начале ноября 1963 года судьба свела Высоцкого с первым космонавтом Земли Юрием Гагариным. Все вышло благодаря другу нашего героя и соседу по дому в Большом Каретном Левону Кочаряну. Тот тогда работал на телевидении в качестве режиссера и снимал (вместе с Эдуардом Абаловым) праздничный огонек (к 7 ноября), в котором принимал участие и Гагарин. Далее послушаем рассказ А. Утевского:
«Я как раз был в гостях у Кочарянов, когда после съемок Лева и Эдик привезли… Гагарина! Там же со мной был Артур Макаров, а вскоре подъехал и Володя. Естественно, тут же накрыли на стол. Гагарину очень понравился подбор: актер, режиссер и милиционер (я тогда уже в МУРе работал)… Володя спросил Гагарина: „Как там?“ Он ответил: „Страшно!“ Высоцкий очень мало говорил – в основном он „впитывал“ в себя подробности первого полета в космос, что называется, „из первых уст“. Просидели мы долго. Потом – матрасы на пол и вповалку всем спать. А утром я случайно услышал некое подобие „разборки“ между Инной (Кочарян) и Володей, из которой можно было понять, что Володя что-то потерял. Оказалось, что он сочинил песню и записал ее на какой-то салфетке. А хозяйка дома убирала со стола и весь мусор складывала в пакет – по всей видимости, туда и попала салфетка. Весь ужас был в том, что этот полный пакет мусора Инна отдала выбросить кому-то из гостей, который уходил, и не остался ночевать. Вот так и пропала песня Володи Высоцкого, в которой, по всей видимости, были излиты все впечатления от встречи с космонавтом „номер один“…»
В этом рассказе странно лишь одно: почему Высоцкий так и не решился взять в руки гитару и спеть именитому гостю свои песни. Может быть, испугался петь «блатняк» коммунисту Юрию Гагарину? Отметим, что последний никогда этих песен еще не слышал и первое его приобщение к ним произойдет чуть позже – в самом начале 65-го. И, самое интересное, песни эти ему понравятся. Вот как об этом рассказывает знакомый Гагарина А. Утыльев:
«В квартиру инженера Валерия Сергейчика в Звездном городке пришел Гагарин. Все еще спали после шумной новогодней ночи, я по привычке встал рано. „Знаешь, – сказал Юра, – мне вчера подарили необычную магнитофонную кассету – какой-то парень поет просто потрясающе. Давай послушаем…“ И он врубил магнитофон так, что ребята (а в квартире были Николаев, Хрунов, кто-то еще) тут же забыли про сон. Я сказал Гагарину, что знаком с певцом – это Высоцкий, артист Театра на Таганке. Юра тут же попросил и его познакомить с актером…»
Здесь на первый взгляд странной кажется просьба Гагарина познакомить его с Высоцким: и это после встречи с ним в ноябре 63-го! Однако дело здесь, судя по всему, было вот в чем: поскольку Высоцкий во время той встречи у Кочаряна вел себя очень скромно – не пел, а только молча сидел и слушал общий разговор, – то Гагарин его запомнил всего лишь как одного из приятелей хозяина дома по имени Володя. Поэтому настоящее их знакомство произойдет чуть позже, о чем речь еще пойдет впереди. А пока вернемся к событиям 63-го.
Несмотря на то что во время встречи с Гагариным Высоцкий не пел, однако это все же исключительный случай – в других компаниях он с удовольствием исполняет свои песни. Однако перед более широкой аудиторией он предпочитает не петь, а… декламирует стихи Владимира Маяковского (с ними он поступал и в Школу-студию МХАТ). Эти выступления (по-советски «халтуры») помогают Высоцкому сводить концы с концами – зарабатывать хоть какие-то деньги. Вот как это обычно происходило.
В конце 63-го «халтурная» судьба забросила Высоцкого и его приятеля Михаила Туманишвили далеко от Москвы – в Сибирь, в Томск. Вышло все случайно: они сидели в буфете Театра киноактера, когда к ним подошел администратор калмыцкой филармонии В. Войтенко и предложил съездить с гастролями по городам Сибири, Алтая и Казахстана. «Так у нас и программы никакой нет!» – удивились друзья. «А ничего особенного и не надо: выучите пару отрывков из какой-нибудь прозы, да еще три-четыре стихотворения – вот и вся программа, – ответил Войтенко. – Я сегодня улетаю в Томск – там работают Зинаида Кириенко и Леонид Чубаров, а через несколько дней закажу вам билеты, и вы их смените».
В Томск Высоцкий и Туманишвили прилетели 30 декабря. И уже на следующий день давали свой первый концерт. Дрожали от страха, как школьники, поскольку за те несколько дней, что у них были до отъезда, они успели выучить только один отрывок из прозы (его читал Туманишвили) и несколько стихотворений Маяковского (их декламировал Высоцкий). Однако публика приняла молодых актеров довольно тепло. А потом и вовсе дела пошли на лад: Войтенко в местном кинопрокате за две бутылки водки нанял киномеханика, и тот стал помогать гастролерам – крутил ролики с отрывками из фильмов, где они снимались. К тому времени гастролеры уже вполне освоились и, помимо стихов и прозы, разыгрывали смешную сценку из книжки Карела Чапека. За полтора месяца гастролей Высоцкий и Туманишвили выступили в нескольких городах: Томске, Колпашеве (10 января), Барнауле, Бийске (1 февраля), Горно-Алтайске, Рубцовске. В Москву гастролеры вернулись только в конце февраля 1964 года.
Между тем единственным местом работы Высоцкого тогда был клуб МВД имени Ф. Дзержинского, где он играл в спектакле «Белая болезнь». Символичное название для человека, у которого в трудовой книжке была лаконичная надпись, что он не имеет права работать по профессии из-за систематического нарушения трудовой дисциплины, то есть из-за пьянок.
В апреле судьба Владимира Высоцкого вновь пересеклась с Театром имени А. Пушкина: его пригласили туда сыграть по договору роль в хорошо знакомом ему спектакле «Дневник женщины». Он согласился, поскольку деньги были необходимы позарез – ведь беременная жена нигде не работала.
В те же дни в поисках все тех же денег Высоцкий предпринял отчаянный шаг – решил пристроить несколько своих серьезных песен в чужие руки. Для этого они вместе с женой отправились в Театр Эрмитаж, на один из сборных эстрадных концертов. Там Высоцкий обошел практически все гримерки и спел (он был с гитарой) нескольким известным артистам свои песни, предлагая взять их в свой репертуар. Однако никто не согласился. Не стал их брать и Иосиф Кобзон, но он, в отличие от своих коллег, поступил благородно. Сказав Высоцкому, что очень скоро эти песни сам автор будет исполнять с профессиональной сцены, он протянул просителю… 25 рублей. «Отдашь, когда сможешь», – сказал Кобзон. Эти деньги тогда здорово помогли Высоцкому и его жене. Однако осадок от этого унизительного похода в душе Высоцкого, видимо, все-таки остался. И уже очень скоро дал о себе знать.
На майские праздники наш герой сильно загулял с друзьями и как-то вечером, возвращаясь домой, был задержан милиционерами. Те препроводили его в вытрезвитель. Высоцкий идти туда не желал, активно сопротивлялся и всю дорогу твердил, что он актер, что снимается в кино. Стражи порядка в ответ скалились: «Что-то мы тебя ни в одном фильме не видели». И так достали Высоцкого своими издевками по поводу его неузнаваемости, что уже в вытрезвителе он выдернул из брюк ремень и захотел повеситься. Спасло его чудо. В тот самый момент, когда петля захлестнула шею, в камеру зашел пожилой старшина. Он и вынул уже задыхавшегося самоубийцу из петли. И в тот же день позвонил его отцу.
Этот случай настолько испугал родных Высоцкого (да и его самого тоже), что спустя несколько дней он впервые согласился лечь в наркологическую клинику. Тогда всем еще верилось, что таким способом можно вылечить его от тяжкого недуга. Горькая правда (о наследственной болезни) выяснится позже, а пока недельное пребывание Высоцкого в больничных стенах вроде бы помогло – с выпивкой он завязал. И тут же получил новую работу в кино: в мосфильмовской ленте режиссера Федора Филиппова (того самого, который три года назад снял его в эпизодике в «Грешнице») ему предложили роль бригадира строителей Петра Маркина. Режисер русский, а вокруг него сплошь одни евреи или наполовину: Высоцкий, Ялович, Абдулов, Крамаров. Естественно, отношения между ними не самые благожелательные. Как напишет со съемок жене сам Высоцкий: «Режиссера зовут Федор Филиппов. Я его зову Федуар да не Филиппо. Он совсем не Филиппо, потому что ничего не может. Но это и хорошо. Я на съемках режиссирую и делаю, что хочу. Ребята слушают меня…»
Съемки проходили далеко от Москвы – в латвийском городе Айзкрауле. Оттуда Высоцкий писал весьма нежные письма своей жене Людмиле Абрамовой, которая вот-вот должна была родить второго ребенка (сын Никита появится на свет в начале августа). Правда, нежность нежностью, но совладать со своим вторым грехом – чрезмерной любвеобильностью – Высоцкий не в силах. И периодически позволяет себе ухаживать и за другими девушками. Как пел он сам в одной из своих тогдашних песен:
- Я любил и женщин и проказы:
- Что ни день, то новая была, –
- И ходили устные рассказы
- Про мои любовные дела…
Вот один из подобных «устных рассказов», который поведал коллеге Высоцкого актеру Валерию Золотухину тогдашний начальник Калининградского порта Илья Н.:
«К нам приехал Театр миниатюр Полякова. Я пригласил театр, устроили прием. Там были две потрясающие девки: Томка Витченко и Рысина. У меня разбежались глаза. Они даже смеялись надо мной: „Смотри, он не знает, на ком остановиться!“ Ладно. Томка жила в Москве… набережная… там полукругом спускается дом. Лето 1964 года. Я приезжаю в Москву. Прихожу к ней, мы сидим, выпиваем. Где-то поздно ночью звонок, приходит парень… Мы сидим, выпиваем втроем. Три часа ночи. Кто-то должен уйти. Мы ждем, кто это сделает. Она не провожает, не выгоняет никого… нам весело… но мы ждем друг от друга, кто уйдет. В конце концов мы уходим вместе… Прощаемся, берем такси. Он уезжает в одну сторону, я – в противоположную. Через пять минут к ее подъезду подъезжают одновременно два такси. Выходит этот парень, выхожу я… Мы рассмеялись и опять поднимаемся вместе. И до 12 дня выпиваем… Этот парень был Володя Высоцкий. Тогда я, разумеется, не знал… Хотя он и тогда был с гитарой и пел…»
Вернувшись в Москву в июне, Высоцкий уже в начале следующего месяца вновь уезжает в Латвию, чтобы продолжить съемки в фильме «На завтрашней улице». 16 июля он вновь пишет письмо жене, где сообщает: «Я теперь жарюсь на солнце, хочу почернеть. Пока – старания напрасны. Обгорели ноги до мяса, а спина не обгорела до мяса – обгорела до костей. Хожу с трудом, все болит… Никак, лапа, не посещает меня муза – никак ничего не могу родить, кроме разве всяких двустиший и трехстиший. Я ее – музу – всячески приманиваю и соблазняю – сплю раздетый, занимаюсь гимнастикой и читаю пищу для ума, но… увы – она мне с Окуджавой изменила. Ничего… это не страшно, все еще впереди. Достаточно того, что вся группа, независимо от возраста, вероисповедания и национальности, – распевает „Сивку-бурку“, „Большой Каретный“ и целую серию песен о „шалавах“…
Позвони отцу – расскажи, какой я есть распрекрасный трезвый сын В. Высоцкий…»
Последняя реплика не случайна: именно отец больше всего упрекает сына в том, что он сильно пьет. Семен Владимирович не верит в то, что это наследственная болезнь, и никак не хочет смириться с тем, что сын еврея – алкоголик. Прозрение к нему придет много позже.
18 июля в своем очередном письме жене Высоцкий пишет: «А вообще скучно… Читать нечего. Дописал песню про „Наводчицу“. Посвятил Яловичу (Геннадий Ялович был сокурсником Высоцкого по Школе-студии МХАТ и, как уже говорилось, снимался с ним тогда в фильме „На завтрашней улице“. – Ф. Р.). Ребятам нравится, а мне не очень…»
Как и положено талантливым творцам, им обычно не нравятся именно те произведения, которым впоследствии предстоит стать всенародно любимыми. Я лично из своего глубокого детства помню полутемный подъезд старого пятиэтажного дома, нас, ребят-малолеток, и пацанов чуть постарше, один из которых, ударяя по струнам «шаховской» семиструнки, поет:
- Ну и дела же с этой Нинкою,
- Она ж спала со всей Ордынкою,
- И с нею спать – ну кто захочет сам?
- – А мне плевать – мне очень хочется…
И вот это последнее – «а мне плевать – мне очень хочется» – разнеслось потом среди московской ребятни со скоростью холеры. Мы щеголяли этой фразой к месту и не к месту, картинно закатывая глаза и во всем стараясь сохранить интонацию оригинала.
- Она ж хрипит, она же грязная,
- И глаз подбит, и ноги разные.
- Всегда одета как уборщица, –
- Плевать на это – очень хочется!
Сам того не подозревая, Высоцкий в июле 64-го создал «нетленку» – этакий гимн дворов и подворотен 60-х, своеобразную «Мурку» того времени. В тех дворах и подворотнях не пели песен Александры Пахмутовой, там пели «Нинку», «которая спала со всей Ордынкою». Да и сам Высоцкий в одном из писем июля 64-го писал жене: «…писать как Пахмутова я не буду, у меня своя стезя и я с нее не сойду».
Стезя эта – воспевание уголовного мира – еще не отпугивает самого Высоцкого, который, во-первых, еще достаточно молод (ему всего 26 лет), а во-вторых, она позволяет ему купаться в славе, завоевывая авторитет пусть и не у высшего истэблишмента, но хотя бы у дворовой шпаны, уголовников и определенной части либеральной интеллигенции.
К слову, Всеволод Абдулов позднее будет утверждать, что «Нинка» была написана чуть раньше поездки в Ригу – в Москве, на Пушкинской улице, в коммунальной квартире скрипача Евгения Баранкина. Причем немалую роль при этом сыграла «горькая» – то есть водка. Вот как это выглядело в устах рассказчика:
«Мы сидели у Жени. Отмечали какое-то событие или просто так собрались, сказать не могу, только в три часа ночи кончилась водка. А в начале 60-х на радость всем нам работало кафе „Арарат“, куда ночью в любое время можно было постучаться и увидеть двух швейцаров с благородными, честными лицами:
– Сколько?
Ты говорил сколько – хоть ящик! – и тут же получал требуемое количество бутылок. По пять рублей (при госцене 2 рубля 87 копеек).
Пошли мы с Володей в «Арарат» и остановились у автоматов с газированной водой: они тогда только-только появились. Кидаешь три копейки, автомат говорит: «Кх-х-хх», – и либо не выдает ничего, кроме газа, либо наливает стакан воды с сиропом, вкус которой непредсказуем заранее и зависит от честности лица, заправлявшего его накануне. (Сущая правда. В 70-е годы я был знаком с парнем, который работал на этих автоматах на Киевском вокзале, так вот он разбавлял сироп… акварельной краской. – Ф. Р.). Володя жутко завидовал мне в то время: я умел обращаться с этими устройствами. Подходил к автомату, долго смотрел ему в лицо, определяя место, в которое нужно ударить. Потом бил мягкой частью кулака: «Др-р!» – и получал воду с сиропом. У Володи этого не получалось, и я его учил.
Приблизились мы к автоматам, и вдруг Володя отошел в сторону, произнеся:
– Постой, чудак, она ж наводчица…
Потом мы зашли в «Арарат», отоварились, возвратились к Баранкину, и Володя спросил:
– Жень, где мне здесь присесть? Нужно кое-что записать.
Отошел в угол, а буквально через пятнадцать минут спел нам ту самую «Нинку»…»
Тем временем пребывание Высоцкого в Латвии продолжается. В отличие от своих друзей, которые нет-нет, но позволяют себе «заложить за воротник», он продолжает с гордостью нести бремя непьющего человека. 29 июля в длинном письме жене вновь звучит радость за себя: «Я расхвастался затем, чтобы ты меня не забывала, и скучала, и думала, что где-то в недружелюбном лагере живет у тебя муж ужасно хороший – непьющий и необычайно физически подготовленный.
Я пью это поганое лекарство, у меня болит голова, спиртного мне совсем не хочется, и все эти экзекуции – зря, но уж если ты сумлеваешься – я завсегда готов…
Было вчера собрание… Впервые ко мне нет претензий – это подогревает морально.
Я, лапочка, вообще забыл, что такое загулы, но, однако, от общества не отказываюсь…»
Высоцкий вывел эти строчки 3 августа, а пять дней спустя в Москве у него родился второй сын – Никита. И счастливый отец пишет через неделю своей жене: «Я тебя очень люблю. А я теперь стал настоящий отец семейства (фактически, но не де-кюре – это в ближайшее будущее), я и теперь чувствую, что буду бороться за мир, за счастье детей и за нравственность».
В это же самое время судьба готовила Высоцкому тот самый крутой поворот, который должен будет серьезно изменить всю его творческую жизнь. На горизонте маячил второй поворотный момент в его жизни – «Таганка».
ГЛАВА ПЯТАЯ
КАК ЛИБЕРАЛЫ ВЗЯЛИ «ТАГАНКУ»
Театр драмы и комедии на Таганке возник в 1946 году под руководством заслуженного артиста РСФСР А. К. Плотникова и в течение почти 20 лет являл собой крепкого середняка в театральном мире столицы, ставя в основном пьесы советских авторов (в целом это был театр с ярко выраженной державной позицией). Правление Плотникова могло продолжаться до самой его смерти, если бы в дело не вмешалась политика: в конце 50-х в стране грянула «оттепель» и началась смена прежних (сталинских) кадров на новые. Кресло под Плотниковым закачалось в начале 60-х, когда его театр стал терять зрителя и превратился в малопосещаемый. Однако не менее важной причиной этой замены было и то, что либералам во власти и культуре необходим был еще один свой театр в самом центре Москвы. И режиссером туда должен был быть назначен их ставленник.
Здесь стоит отметить, что к тому времени в советском искусстве начали происходить весьма серьезные перемены, которые явились следствием все той же борьбы либералов и державников. Как мы помним, когда к власти пришел Хрущев и взялся кардинально реформировать страну, советская элита, в целом поддерживая эти реформы, в то же время видела их развитие по-разному. Однако эти расхождения во взглядах не касались основ самой системы и все политические группировки были едины в главном – систему можно и нужно реформировать. Так началась «оттепель» – период романтических ожиданий всего советского социума, в том числе и его интеллигенции. На этой романтической волне в советской литературе и искусстве появился новый герой – светлый и одухотворенный великим строительством романтик, все помыслы которого устремлены в будущее, которое обязательно будет еще лучше, чем настоящее.
Но этот период длился ровно столько, сколько у либеральной части интеллигенции (в основном ее еврейского крыла) сохранялись надежды, что реформы Хрущева соответствуют прежде всего их чаяниям. После чего пришло разочарование, которое чуть позже сменит осознание того, что эта система в существующем виде под евреев ложиться не хочет. И с этого момента начнется постепенный процесс умертвления ими «красного проекта». А поскольку число этих людей среди советской элиты было достаточно внушительным (больше половины, плюс сочувствующие), то, естественно, их движение в этом направлении предопределило исход сражения в их пользу (горбачевская перестройка это наглядно подтвердит).
«Переворот в мозгах из края в край» (как споет чуть позже Высоцкий) у советских евреев начался в первой половине 60-х с эпохи так называемых «больших и малых фиг в кармане». В том же кинематографе это было заметно особенно. Режиссер Григорий Козинцев на волне «оттепели» снимает в 1957 году романтического «Дон Кихота», а пять лет спустя берется за «Гамлета», где, как уже говорилось, изображает СССР в виде «Дании-тюрьмы» (тюрьмы прежде всего для евреев). Другие режиссеры – Александр Алов и Владимир Наумов – в 1965 году снимают «Скверный анекдот» по Ф. Достоевскому – откровенный приговор со стороны евреев нереформируемому в их понимании советскому обществу.
Здесь прослеживается параллель с Веймарской Германией, где точно так же еврейская элита сначала поддерживала тамошний режим, а затем от него решительно отреклась. Вот как об этом заявил редактор одного из влиятельных веймарских печатных изданий «Ди Вельтбюне» Курт Тухольский:
«Эта страна, которую я якобы предаю, – не моя страна, это государство – не мое государство, эта юридическая система – не моя юридическая система. Различные лозунги этого государства для меня являются такими же бессмысленными, как и его провинциальные идеалы… Мы – предатели. Но мы предаем государство, от которого мы отрекаемся ради земли, которую мы любим, ради мира и во имя нашего истинного отечества – Европы…»
Но вернемся к Театру на Таганке.
Перемены там начались в конце 1963 года. В ноябре туда пришел новый директор Николай Дупак, а на место главного режиссера была предложена кандидатура Юрия Любимова. Предложена не случайно, а потому, что либералы увидели в этом человеке талантливого проводника своих идей. Причем обнаружилось это не сразу, ведь долгие годы Любимов выступал апологетом советской власти. Как выяснится позже, это была всего лишь ширма, за которой скрывалось совсем иное нутро. Впрочем, хрущевская «оттепель» выявила огромное количество подобных перевертышей, которые, как тогда говорили, колебались вместе с курсом партии. То есть было модно славить Сталина – славили его, стало модным его поносить – с легкостью взялись и за это. Хотя в случае с Любимовым не все было так однозначно.
В его биографии было одно пятно, которое сам он долгие годы не афишировал. Причем советская власть знала об этом пятне, но никогда им Любимова не попрекала, предпочитая закрыть на это глаза. Ей казалось, что, делая так, она заполучила верного своего приверженца. Как показали последующие события, это было заблуждение.
Дед Любимова, кулак-единоличник из деревни Абрамцево под Ярославлем, был раскулачен в конце 20-х. Тогда же под каток репрессий угодили и родители Любимова: отец, мать, а также родная тетка. Правда, вскоре мать из тюрьмы освободили (она сумела откупиться, отдав властям то ли часть, то ли все свои прежние сбережения), а вот деду и отцу пришлось несколько лет отсидеть в тюрьме.
Несмотря на то что взрослые члены семейства Любимовых оказались в категории «врагов народа», на их детей (Давыда, Юрия и Наталию) это клеймо не распространилось. Уже в начале 30-х годов старший из детей Любимовых Давыд вступает в комсомол, а чуть позже по его стопам идет и Юрий. Он поступает в ФЗУ «Мосэнерго», после окончания которого работает сначала рядовым монтером, а потом становится бригадиром ремонтной бригады. В конце 30-х он поступает в театральное училище имени Щукина. Если кто-то подумает, что пример Любимова случай исключительный, то он ошибется: большинство детей «врагов народа» судьбу своих родителей не разделили, и новая власть предоставила им равные со всеми возможности для жизненного роста. 30 декабря 1935 года даже вышел указ об отмене ограничений, связанных с социальным происхождением лиц, поступающих в высшие учебные заведения и техникумы.
Закончив училище, Любимов был распределен в Театр имени Вахтангова. Но вскоре началась война, и он оказывается в только что созданном по приказу наркома внутренних дел Лаврентия Берии Ансамбле песни и пляски НКВД. Если учитывать, что отбор туда происходил в результате самого тщательного изучения анкетных данных, то невольно закрадывается мысль: как в этот коллектив мог попасть сын и внук «врагов народа» Юрий Любимов? Да все по той же причине: сын за отца не отвечал. Зачлось Любимову и его добросовестное служение советскому строю за все предыдущие годы. Не зря ведь красавца-студента взяли в Театр Вахтангова именно на роли «социальных» героев – то есть правильных советских юношей. И он их с радостью играл. Да и в Ансамбль НКВД Любимов был приглашен не в рядовые статисты, а в качестве ведущего (!) программы и исполнителя задорных интермедий.
Позже, уже после падения Берии, Любимов вволю отыграется на своем бывшем шефе: с таким же задором, как он конферировал и пел куплеты про торжество советского строя, он заклеймит Лаврентия Палыча: «Цветок душистых прерий Лаврентий Палыч Берий…» Хотя никакого героизма в том, чтобы пинать уже убитого своими же соратниками некогда всесильного министра, не было. Вот если бы Любимов спел эти частушки при жизни Берии, вот тогда его имя можно было бы высечь на скрижалях истории. Но в таком случае эта слава досталась бы Любимову посмертно, а он этого, естественно, не хотел. Цель-то у него была другая: обмануть, пережить советскую власть. Ну что ж, теперь уже можно точно сказать, что в этом деле Юрий Петрович преуспел.
После войны Любимов возвращается в родной вахтанговский театр и практически сразу получает главную роль. Причем не кого-нибудь, а комсомольца-подпольщика Олега Кошевого в «Молодой гвардии». За эту роль Любимова удостаивают Сталинской премии, что мгновенно открывает молодому актеру дверь в большой кинематограф. Он снимается у Александра Столпера, Николая Ярова и даже у Ивана Пырьева в его хите начала 50-х «Кубанские казаки», который тоже будет удостоен Сталинской премии.
Кстати, и в этом случае Любимов не удержится от сарказма – проедется шершавым языком критики по адресу фильма в годы, когда Пырьева уже не будет в живых. Он расскажет, как был возмущен происходящим на съемках: дескать, в стране чуть ли не голод, а Пырьев показывает счастливых людей и изобилие на столах. Цитирую:
«Снимали колхозную ярмарку: горы кренделей, какие-то куклы, тысячи воздушных шаров. Ко мне старушка-крестьянка подходит и спрашивает: „А скажи, родимый, из какой это жизни снимают?“ Я ей говорю: „Из нашей, мамаша, из нашей“. А у самого на душе вдруг стало такое, что готов сквозь землю провалиться. Тогда и дал себе обещание – больше никогда в подобном надувательстве не участвовать».
Соврал себе Юрий Петрович. Уже через год после съемок в «Кубанских казаках» он получает еще одну Сталинскую премию за роль красного комиссара Кирила Извекова в одноименном спектакле по роману К. Федина «Первые радости». Спрашивается, чем же «Кубанские казаки» Пырьева отличались от «Первых радостей» Федина? Разве тем, что в «Казаках» показывали миф о послевоенной советской жизни, а в «Извекове» – миф о Гражданской войне. По Любимову, то же надувательство.
Однако дальше происходит и вовсе запредельное действо: в 1953 году Любимов… вступает в КПСС. Сам он объясняет этот поступок следующим образом: «Я воспитан на нравственных ценностях великой русской культуры… Когда я был относительно молод, мои старшие товарищи-коммунисты, которым я верил, уговорили меня вступить в партию. Они считали меня честным человеком и убедили, что сейчас в партии должно быть больше честных людей, и я поверил им».
Очень ловкий ход: свалить все на других людей. Дескать, сам я даже мысли не допускал стать коммунистом, но старшие товарищи, такие-сякие, чуть ли не силком затащили в проклятую КПСС. А ведь на самом деле все было гораздо проще, можно сказать, прозаичнее. После того как Любимов еще в детстве понял, что у него, как у сына «врага народа», нет другого пути в этом обществе, как принять его законы, он смирился с этим. Как и миллионы других детей «врагов народа». Но у Любимова было одно «но», которое отличало его от этих миллионов: он стал не просто рядовым членом этого общества, а самым ревностным его служакой. Лучший в ансамбле НКВД, лауреат Сталинских премий, лучший исполнитель ролей правильных советских людей и т. д. – вот они те самые ступеньки, по которым Любимов взбирался на самый верх.
Как выяснится позже, его усердие было деланым. На самом деле пепел репрессированных родственников-кулаков все это время стучал в его сердце, и Любимов только ждал момента, когда он сможет сполна отомстить советской власти. Этот момент наступит, когда Любимов встанет у руля «Таганки». С этого дня он превратится в одного из ниспровергателей тех самых устоев, которые он на протяжении долгих лет сам добросовестно и культивировал.
В известном романе Анатолия Иванова «Вечный зов» был очень точно нарисован портрет такого же приспособленца – Федора Савельева, которого всю жизнь точила злоба на советскую власть за то, что она не дала ему возможности унаследовать справное хозяйство купца Кафтанова, у которого он ходил сначала в лакеях, а потом в фаворитах. В эпизоде, где он спорит со своим младшим братом Иваном, последний заявляет: «А ведь ты, Федор, не любишь советскую власть». Брат в ответ возмущается: «Как же я могу ее не любить, если я за нее кровь проливал, партизанил?» На что Иван отвечает: «Это верно. Только случись сейчас для тебя возможность, ты бы против боролся». На мой взгляд, Любимов из той же породы людей, что и Федор Савельев. И обоих раскусила война: только Савельева Великая Отечественная (он перешел на сторону фашистов), а Любимова – «холодная» (в начале 80-х он не вернется на родину из зарубежной командировки). Правда, итог жизни у обоих героев оказался разным: Савельева застрелил его родной брат Иван, а Любимов с триумфом вернулся на родину, когда здесь к власти пришли его единомышленники.
Но вернемся к годам зарождения «Таганки», в первую половину 60-х.
Вплоть до начала 60-х Любимов продолжал представлять из себя вполне лояльного власти актера и режиссера. Играл правильных героев и ставил незатейливые пьески с куплетами на сцене родного ему Вахтанговского театра. Но в 1963 году силами студентов своего курса в театральном училище имени Щукина, где Любимов преподавал, он поставил пьесу «Добрый человек из Сезуана», принадлежащую перу Бертольда Брехта. Этот немецкий драматург с еврейскими корнями считается не только великим реформатором драматического искусства, но и ярым антифашистом. Все его пьесы содержали в себе резкую до гротеска критику социальных и нравственных основ буржуазного общества, за что Брехту изрядно доставалось. Перед войной он эмигрировал в Америку, где прожил шесть лет, но так и не смог поставить там ни одной своей пьесы, издать ни одной своей книги. В итоге драматург вынужден был попросту бежать из США, чтобы не попасть под дамоклов меч комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, под который угодили в основном левые деятели из числа тамошних евреев.
Между тем в Советском Союзе Брехт был очень популярен: здесь на сценических подмостках многих театров были поставлены чуть ли не все его пьесы. Однако в годы «оттепели» у нас появились режиссеры, которые стали по-своему интерпретировать произведения данного драматурга. Эти постановщики стали представлять Брехта как поборника «чистого искусства», стремясь доказать, что он хорош только там, где перестает быть коммунистом. Возразить им сам драматург ничего не мог, поскольку ушел из жизни в 1956 году. Однако за год до этого, уже будучи тяжело больным человеком и удостоившись звания лауреата Ленинской премии, Брехт сказал следующее:
«Мне было девятнадцать лет, когда я узнал о вашей Великой революции, двадцати лет от роду я увидел отблеск вашего великого пожара у себя на родине. Я служил военным санитаром в одном из лазаретов в Аугсбурге. В последующие годы Веймарской республики я обязан своим просветлением трудам классиков социализма, вызванным к новой жизни Великим Октябрем, и сведениям о вашем смелом построении нового общества. Они привязали меня к этим идеалам и обогатили знанием…»
В «Добром человеке из Сезуана» Брехт исследовал синдром фашизма, но Любимов развернул острие пьесы в сторону советской власти, создав по сути еще и антирусский спектакль. Как напишет много позже один из критиков: «Превращение героини спектакля – это метафора двойной природы всякой деспотической власти, и прежде всего русской власти (выделено мной. – Ф. Р.)».
Многочисленные «фиги», которые Любимов разбросал по всему действу, были спрятаны в зонги, которые исполняли актеры. Например, такой: «Шагают бараны в ряд, бьют барабаны, кожу на них дают сами бараны». Естественно, всем зрителям спектакля было понятно, о каких именно «баранах» идет речь. Понял это и ректор «Щуки» Борис Захава, который потребовал от Любимова убрать все зонги из спектакля. Но Любимов отказался это сделать. Тогда Захава издал официальный приказ о снятии зонгов.
Именно этот скандал заставил обратить на Любимова внимание либералов из высших сфер. Они увидели в нем горячего сторонника мелкобуржуазной идеологии (напомним, что он был отпрыском кулаков), которая в те годы все сильнее крепла в высшем советском истэблишменте. Иного и быть не могло, если учитывать, что именно при Хрущеве, как уже говорилось, происходила замена диктатуры пролетариата другой диктатурой – бюрократии. В ней было два течения: пролетарское (основу его составляли державники и государственники-центристы) и мелкобуржуазное (его основа – либералы). Именно последних и представлял Любимов – перекрасившийся кулак.
Немалую роль в воцарении Любимова на «Таганке» сыграли и его личные связи. Дело в том, что с тогдашней женой Любимова актрисой Людмилой Целиковской был давно дружен влиятельный член Политбюро еще сталинского призыва Анастас Микоян. Дружба это восходила к концу 40-х, когда актриса была замужем за приятелем и земляком Микояна, известным советским архитектором Каро Алабяном (он умер в 50-е). Будучи еврейкой, Целиковская органически не переваривала советскую власть пролетарского (державного) толка, о чем многие (в том числе и Микоян) хорошо знали. Знали они и о том, что Любимов целиком и полностью находится под большим влиянием этой деловой и активной женщины (сам он называл ее Циолковский и Генерал), поэтому, выбирая его на пост главрежа нового театра, по сути выбирали туда же и Целиковскую. Как скажет чуть позже театральный критик Б. Поюровский: «Целиковская – это локомотив и мозговой центр Театра на Таганке».
Другим не менее влиятельным инициатором этой кампании был Юрий Андропов – еще один чистокровный еврей (по матери), который на тот момент был одним из руководителей Международного отдела ЦК КПСС – оплота прозападного течения в советских верхах (Андропов руководил сектором социалистических стран, а Борис Пономарев, о котором речь подробно пойдет чуть позже, – сектором капиталистических стран). В новом детище Андропов видел не только театр, должный объединить под своими знаменами наиболее влиятельную часть советской либеральной интеллигенции, но также идеологическое заведение, которое должно было стать своеобразной визитной карточкой СССР на Западе, как свидетельство советского плюрализма. Это была своего рода отдушина, которую власть собиралась предоставить либералам-западникам, чтобы они не сильно усердствовали в критике режима. Однако в итоге из «Таганки» получится не отдушина, а настоящий таран для атаки на фундаментальные устои советского проекта.
Задумывались ли над возможностью такого поворота те люди, которые пробивали в верхах создание подобного театра? Ведь, как известно, в идеологических центрах Запада уже тогда велись исследования на тему о роли театра в разрушении культурного ядра социалистических стран. Был пример той же Италии 20-х годов, где театр Луиджи Пиранделло во многом способствовал приходу к власти фашистов. Судя по всему, все это учитывалось, однако верх в этих раскладах брало то, что плюрализм советской системе был необходим, хотя бы в ограниченной форме. Тем более что верховная власть собиралась зорко приглядывать за его носителями.
Отметим, что точно такие же процессы тогда происходили и в других странах Восточного блока, правда, в разных пропорциях. Например, в ЧССР они были чуть больше, чем в соседней ГДР. В последней вообще с плюрализмом в начале 60-х старались не перебарщивать, особенно после берлинского кризиса 61-го года. Не случайно в том году там была запрещена к постановке пьеса известного драматурга Хайнера Мюллера «Переселенка», а сам он исключен из Союза писателей ГДР (отметим, что всего за два года до этого он был награжден премией Томаса Манна). С этого момента все последующие его пьесы также запрещались цензурой. Однако спустя два десятилетия Мюллер был частично реабилитирован у себя на родине (после того, как его пьесы с успехом шли на Западе почти полтора десятка лет), что тоже было симптоматично: это было уже иное время – торжество еврокоммунизма по всей Европе, в том числе и в восточной ее части. И немалую роль в этом торжестве сыграл Советский Союз, руководство которого шаг за шагом выпускало ситуацию из-под своего контроля, способствуя (вольно или невольно) именно «разрушению культурного ядра общества» как у себя, так и у своих союзников.
Возвращаясь к «Таганке», вновь напомним, что ее создание предполагало тщательный надзор за ней со стороны как идеологических служб, так и служб из разряда специальных. Для КГБ (а возглавлял его тогда Владимир Семичастный) было важно не просто создать в центре Москвы этакое либеральное заведение, куда стекалась бы публика определенного сорта, а именно заведение поднадзорное (то есть напичканное стукачами). Ведь тогда в советском обществе в моду входили так называемые «кухонные» посиделки, следить за которыми КГБ имел ограниченные возможности. А «Таганка» могла стать именно тем местом, где эти кухонные споры должны были трансформироваться в живые дискуссии и, став достоянием спецслужб, надежно ими контролироваться.
Именно под это дело (возможность лучше контролировать либеральную среду) Андропов, судя по всему, и пробил решение о создании «Таганки» – театра с ярко выраженным либеральным (мелкобуржуазным) уклоном. При этом себе Андропов отвел роль закулисного кукловода, а для непосредственного контакта с руководством театра был отряжен один из его людей – сотрудник того же Международного отдела ЦК КПСС Лев Делюсин. Об этом человеке стоит рассказать особо, поскольку он вскоре стал одним из близких товарищей не только Юрия Любимова, но и нашего героя – Владимира Высоцкого.
Делюсин принадлежал к так называемому поколению «сороковых-пороховых». В 19-летнем возрасте он был призван на фронт и участвовал в одном из крупнейших сражений Великой Отечественной войны – в Сталинградской битве. За участие в боевых операциях был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны 2-й степени. Вернувшись с фронта, поступил учиться на китайское отделение Московского института востоковедения. Затем учился в аспирантуре АОН при ЦК КПСС и попутно работал обозревателем в газете «Правда». Именно на последнем поприще и обратил на себя внимание высокопоставленных либералов, которые рекрутировали в свои ряды наиболее талантливых и образованных специалистов, могущих достойно противостоять «догматичным охранителям-сталинистам». В том числе и с фронтовым опытом, как Делюсин.
Вообще идейное размежевание между недавними борцами с одним и тем же злом (фашизмом) в те годы было кардинальным. Причем показательно, что фронтовики-евреи сплошь перешли под знамена либералов (в кинематографе – Григорий Чухрай, Александр Наумов и др.; в политике – Григорий Арбатов, Лев Делюсин и др.; в литературе – Василий Гроссман, Григорий Бакланов, Борис Васильев, Давид Самойлов, Булат Окуджава, Борис Слуцкий и др.), а фронтовики-славяне – под знамена державников (в кинематографе – Юрий Озеров, Владимир Басов, Сергей Бондарчук и др.; в литературе – Михаил Алексеев, Юрий Бондарев, Леонид Соболев, Иван Стаднюк, Сергей Смирнов, Иван Шевцов и др.). Впрочем, были и исключения. Например, будущий идеолог горбачевской перестройки «ярославский мужик» (как он сам себя называл) Александр Яковлев слыл либералом. К ним же относился и писатель Борис Можаев («рязанский мужик»). Правда, последний затем сменит свои идеологические пристрастия, но это будет много позже – в перестроечные годы.
Если фронтовики-либералы, что называется, навоевались (их потому так и называли – «пацифисты») и отныне готовы были похоронить классовый подход как в политике, так и культуре (это помогало им быстрее навести мосты с западной интеллигенцией), то представители «русской партии», наоборот, не собирались складывать своего оружия, видя в забвении классового подхода прямой путь к поражению в «холодной войне». В качестве примера приведу воззрения двух писателей: Юрия Бондарева и Василия Гроссмана.
Имя первого по-настоящему прогремело на всю страну в 1962 году, когда свет увидел его роман «Тишина». Эту книгу принято считать одной из первых «антикультовых» – то есть написанных с позиций ХХ съезда КПСС, осудившего культ личности Сталина. Определение верное, но требует уточнения. Антикультовый пафос книги был направлен против перегибов сталинских времен, но не против советской власти вообще. Последнее было присуще скорее многим либералам-западникам, которые избрали тему культа личности именно как повод для своих нападок на само Советское государство. Особенно ярко это проявилось в романах начала 60-х Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» и «Все течет», в которых война была представлена как сражение сил мирового зла – коммунизма и фашизма – и где заявлялось, что «девятьсот лет просторы России… были немой ретортой рабства», что «развитие Запада оплодотворялось ростом свободы, а развитие России оплодотворялось ростом рабства».
Заметим, что роман «Тишина» тогда же (в 64-м) был экранизирован на «Мосфильме» режиссером-державником Владимиром Басовым. Это было своеобразным ответом на фильм другого бывшего фронтовика, но из лагеря либералов – «Чистое небо» (1961) Григория Чухрая, где тема культа личности была не столько выстрадана, сколько несла в себе отпечаток модной темы – ее наскоро сочинили авторы на волне XXII съезда КПСС с его новыми антисталинскими разоблачениями. Именно по этой меже и проляжет идейное расхождение державников и либералов в вопросе культа личности: если первым будет чуждо всяческое модное манипулирование этой темой, что в итоге и приведет к последующему их отказу от нее в пользу государственной идеологии, то вторые наоборот – будут всячески жонглировать ею как в политических целях (чтобы потрафить Западу), так и в личных (чтобы сделать себе имя на том же Западе).
Но вернемся к Льву Делюсину.
Для дальнейшей обкатки либеральных воззрений он был отряжен в Прагу, в редакцию только что созданного (в 1958-м) журнала «Проблемы мира и социализма».
Отметим, что в социалистическом блоке у ЧССР было особое положение. На ее территории не было советских войск, а в руководящих звеньях госпартхозаппарата работало значительное количество евреев, которые с большим воодушевлением восприняли хрущевский курс на сближение с Западом. В итоге именно Чехословакия по примеру СССР первой начнет у себя рыночные реформы (в самом начале 60-х, при 1-м секретаре ЦК КПЧ и президенте страны Антонине Новотном) под весьма многозначительным лозунгом «придадим социализму человеческое лицо». Один из активных инициаторов этих реформ – еврей Ота Шик, входивший в ЦК КПЧ и занимавший пост руководителя Института экономики Пражской академии наук, объявил, что на место плановой экономики должно прийти «социалистическое рыночное хозяйство». По сути это был отход от социализма, поскольку предполагалось освободить предприятия от государственного управления, дать независимость профсоюзам, ввести рабочее самоуправление и свободное ценообразование, разрешить кооперацию с западными предприятиями и создание небольших частных фирм и т. д. и т. п. За свои инициативы Шик был объявлен прогрессистом, а все, кто выступал против него, – ретроградами. По сути та же картина происходила тогда и в СССР, где либералы-рыночники, взяв за основу идеи харьковского экономиста Евсея Либермана, также обещали в случае претворения в жизнь их реформ появление у нас в скором времени «молочных рек и кисельных берегов».
В журнале «Проблемы мира и социализма», который уже тогда многими характеризовался как оплот «рыночников-ревизионистов», Лев Делюсин проявил себя самым лучшим образом, за что был замечен самим Юрием Андроповым и в 1960 году вызван им в Москву, для того чтобы стать консультантом в Международном отделе ЦК КПСС. Таких консультантов в годы хрущевской «оттепели» в этом отделе (а потом и во всем ЦК КПСС) будут собраны десятки, что в итоге и предопределит исход мирового противостояния – СССР падет, доведенный до краха именно либералами-западниками.
Поскольку в создании «Таганки» вовсю использовался чехословацкий опыт (именно в реформистской ЧССР активно внедрялась доктрина «чистого искусства», то есть бесклассового), опыт таких людей, как Лев Делюсин, оказался бесценен. Во многом благодаря его советам – а также советам других андроповцев вроде Федора Бурлацкого, Александра Бовина (еще один работник журнала «Проблемы мира и социализма»), Георгия Шахназарова, Лолия Замойского (одного из ведущих советских масоноведов) и др. – этот театр превратится в оплот либеральной фронды в СССР.
Поначалу Любимову собирались отдать Театр имени Ленинского комсомола, но затем на горизонте возникла «Таганка», откуда недавно был удален первый руководитель А. Плотников. Устройство Любимова было обставлено в соответствии со всеми законами советской идеологии. Сразу в нескольких центральных печатных изданиях появился ряд статей заинтересованных лиц из либеральной среды, где с восторгом живописался любимовский спектакль «Добрый человек из Сезуана». Первым на эту стезю вступил известный писатель и земляк Микояна Константин Симонов, выступивший не где-нибудь, а в главной газете страны – «Правде» (номер от 8 декабря 1963 года).
Как и положено умудренному царедворцу, писатель поступил хитро, завуалировав истинную суть любимовского творения под следующими словами: «Я давно не видел спектакля, в котором так непримиримо, в лоб, именно в лоб… били по капиталистической идеологии и морали и делали бы это с таким талантом».
Спустя неделю эстафету подхватил другой либерал – уже знакомый нам театральный критик Борис Поюровский, который со страниц «Московского комсомольца» (номер от 15 декабря) заявил следующее:
«Спектакль этот не имеет права на такую короткую жизнь, какая бывает у всех дипломных работ. Потому что в отличие от многих других „Добрый человек из Сезуана“ у щукинцев – самостоятельное и большое явление в искусстве. Нельзя допустить, чтобы режиссерское решение Ю. Любимова кануло в вечность весной предстоящего года, когда нынешний дипломный курс окончит училище».
Наконец, в начале следующего года во второй газете страны – в «Известиях» (номер от 19 января 1964 года) – вышла статья критика Н. Лордкипанидзе, где он поддержал призыв Симонова и Поюровского о том, чтобы Любимов и его ученики «не расставались». В итоге власти приняли решение отдать недавним щукинцам и их учителю театр в центре Москвы – «Таганку». Приказ об этом был подписан в Моссовете 18 февраля 1964 года.
Отметим, что появление любимовской авангардистской «Таганки» совпало со скандалом, который случился в Малом театре – оплоте традиционного русского театрального искусства. Этот скандал назревал давно, еще с 62-го, когда туда пришел новый главный режиссер – молодой (39 лет) Евгений Симонов (сын руководителя Вахтанговского театра Рубена Симонова, представитель все той же либеральной фронды). Как напишет в своих дневниках актер Малого театра, киношный Чапаев Борис Бабочкин: «Назначение молодого Симонова – это, конечно, акт вандализма… Теперь это уже не Малый театр, а кафе „Юность“…»
Спустя полтора года это назначение аукнется Малому театру тем, что с поста директора будет освобожден откровенный русофил Михаил Царев. А в Союзе кинематографистов будет смещен со своего поста другой деятель русских кровей – Иван Пырьев (на его место чуть позже придет человек с еврейской кровью – Лев Кулиджанов). Все эти рокировки (включая и создание «Таганки»), выпавшие на последнее полугодие правления Хрущева, ясно указывали на то, что активнейшая борьба между либералами и державниками продолжается и в ней первые явно ломят вторых. Судя по всему, смещение Хрущева, который, видимо, начал все больше склоняться в своих симпатиях к либералам (отметим, что его зятем был один из их молодых лидеров – Алексей Аджубей, возглавлявший газету «Известия»), в немалой степени было связано и с этим тоже (о чем либеральная историография сегодня старается не упоминать).
Но вернемся к Высоцкому.
Спустя полгода после появления на свет любимовской «Таганки» он был зачислен в штат театра. Все началось в конце августа, когда, вернувшись в Москву со съемок в Латвии, Высоцкий узнал о возникновении нового театра. И ему, видимо, наслышанному о том, ЧТО это будет за театр, захотелось непременно попасть в его труппу. В качестве протеже выступили коллеги Высоцкого Станислав Любшин и Таисия Додина, которые привели его на показ к Любимову. Вспоминая тот день, режиссер позднее рассказывал: «Показался он так себе… можно было и не брать за это. Тем более за ним, к сожалению, тянулся „шлейф“ – печальный шлейф выпивающего человека. Но я тогда пренебрег этим и не жалею об этом».
Почему же Любимов взял к себе посредственного артиста Высоцкого, да еще с подмоченной репутацией? Сыграла ли здесь свою роль внутренняя интуиция большого режиссера или было что-то иное? Л. Абрамова объясняет это следующим образом:
«Любимову он был нужен для исполнения зонгов. Он хотел перенести „Доброго человека из Сезуана“ на сцену театра, чтобы театр потерял студийную окраску, чтобы он стал более брехтовским… Снять эту легкую окраску студийности, которая придавала спектаклю какую-то прелесть, но не профессионально-сценическую. Вместо этой свежести Любимов хотел высокого профессионализма. И он искал людей, которые свободно поют под гитару, легко держатся, легко выходят на сцену из зала… Искал людей именно на брехтовское, на зонговое звучание. Как раз это делал Володя. Это никто так не делал, вплоть до того, что брехтовские тексты люди воспринимали потом как Володины песни…
Володя пришел на «Таганку» к себе домой. Все, что он делал, – весь свой драматургический материал, который он к этому моменту наработал, – все шло туда, к себе домой. И то, что они встретились, что их троих свела судьба: Любимова, Губенко и Володю… – это могло случиться только по велению Бога».
Итак, Абрамова считает, что немалую роль в решении Любимова сыграло песенное творчество Высоцкого. Значит, режиссер был с ним знаком (пусть и шапочно) и оно его не испугало, а даже наоборот – привлекло. Думаю, пой Высоцкий какие-то комсомольские песни – и не видать бы ему «Таганки» как своих ушей. А блатная лирика, как уже отмечалось, в интеллигентской среде ценилась, поскольку расценивалась как своеобразный протест против официального искусства. А «Таганка» Любимовым прежде всего и задумывалась именно как протест против официально узаконенного социалистического реализма.
Актер театра Вениамин Смехов, восторгаясь Любимовым, писал в начале 70-х в пролиберальном журнале «Юность»: «Фойе нашего театра украшают портреты Станиславского, Вахтангова, Мейерхольда, Брехта. Без всякого ложного пафоса, с чутким пониманием к наследию, но живо, по-хозяйски деловито – так ежедневно утверждает Юрий Любимов свою театральную школу…»
Здесь Смехов лукавил, поскольку сказать правду тогда не мог. На самом деле портрет К. С. Станиславского появился в фойе «Таганки» вопреки желанию Любимова: он не считал себя продолжателем его идей. Но чиновники из Минкульта обязали режиссера это сделать, в противном случае пообещав не разрешить повесить портрет Мейерхольда, которого Любимов считал своим главным учителем в искусстве. Новоявленный шеф «Таганки» махнул рукой: «Ладно, пусть висит и Станиславский: старик все-таки тоже был революционером».
Детище Любимова с первых же дней своего существования застолбило за собой звание своеобразного форпоста либеральной фронды в театральной среде, поскольку новый хозяин «Таганки» оказался самым одаренным и наиболее яростным аналогом советского «талмудиста» (речь идет о либералах-прогрессистах древнего государства Хазарский каганат, которые вели идеологическую борьбу с приверженцами ортодоксальной идеи – караимами, победили их, но эта победа оказалась пирровой: она подточила идеологические основы каганата, и тот вскоре рухнул под напором внешних сил).
Любимов и от системы Станиславского отказался, поскольку пресловутая «четвертая стена» мешала ему установить прямой контакт с публикой (в кругах либералов тогда даже ходила презрительная присказка: «мхатизация всей страны»). Кроме этого, он отказался от классической советской пьесы, которая строилась по канонам социалистического реализма, отдавая предпочтение либо западным авторам, либо авторам из плеяды «детей ХХ съезда», таких же, как и он, «талмудистов» (Вознесенский, Войнович, Евтушенко, Трифонов и т. д.). Вот почему один из первых спектаклей «Таганки» «Герой нашего времени» по М. Лермонтову был снят с репертуара спустя несколько месяцев после премьеры, зато «Антимиры» по А. Вознесенскому продержались более 20 лет. Почему? Видимо, потому что истинный патриот России Михаил Лермонтов, убитый полуевреем Мартыновым, был режиссеру неудобен со всех сторон, а космополит Андрей Вознесенский оказался как нельзя кстати, поскольку был плотью от плоти той части либеральной советской интеллигенции, которую причисляют к западникам и к которой принадлежал сам Любимов.
В эту компанию суждено было попасть и Владимиру Высоцкому – человеку, имевшему ничуть ли не меньший «зуб» на советскую власть, чем Любимов. По рассказам отдельных очевидцев создается впечатление, что Высоцкий в ту пору был чуть ли не подпольщиком. Вот как, к примеру, вспоминает о его «предтаганковском» периоде жена его двоюродного брата Павла Леонидова:
«У Володи было трудное время, когда КГБ ходил за ним буквально по пятам. И он часто скрывался в нашем доме. Однажды прибежал Паша: „Уничтожай пленки! За Высоцким охотятся!“ И все записи, все песни пришлось уничтожить. Бобины были большие, они были раскручены, и мы мотали, мотали тогда с этих бобин… Ведь вся черновая работа над песнями шла в нашем доме. Приезжал Володя в 2–3 часа ночи в очень тяжелом душевном состоянии, потому что он метался. А он же был искренний, и все это выливалось в песнях. А песня – это была импровизация: садился за гитару и начинал играть. Они писали на стационарном „Днепре“, потом прослушивали и что-то исправляли. А дети были маленькие, и я все время ругалась: „Володя, тише! Я тебя выгоню! Я не могу это терпеть: нас арестуют вместе с вами!..“
В течение года было такое тяжелое состояние. Самый тяжелый период его гонений. Это было до 1964 года, до работы в «Таганке». Дочке Оле было лет 5–6. В час ночи мы закрывались на кухне, и тут он все высказывал нам. Кроме тех песен, что знает народ, были еще песни и другие. И были черновики… и я ходила собирала, и все это сжигалось, выбрасывалось. Уничтожено столько писем, столько записей…
Жили как на пороховой бочке… Приезжал Володя, подвыпивши. Никогда не ел почему-то. Выпивал. Брал гитару, и пошло… Они пели про все, и про советскую власть. Они от этого умирали, наслаждались, я боялась, что кто-то услышит, дрожала…»
С приходом Высоцкого в «Таганку» у него началась новая жизнь, причем во всех отношениях. Знаменательно, что именно в тот переломный для Высоцкого момент он обрубал «хвосты» прошлой жизни: тогда была поставлена окончательная точка в его первом браке – с Изой Жуковой. Как мы помним, два года назад, узнав о том, что муж изменил ей с другой женщиной и та ждет от него ребенка, она прервала с ним всяческие отношения и сбежала в Пермь. Однако в 64-м у Изы случился роман с молодым человеком, который привел к беременности. Молодые собрались пожениться, но для этого Изе требовалось оформить развод с Высоцким. Именно по этому случаю она и приехала в Москву. Кстати, Высоцкому этот развод понадобился еще раньше – когда у него один за другим родилось двое сыновей. Иза шла ему навстречу, высылала в Москву документы, но Высоцкий… каждый раз их терял. Но в сентябре 64-го, когда Иза сама приехала в Москву, все прошло без каких-либо приключений. В мае следующего года у Изы и ее мужа родится сын Глеб.
Тем временем 9 сентября 1964 года Высоцкий был взят по договору на «Таганку» на два месяца во вспомогательный состав с окладом в 75 рублей в месяц. Первый выход на сцену состоялся у него десять дней спустя: Высоцкий подменил заболевшего актера в роли Второго Бога в спектакле «Добрый человек из Сезуана». По причине ремонта старого здания «Таганки» спектакли тогда проводились в Телетеатре на площади Журавлева.
24 октября в Театре на Таганке начинаются репетиции еще одного спектакля – «Десять дней, которые потрясли мир». У Высоцкого в нем сразу несколько ролей: матрос на часах у Смольного, анархист и белогвардейский офицер. В этом же спектакле он впервые выступит в качестве певца – в образе анархиста лихо сбацает еврейские куплеты «На еврейском (он пел – „на Перовском“), на базаре».
На той репетиции присутствовал бывший педагог Высоцкого по театральному училищу Андрей Синявский. В те дни в издательстве «Наука» вышла его книга (в соавторстве с Меньшутиным) «Поэзия первых лет революции», которую он захватил с собой и подарил Высоцкому, сделав на ней трогательную надпись: «Милому Володе – с любовью и уважением. 24.Х.64. А. С.».
Отметим, что Синявский уже несколько лет вел двойную жизнь: писал революционные книги для советских издательств, а также тайно – для зарубежных, антисоветских. Так, в 1959 году это была повесть «Суд», в 63-м – «Любимов» (обе были написаны в жанре сатирического гротеска и исследовали социальные и психологические феномены тоталитаризма, причем – советского), в 64-м – статья «Что такое социалистический реализм». Учитывая, как относился к соцреализму шеф «Таганки», не удивительно, что Синявский в ее стенах являлся одним из самых почитаемых гостей.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
ОТ «ШТРАФБАТОВ» ДО «АНТИСЕМИТОВ»
Между тем рождение второго сына, встреча с Любимовым на какое-то время привели Высоцкого в то душевное равновесие, которого он, быть может, давно не имел. Как результат: из-под его пера на свет явилась одна из первых песен о войне – «Штрафные батальоны». Л. Абрамова по этому поводу очень точно выразилась: «Эти выходы вне человеческого понимания, выше собственных возможностей: они у Володи были, и их было много. И происходили они совершенно неожиданно. Идут у него „Шалавы“, например, и потом вдруг – „Штрафные батальоны“. Тогда он этого не только оценить, но и понять не мог. А это был тот самый запредел. У интеллигентных, умных, взрослых людей, таких, как Галич и Окуджава, – у них такого не было. У них очень высокий уровень, но они к нему подходят шаг за шагом, без таких чудовищных скачков, без запредела».
Вполне вероятно, что материалом к песне «Штрафные батальоны» для Высоцкого послужили рассказы участкового милиционера Гераскина, который, посещая по долгу службы их компанию на Большом Каретном, иногда участвовал в их застольях и в подпитии рассказывал ребятам о своей нелегкой фронтовой судьбе, о службе в штрафбате.
Вообще эта тема – про штрафбаты (а также про заградотряды, «смерши» и т. д.) – в советской историографии считалась запретной, поскольку касалась слишком скользких для властей тем: о судебных несправедливостях советской системы, о человеческой жестокости, порой бессмысленных жертвах в угоду чьим-то начальственным интересам и т. д. Поэтому эти темы в официальных советских СМИ практически никогда не афишировались, хотя многие люди, естественно, про них что-то слышали (от тех же фронтовиков). Однако со второй половины 50-х, когда Хрущев начал свою антисталинскую кампанию, западные идеологические центры начали весьма активно освещать многие «белые пятна» советской истории, в том числе и эти – про штрафбаты, заградотряды и т. д. Естественно, с удобных для себя антисоветских позиций. Например, утверждалось, что многие сражения советскими воинами были выиграны от отчаяния и страха: дескать, когда в спину тебе наставлены дула пулеметов и автоматов заградотрядовцев, невольно совершишь подвиг.
Песню Высоцкого «Штрафные батальоны» нельзя назвать антисоветской, но ее появление четко укладывалось в ту ситуацию, которая тогда сложилась: подобные темы вбрасывали в народ именно либералы-западники, а не державники (в 63-м большое стихотворение на эту тему написал Евгений Евтушенко, что наверняка тоже не осталось без внимания Высоцкого). Объяснялось это тем, что, во-первых, обращение к подобным темам бросало тень на сталинскую эпоху (а западникам это было особенно важно), и во-вторых – они были связаны сотнями нитей (как явных, так и тайных) с Западом и четко следовали в фарватере его запросов. Державники же в подавляющем своем большинстве Запада чурались и не желали «есть с его руки», исходя из старой русской поговорки: «Что немцу хорошо, то русскому – смерть».
После «Штрафбатов» Высоцкий, что называется, «подсел» на военную тему. И в течение двух лет им были написаны сразу несколько подобных песен: «Братские могилы», «Падали звезды», «Песня о госпитале», «Все ушли на фронт», «Про Сережку Фомина», «Высота», «Павшие бойцы». Все эти песни проходили по категории беспафосных (в них речь шла о судьбе маленького человека на войне), в чем и состояла их привлекательность на фоне того, что тогда в большинстве своем присутствовало в официальном советском искусстве.
Тогда же родились и первые его «политические» песни, что тоже явно было навеяно пребыванием в стенах «Таганки»: та все сильнее заявляла о себе как протестный театр, фрондирующий. Вот и Высоцкий в своем песенном творчестве тоже фрондировал все сильнее и ярче, поскольку нашел то, что искал, – адекватное своему конфликтному характеру прибежище.
Песня «Отберите орден у Насера» была посвящена тогдашнему президенту Египта Гамаль Абдель Насеру, который считался другом СССР на Ближнем Востоке – именно при нем Египет превратился в главного тамошнего советского союзника и врага Израиля. Отметим, что у всех евреев к этому государству давние претензии – еще с древних времен, когда их предки вынуждены были уйти из этой страны, обложенные большой трудовой повинностью (отметим, что сначала они активно помогали фараонам обкладывать ею рядовых египтян, видимо, надеясь, что их самих это никогда не коснется). Поэтому многие советские евреи Насера, мягко говоря, сильно недолюбливали. Однако когда весной 64-го года Хрущев наградил его не просто наградой, а самой высокой и почетной – Звездой Героя Советского Союза, то здесь чувства либералов, державников, а также многих простых людей слились воедино – они все оказались в шоке. Впрочем, в таком же положении оказался и сам награждаемый. Как напишет спустя четверть века после этого события журналист Игорь Беляев:
«Сам Насер, получив уведомление о намерении высокого советского гостя (в мае 64-го Хрущев был в Египте на открытии Асуанской ГЭС) наградить его столь почетной, но весьма специальной наградой, очень тактично дал понять, что ему не хотелось бы, чтобы эта высшая советская военная награда была вдруг вручена ему. Однако попытки президента уговорить советского лидера отказаться от задуманного не привели к желаемому результату.
Тогда Насер решил обратиться к Н. С. Хрущеву с другой просьбой, которая, как он рассчитывал, должна была удержать его от намеченного шага: вручить такую же награду одновременно и маршалу Амеру, вице-президенту Египта. Расчет был прост: тот явно не заслуживал высшей награды, а раз так, то ее не получит и президент Египта.
Однако Н. С. Хрущева ничто не удержало от задуманного. Так в Египте появилось сразу два Героя Советского Союза».
Итак, беззастенчивое разбазаривание знаков национальной гордости вызвало у большинства советских людей, вне зависимости от их национальности и убеждений, чувство глубокого недоумения и горечи. Что и попытался выразить в своей песне Высоцкий:
- Потеряю истинную веру –
- Больно мне за наш СССР:
- Отберите орден у Насеру –
- Не подходит к ордену Насер!
- Можно даже крыть с трибуны матом,
- Раздавать подарки вкривь и вкось,
- Называть Насера нашим братом, –
- Но давать Героя – это брось!
- Почему нет золота в стране?
- Раздарили, гады, раздарили!
- Лучше бы давали на войне –
- А Насеры после б нас простили.
Песня довольно смелая по тем временам, за исполнение которой к Высоцкому вполне могли бы применить меры если не репрессивного, то хотя бы административного характера. Но к тому моменту Хрущева, инициатора вручения Насеру звания Героя, уже сместили (14 октября 64-го), и песня эта оказалась даже как бы к месту.
Если Высоцкий в своей песне главный упрек за содеянное бросал советскому руководству, то другой представитель гитарной песни – чистокровный еврей Александр Галич – припечатал к позорному столбу непосредственно самого президента Египта. Цитирую:
- …Каждый случайный выстрел
- Несметной грозит бедой,
- Так что же тебе неймется,
- Красавчик, фашистский выкормыш,
- Увенчанный нашим орденом
- И Золотой Звездой?!
- …Должно быть, с Павликом Коганом
- Бежал ты в атаку вместе,
- И рядом с тобой под Выборгом
- Убит был Антон Копштейн!
Никаким фашистским выкормышем Насер, конечно, не был. В годы войны он с ними хоть и не воевал, однако входил в подпольную организацию «Свободные офицеры», которая боролась за независимость своей страны (тогда она была под пятой английских колонизаторов). Ненависть Галича к Насеру зиждилась, как уже говорилось, на событиях древней истории, а также на том, что Египет являлся одним из главных врагов Израиля на Ближнем Востоке. Так что если у Высоцкого побудительным мотивом к написанию песни о Насере было чувство уязвленной советской гордости, то у Галича – еврейской. Что неудивительно, учитывая, что Галич, как уже отмечалось, был евреем чистокровным.
Во второй половине 50-х, как и большинство его соплеменников, он с надеждой ждал от «оттепели» положительного разрешения «еврейской» проблемы. Но эти надежды оправдались лишь наполовину. Галич в те годы написал пьесу «Матросская тишина», где речь шла о трагедии евреев в годы войны, и этой постановкой в 1956 году должен был открыться театр «Современник». Но пьесу ставить не разрешили, что стало первым толчком к тому, чтобы некогда обласканный властями драматург (а пьесы Галича шли по всей стране, по его сценариям было снято несколько фильмов, в том числе и такой кассовый хит 54-го года, как «Верные друзья») вдруг превратился (с начала 60-х) в одного из наиболее яростных обличителей советского строя. Причем в этом обличении явственно слышался упрек в сторону титульной нации – русских, которые якобы были безропотной и послушной массой, на плечах коих этот режим в основном и держался. Как напишет много позже один из лидеров русских националистов А. Солженицын:
«А поелику среди преуспевающих и доящих в свою пользу режим – евреев будто бы уже ни одного, но одни русские – то и сатира Галича, бессознательно или сознательно, обрушивалась на русских, на всяких Климов Петровичей и Парамоновых, и вся социальная злость доставалась им в подчеркнутом „русопятском“ звучании, образах и подробностях – вереница стукачей, вертухаев, развратников, дураков или пьяниц, – больше карикатурно, иногда с презрительным сожалением (которого мы-то и достойны, увы!),.. всех этих вечно пьяных, не отличающих керосин от водки, ничем, кроме пьянства, не занятых, либо просто потерянных, либо дураковатых… Ни одного героя-солдата, ни одного мастерового, ни единого русского интеллигента и даже зэка порядочного ни одного (главное зэческое он забрал себе), – ведь русское все „вертухаево семя“ да в начальниках…»
Отметим, что во многих песнях Высоцкого тоже попахивало скрытой русофобией – многие отрицательные персонажи у него также носят в основном русские фамилии и за редчайшим исключением – еврейские. Однако сравнивать его в этом плане с Галичем нельзя – у последнего все-таки ненависть к советскому строю и рускому человеку была выражена более откровено. Биограф нашего героя М. Цибульский называет эту ненависть благородной и справедливой: дескать, было за что. Все согласно еврейскому принципу: если еврей ненавидит советскую власть и русских – то это благородно и справедливо, а если русский ненавидит еврея, то это – антисемитизм и юдофобия.
Но вернемся в год 64-й.
Так же «к месту» (как и песня про Насера) оказались и другие «политические» произведения Высоцкого того периода: например, первая песня из «китайского цикла» под названием «В Пекине очень мрачная погода» (1964). В ней (как и во всем цикле) наиболее выпукло был выражен не только личный взгляд Высоцкого на происходящие в Китае события, но и взгляд почти всего либерального лагеря. Что же это был за взгляд?
Начнем с того, что отношения СССР и Китая стали портиться сразу после 1956 года, когда на ХХ съезде КПСС Хрущев разоблачил Сталина. Лидер КПК Мао Цзедун весьма критически отреагировал на эти разоблачения, что стало поводом к возникновению первой трещины как в личных отношениях китайского руководителя с советским, так и вообще в китайско-советском союзе, который длился два десятка лет (с китайско-японской войны конца 30-х). Так же критически было воспринято руководством КПК и заявление Хрущева о мирном существовании с Западом, что подрывало классовые позиции мирового коммунистического движения. Как писал Мао:
«Выдвигать положение о желательности мирного перехода, конечно, выгодно в политическом отношении, то есть выгодно для завоевания масс, для лишения буржуазии ее аргументов и изоляции буржуазии, но мы не должны связывать себя этим желанием. Буржуазия не сойдет добровольно с исторической арены, это – всеобщий закон классовой борьбы. Пролетариат и коммунистическая партия любой страны ни в коем случае и ни в малейшей степени не должны ослаблять подготовку к революции. Им необходимо всегда быть готовыми дать отпор налетам контрреволюции, необходимо быть готовыми в решающий для революции момент захвата власти рабочим классом свергнуть вооруженной силой буржуазию, если она прибегнет к вооруженной силе для подавления народной революции (что, как правило, является неизбежным)».
Китайцы ясно увидели в попытке Кремля пойти на мировую с Западом стратегическую ошибку, которая развязывала руки не только мировой буржуазии, но и ревизионистам в СССР, стремившимся не просто к сближению с Западом, а по сути к будущей конвергенции с ним (что позднее и произойдет). То есть было проигнорировано предупреждение Сталина от 1925 года (судя по всему, во многом именно поэтому все его наследие и оказалось выброшено на свалку), где он говорил следующее:
«Международный капитал не прочь будет „помочь“ России в деле перерождения социалистической страны в буржуазную республику… Нам следует опираться на свои собственные силы, чтобы наша страна не превратилась в придаток мировой капиталистической системы, чтобы она не была включена в общую систему капиталистического развития как ее подсобное предприятие, чтобы наше хозяйство развивалось не как подсобное предприятие мирового капитализма, а как самостоятельная экономическая единица, опирающаяся главным образом на внутренний рынок, опирающаяся на смычку нашей индустрии с крестьянским хозяйством нашей страны».
Хрущев на это предупреждение наплевал, а претензии китайского руководства свалил на личный фактор: дескать, Мао Цзедуном в первую очередь движет обида за то, что в лидеры мирового коммунистического движения выдвинулся не он, а Хрущев. Поэтому советский лидер продолжал совершать одну ошибку за другой. Например, стремясь сохранить дружеские отношения с Францией, СССР никак не хотел признавать Временного правительства Алжирской республики, которое ставило целью провозгласить независимость своей страны. Хрущев по этому поводу даже заявил, что «Алжир – это внутреннее дело Франции».
Все это вытекало из позиции Хрущева, который, как и Мао, мечтал о мировой революции, но достичь ее, в отличие от руководителя КПК, собирался мирным, парламентским путем. Дескать, догоним и перегоним Америку, привлечем к себе «третий мир», и капитализм падет к нашим ногам. Мао же настаивал на конфронтационном пути. В этом его активно поддерживал один из лидеров кубинской революции Эрнесто Че Гевара, который так охарактеризовал их общие взгляды:
«Мировая революция – это не замыкающаяся в себе система социализма, которая мирно сосуществует с миром капитала. В конце концов, мы должны иметь в виду, что империализм – это мировая система и что надо победить его в конфронтации мирового масштаба…«
Итогом этих стратегических разногласий стало то, что с 1960 года СССР и Китай превратились в откровенных врагов, что, естественно, было весьма положительно оценено на Западе. С этого момента советский Агитпроп принялся рисовать руководство КПК как ревизионистов и предателей мирового коммунистического движения. Особенно доставалось Мао Цзедуну, из которого советские СМИ сотворили сущего дьявола. Владимир Высоцкий, как и большинство советских людей, купился на эту пропаганду (что невольно наводит на мысль: уж не китаисты ли типа Льва Делюсина наставляли нашего героя?), результатом чего и явились его «китайские» песни, из-за которых его, кстати, в Китае заклеймили как врага и в итоге запретили ему въезд на территорию страны. Скажем прямо, вполне справедливая с китайской точки зрения анафема – то, как Высоцкий отзывался о китайцах, мало кому могло бы понравиться:
- …А если зуд – без дела не страдайте, –
- У вас еще достаточно делов:
- Давите мух, рождаемость снижайте,
- Уничтожайте ваших воробьев!..
Еще одна «политическая» песня Высоцкого 64-го года носила весьма недвусмысленное название – «Антисемиты». С ней дело обстоит идентично тому, о чем говорилось выше, – она тоже родилась после одной широкоизвестной кампании. Только на этот раз дело касалось не китайского, а еврейского вопроса. Что же это была за кампания?
Как мы помним, в «оттепель» ситуация вокруг еврейской проблемы напоминала собой качели – то есть внимание общественности к ней то взлетало вверх, то наоборот падало вниз. Последний шумный всплеск был датирован концом 1962-го – началом 1963 годов. Тогда, как мы помним, случились истории с Михаилом Роммом, с Тринадцатой симфонией Д. Шостаковича («Бабий Яр»). Были еще процессы над «цеховиками», когда в газетах публиковались отчеты о судах над ними и в основном озвучивались еврейские фамилии.
После этого шумные кампании вокруг еврейской темы были свернуты, поскольку привлекли к себе внимание Запада. Случилось это после того, как весной 1963 года известный английский философ и математик, Нобелевский лауреат (1950) Бертран Рассел написал открытое письмо Н. Хрущеву, где возмущался вышеприведенными «наездами» на советских евреев. Кремлевский лидер вынужден был ответить ему тоже публично на страницах главной газеты страны «Правда» (1 марта 1963-го). С тех пор эта тема в СССР на какое-то время была фактически закрыта, во всяком случае, внешне это выглядело именно так. Это длилось до начала 1964 года, когда на свет появилось «дело поэта Иосифа Бродского».
В либеральной историографии до сих пор принято изображать этого поэта как невинную жертву советского режима. Дескать, жил себе в Ленинграде молодой и талантливый человек, писал хорошие стихи, а треклятые коммунисты отправили его в ссылку на 5 лет за то, что он тунеядец – то есть нигде фактически не работал. В реальности все было иначе, а все эти разговоры о несправедливости наказания от лукавого – на самом деле Бродского должны были осудить по статье «за терроризм» и отправить не в ссылку, а упрятать за решетку лет так на десять. Но пожалели парня по просьбе его родителей. Впрочем, расскажем обо всем по порядку.
Бродский был активным лоботрясом еще в школе: он сменил их целых пять, поскольку отовсюду его выгоняли за неуспеваемость. В итоге в седьмом классе он нахватал четыре годовых двойки – по физике, химии, математике и английскому – и вынужден был остаться на второй год. Однако, проучившись всего три месяца, он попросту бросил школу и ушел работать учеником фрезеровщика. Однако профессию эту толком так и не освоил и ушел работать санитаром… в морг. Потом сменил еще несколько работ: устроился истопником в котельной, завербовался в геологоразведочную экспедицию. Но в итоге ни к какой профессии так и не прибился и с начала 60-х попросту тунеядствовал.
Отметим, что родители Бродского с болью наблюдали за художествами сына, поскольку были законопослушными советскими гражданами: отец долгое время работал военным фотокорреспондентом, а мать служила не где-нибудь, а в бухгалтерии ленинградского КГБ! Однако повлиять на отпрыска они особенно не могли – он был себе на уме. Хотя такие попытки неоднократно предпринимались. А одна из них лишь усугубила ситуацию. Когда Бродский внезапно всерьез увлекся поэзией, отец, чтобы отвратить его от этого занятия (видимо, зная характер сына, родитель боялся, что он скатится в банальную антисоветчину, чем навсегда испортит жизнь и себе и своим родственникам), решил искать помощи у Анны Ахматовой, которую знал. Отец решил, что та отговорит Иосифа от увлечения поэзией. Но вышло все наоборот: Ахматовой стихи Бродского понравились, и она взяла его под свое крыло – включила в группу молодых поэтов, которых обучала премудростям поэтической профессии.
Между тем, как и предполагал отец поэта, поэтическая стезя привела его к трениям с властью. В первый раз Бродский угодил в поле зрения ее компетентных органов, когда принял участие в издании первого диссидентского самиздатовского журнала «Синтаксис» (о нем речь уже шла выше: его организатор Александр Гинзбург был осужден в 1960 году на 2 года тюремного заключения). Бродскому тогда повезло – его только предупредили. Но он не успокоился и в итоге задумал… Впрочем, послушаем рассказ одного из его тогдашних знакомых – живописца и поэта В. Евсеева:
«Не знаю почему, но Бродскому в голову пришла идея угнать самолет и сбежать на нем за кордон. У Александра Уманского (друг Бродского) был приятель – Олег Шахматов. Бывший военный летчик, выгнанный из армии не то за пьянку, не то за приставание к командирским женам. И вот как-то, находясь в гостях у этого Шахматова в Самарканде и наслушавшись его жалоб на судьбу, Бродский вдруг предложил захватить на местном аэродроме маленький однопилотный самолет и улететь на нем в Афганистан. Тут же были продуманы все детали предстоящего дела.
План был таков: они вдвоем покупали все четыре места на один из рейсов. Шахматов садился рядом с пилотом. Бродский занимал место сзади. После взлета Ося должен был ударить летчика камнем по голове, связать его, после чего Шахматов брал штурвал в свои руки и на малой высоте вел самолет через границу. Но в последний момент, когда уже были куплены билеты и подобран подходящий по весу камень, Бродский вдруг передумал. Бить по голове человека было для него перебором.
Ося вернулся в Ленинград и очень скоро забыл эту историю. Но примерно через год его хватают и тащат в КГБ. Оказывается, что Шахматова где-то поймали с пистолетом и он, чтобы скостить себе срок, решил выдать чекистам антисоветский заговор. Шахматов подробно рассказал следователям о планах угона самолета… Иосифу тогда повезло: кроме показаний Шахматова, других свидетельств его причастности к заговору не оказалось. Свою роль сыграла и мать Бродского, которая в то время работала в бухгалтерии «Большого дома». Ход делу дан не был. Но досье на Бродского, стоявшее на полках КГБ, пухло с каждым годом. Рано или поздно это должно было кончиться судебным процессом…»
Тучи над головой Бродского начали сгущаться осенью 63-го. Тогда в газете «Вечерний Ленинград» был опубликован фельетон Якова Лернера про тунеядца Бродского под названием «Литературный трутень». А в декабре Бродского арестовали. Как пишет биограф поэта Л. Штерн:
«Арест произошел следующим образом: как только Иосиф вышел из дому, к нему прицепились три хмыря, спросили, Бродский ли он, начали нести антисемитскую х..ню и передразнивать его картавость. Иосиф кому-то из них врезал. Тогда ему завернули руки и запихали в машину…»
Суд над Бродским начался 18 февраля 1964 года и длился несколько дней. Практически вся либеральная еврейская общественность была на стороне Бродского: либо тайно сочувствовала ему, либо активно защищала (писала разного рода ходатайства и письма). Ее пугала та эволюция, которую проделала советская власть за минувшие 40 лет. Осенью 1923 года советскую интеллигенцию потряс общественный процесс над Сергеем Есениным и тремя его коллегами, которые обвинялись в антисемитизме (якобы они задели национальные чувства евреев, оскорбив одного из них в московской пивной). Обвиняемых вполне могли привлечь к уголовной ответственности, поскольку с июля 1918 года в УК РСФСР действовала статья, карающая судебным преследованием за антисемитизм. Однако дело в отношении Есенина и его коллег завершилось общественным порицанием. В 64-м ситуация изменилась в противоположную сторону: теперь уже судили поэта-еврея и уже ему грозило уголовное наказание. И хотя и в этом случае его не последовало – суд отправил Бродского на лечение в психиатрическую клинику, поскольку его адвокат предъявила справку о психической болезни подсудимого, – однако еврейская общественность была обеспокоена самим прецедентом.
Позднее, когда в диссидентских кругах будет активно раскручиваться тема «об ужасах советской психиатрии», появятся рассказы о том, как мучили Бродского: мол, даже подвергали его изощренным пыткам. Но вот как сам поэт описал свое житье-бытье в «психушке», причем будучи не в «тоталитарном СССР», а в свободной Америке (на дворе был 1982 год, и Бродского интервьюировал для ТВ нью-йоркский журналист Дик Кавет):
«Ничего страшного в советских психушках нет, во всяком случае, в той, где я сидел. Кормили прилично, с тюрьмой не сравнить. Можно было и книжки читать, и радио слушать. Народ кругом интересный, особенно психи… Но были и вполне нормальные, вроде меня. Одно плохо – не знаешь своего срока. В тюрьме известно, сколько тебе сидеть, а тут полная неопределенность…»
Это интервью вызвало бурю протеста в диссидентских кругах: дескать, мы тут вовсю стараемся, описываем советскую психиатрию как преступную, а Бродский заявляет обратное! Когда поэту с подобными упреками позвонила уже известная нам Л. Штерн, он заявил: «Я описывал только свой опыт. Я свободный человек в свободной стране и имею право говорить все, что хочу». После чего бросил трубку и месяца два вообще не общался со Штерн. Однако потом они помирились, а чуть позже – буквально накануне присуждения ему Нобелевской премии (в 1987 году) – Бродский «запел» уже другую песню. Цитирую его интервью журналу «Нувель обсерватер»: «Ленинградская тюремно-психиатрическая лечебница… Мне делали страшные уколы… Будили среди ночи, заставляли принимать ледяную ванну, потом заворачивали в мокрую простыню и клали около отопления. Жара сушила простыню и сдирала с меня кожу…»
Вот и думай после этого, когда же поэт говорил правду: в 82-м или в 87-м, накануне своей «нобелевки»? Кстати, дали ее Бродскому по политическим мотивам в разгар горбачевской перестройки, которую многие справедливо называют «еврейской революцией».
Однако вернемся в 64-й год и к песне Высоцкого «Антисемиты».
Судя по всему, поводом к ней стал именно судебный процесс над Бродским. Тогда в народе вновь пошли разговоры о том, что евреи либо тунеядствуют, либо сидят на теплых местечках, в то время как остальные вкалывают на тяжелых и грязных работах. Однако назвать эти настроения массовыми все-таки нельзя – это был типичный бытовой антисемитизм незлобивого порядка (то есть дальше разговоров дело обычно не шло), который всегда имел место быть в Советском Союзе. Как писал о временах начала 60-х еврейский публицист М. Хейфец: «Распространенность и острота современного советского антисемитизма далеко уступают тому, что наблюдалось в годы войны и в первые годы после войны, и происходит, кажется, заметное ослабление, может быть, начавшееся отмирание процентной нормы».
«Процентная норма» (то есть лимитированный процент приема евреев в советские вузы и некоторые организации) в те годы и в самом деле претерпевала изменения. Как уже отмечалось выше, еще во второй половине 50-х абитуриентам-евреям стало легче поступать в вузы. И хотя в начале следующего десятилетия, из-за оппозиционной радикализации еврейской интеллигенции, в ряде престижных советских вузов была восстановлена та самая «процентная норма», однако на общей ситуации это почти не сказалось. Поэтому, в то время как Иосиф Бродский лоботрясничал (закончил 7 классов и ни в одно из учебных заведений – ни средних, ни высших – больше не попал), другие его соплеменники, что называется, в поте лица грызли гранит науки. Так, в 1962/63 учебном году по абсолютному числу учащихся в вузах и средних специальных учебных заведениях СССР евреи занимали 4-е место – после трех славянских наций. Для вузов это составляло 79,3 тысячи (2,69% от общего числа учащихся). В следующем году число студентов-евреев даже выросло, составив 82,6 тыс. Такое соотношение, почти не меняясь, будет сохраняться до учебного года 1969/70.
Несмотря на «процентную норму», отдельным евреям удавалось поступить и в престижные вузы – пусть в меньшем числе, но удавалось. Ведь среди преподавателей значительный процент по-прежнему составляли евреи, которые делали все от них зависящее, чтобы их соплеменники имели возможность пройти сквозь сито отборочных комиссий. Вот как об этом вспоминает сценарист Эдуард Тополь, который учился во ВГИКе в середине 60-х: