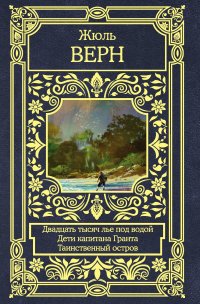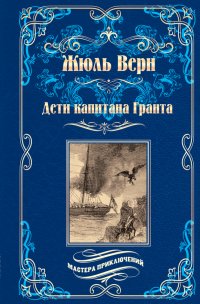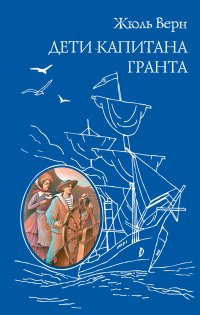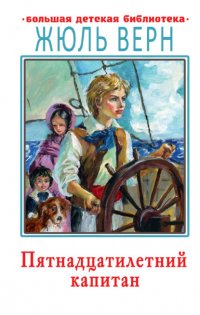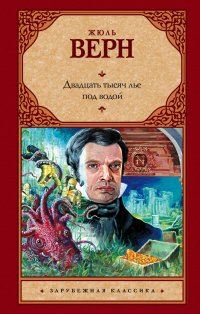Читать онлайн Путешествие к центру Земли бесплатно
- Все книги автора: Жюль Верн
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2022
Глава 1
В воскресенье 24 мая 1863 года мой дядя, профессор Отто Лиденброк, быстрыми шагами подходил к своему домику номер 19 по Королевской улице – одной из самых старинных улиц древнего квартала Гамбурга.
Наша служанка Марта, наверно, подумала, что она запоздала с обедом, так как суп на плите лишь начинал закипать.
«Ну, – сказал я про себя, – если дядя голоден, то он, как человек нетерпеливый, устроит настоящий скандал».
– Вон уже и господин Лиденброк! – смущенно воскликнула Марта, приоткрыв слегка дверь сто- ловой.
– Да, Марта, но суп может немного повариться, ведь еще нет двух часов. В церкви Святого Михаила пробило только что половину второго.
– Так почему же господин Лиденброк уже возвращается?
– Он, вероятно, объяснит нам причину.
– Ну, вот и он! Я бегу, господин Аксель, а вы его успокойте.
И Марта поспешила вернуться в свою кухонную лабораторию.
Я остался один. Успокаивать рассерженного профессора при моем несколько слабом характере было мне не по силам. Поэтому я собирался благоразумно удалиться наверх, в свою комнатку, как вдруг заскрипела входная дверь, ступени деревянной лестницы затрещали под длинными ногами, и хозяин дома, миновав столовую, быстро прошел в свой рабочий кабинет. На ходу он бросил в угол трость с набалдашником в виде щелкунчика, на стол – широкополую с взъерошенным ворсом шляпу и громко крикнул:
– Аксель, иди сюда!
Я не успел еще сделать шага, как профессор в явном нетерпении снова позвал меня:
– Ну, где же ты!
Я бросился со всех ног в кабинет моего грозного дядюшки. Отто Лиденброк – человек не злой, я охотно свидетельствую это, но если его характер не изменится, что едва ли вероятно, то он так и умрет большим чудаком.
Отто Лиденброк был профессором в Иоганнеуме и читал лекции по минералогии, причем регулярно раз или два в течение часа выходил из терпения. Отнюдь не потому, что его беспокоило, аккуратно ли посещают студенты его лекции, внимательно ли слушают их и делают ли успехи: этими мелочами он мало интересовался. Лекции его, согласно выражению немецкой философии, носили «субъективный» характер: он читал для себя, а не для других. Это был эгоистичный ученый, настоящий кладезь знаний, однако издававший, при малейшей попытке что-нибудь из него почерпнуть, отчаянное скрипение, – словом, скупец!
В Германии немало профессоров подобного рода.
Дядюшка, к сожалению, не отличался живостью речи, по крайней мере когда говорил публично, – а это прискорбный недостаток для оратора. И в самом деле, на своих лекциях в Иоганнеуме профессор часто внезапно останавливался; он боролся с упрямым словом, которое не хотело соскользнуть с его губ, с одним из тех слов, которые сопротивляются, разбухают и, наконец, срываются с уст в форме какого-нибудь – отнюдь не научного – бранного словечка! Отсюда и его крайняя раздражительность.
В минералогии существует много полугреческих, полулатинских названий, трудно произносимых, грубых терминов, которые ранят уста поэта. Я вовсе не хочу хулить эту науку. Но, право, самому гибкому языку позволительно заплетаться, когда ему приходится произносить такие, например, названия, как ромбоэдрическая кристаллизация, ретинасфальтовая смола, гелениты, фангазиты, молибдаты свинца, тунгстаты марганца, титанаты циркония.
В городе знали эти извинительные слабости моего дядюшки и злоупотребляли ими: подстерегали опасные моменты, выводили его из себя и смеялись над ним, что даже в Германии отнюдь не считается признаком хорошего тона. И если на лекциях Лиденброка всегда было много слушателей, то это только потому, что большинство их приходило лишь позабавиться благородным гневом профессора.
Как бы то ни было, но мой дядюшка – я особенно подчеркиваю это – был истинным ученым. Хотя ему и приходилось, производя опыты, разбивать свои образцы, все же дарование геолога в нем сочеталось с зоркостью взгляда минералога. Вооруженный молоточком, стальной иглой, магнитной стрелкой, паяльной трубкой и пузырьком с азотной кислотой, человек этот был на высоте своей профессии. По внешнему виду, излому, твердости, плавкости, звуку, запаху или вкусу он определял безошибочно любой минерал и указывал его место в классификации среди шестисот их видов, известных в науке наших дней.
Поэтому имя Лиденброка пользовалось заслуженной известностью в гимназиях и ученых обществах. Хемфри Дэви, Гумбольдт, Франклин и Сабин, будучи проездом в Гамбурге, не упускали случая сделать ему визит. Беккерель, Эбельмен, Брюстер, Дюма, Мильн-Эдвардс, Сент-Клер-Девиль охотно советовались с ним по животрепещущим вопросам химии. Эта наука была обязана ему значительными открытиями, и в 1853 году вышла в свет в Лейпциге книга профессора Отто Лиденброка под заглавием: Высшая кристаллография – объемистый труд in-folio[1] с рисунками; книга, однако ж, не окупила расходов по ее изданию.
Кроме того, мой дядюшка был хранителем минералогического музея русского посланника Струве, ценной коллекции, пользовавшейся европейской известностью.
Таков был человек, звавший меня столь нетерпеливо. Теперь представьте себе его наружность: мужчина лет пятидесяти, высокого роста, худощавый, но обладавший железным здоровьем, по-юношески белокурый, выглядевший лет на десять моложе своего возраста. Его большие глаза так и бегали за стеклами внушительных очков; его длинный и тонкий нос походил на отточенный клинок; злые языки утверждали, что он намагничен и притягивает железные опилки… Сущая клевета! Он притягивал только табак, но, правду сказать, в большом количестве.
А если прибавить, что дядюшкин шаг, говоря с математической точностью, длиною равнялся полтуаза[2], и заметить, что на ходу он крепко сжимал кулаки – явный признак вспыльчивого нрава, – то этих сведений будет достаточно для того, чтобы пропала всякая охота искать его общества.
Он жил на Королевской улице в собственном домике, построенном наполовину из дерева, наполовину из кирпича, с зубчатым фронтоном; дом стоял у излучины одного из каналов, которые пересекают самую старинную часть Гамбурга, счастливо пощаженную пожаром 1842 года.
Старый дом чуть накренился и, что таить, выпячивал брюхо напоказ прохожим. Крыша на нем сидела криво, как шапочка на голове студента, состоящего членом Тугендбунда; отвесное положение его стен оставляло желать лучшего, но в общем дом держался стойко благодаря древнему вязу, подпиравшему его фасад и весной касавшемуся своими цветущими ветвями его окон.
Для немецкого профессора дядюшка был сравнительно богат. Дом, со всем содержащимся в нем и содержимым, был его полной собственностью. К содержимому следует отнести его крестницу Гретхен, семнадцатилетнюю девушку из Фирланде[3], служанку Марту и меня. В качестве племянника и сироты я стал главным помощником профессора в его научных опытах.
Признаюсь, я находил удовольствие в занятиях геологическими науками; в моих жилах текла кровь минералога, и я никогда не скучал в обществе моих драгоценных камней.
Впрочем, можно было счастливо жить в этом домике на Королевской улице, несмотря на вспыльчивый нрав его владельца, потому что последний, хотя и обращался со мною несколько грубо, все же любил меня. Но этот человек не умел ждать и торопился обогнать даже природу.
В апреле месяце дядюшка обычно сажал в фаянсовые горшки в своей гостиной отростки резеды и вьюнков, и затем каждое утро регулярно, не давая им покоя, он теребил их листочки, чтобы ускорить рост цветка.
Имея дело с таким оригиналом, ничего другого не оставалось, как повиноваться. Поэтому я поспешил в его кабинет.
Глава 2
Кабинет был настоящим музеем. Здесь находились все образцы минерального царства, снабженные этикетками и разложенные в полном порядке по трем крупным разделам минералов: горючих, металлических и камневидных.
Как хорошо были знакомы мне эти безделушки минералогии! Как часто я, вместо того чтобы бездельничать с товарищами, находил удовольствие в том, что сметал пыль с этих графитов, антрацитов, лигнитов, каменных углей и торфов! А битумы, асфальт, органические соли – как тщательно их нужно было охранять от малейшей пылинки! А металлы, начиная с железа и кончая золотом, относительная ценность которых исчезала перед абсолютным равенством научных образцов! А все эти камни, которых достаточно было бы для того, чтобы заново построить целый дом на Королевской улице, и даже с прекрасной комнатой вдобавок, в которой я мог бы так хорошо устро- иться!
Однако, когда я вошел в кабинет, я думал не об этих чудесах. Моя мысль была всецело поглощена дядюшкой. Он сидел в своем поместительном, обитом утрехтским бархатом кресле и держал в руках книгу, которую рассматривал в глубочайшем изумлении.
– Какая книга, какая книга! – восклицал он.
Этот возглас напомнил мне, что профессор Лиденброк время от времени становился библиоманом; но книга имела в его глазах ценность только в том случае, если она являлась такой редкостной, что ее трудно было найти, или по крайней мере представляющей по своему содержанию какую-нибудь научную загадку.
– Ну, – сказал он, – разве ты не видишь? Это бесценное сокровище, я отрыл его утром в лавке еврея Гевелиуса.
– Великолепно! – ответил я с притворным восхищением.
И действительно, к чему столько шума из-за старой книжонки в кожаном переплете, из-за старинной пожелтевшей книжки с выцветшими буквами?
Между тем профессорские восторженные восклицания не прекращались.
– Посмотрим! Ну, разве это не прекрасно? – спрашивал он самого себя и тут же отвечал: – Да это прелесть что такое! А что за переплет! Легко ли книга раскрывается? Ну, конечно! Ее можно держать раскрытой на любой странице! Но хорошо ли она выглядит в закрытом виде? Отлично! Обложка книги и листы хорошо сброшюрованы, все на месте, все пригнано одно к другому! А что за корешок? Семь веков существует книга, а ни единого надлома! Вот это переплет! Он мог бы составить гордость Бозериана, Клосса и Пюргольда!
Рассуждая так, дядюшка то открывал, то закрывал старинную книгу.
Я не нашел ничего лучшего, как спросить его, что же это за книга, хотя она и мало меня интересо- вала.
– А каково же заглавие этой замечательной книги? – спросил я лицемерно.
– Это сочинение, – отвечал дядюшка, воодушевляясь, – носит название «Хейме-Крингла», автор его Снорре Турлесон, знаменитый исландский писатель двенадцатого века! Это история норвежских конунгов, правивших в Исландии!
– Неужели? – воскликнул я, сколько возможно радостнее. – Вероятно, в немецком переводе?
– Фу-ты! – возразил живо профессор. – В переводе!.. Что мне делать с твоим переводом? Кому он нужен, твой перевод? Это оригинальный труд на исландском языке – великолепном, богатом идиомами и в то же время простом наречии, в котором, не нарушая грамматической структуры, уживаются самые причудливые словообразования.
– Как в немецком языке, – прибавил я, подлаживаясь к нему.
– Да, – ответил дядюшка, пожимая плечами, – но с той разницей, что в исландском языке существуют три грамматических рода, как в греческом, и собственные имена склоняются, как в латинском.
– Ах, – воскликнул я, превозмогая свое равнодушие, – какой прекрасный шрифт!
– Шрифт? О каком шрифте ты говоришь, несчастный Аксель? Дело вовсе не в шрифте! Ах, ты, верно, думаешь, что книга напечатана? Нет, глупец, это манускрипт, рунический манускрипт!..
– Рунический?
– Да! Ты, может быть, попросишь объяснить тебе это слово?
– В этом я не нуждаюсь, – ответил я тоном оскорбленного человека.
Но дядюшка продолжал еще усерднее поучать меня, помимо моей воли, вещам, о которых я и знать не хотел.
– Руны, – продолжал он, – это письменные знаки, которые некогда употреблялись в Исландии и, по преданию, были изобретены самим Одином![4] Но взгляни же, полюбуйся, нечестивец, на эти письмена, созданные фантазией самого бога!
Вместо того чтобы ответить, я готов был упасть на колени, – ведь такого рода ответ угоден и богам и королям, ибо имеет за собой то преимущество, что никогда и никого не может обидеть. Но тут одно неожиданное происшествие дало нашему разговору другой оборот.
Внезапно из книги выпал полуистлевший пергамент.
Дядюшка накинулся на эту безделицу с жадностью вполне понятной. В его глазах ветхий документ, лежавший, быть может, с незапамятных времен в древней книге, должен был, несомненно, иметь очень большую ценность.
– Что это такое? – воскликнул дядюшка.
И он бережно развернул на столе клочок пергамента в пять дюймов длиной, в три шириной, на котором были начертаны поперечными строчками какие-то знаки, достойные чернокнижия.
Вот точный снимок с рукописи. Мне крайне необходимо привести эти загадочные письмена по той причине, что они побудили профессора Лиденброка и его племянника предпринять самое удивительное путешествие XIX века.
Профессор в продолжение нескольких минут рассматривал рукопись; затем, подняв повыше очки, сказал:
– Это рунические письмена; знаки эти совершенно похожи на знаки манускрипта Снорре. Но… что же они означают?
Так как мне казалось, что рунические письмена лишь выдумка ученых для одурачивания простого люда, то меня отнюдь не огорчило, что дядя ничего не мог понять. По крайней мере я заключил это по нервным движениям его пальцев.
– Ведь это все же древнеисландский язык, – бормотал он себе под нос.
И профессор Лиденброк должен был, конечно, знать, какой это язык, ведь недаром он слыл замечательным языковедом. Он не только прекрасно понимал две тысячи языков и четыре тысячи диалектов, которые известны на земном шаре, но и говорил на доброй части из них.
Встретив непредвиденное затруднение, он собирался было впасть в гнев, и я уже ожидал бурную сцену, но в это время на каминных часах пробило два.
Тотчас же приотворилась дверь в кабинет и Марта доложила:
– Суп подан.
– К черту суп, – закричал дядюшка, – и того, кто его варит, и того, кто будет его есть!
Марта убежала. Я поспешил за нею и оказался, сам не зная как, на своем обычном месте за столом.
Я подождал некоторое время. Профессор не появлялся. В первый раз, насколько я помню, его не было к обеду. А какой превосходный обед! Суп с петрушкой, омлет с ветчиной под щавелевым соусом; на жаркое телятина с соусом из слив, а на десерт – оладьи с сахаром и ко всему этому еще прекрасное мозельское вино.
И все это дядюшка прозевал из-за какой-то старой бумажонки. Право, как преданный племянник, я почел себя обязанным пообедать и за него, и за себя, что и исполнил добросовестно.
– Невиданное дело! – сказала Марта. – Господина Лиденброка нет за столом!
– Невероятный случай!
– Это плохой признак, – продолжала старая служанка, покачивая головой.
По-моему, отсутствие дядюшки за столом не предвещало ровно ничего, кроме ужасной сцены, когда обнаружится, что его обед съеден.
Я с жадностью доедал последнюю оладышку, как вдруг громкий голос оторвал меня от стола.
Одним прыжком я был в кабинете дяди.
Глава 3
– Ясно, что это рунические письмена, – сказал профессор, морща лоб. – Но я открою тайну, которая в них скрыта, иначе…
Резким жестом он довершил свою мысль.
– Садись сюда, – продолжал он, указывая на стол, – и пиши.
В мгновение ока я был готов.
– А теперь я буду диктовать тебе каждую букву нашего алфавита, соответствующую одному из этих исландских знаков. Посмотрим, что из этого выйдет. Но, ради всего святого, остерегись ошибок!
Он начал диктовать. Я прилагал все свои старания, чтобы не ошибиться. Он называл одну букву за другой, и, таким образом, последовательно составлялась таблица непостижимых слов:
Когда работа была окончена, дядюшка живо выхватил у меня из рук листок, на котором я писал буквы, и долго и внимательно их изучал.
– Что же это значит? – повторял он машинально.
Откровенно говоря, я не мог бы ответить ему на его вопрос. Впрочем, он и не спрашивал меня, а продолжал говорить сам с собой.
– Это то, что мы называем шифром, – рассуждал он вслух. – Смысл написанного умышленно скрыт за буквами, расставленными в беспорядке, но, однако, если бы их расположить в надлежащей последовательности, то они образовали бы понятную фразу. Как я мыслю, в ней, быть может, скрывается объяснение какого-нибудь великого открытия или указание на него!
Я со своей стороны думал, что тут ровно ничего не скрыто, но остерегся высказать свое мнение.
Профессор между тем взял книгу и пергамент и начал их сравнивать.
– Записи эти сделаны не одной и той же рукой, – сказал он, – зашифрованная записка более позднего происхождения, чем книга, и неопровержимое доказательство тому мне сразу же бросилось в глаза. В самом деле, в тайнописи первая буква – двойное М – не встречается в книге Турлесона, ибо она была введена в исландский алфавит только в четырнадцатом веке. Следовательно, между манускриптом и документом лежат по крайней мере два столетия.
Рассуждение это показалось мне довольно логичным.
– Это наводит меня на мысль, – продолжал дядюшка, – что таинственная запись сделана одним из обладателей книги. Но кто же, черт возьми, был этот обладатель? Не оставил ли он своего имени на какой-нибудь странице рукописи?
Дядюшка поднял повыше очки, взял сильную лупу и тщательно просмотрел первые страницы книги. На обороте второй страницы он открыл что-то вроде пятна, похожего на чернильную кляксу; но, вглядевшись попристальнее, можно было различить несколько наполовину стертых знаков. Дядя понял, что именно на это место надо обратить наибольшее внимание; он принялся чрезвычайно старательно рассматривать его и разглядел, наконец, с помощью своей лупы следующие рунические письмена, которые смог прочесть без затруднения:
– Арне Сакнуссем! – воскликнул он торжествующе. – Но ведь это имя, и к тому же еще исландское, имя ученого шестнадцатого столетия, знаменитого алхимика!
Я посмотрел на дядю с некоторым удивлением.
– Алхимики, – продолжал он, – Авиценна, Бэкон, Люль, Парацельс, были единственными истинными учеными своей эпохи. Они сделали открытия, которым мы можем только удивляться. Разве не мог Сакнуссем под этим шрифтом скрыть какое-либо удивительное открытие? Так оно должно быть! Так оно и есть!
При этой гипотезе воображение профессора разыгралось.
– Весьма вероятно, – дерзнул я ответить, – но какой мог быть расчет у этого ученого держать в тайне столь чудесное открытие?
– Какой? Какой? Почем я знаю! Разве Галилей не так же поступил с Сатурном? Впрочем, мы увидим: я вырву тайну этого документа и не буду ни есть, ни спать, пока не разгадаю ее.
«Ну-ну!» – подумал я.
– Ни я, Аксель, и ни ты! – продолжал он.
«Черт возьми! – сказал я про себя. – Как хорошо, что я пообедал за двоих!»
– Прежде всего, – сказал дядюшка, – надо выяснить язык шифра. Это не должно представлять затруднений.
При этих словах я живо поднял голову. Дядюшка продолжал разговор с самим собой:
– Нет ничего легче! Документ содержит сто тридцать две буквы: семьдесят девять согласных и пятьдесят три гласных. Приблизительно такое же соотношение существует в южных языках, в то время как наречия севера бесконечно богаче согласными. Следовательно, мы имеем дело с одним из южных языков.
Выводы были правильны.
Но какой же это язык?
– Сакнуссем, – продолжал дядя, – был ученый человек; поэтому, раз он писал не на родном языке, то, разумеется, должен был отдавать преимущество языку, общепринятому среди образованных умов шестнадцатого века, а именно – латинскому. Если я ошибаюсь, то можно будет испробовать испанский, французский, итальянский, греческий или еврейский. Но ученые шестнадцатого столетия писали обычно на латинском. Таким образом, я вправе признать не подлежащим сомнению, что это латынь.
Я вскочил со стула. Мои воспоминания латиниста возмущались против утверждения, что этот ряд неуклюжих знаков может принадлежать сладкозвучному языку Виргилия.
– Да, латынь, – продолжал дядюшка, – но запутанная латынь.
«Отлично! – подумал я. – Если ты ее распутаешь, милый дядюшка, ты окажешься весьма сметливым!»
– Всмотримся хорошенько, – сказал он, снова взяв исписанный мною листок. – Вот ряд из ста тридцати двух букв, расположенных крайне беспорядочно. Вот слова, в которых встречаются только согласные, как, например, первое «mrnlls»; в других, напротив, преобладают гласные, например в пятом «unteief» или в предпоследнем – «oseibo». Очевидно, что эта группировка не случайна; она произведена математически, при помощи неизвестного нам соотношения между двумя величинами, которое определило последовательность этих букв. Я считаю несомненным, что первоначальная фраза была написана правильно, но затем по какому-то принципу, который надо найти, подверглась преобразованию. Тот, кто владел бы ключом этого шифра, свободно прочел бы ее. Но что это за ключ? Аксель, не знаешь ли ты его?
На этот вопрос я не мог ответить – и по весьма основательной причине: мои взоры были устремлены на прелестный портрет, висевший на стене, – на портрет Гретхен. Воспитанница дядюшки находилась в это время в Альтоне у одной из родственниц, и я был очень опечален ее отсутствием, так как – теперь я могу в этом сознаться – хорошенькая питомица профессора и его племянник любили друг друга с истинным постоянством и чисто немецкой сдержанностью. Мы обручились без ведома дяди, который был слишком геологом для того, чтобы понимать подобные чувства. Гретхен была очаровательная блондинка, с голубыми глазами, с несколько твердым характером и серьезным складом ума; но это ничуть не уменьшало ее любви ко мне; что касается меня, я обожал ее, если только это понятие существует в старогерманском языке. Образ моей юной фирландки перенес меня мгновенно из мира действительности в мир грез и воспоминаний.
Я мечтал о моем верном друге в часы трудов и отдохновения. Она изо дня в день помогала мне приводить в порядок дядюшкину бесценную коллекцию камней; вместе со мной она наклеивала на них этикетки. Мадемуазель Гретхен была очень сильна в минералогии! Она могла бы заткнуть за пояс любого ученого. Она любила углубляться в научные премудрости. Сколько чудных часов провели мы за совместными занятиями! И как часто я завидовал бесчувственным камням, к которым прикасалась ее прелестная рука!
Окончив работу, мы шли вместе по тенистой аллее Альстера до старой мельницы, которая так чудесно рисовалась в конце озера. Дорогою мы болтали, держась за руки; я рассказывал ей различные веселые истории, заставлявшие ее от души смеяться; наш путь вел нас к берегам Эльбы, и там, попрощавшись с лебедями, которые плавали среди белых кувшинок, мы садились на пароход и возвращались домой.
В то мгновение, когда я в своих мечтаниях уже всходил на набережную, дядя, ударив кулаком по столу, сразу вернул меня к действительности.
– Посмотрим, – сказал он. – При желании затемнить смысл фразы первое, что приходит на ум, как мне кажется, это написать слова в вертикальном направлении, а не в горизонтальном. Надо посмотреть, что из этого выйдет! Аксель, напиши какую-нибудь фразу на этом листке, но вместо того, чтобы располагать буквы в строчку, одну за другой, напиши их в той же последовательности, но вертикально, по пяти или по шести в столбце.
Я понял, в чем дело, и написал немедленно сверху вниз:
– Хорошо, – сказал профессор, не читая написанного. – Теперь напиши буквы, которые получились в столбце, в строчку.
Я повиновался, получилась следующая фраза:
Ятецрр! лемеое юбсмгт бяе, ах лврдяе юсдоГн!
– Превосходно! – произнес дядюшка, вырывая у меня из рук листок. – Это уже походит на наш старый документ; гласные и согласные расположены в одинаковом беспорядке, даже прописная буква и запятая в середине слова, совсем как на пергаменте Сакнуссема!
Я не мог не признать, что эти замечания весьма глубокомысленны.
– А теперь, – продолжал дядюшка, обращаясь уже непосредственно ко мне, – для того чтобы прочесть фразу, которую ты написал и содержания которой я не понимаю, мне достаточно соединять по порядку сначала первые буквы каждого слова, потом вторые, потом третьи и так далее.
И дядя, к своему и к моему величайшему изумлению, прочел:
Я люблю тебя всем сердцем, дорогая Гретхен!
– Ого! – сказал профессор.
Да, как влюбленный глупец, необдуманно, я написал эту предательскую фразу!
– Так-с!.. Ты, значит, любишь Гретхен? – продолжал дядюшка тоном заправского опекуна.
– Да… Нет… – бормотал я.
– Так-с, ты любишь Гретхен! – машинально повторил он. – Ну, хорошо, применим мой метод к исследуемому документу.
И дядюшка снова погрузился в размышление, которое целиком заняло его внимание и заставило его забыть о моих неосторожных словах. Я говорю «неосторожных», потому что голова ученого была неспособна понимать сердечные дела. Но, к счастью, интерес к документу победил. Глаза профессора Лиденброка, когда он собирался произвести свой решающий опыт, метали молнии сквозь очки; дрожащими пальцами он снова взял древний пергамент. Он был взволнован не на шутку. Наконец дядюшка основательно прокашлялся и начал диктовать мне торжественным тоном, называя сначала первые буквы каждого слова, потом вторые; он диктовал буквы в таком порядке:
mmessunkaSenrA. icefdoK. segnittamurtn
ecertserrette, rotaivsadua, ednecsedsadne
lacartniiluJsiratracSarbmutabiledmek
meretarcsilucoIsleffenSnI
Сознаюсь, что, кончая дописывать, я волновался: в сочетании этих букв, произносимых одна за другой, я не мог уловить ровно никакого смысла, а я с нетерпением ожидал, что из уст профессора потечет на великолепной латыни торжественная речь.
Но кто бы мог ожидать этого? Сильный удар кулака потряс стол. Чернила брызнули, перо выпало у меня из рук.
– Да это совсем не то! – закричал дядюшка. – Тут чистая бессмыслица!
И, пролетев, как пушечное ядро, через кабинет, скатившись по лестнице, словно лавина, он устремился на Королевскую улицу и кинулся бежать во весь дух.
Глава 4
– Он ушел? – воскликнула Марта, испуганная грохотом входной двери, захлопнутой с такой силой, что затрясся весь дом.
– Да, – ответил я, – совсем ушел!
– Как же так? А обед? – спросила старая служанка.
– Он не будет обедать!
– А ужинать?
– Он не будет ужинать!
– Как? – сказала Марта, всплеснув руками.
– Да, добрейшая Марта, он не будет больше есть, и никто не будет есть во всем доме! Дядюшка хочет заставить нас всех поститься до тех пор, пока ему не удастся разобрать всю эту тарабарщину, которая решительно не поддается расшифровке.
– Господи Иисусе! Так нам, значит, ничего не остается, как умереть с голода?
Я не отваживался признаться, что, имея дело со столь упорным человеком, как мой дядя, нас неизбежно ждет печальная участь.
Старая служанка, вздыхая, отправилась к себе на кухню.
Когда я остался один, мне пришло на мысль пойти и поскорее рассказать Гретхен всю эту историю. Но как отлучиться из дома? Профессор мог каждую минуту вернуться. А что, если он меня позовет? А что, если он захочет снова начать свою работу по разгадыванию логогрифа, которую не сумел бы выполнить и сам Эдип? И что будет, если я не откликнусь на его зов?
Самое разумное было оставаться. Как раз недавно один минералог из Безансона прислал нам коллекцию кремнистых жеод, которые нужно было классифицировать. Я принялся за дело. Я выбирал, наклеивал ярлыки, размещал в стеклянном ящике все эти полые камни, в которых поблескивали маленькие кристаллы.
Но это занятие не поглощало меня всего. Старый документ не выходил у меня из памяти. Голова моя горела, и я был охвачен каким-то беспокойством. Я предчувствовал неминуемую катастрофу.
По прошествии часа мои камни были размещены по порядку. Я опустился в «утрехтское» кресло, запрокинул голову и свесил руки. Потом я закурил трубку, длинный изогнутый чубук которой был украшен фигуркой наяды, и забавлялся, наблюдая, как мало-помалу моя наяда, покрываясь копотью, превращалась в настоящую негритянку. Время от времени я прислушивался, не раздаются ли шаги на лестнице, но ничего не было слышно. Где же мог быть теперь дядя? Я представлял его себе бегущим по прекрасной аллее Альтонской улицы, на ходу он в неистовстве сбивает концом своей палки листья с деревьев, чертит какие-то знаки на стенах, отсекает головки чертополоха и нарушает покой сонных лебедей.
Вернется ли он торжествующим или обескураженным? Удастся ли ему разгадать тайну? Рассуждая сам с собой, я машинально взял в руки лист бумаги, на котором выстроился ряд загадочных строк, начертанных моей рукой.
Я повторял:
«Что же это означает?»
Я пытался так сгруппировать буквы, чтобы они образовали слова, но ничего не выходило! Их можно было соединять как угодно, по две, по три, по пяти или по шести, толку от этого не было. Но все же из четырнадцатой, пятнадцатой и шестнадцатой букв получалось английское слово «ice», а из восемьдесят четвертой, восемьдесят пятой и восемьдесят шестой слово «sir». Наконец, в самой середине документа, на третьей строке, я заметил латинские слова «rota», «mutabile», «ira», «nec», «atra».
Черт возьми! – подумал я. По этим словам дядя, пожалуй, мог бы судить о языке документа. И на четвертой строке я различаю даже еще слово «luco», что означает «священная роща»; правда, на третьей можно прочитать слово «tabiled», совершенно еврейское слово, а на последней – слова «mer», «arc» «mиre», слова чисто французские.
Было от чего потерять голову! Четыре различных наречия в одной бессмысленной фразе! Какая могла существовать связь между словами «лед», «господин», «гнев», «жестокий», «священная роща», «переменчивый», «мать», «лук», «море»?
Только последнее и первое слова легко можно было соединить друг с другом; ничего не было удивительного, что в документе, написанном в Исландии, говорилось о «ледяном море». Но остальную часть шифра понять было не так-то легко.
Я боролся с неразрешимой трудностью; мозг мой разгорячился; я хлопал глазами, глядя на листок бумаги, казалось, что все эти сто тридцать две буквы прыгали передо мною, как светящиеся точки мелькают перед закрытыми глазами, когда кровь приливает к голове.
Я оказался во власти своего рода галлюцинации; я задыхался, мне не хватало воздуха. Совершенно машинально я стал обмахиваться этим листком бумаги, так что лицевая и оборотная стороны листка попеременно представали перед моими глазами.
Каково же было мое изумление, когда вдруг мне показалось, что передо мной промелькнули знакомые, совершенно ясные слова, латинские слова: «craterem», «terrestre»!
Разом луч света озарил мое сознание; эти скупые следы навели меня на путь истины; я нашел секрет шифра! Чтобы понять документ, совсем не требовалось его читать сквозь оборотную сторону листа. Нет, загадочные письмена можно было свободно прочесть в том виде, в каком они были начертаны, а именно в том, в каком текст был продиктован. Все остроумные предположения профессора оказывались правильными; он был прав и относительно расположения букв, и относительно языка документа! Для того чтобы прочитать это латинское предложение с начала до конца, ему лишь не хватало еще «чего-то», и это «что-то» открыл мне случай!
Разумеется, я был очень взволнован. В глазах у меня помутилось, они отказывались мне служить. Я разложил пергамент на столе. Мне достаточно было бросить один только взгляд на шифр, чтобы овладеть тайной.
Наконец, я с трудом унял свое волнение. Для успокоения нервов я заставил себя пройтись два раза по комнате, а затем снова опустился в кресло.
– Прочтем теперь! – воскликнул я, вздохнув полной грудью.
Я склонился над столом, проследил пальцем по порядку каждую букву и прочел громким голосом всю фразу, не останавливаясь, не запнувшись ни на одно мгновение.
Но какое изумление, какой ужас охватили меня! Сначала я стоял, словно пораженный ударом. Как! Неужели то, что я только что узнал, было уже осуществлено? Неужели нашелся такой смельчак, что проник…
– Ах! – вскричал я в сердцах. – Нет, нет, дядя не должен узнать этого! Иначе он непременно пустится в такое путешествие! Он тоже захочет испытать все это! Ничто не сможет удержать его, такого смелого геолога! Он поедет непременно, несмотря ни на что, вопреки всему! И он возьмет меня с собой, и мы никогда не вернемся! Никогда, никогда!
Я был в неописуемом возбуждении.
– Нет, нет, этому не бывать! – произнес я с энергией. – И раз в моей власти не допустить, чтобы такая мысль пришла в голову моему тирану, я не допущу! Переворачивая документ и так и эдак, он может случайно найти ключ к шифру! Так я уничтожу документ!
В камине тлели еще угли. Я схватил не только исписанный мною лист, но также и пергамент Сакнуссема; дрожащей рукой я собирался бросить проклятые бумаги в огонь и таким образом скрыть опасную тайну.
В этот момент дверь кабинета отворилась и вошел дядюшка.
Глава 5
Я едва успел положить злосчастный документ на стол.
Профессор Лиденброк, казалось, был совершенно измучен. Овладевшая им мысль не давала ему ни минуты покоя; во время прогулки он, очевидно, исследовал и разбирал мучившую его загадку, напрягая все силы своего воображения, и вернулся, чтобы испробовать какой-то новый прием.
И в самом деле, он сел в свое кресло, схватил перо и начал записывать формулы, похожие на алгебраические вычисления.
Я следил взглядом за его дрожащей рукой; я не упускал из виду ни малейшего его движения. Что, если случайно он натолкнется на разгадку? Я волновался, и совсем напрасно: ведь если «единственный» правильный способ прочтения был открыт, то всякое исследование в ином направлении должно было остаться тщетным.
В течение трех часов без перерыва трудился дядюшка, не говоря ни слова, не поднимая головы, то зачеркивая свои писания, то восстанавливая их, то опять марая написанное и в тысячный раз начиная сначала.
Я хорошо знал, что если бы ему удалось составить из этих букв все мыслимые словосочетания, то искомая фраза в конце концов получилась бы. Но я знал также, что из двадцати букв получается два квинтильона, четыреста тридцать два квадрильона, девятьсот два триллиона, восемь миллиардов, сто семьдесят шесть миллионов, шестьсот сорок тысяч словосочетаний! А в этой записи было сто тридцать две буквы, и эти сто тридцать две буквы могли образовать такое невероятное количество словосочетаний, что не только исчислить было почти невозможно, но даже и представить себе! Я мог успокоиться относительно этого героического способа разрешить проблему.
Между тем время шло; наступила ночь; шум на улицах стих; дядюшка, все еще занятый разрешением своей задачи, ничего не видел, не заметил даже Марту, когда она приотворила дверь; он ничего не слышал, даже голоса этой верной служанки, спросившей его:
– Сударь, вы будете сегодня ужинать?
Марте пришлось уйти, не получив ответа. Что касается меня, то, как я ни боролся с дремотой, все же заснул крепким сном, примостившись в уголке дивана, между тем как дядюшка Лиденброк упорно продолжал вычислять и снова вычеркивать свои формулы.
Когда утром я проснулся, неутомимый исследователь все еще был за работой. Его красные глаза, волосы, всклокоченные нервной рукой, лихорадочные пятна на бледном лице в достаточной степени свидетельствовали о той страшной борьбе, которую он вел в своем стремлении добиться невозможного, и о том, в каких усилиях мысли, в каком напряжении мозга протекали для него ночные часы.
Право, я его пожалел. Несмотря на то что втайне я его упрекал, и вполне справедливо, все же его тщетные усилия тронули меня. Бедняга был до того поглощен своей идеей, что позабыл даже рассердиться. Все его жизненные силы сосредоточились на одной точке, и так как для них не находилось выхода, можно было опасаться, что от умственного напряжения у моего дядюшки голова расколется.
Я мог одним движением руки, одним только словом освободить его от железных тисков, сжимавших его череп! Но я этого не делал.
А между тем сердце у меня было доброе. Отчего же оставался я нем и глух при таких обстоятельствах? Да в интересах самого же дяди.
«Нет, нет! Я ничего не скажу! – твердил я сам себе. – Я его знаю, он захочет поехать; ничто не сможет остановить его. У него вулканическое воображение, и он рискнет жизнью, чтобы совершить то, чего не сделали другие геологи. Я буду молчать; я удержу при себе тайну, обладателем которой сделала меня случайность! Сообщить ее ему – значит, обречь профессора Лиденброка на смерть! Пусть он ее отгадает, если сумеет. Я вовсе не желаю, чтобы мне когда-нибудь пришлось упрекать себя за то, что я толкнул его на погибель!»
Приняв это решение, я скрестил руки и стал ждать. Но я не учел побочного обстоятельства, имевшего место несколько часов тому назад.
Когда Марта собралась было идти на рынок, оказалось, что заперта наружная дверь и ключ из замка вынут. Кто же его мог взять? Очевидно, дядя, когда он вернулся накануне вечером с прогулки.
Было ли это сделано с намерением или нечаянно? Неужели он хотел подвергнуть нас мукам голода? Но это было бы уже слишком! Как! Заставлять меня и Марту страдать из-за того, что нас совершенно не касается? Ну, конечно, это так и было! И я вспомнил другой подобный же случай, способный кого угодно привести в ужас. В самом деле, несколько лет назад, когда дядя работал над своей минералогической классификацией, он пробыл однажды без пищи сорок восемь часов, причем всему дому пришлось разделить с ним эту научную диету. У меня начались тогда судороги в желудке – вещь малоприятная для молодца, обладающего дьявольским аппетитом.
И я понял, что завтрак сегодня будет так же отменен, как вчера ужин. Я решил, однако, держаться героически и не поддаваться требованиям желудка. Марта, не на шутку встревоженная, всполошилась. Что касается меня, больше всего я был обеспокоен невозможностью уйти из дому. Причина была ясна.
Дядя все продолжал работать: воображение уносило его в высокие сферы умозаключений; он витал над землей и в самом деле не ощущал земных потребностей.
Около полудня голод стал серьезно мучить меня. В простоте сердечной Марта извела накануне все запасы, находившиеся у нее в кладовой; в доме не осталось решительно ничего съестного. Но все-таки я стойко держался; это стало для меня своего рода делом чести.
Пробило два часа. Положение начинало становиться смешным, даже невыносимым. У меня буквально живот подводило. Мне начинало казаться, что я преувеличил важность документа, что дядя не поверит сказанному в нем, признает его простой мистификацией, что в худшем случае, если даже он захочет пуститься в такое предприятие, его можно будет насильно удержать; что, наконец, он может и сам найти ключ шифра, и тогда окажется, что я даром постился.
Эти доводы, которые я накануне отбросил бы с негодованием, представлялись мне теперь превосходными; мне показалось даже смешным, что я так долго колебался, и я решил все сказать.
Я ждал лишь благоприятного момента, чтобы начать разговор, как вдруг профессор встал, надел шляпу, собираясь уходить.
Как! Уйти из дома, а нас снова запереть! Да никогда!
– Дядюшка, – сказал я.
Казалось, он не слыхал.
– Дядя Лиденброк! – повторил я, повышая голос.
– Что? – спросил он, как человек, которого внезапно разбудили.
– Как это что! А ключ?
– Какой ключ? От входной двери?
– Нет, – воскликнул я, – ключ к документу!
Профессор поглядел на меня поверх очков; он заметил, вероятно, что-нибудь необыкновенное в моей физиономии, потому что живо схватил меня за руку и устремил на меня вопросительный взгляд, не имея силы говорить. Однако вопрос никогда еще не был выражен так ясно.
Я утвердительно кивнул.
Он соболезнующе покачал головою, словно имел дело с сумасшедшим.
Я кивнул еще более выразительно.
Глаза его заблестели, поднялась угрожающе рука.
Этот немой разговор при таких обстоятельствах заинтересовал бы самого апатичного человека. И действительно, я не решался сказать ни одного слова, боясь, чтобы дядя не задушил меня от радости в своих объятиях. Но отвечать становилось, однако, необходимым:
– Да, это ключ… случайно…
– Что ты говоришь? – вскричал он в неописуемом волнении.
– Вот он! – сказал я, подавая ему листок бумаги, исписанный мною. – Читайте.
– Но это не имеет смысла! – возразил он, комкая бумагу.
– Не имеет, если начинать читать с начала, но если начать с конца…
Я не успел кончить еще фразы, как профессор крикнул, вернее, взревел! Словно откровение снизошло на него; он совершенно преобразился.
– Ах, хитроумный Сакнуссем! – воскликнул он. – Так ты, значит, написал сначала фразу наоборот?
И, схватив бумагу, с помутившимся взором, он прочитал дрожащим голосом весь документ от последней до первой буквы.
Документ гласил следующее:
«In Sneffels Yoculis craterem kem delibat umbra Scartaris Julii intra calendas descende, audas viator, et terrestre centrum attinges. Kod feci. – Arne Saknussemm».
В переводе это означало:
«Спустись в кратер Ёкуль Снайфедльс, который тень Скартариса ласкает перед июльскими календами[5], отважный странник, и ты достигнешь центра Земли. Это я совершил. – Арне Сакнуссем».
Когда дядя прочитал эти строки, он подскочил, словно дотронулся нечаянно до лейденской банки. Преисполненный радости, уверенности и отваги, он был великолепен. Он ходил взад и вперед, хватался руками за голову, передвигал стулья, складывал одну за другой свои книги; он играл, – кто бы мог этому поверить, – как мячиками, своими драгоценными камнями; он то ударял по ним кулаком, то похлопывал по ним рукой. Наконец, его нервы успокоились, и он опустился, утомленный, в кресло.
– Который час, однако? – спросил он немного погодя.
– Три часа, – ответил я.
– Ну, скоро же пришло время обеда. Я умираю с голоду. К столу! А потом…
– Потом?..
– Ты уложишь мой чемодан.
– Хорошо! – воскликнул я.
– И свой тоже, – добавил безжалостный профессор, входя в столовую.
Глава 6
При этих словах дрожь пробежала у меня по всему телу, однако я овладел собой. Я решил даже и виду не подавать. Только научные доводы смогут удержать профессора Лиденброка. А против такого путешествия говорили весьма серьезные доводы. Отправиться к центру Земли! Какое безумие! Я приберегал свои возражения до более благоприятного момента и приготовился обедать.
Нет надобности описывать, как разгневался мой дядюшка, когда увидел, что стол не накрыт! Но тут же все объяснилось. Марта получила снова свободу. Она поспешила на рынок и так быстро все приготовила, что через час мой голод был утолен, и я опять ясно представил себе положение вещей.
Во время обеда дядюшка был почти весел; он сыпал шутками, которые у ученых всегда безобидны. После десерта он сделал мне знак последовать за ним в кабинет.
Я повиновался. Он сел у одного конца стола, я – у другого.
– Аксель, – сказал он довольно мягким голосом, – ты весьма разумный юноша; ты оказал мне сегодня большую услугу, когда я, утомленный борьбой, хотел уже отказаться от своих изысканий. Куда еще завели бы меня попытки решить задачу? Совершенно неизвестно! Я этого никогда тебе не забуду, и ты приобщишься к славе, которую мы заслужим.
«Ну, – подумал я, – он в хорошем настроении; как раз подходящая минута поговорить об этой самой славе».
– Прежде всего, – продолжал дядя, – я убедительно прошу тебя сохранять полнейшую тайну. Ты понимаешь, конечно? В мире ученых сколько угодно завистников, и многие захотели бы предпринять путешествие, о котором они должны узнать лишь после нашего возвращения.
– Неужели вы думаете, что таких смельчаков много?
– Несомненно! Кто стал бы долго раздумывать, чтобы приобрести такую славу? Если бы этот документ оказался известен, целая армия геологов поспешила бы по следам Арне Сакнуссема!
– Вот в этом-то я вовсе не убежден, дядя, ведь достоверность этого документа ничем не доказана.
– Как! А книга, в которой мы его нашли?
– Хорошо! Я согласен, что Сакнуссем написал эти строки, но разве из этого следует, что он действительно предпринял это путешествие, и разве старый документ не может быть мистификацией?
Я почти раскаивался, что произнес это несколько резкое слово. Профессор нахмурил брови, и я боялся, что наш разговор примет плохой оборот. К счастью, этого не случилось. Мой строгий собеседник, изобразив на своей физиономии некое подобие улыбки, ответил:
– Это мы проверим.
– Ах, – сказал я, несколько озадаченный, – позвольте мне высказать все, что можно сказать по поводу документа.
– Говори, мой мальчик, не стесняйся. Я даю тебе полную свободу высказать свое мнение. Ты теперь уже не только племянник мой, а коллега. Итак, продолжай.
– Хорошо, я вас спрошу прежде всего, что такое эти Ёкуль, Снайфедльс и Скартарис, о которых я никогда ничего не слыхал?
– Очень просто. Я как раз недавно получил от своего друга Августа Петермана из Лейпцига карту; кстати, она у нас под рукой. Возьми третий атлас из второго отделения большого библиотечного шкафа, ряд Z, полка четыре.
Я встал и, следуя этим точным указаниям, быстро нашел требуемый атлас. Дядя раскрыл его и сказал:
– Вот одна из лучших карт Исландии, карта Гендерсона, и я думаю, что при помощи ее мы разрешим все затруднения.
Я склонился над картой.
– Взгляни на этот остров вулканического происхождения, – сказал профессор, – и обрати внимание на то, что все эти вулканы носят название Ёкуль. Это слово означает на исландском языке «глетчер», ибо горные вершины при высокой широте расположения Исландии в большинстве случаев покрыты вечными снегами, и во время вулканических извержений лава неминуемо пробивается сквозь ледяной покров. Поэтому-то огнедышащие горы острова и носят название Ёкуль.
– Хорошо, – возразил я, – но что такое Снайфедльс?
Я надеялся, что он не сможет ответить на этот вопрос. Как я заблуждался! Дядя продолжал:
– Следуй за мной по западному берегу Исландии. Смотри! Вот главный город Рейкьявик! Видишь? Отлично. Поднимись по бесчисленным фьордам этих изрезанных морских берегов и остановись несколько ниже шестидесяти пяти градусов широты. Что ты видишь там?
– Нечто вроде полуострова, похожего на обглоданную кость.
– Сравнение правильное, мой мальчик; теперь, разве ты ничего не замечаешь на этом полуострове?
– Да, вижу гору, которая кажется выросшей из моря.
– Хорошо! Это и есть Снайфедльс.
– Снайфедльс?
– Он самый; гора высотою в пять тысяч футов, одна из самых замечательных на острове и, несомненно, одна из самых знаменитых во всем мире, ведь ее кратер образует ход к центру земного шара!
– Но это невозможно! – воскликнул я, пожимая плечами и протестуя против такого предположения.
– Невозможно? – ответил профессор Лиденброк сурово. – Почему это?
– Потому что этот кратер, очевидно, переполнен лавой, скалы раскалены, и затем…
– А что, если это потухший вулкан?
– Потухший?
– Да. Число действующих вулканов на поверхности Земли достигает в наше время приблизительно трехсот, но число потухших вулканов значительно больше. К последним принадлежит Снайфедльс; за весь исторический период у него было только одно извержение, именно в тысяча двести девятнадцатом году; с тех пор он постепенно погас и не принадлежит уже к числу действующих вулканов.
На эти точные данные я решительно ничего не мог возразить, а потому перешел к другим неясным пунктам, заключавшимся в документе.
– Но что такое Скартарис? – спросил я. – И при чем тут июльские календы?
Дядюшка призадумался. На минуту у меня появилась надежда, но только на минуту, потому что скоро он ответил мне такими словами:
– То, что ты называешь темным, для меня вполне ясно. Все эти данные доказывают лишь, с какой точностью Сакнуссем хотел описать свое открытие. Ёкуль-Снайфедльс состоит из нескольких кратеров, и потому было необходимо указать именно тот, который ведет к центру Земли. Что же сделал ученый-исландец? Он заметил, что перед наступлением июльских календ, иначе говоря, в конце июня, одна из горных вершин, Скартарис, отбрасывает тень до самого жерла вышеназванного кратера, и этот факт он отметил в документе. Это настолько точное указание, что, достигнув вершины Снайфедльс, не приходится сомневаться, какой путь избрать.
Положительно, мой дядя находил ответ на все. Я понял, что он был неуязвим, поскольку дело касалось текста древнего пергамента. Поэтому я перестал надоедать ему вопросами на эту тему, а поскольку мне прежде всего хотелось убедить дядюшку, то я перешел к научным возражениям, по-моему, гораздо более существенным.
– Хорошо! – сказал я. – Должен согласиться, что фраза Сакнуссема ясна и смысл ее не подлежит никакому сомнению. Я допускаю даже, что документ представляет собою несомненный подлинник. Этот ученый спустился в жерло Снайфедльс, видел, как тень Скартариса перед наступлением июльских календ скользит по краям кратера; он даже узнал из легендарных рассказов своего времени, что этот кратер ведет к центру Земли; но чтобы он сам туда проник, чтобы он, совершив это путешествие, снова вернулся оттуда, этому я не верю! Нет, тысячу раз нет!
– А на каком основании? – спросил дядя необыкновенно насмешливо.
– На основании научных теорий, которые показывают, что подобное изыскание невыполнимо!
– Теории, говоришь, показывают это? – спросил профессор с добродушным видом. – Да, жалкие теории! И эти теории нас смущают?
Я видел, что он смеется надо мною, но тем не менее продолжал:
– Да, вполне доказано, что температура в недрах Земли поднимается, по мере углубления, через каждые семьдесят футов, приблизительно на один градус; поэтому, если допустить, что это повышение температуры неизменно, то, принимая во внимание, что радиус Земли равен полутора тысячам лье, температура в центральных областях Земли должна превышать двести тысяч градусов, следовательно, все вещества в недрах Земли должны находиться в огненно-жидком и газообразном состоянии, так как металлы, золото, платина, самые твердые камни не выдерживают такой температуры. Поэтому я вправе спросить, возможно ли проникнуть в такую среду?
– Стало быть, Аксель, тебя пугает температура?
– Конечно. Достаточно нам спуститься лишь на десять лье и достичь крайней границы земной коры, как уже там температура превышает тысячу триста градусов.
– И ты боишься расплавиться?
– Предоставляю вам решение этого вопроса, – ответил я с досадой.
– Так я выскажу тебе категорически свое мнение, – сказал профессор Лиденброк с самым важным видом. – Ни ты, ни кто другой не знает достоверно, что происходит внутри земного шара, так как изучена едва только двенадцатитысячная часть его радиуса; поэтому научные теории о температурах больших глубин могут бесконечно дополняться и видоизменяться, и каждая теория постоянно опровергается новой. Ведь полагали же до Фурье, что температура межпланетных пространств неизменно понижается, а теперь известно, что минимальный предел температуры в мировом эфире колеблется между сорока и пятьюдесятью градусами ниже нуля. Почему не может быть того же самого с температурой внутри Земли? Почему бы ей не остановиться, достигнув наивысшего предела, на известной глубине, вместо того чтобы подниматься до такой степени, что плавятся самые стойкие металлы?
Раз дядя перенес вопрос в область гипотез, я не мог ничего возразить ему.
– А затем я тебе скажу, что истинные ученые, как, например, Пуазон и другие, доказали, что если бы внутри земного шара жар доходил бы до двухсот тысяч градусов, то газ, образовавшийся от веществ, раскаленных до таких невероятных температур, взорвал бы земную кору, как под давлением пара взрывается котел.
– Таково мнение Пуазона, дядя, и ничего больше.
– Согласен, но и другие выдающиеся геологи также полагают, что внутренность земного шара не состоит ни из газов, ни из воды, ни из более тяжелых камней, чем известные нам, ибо в таком случае Земля имела бы вдвое меньший или же вдвое больший вес.
– О! Цифрами можно доказать все, что угодно!
– А разве факты не то же самое говорят, мой мальчик? Разве неизвестно, что число вулканов с первых же дней существования мира неизменно сокращается? И если существует центральный очаг огня, нельзя разве на основании этого заключить, что он делается все слабее?
– Дядюшка, раз вы вступаете в область предположений, мне нечего возразить.
– И я должен сказать, что взгляды самых сведущих людей сходятся с моими. Помнишь ли ты, как меня посетил знаменитый английский химик Хемфри Дэви в тысяча восемьсот двадцать пятом году?
– Нет, потому что я сам появился на свет девятнадцать лет спустя.
– Ну, так вот, Хемфри Дэви посетил меня проездом через Гамбург. Мы с ним долго беседовали и, между прочим, коснулись гипотезы огненно-жидкого состояния ядра Земли. Мы оба были согласны в том, что жидкое состояние земных недр немыслимо по причине, на которую наука никогда не находила ответа.
– А что же это за причина? – спросил я, несколько изумленный.
– Весьма простая: расплавленная масса, подобно океану, была бы подвержена силе лунного притяжения, и, следовательно, два раза в день происходили бы внутри Земли приливы и отливы; под сильным давлением огненно-жидкой массы земная кора давала бы разломы и периодически возникали бы землетрясения!
– Но все-таки несомненно, что оболочка земного шара была в огненно-жидком состоянии, и можно предполагать, что прежде всего остыли верхние слои земной коры, в то время как жар сосредоточился в больших глубинах.
– Заблуждение, – ответил дядя. – Земля стала раскаленной только благодаря горению ее поверхности, но не наоборот. Ее поверхность состояла из большого количества металлов вроде калия и натрия, которые имеют свойство воспламеняться при одном лишь соприкосновении с воздухом и водой; эти металлы воспламенились, когда атмосферные пары в виде дождя опустились на Землю; и постепенно, когда воды стали проникать внутрь через трещины, возникшие от разлома каменных масс земной коры, начались массовые пожары с взрывами и извержениями. Следствием этого были вулканические образования на земной поверхности, столь многочисленные в первое время существования мира.
– Однако весьма остроумная гипотеза! – воскликнул я невольно.
– И Хемфри Дэви объяснил мне это явление при помощи весьма простого опыта. Он изготовил металлический шар, главным образом из тех металлов, о которых я только что говорил, как бы полное подобие нашей планеты; когда этот шар слегка обрызгивали водой, поверхность его вздувалась, окислялась, и на ней появлялась небольшая выпуклость; на ее вершине открывался кратер, происходило извержение, и шар до того раскалялся, что его нельзя было удержать в руке.
Сказать правду, доводы профессора начинали производить на меня впечатление; к тому же он приводил их со свойственной ему страстностью и энтузиазмом.
– Ты видишь, Аксель, – прибавил он, – вопрос о внутреннем состоянии Земли вызвал различные гипотезы среди геологов; нет ничего столь мало доказанного, как раскаленное состояние ядра земного шара; я отрицаю эту теорию, этого не может быть; впрочем, мы сами это увидим и, как Арне Сакнуссем, узнаем, какого мнения нам держаться в этом важном вопросе.
– Ну да, – ответил я, начиная разделять дядюшкин энтузиазм. – Ну да, увидим, если там вообще можно что-нибудь увидеть!
– Отчего же нет? Разве мы не можем рассчитывать на электрические явления, которые послужат для нас освещением? И даже атмосфера в глубинных областях Земли не может разве сделаться светящейся благодаря высокому давлению?
– Да, – сказал я, – да! В конце концов и это возможно.
– Это несомненно, – торжествующе ответил дядя, – но ни слова, слышишь? Ни слова обо всем этом, чтобы никому не пришла в голову мысль раньше нас открыть центр Земли.
Глава 7
Так закончился этот памятный диспут. Беседа с дядюшкой привела меня в лихорадочное состояние. Я покинул кабинет совершенно ошеломленный. Мне мало было воздуха на улицах Гамбурга, чтобы прийти в себя. Я поспешил к берегам Эльбы, к парому, который связывает город с железной дорогой.
Убедили ли меня дядюшкины доводы? Не поддавался ли я скорее его внушению? Неужели следует отнестись серьезно к замыслу профессора Лиденброка отправиться к центру Земли? Что слышал я? Бредовые фантазии безумца или же умозаключения великого гения, основанные на научных данных? Где во всем этом кончалась истина и начиналось заблуждение?..
Я строил тысячи противоречивых гипотез, не будучи в состоянии остановиться ни на одной.
Все же я должен был напомнить себе, что порою я соглашался, хотя мой энтузиазм и начинал уже ослабевать. Разве я не готов был уехать немедленно, чтобы не оставалось времени на размышления. Да, у меня хватило бы в тот момент мужества затянуть ремнями свой чемодан!
Однако я должен сознаться и в том, что часом позже это чрезмерное возбуждение уже улеглось, нервы успокоились, и я снова поднялся из недр Земли на поверхность.
«Ведь это нелепость! – сказал я самому себе. – Ведь это лишено здравого смысла! Подобное предложение нельзя делать рассудительному молодому человеку. Все это вздор. Я плохо спал и видел скверный сон».
Между тем я прошел по берегу Эльбы вокруг города и, минуя порт, вышел на дорогу в Альтону. Точно предчувствие привело меня на этот путь, потому что я вскоре увидел мою милую Гретхен, которая возвращалась в Гамбург.
– Гретхен! – закричал я ей издали.
Девушка остановилась, по-видимому, несколько смущенная, что ее окликнули на большой дороге. В одну минуту я очутился возле нее.
– Аксель! – сказала она с изумлением. – Ты вышел мне навстречу? Вот это мило!
Мой беспокойный и расстроенный вид не ускользнул от внимательных глаз Гретхен, стоило ей взглянуть на меня.
– Что с тобой? – сказала она, протягивая мне руку.
– Что со мною, Гретхен? – вскричал я.
И в трех словах я рассказал прелестной фирландке о случившемся. Она помолчала немного. Билось ли ее сердце одинаково с моим? Я не знаю, но ее рука не задрожала в моей.
Мы молча прошли сотню шагов.
– Аксель, – сказала она наконец.
– Что, милая Гретхен?
– Вот будет прекрасное путешествие!
Я так и подскочил при этих словах.
– Да, Аксель, путешествие, достойное племянника ученого. Мужчина должен отличиться в каком-нибудь великом предприятии.
– Как, Гретхен, ты не отговариваешь меня от подобного путешествия?
– Нет, дорогой Аксель, и я охотно сопровождала бы вас, если бы слабая девушка не была для вас только помехой.
– И ты говоришь это серьезно?
– Серьезно.
Ах, можно ли понять женщин, молодых девушек, словом, женское сердце! Если женщина не из робких, то уж ее храбрость не имеет предела! Рассудок не играет у женщин никакой роли… Что я слышу? Девочка советует мне принять участие в путешествии! Ее ничуть не пугает столь романтическое приключение. Она побуждает меня ехать с дядюшкой, хотя и любит меня…
Я был смущен и, откровенно говоря, пристыжен.
– Гретхен, – продолжал я, – посмотрим, будешь ли ты и завтра говорить то же самое.
– Завтра, милый Аксель, я скажу то же, что и сегодня.
Держась за руки, в глубоком молчании, мы продолжали свой путь. События дня привели меня в уныние.
«Впрочем, – думал я, – до июльских календ еще далеко, и до тех пор еще может случиться многое, что излечит дядюшку от его безумного желания предпринять путешествие в недра Земли».
Было уже совсем поздно, когда мы добрались до дома на Королевской улице. Я полагал, что в доме уже полная тишина, дядюшка, как обычно, в постели, а Марта занята уборкой в столовой.
Но я не принял во внимание нетерпеливый характер профессора. Он суетился, окруженный целой толпой носильщиков, которые сваливали в коридоре всевозможные свертки и тюки; по всему дому раздавались его хозяйские окрики, старая служанка совсем потеряла голову.
– Ну, иди же, Аксель. Да поскорее, несчастный! – вскричал дядя, уже издали завидев меня. – Ведь твой чемодан еще не уложен, бумаги мои еще не приведены в порядок, ключ от моего саквояжа никак не найти и недостает моих гамаш…
От изумления я замер на месте. Голос отказывался мне служить. Я с трудом мог произнести несколько слов:
– Итак, мы уезжаем?
– Да, несчастный, а ты разгуливаешь, вместо того чтобы помогать!
– Мы уезжаем? – переспросил я слабым голосом.
– Да, послезавтра, на рассвете.
Я не мог больше слушать и убежал в свою комнатку.
Сомнений не было. Дядюшка вместо послеобеденного отдыха бегал по городу, закупая все необходимое для путешествия. Аллея перед домом была завалена веревочными лестницами, факелами, дорожными фляжками, кирками, мотыгами, палками с железными наконечниками, заступами, – чтобы тащить все это, требовалось по меньшей мере человек десять.
Я провел ужасную ночь. На следующий день, рано утром, меня кто-то назвал по имени. Я решил не открывать двери. Но как было устоять против столь нежного голоса, звавшего меня: «Милый Аксель!»
Я вышел из комнаты, думая, что мой расстроенный вид, бледное лицо, покрасневшие глаза произведут впечатление на Гретхен и она изменит свое отношение к поездке.
– Ну, дорогой Аксель, – сказала она, – я вижу, ты чувствуешь себя лучше и за ночь успокоился.
– Успокоился! – вскричал я.
Я подбежал к зеркалу. Ну да! У меня был вовсе не такой скверный вид, как я предполагал. Трудно даже поверить!
– Аксель, – сказала мне Гретхен, – я долго беседовала с опекуном. Это смелый ученый, отважный человек, и ты не должен забывать, что его кровь течет в твоих жилах. Он рассказал мне о своих планах, о своих чаяниях, как и почему он надеется достигнуть своей цели. Я не сомневаюсь, что он ее достигнет. Ах, милый Аксель, как это прекрасно – так отдаваться науке! Какая слава ожидает профессора Лиденброка и его спутника! По возвращении ты станешь человеком, равным ему, получишь свободу говорить, действовать, словом – свободу…
Девушка, вся вспыхнув, не окончила фразы. Ее слова меня снова ободрили; однако я все еще не хотел верить в наш отъезд. Я увлек Гретхен в кабинет профессора.
– Дядюшка, – сказал я, – так, значит, решено, что мы уезжаем?
– Как! Ты еще сомневаешься в этом?
– Нет, – ответил я, чтобы не противоречить ему. – Я только хотел спросить, нужно ли с этим так спешить?
– Время не терпит! Время бежит так быстро!
– Но ведь теперь только двадцать шестое мая, и до конца июня…
– Гм, неужели ты думаешь, невежда, что до Исландии так легко доехать? Если бы ты не убежал от меня как сумасшедший, то я взял бы тебя с собою в Копенгагенское бюро, к «Лифендеру и компания». Там ты узнал бы, что пароход отходит из Копенгагена в Рейкьявик только раз в месяц, а именно двадцать второго числа.
– Ну?
– Что – ну? Если бы мы стали ждать до двадцать второго июня, то прибыли бы слишком поздно и не могли бы видеть, как тень Скартариса падает на кратер Снайфедльс. Поэтому мы должны как можно скорее ехать в Копенгаген, чтобы оттуда добраться до Исландии. Ступай и уложи свой чемодан!
На это ничего нельзя было возразить. Я вернулся в свою комнату. Гретхен последовала за мной и сама постаралась уложить в чемодан все необходимое для путешествия. Она казалась спокойной, как будто дело шло о прогулке в Любек или на Гельголанд; ее маленькие руки без лишней торопливости делали свое дело. Она беспечно болтала. Приводила мне самые разумные доводы в пользу нашего путешествия. Она оказывала на меня какое-то волшебное влияние, и я не мог на нее сердиться. Несколько раз я собирался вспылить, но она не обращала на это никакого внимания и с методическим спокойствием продолжала укладывать мои вещи.
Наконец, последний ремешок чемодана был затянут, и я сошел вниз.
В течение всего дня непрерывно приносили в дом разные инструменты, оружие, электрические аппараты. Марта совсем потеряла голову.
– Не сошел ли барин с ума? – спросила она, обращаясь ко мне.
Я утвердительно кивнул.
– И он берет вас с собой?
Утвердительный кивок.
– Куда же вы отправитесь? – спросила она.
Я указал пальцем в землю.
– В погреб? – воскликнула старая служанка.
– Нет, – сказал я наконец, – еще глубже!
Наступил вечер. Я совершенно не заметил, как прошло время.
– Завтра утром, – сказал дядя, – ровно в шесть часов мы уезжаем.
В десять часов я свалился как мертвый в постель.
Ночью меня преследовали кошмары.
Мне снились зияющие бездны! Я сходил с ума. Я чувствовал, будто бы меня схватила сильная рука профессора, подняла и сбросила в пропасть! Я летел в бездну со все увеличивающимся ускорением падающего тела. Моя жизнь обратилась в нескончаемое падение вниз.
В пять часов я проснулся, разбитый от усталости и возбуждения. Я спустился в столовую. Дядя сидел за столом и преспокойно завтракал. Я взглянул на него почти с ужасом. Но Гретхен тоже была здесь. Я не мог говорить. Я не мог есть.
В половине шестого на улице послышался стук колес. Прибыла вместительная карета, в которой мы должны были отправиться на Альтонский вокзал. Карета скоро была доверху нагружена дядюшкиными тюками.
– А твой чемодан? – сказал он, обращаясь ко мне.
– Он готов, – ответил я, едва держась на ногах.
– Так снеси же его поскорее вниз, иначе мы из-за тебя прозеваем поезд!
Мне показалось невозможным бороться против своей судьбы. Я поднялся в свою комнату и, сбросив чемодан с лестницы, сам спустился вслед за ним.
В эту минуту дядя передавал Гретхен «бразды правления» домом. Моя очаровательная фирландка хранила свойственное ей спокойствие. Она обняла опекуна, но не могла удержать слез, когда коснулась своими нежными губами моей щеки.
– Гретхен! – воскликнул я.
– Поезжай, милый Аксель, поезжай, – сказала она мне, – ты покидаешь невесту, но, возвратившись, встретишь жену.
Я заключил Гретхен в объятия, потом сел в карету. С порога дома Марта и молодая девушка посылали нам последнее прости. Затем лошади, подгоняемые кучером, понеслись галопом по Альтонской дороге.
Глава 8
Из Альтоны, пригорода Гамбурга, железная дорога идет в Киль, к берегам бельтских проливов. Минут через двадцать мы были уже в Гольштинии.
В половине седьмого карета остановилась перед вокзалом; многочисленные дядюшкины тюки, его объемистые дорожные принадлежности были выгружены, перенесены, взвешены, снабжены ярлычками, помещены в багажном вагоне, и в семь часов мы сидели друг против друга в купе вагона. Раздался свисток, локомотив тронулся. Мы поехали.
Покорился ли я неизбежному? Нет еще! Но все же свежий утренний воздух, дорожные впечатления, следующие одно за другим, несколько рассеяли мои тревоги.
Что касается профессора, мысль его, очевидно, опережала поезд, шедший слишком медленно для его нетерпеливого нрава. Мы были в купе одни, но не обменялись ни единым словом. Дядюшка внимательно осматривал свои карманы и дорожный мешок. Я отлично видел, что ничто из вещей, необходимых для выполнения его планов, не было забыто.
Между прочим, он вез тщательно сложенный лист бумаги с гербом датского консульства и подписью г-на Христиенсена, датского консула в Гамбурге, который был другом профессора. Имея столь солидные бумаги, нам нетрудно было получить в Копенгагене рекомендации к губернатору Исландии.
Я заметил также и знаменитый пергамент, бережно запрятанный в самое секретное отделение бумажника. Я проклял его от всего сердца и стал изучать местность, по которой мы ехали. Передо мной расстилались бесконечные, унылые, ничем не примечательные равнины, илистые, но довольно плодородные: местность, весьма удобная для железнодорожного строительства, так как ровная поверхность облегчает проведение железнодорожных путей.
Но унылый ландшафт не успел мне наскучить, потому что не прошло и трех часов с момента отъезда, как поезд прибыл в Киль. Вокзал находился в двух шагах от моря.
Наш багаж был сдан до Копенгагена, нам не понадобилось возиться с ним; однако профессор с тревогой следил, как его вещи переносили на пароход и сбрасывали в трюм.
Второпях дядюшка так хорошо рассчитал часы прибытия поезда и отплытия парохода, что нам пришлось потерять целый день. Пароход «Эллеонора» отходил ночью. Девять часов ожидания отразились на расположении духа профессора. Взбешенный путешественник посылал к черту администрацию пароходной компании и железной дороги вместе с правительствами, допускающими подобные безобразия. Мне пришлось поддержать дядюшку, когда он потребовал от капитана «Эллеоноры» объяснений по поводу неожиданной задержки. Дядюшка настаивал, чтобы немедленно развели пары, но капитан, разумеется, отказался нарушить расписание.
Вынужденные проторчать в Киле целый день, мы поневоле пошли бродить по покрытым зеленью берегам бухты, в глубине которой раскинулся городок; мы гуляли в окрестных рощах, придававших городу вид гнезда среди густых ветвей, любовались виллами с собственными купальнями. Так в прогулках и ссорах прошло время до десяти часов вечера.
Клубы дыма из труб «Эллеоноры» поднимались в воздухе; палуба дрожала от толчков паровой машины; нам предоставили на пароходе две койки, помещавшиеся одна над другой в единственной каюте.
Пятнадцать минут одиннадцатого мы снялись с якоря, и пароход быстро пошел по темным водам Большого Бельта.
Ночь стояла темная, дул свежий морской ветер, море было бурное; редкие огоньки на берегу прорезывали тьму; позднее, я не знаю, где именно, над морской зыбью ярко блеснул маяк; вот все, что осталось в моей памяти от путешествия по морю.
В семь часов утра мы высадились в Корсёре, маленьком городке, расположенном на западном берегу Зеландии. Здесь мы пересели с парохода в вагон новой железной дороги, и наш путь пошел по местности, столь же плоской, как и равнины Гольштинии.
Через три часа мы должны были прибыть в столицу Дании. Дядя не сомкнул глаз всю ночь. Мне казалось, что от нетерпения он готов был подталкивать вагон ногами.
Наконец он заметил, что за окном мелькнуло море.
– Зунд! – воскликнул он.
Налево от нас виднелось огромное здание, похожее на госпиталь.
– Больница для умалишенных, – сказал один из наших спутников.
«Отлично, – подумал я, – вот здесь нам и следовало кончить наши дни! И как ни велика больница, она все же слишком мала, чтобы вместить всю степень безумия профессора Лиденброка!»
Наконец, в десять часов утра мы сошли в Копенгагене; багаж был доставлен вместе с нами в отель «Феникс» в Бред-Хале. Переезд занял полчаса, так как вокзал находился за городом. Затем дядюшка, приведя в порядок свой туалет, вышел вместе со мной на улицу. Швейцар отеля говорил по-немецки и по-английски, но профессор, знавший много языков, обратился к нему на чистом датском языке, и швейцар на том же языке объяснил ему, где находится музей древностей Севера.
Хранителем в этом замечательном учреждении, где было собрано множество удивительных вещей, по которым можно было бы восстановить историю страны с ее древними каменными орудиями, с ее кубками и предметами украшения, был известный ученый профессор Томсон, друг гамбургского кон- сула.
Дядюшка имел к нему солидное рекомендательное письмо. Вообще ученые довольно плохо принимают друг друга, но в данном случае этого не было. Профессор Томсон, обаятельный человек, оказал радушный прием профессору Лиденброку и даже его племяннику. Едва ли нужно говорить, что дядюшка не открыл свою тайну милейшему хранителю музея. Официально целью нашего путешествия было посещение Исландии в качестве простых туристов.
Господин Томсон всецело предоставил себя в наше распоряжение, и мы с ним обошли все набережные в поисках отходящего судна.
Я надеялся, что наши попытки найти морской транспорт будут обречены на неудачу, но я ошибся. Небольшой датский парусный корвет «Валькирия» должен был отойти второго июня в Рейкьявик. Капитан, г-н Бьярне, находился на борту судна. Его будущий пассажир от радости крепко пожал ему руку. Бравый капитан был несколько изумлен подобной сердечностью. Для капитана плавание в Исландию было делом обыденным, а дядюшка готов был отдать за это чуть ли не полжизни. Достойный капитан, воспользовавшись дядюшкиным восторгом, содрал с нас за переезд двойную плату. Но нас это мало трогало.
Господин Бьярне, положив в карман внушительную сумму долларов, сказал:
– Будьте на борту во вторник, в семь часов утра.
Мы поблагодарили г-на Томсона за его хлопоты и вернулись в отель «Феникс».
– Все идет хорошо! Все идет очень хорошо! – повторял дядюшка. – Какая счастливая случайность, что мы попали на судно, готовое к отплытию! Теперь позавтракаем, а затем осмотрим город.
Мы отправились на Новую Королевскую площадь – площадь неправильной формы, где был выставлен караул возле двух безобидных пушек, никого не пугавших. Рядом, в доме № 5, находилась французская ресторация, которую держал повар по имени Винцент. За умеренную плату, по четыре марки с персоны, мы там сытно позавтракали.
После этого я, радуясь, как ребенок, пошел осматривать город; дядюшка безропотно следовал за мной; но он ничего не видел: ни королевского дворца, правда, ничем не знаменательного, ни красивого моста XVII столетия, перекинутого через канал перед самым музеем, ни огромного, с ужасающей живописью, надгробного памятника Торвальдсену, внутри которого хранятся произведения самого скульптора, ни очаровательного замка Розенберг, ни довольно красивого парка при нем, ни удивительного здания биржи в стиле ренессанс, ни его башни, представляющей собою чудовищное сплетение хвостов четырех бронзовых драконов, ни мельниц на крепостных укреплениях, широкие крылья которых вздуваются, подобно парусам корабля при морском ветре.
Какие превосходные прогулки могли бы совершать мы, с моей прелестной Гретхен, вдоль гавани, где двухпалубные корабли и фрегаты мирно дремлют; по зеленеющим берегам пролива, в тенистых кустарниках, скрывающих цитадель, пушки которой вытягивают свои длинные черные жерла среди ветвей бузины и ивы…
Но, увы, моя бедная Гретхен была далеко, и мог ли я надеяться увидеть ее вновь?
Однако дядюшка совсем не замечал прелести этих мест; все же он был поражен архитектурой известной колокольни на острове Амагер, образующем юго-восточную часть Копенгагена.
Но дядя приказал идти в другую сторону; мы сели на маленький пароходик, обслуживающий каналы, и через несколько минут причалили к набережной Адмиралтейства.
Пройдя по узким улицам, где каторжники, одетые в штаны, наполовину желтые, наполовину серые, работали под палками надзирателей, мы вышли к храму Спасителя. Этот храм не представляет собой ничего замечательного. Но внимание профессора привлекла его довольно высокая колокольня, вокруг шпица которой, обвиваясь спиралью, возносилась под самые небеса наружная лестница.
– Поднимемся, – сказал дядя.
– А головокружение? – возразил я.
– Тем более, нужно привыкать.
– Однако…
– Идем, говорю я тебе, нечего терять времени.
Пришлось повиноваться. Сторож, живший напротив церкви, дал нам ключ, и мы стали подниматься.
Дядя шел впереди бодрым шагом. Я следовал за ним не без боязни, так как был подвержен головокружению. Мне недоставало ни его ясной головы, ни крепости его нервов.
Пока мы находились во внутренних проходах, все шло хорошо, но приблизительно на высоте ста пятидесяти ступеней воздух ударил мне в лицо: мы добрались до площадки колокольни; отсюда лестница шла уже под открытым небом, и единственной опорой были ее легкие перила, а меж тем она становилась чем выше, тем более узкой и, казалось, вела в бесконечность.
– Я не могу идти! – вскричал я. – Не могу!
– Неужели ты такой трус? Шагай смелей! – ответил безжалостный профессор.
Пришлось поневоле следовать за ним, цепляясь за фалды его сюртука. На чистом воздухе у меня стала кружиться голова; я чувствовал, как колеблется при сильных порывах ветра колокольня; ноги отказывались мне служить; скоро я стал ползти на коленях, потом на животе; я закрыл глаза, мне сделалось дурно.
Наконец, при помощи дяди, который схватил меня за шиворот, я добрался до самой вышки.
– Теперь взгляни вниз, – сказал дядя, – и вглядись хорошенько. Ты должен приучиться смотреть в бездонные глубины!
Я открыл глаза. Дома сквозь туманную пелену казались мне сдавленными, как бы расплющенными. Над моей головой неслись облака, но благодаря оптическому обману казалось, что облака не движутся, меж тем как колокольня, ее купол и мы сами словно уносимся вдаль с бешеной быстротой. По одну сторону, вдалеке, виднелись зеленеющие поля, по другую – сверкающее в лучах солнца море. У мыса Эльсинор простирался Зунд, на горизонте белели паруса, а на востоке едва вырисовывались в тумане берега Швеции. Все это кружилось у меня в глазах.
Несмотря на это, пришлось встать, выпрямиться и смотреть. Мой первый урок по головокружению длился целый час. Когда я, наконец, спустился вниз и коснулся ногами твердой мостовой, я был совершенно разбит.
– Завтра мы повторим урок, – сказал мой профессор.
И действительно, пять дней продолжалось это упражнение в головокружениях, и волей-неволей я делал заметные успехи в искусстве «смотреть сверху вниз».
Глава 9
Настал день отъезда. Накануне услужливый г-н Томсон передал нам красноречивые рекомендательные письма к наместнику Исландии, барону Трампе, к помощнику епископа, г-ну Пиктурсону, и к бургомистру Рейкьявика, г-ну Финзену. Дядя в свою очередь поблагодарил его горячим рукопожатием.
Второго числа, в шесть часов утра, наш драгоценный багаж был уже на борту «Валькирии». Капитан провел нас в довольно тесную каюту, нечто вроде рубки.
– Благоприятствует ли нам попутный ветер? – спросил дядя.
– Ветер отличный, – ответил капитан Бьярне, – юго-восточный. Мы выйдем из Зунда в открытое море на всех парусах.
Спустя короткое время наша трехмачтовая шхуна отвалила от берега и на всех парусах вошла в пролив. Через час столица Дании уже рисовалась вдали, как бы утопающей в волнах, и «Валькирия» шла вдоль берегов Эльсинора. Я был в столь приподнятом настроении, что ожидал увидеть тень Гамлета на террасе древнего замка.
«Благородный безумец! – сказал я себе. – Ты, несомненно, нас одобряешь! Быть может, ты будешь сопутствовать нам в нашем путешествии в недра земного шара в поисках ответа на вопрос, поставленный тобою: «Быть или не быть?»
Но пустынны древние стены… Замок, впрочем, гораздо моложе доблестного датского принца. В наше время это великолепное здание служит жилищем для смотрителя при входе в Зунд, где ежегодно проходят пятнадцать тысяч судов всех национальностей.
Скоро замок Кронборг исчез в тумане, как и Хельсингборгская башня на шведском берегу, и шхуна немного накренилась под дуновением ветра с Каттегата.
«Валькирия» хорошо ходила под парусами, но на парусное судно никогда нельзя очень полагаться. Наше судно везло в Рейкьявик уголь, предметы домашней утвари, глиняную посуду, шерстяную одежду и груз зерна; весь экипаж составляли пять человек, все без исключения датчане.
– Сколько времени продлится переезд? – спросил дядюшка капитана.
– Около десяти дней, – ответил последний, – если только нам не помешает противный ветер с северо-запада у Фарерских островов.
– Но, надеюсь, вы не намного в этом случае запоздаете?
– Нет, господин Лиденброк, будьте спокойны, мы прибудем вовремя.
К вечеру шхуна обогнула мыс Скаген у северной оконечности Дании, затем ночью прошла по проливу Скагеррак, миновала близ мыса Линнеснес южную оконечность Норвегии и вышла в Северное море.
Два дня спустя мы увидели берега Шотландии у Питерхеда, и «Валькирия» пошла между Оркнейскими и Шетландскими островами к Фарерским островам.
Вскоре наша шхуна скользила уже по волнам Атлантического океана; ей пришлось лавировать против северного ветра, и с трудом достигла она Фарерских островов. 8-го числа капитан узнал Мюггенес, самый западный из этих островов, и с этого времени мы пошли прямо на мыс Портланд, находящийся на южном берегу Исландии.
Во время плавания не произошло ничего замечательного. Я переносил довольно легко морскую болезнь; дядя же, к своему крайнему сожалению и еще к большему стыду, все время был нездоров.
Он поэтому не мог расспросить капитана Бьярне ни о вулкане Снайфедльс, ни о способах сообщения и перевозки грузов. Ему пришлось, таким образом, отложить эти расспросы до своего приезда на место, а пока он проводил все свое время, лежа в каюте, перегородки которой трещали под ударами волн. Право, он отчасти заслуживал свою участь.
Одиннадцатого вдали показался мыс Портланд. Ясная погода дала нам возможность различить Мирдальс-Ёкуль. Мыс представляет собою голый и гладкий утес, одиноко возвышающийся на берегу. «Валькирия» держалась на некотором расстоянии от берегов. Мы плыли, огибая мыс, в западном направлении среди стада акул и китов. Вскоре показалась скала с пробитой в ней брешью, через которую с бешеным ревом врывались на сушу вспененные морские волны. Вестманнаэйярские островки вздымались на поверхности океана, точно скалы, рассыпанные рукой сеятеля. Дальше шхуна пошла открытым морем, чтобы обогнуть на надлежащем расстоянии мыс Рейкьянес, образующий западную оконечность Исландии.
Шторм на море помешал дядюшке взойти на палубу полюбоваться причудливо изрезанными берегами и подставить лицо под резкий юго-западный ветер.
Через сорок восемь часов, когда буря, заставившая убрать паруса на шхуне, утихла, на востоке показался буй близ оконечности Скагафлёс; в этом месте океан усеян подводными скалами, весьма опасными для мореходов. На судно прибыл исландский лоцман, и через три часа «Валькирия» бросила якорь у Рейкьявика в заливе Факсафлоуи.
Профессор вышел, наконец, из своей каюты, несколько побледневший, несколько разбитый, но все же неизменно восторженный и явно удовлетворенный. Население города, заинтересованное прибытием судна с грузом, устремилось на набережную.
Дядюшка спешил покинуть свою плавучую тюрьму, вернее сказать, больницу. Но прежде чем сойти с палубы, он повел меня на нос судна и указал на северной стороне бухты высокую гору с расщепленной надвое вершиной, покрытой вечными снегами.
– Снайфедльс! – воскликнул он. – Снайфедльс!
Потом, сделав мне знак молчания, он сошел в лодку; я последовал за ним, и вскоре мы вступили на землю Исландии.
Тотчас же навстречу нам вышел осанистый мужчина в генеральском мундире. Однако это был всего лишь чиновник, губернатор острова, барон Трампе собственной персоной. Профессор передал ему письма из Копенгагена, после чего между ними завязался беглый разговор на датском языке, в котором я, по весьма понятным причинам, не принимал никакого участия. Результатом этого разговора было то, что барон Трампе предоставил себя в полное распоряжение профессора Лиденброка.
Радушный прием был оказан дяде и бургомистром Финзеном, который, подобно губернатору, хотя и был облачен в военный мундир, отличался столь же миролюбивым характером.
Помощник епископа Пиктурсон находился в это время в поездке по приходу Северного округа, и нам пришлось отказаться на время от знакомства с ним. Но преподаватель естественных наук в рейкьявикской школе г-н Фридриксон, чрезвычайно любезный человек, оказал нам весьма драгоценное содействие. Этот скромный ученый говорил только по-исландски и по-латыни; он предложил мне на языке Горация свои услуги, и мы легко с ним столковались. Действительно, он оказался единственным человеком, с которым я мог беседовать во время моего пребывания в Исландии.
Из трех комнат, составлявших квартиру этого превосходного человека, в наше распоряжение были предоставлены две комнаты, в которых мы и расположились со всем нашим багажом, количество коего несколько удивило жителей Рейкьявика.
– Ну-с, Аксель, – сказал дядюшка, – дела идут хорошо, главная трудность уже преодолена.
– Как главная трудность? – воскликнул я.
– Разумеется, нам остается только спуститься!
– Если таково ваше отношение к делу, вы правы; но мне кажется, что, сумев спуститься, нам надо суметь и подняться?
– О, это меня нисколько не беспокоит! Ну, ладно! Нечего терять время. Я отправлюсь сейчас в библиотеку. Может быть, там найдется какой-нибудь манускрипт Сакнуссема, которым я с большим удовольствием воспользовался бы для справок.
– А я тем временем осмотрю город. Разве вы не присоединитесь ко мне?
– Город очень мало интересует меня. Достопримечательности Исландии не на поверхности Земли, а в ее недрах.
Я вышел из дому и пошел наугад.
Заблудиться на двух улицах Рейкьявика было бы трудно. Поэтому мне не пришлось спрашивать пути, что при разговоре жестами ведет вечно к недоразумениям.
Город раскинулся вдоль низкой и довольно болотистой лощины. С одной стороны он огражден хаотическими наслоениями застывшей лавы, отлогими уступами, постепенно нисходящими к морю. С другой – простирается обширный, ограниченный на севере большим глетчером Снайфедльс, залив Факсафлоуи, в котором в ту пору «Валькирия» была единственным судном, стоявшим на якоре. Обычно на рейде стоят во множестве английские и французские рыбачьи суда, но в то время они находились на восточном берегу острова.
Одна из двух улиц Рейкьявика – более длинная – идет параллельно берегу; тут живут мелкие торговцы и купцы в скромных деревянных домиках, возведенных из выкрашенных, горизонтально положенных балок; другая улица расположена западнее и упирается в небольшое озеро; тут стоят дома епископа и лиц, непричастных к торговле.
Я быстрыми шагами прошел по этим унылым, мрачным улицам; лишь изредка мой взгляд привлекал газон с чахлой травой, похожий на старый потертый ковер или на некое подобие огорода, где произрастают тощий латук, картофель и капуста в таком жалком количестве, что этих овощей хватило бы разве для стола лилипутов; несколько хилых левкоев тянулись к солнцу.
Приблизительно в самом центре второй, не торговой улицы я набрел на обширное кладбище, обнесенное земляным валом. Пройдя несколько шагов, я увидел губернаторский дом, походивший на лачугу в сравнении с Гамбургской ратушей, но казавшийся дворцом после домиков исландских горожан.
Между озером и городом возвышалась церковь в духе лютеранских кирок, построенная из камня, выброшенного во время извержений из жерла вулканов; при сильном западном ветре церковная крыша из красной черепицы грозила рассыпаться на части, к великому огорчению прихожан.
На ближнем холме я увидел Национальную школу, где, как я узнал позже от нашего хозяина, обучали еврейскому, английскому, французскому и датскому языкам; из всех этих четырех языков я ни на одном, к стыду своему, не знал ни слова. Я был бы самым последним из сорока учеников этого небольшого колледжа и недостоин переночевать вместе с ними в их каморках с двумя отделениями, где более слабым грозила опасность задохнуться в первую же ночь.
В течение трех часов я осмотрел не только город, но и его окрестности. В общем, крайне печальное зрелище. Ни деревца, ни растительности. Повсюду голые ребра вулканических скал. Хижины исландцев сооружены из земли и торфа, с наклоненными вовнутрь стенами. Они похожи на крыши, лежащие прямо на земле. Причем крыши эти представляют собой сравнительно тучные луга. Благодаря теплу, идущему из очагов, трава на кровле растет довольно хорошо, и ее добросовестно скашивают во время сенокоса, иначе домашние животные паслись бы прямо на этих доморощенных пастбищах.
Во время прогулки мне почти никто не встретился на пути. Возвращаясь домой по торговой улице, я увидел, что большая часть жителей занята вялением, солением и погрузкой трески, составляющей главный предмет вывоза. Мужчины были крепкого сложения, но несколько неуклюжи; исландцы принадлежат к скандинавской ветви германской расы, они белокурые, с задумчивыми глазами; они чувствуют себя здесь как бы вне человеческого общества, добровольными изгнанниками в этой стране льдов, созданной для эскимосов, обреченных самой природой жить на границе полярного круга. Я тщетно старался подметить улыбку на их лицах; они улыбались порою в силу непроизвольного сокращения лицевых мускулов, но они никогда по-настоящему не смеялись.
Одежда их состояла из куртки, сшитой из грубой черной шерсти, известной в Скандинавских странах под названием «vadmel», из широкополой шляпы, штанов с красной оборкой и куска кожи, сложенного наподобие обуви.
Женщины с грустными и довольно приятными, но невыразительными лицами носили корсаж и юбку из темной «vadmel»; девушки заплетали волосы в косу и надевали на голову коричневый вязаный чепчик; замужние повязывали голову цветным платком, сверх которого надевался род кокошника из белого полотна.
Возвратившись после интересной прогулки в дом г-на Фридриксона, я застал моего дядюшку в обществе нашего хозяина.
Глава 10
Обед был готов; профессор Лиденброк поглощал его с большим аппетитом, ибо желудок его после вынужденного поста на судне превратился в бездонную пропасть. Обед был скорее датский, чем исландский, и сам по себе не представлял ничего замечательного, но наш хозяин, более исландец, чем датчанин, напомнил мне о древнем гостеприимстве: гость был первым лицом в доме.
Разговор велся на местном языке, к которому дядя примешивал немецкие слова, а г-н Фридриксон – латинские, чтобы и я мог их понять. Беседа касалась научных вопросов, как и подобает ученым; но профессор Лиденброк был крайне сдержан и почти ежеминутно приказывал мне взглядом хранить безусловное молчание о наших планах.
Прежде всего г-н Фридриксон осведомился у дяди о результате его поисков в библиотеке.
– Ваша библиотека, – заметил последний, – состоит лишь из разрозненных сочинений, полки почти пусты.
– Да! – возразил г-н Фридриксон. – Но у нас восемь тысяч томов, и в том числе много ценных и редких трудов на древнескандинавском языке, а также все новинки, которыми ежегодно снабжает нас Копенгаген.
– Где же эти восемь тысяч томов? На мой взгляд…
– О! Господин Лиденброк, они расходятся по всей стране. На нашем старом ледяном острове любят читать! Нет ни одного фермера, ни одного рыбака, который не умел бы читать и не читал бы. Мы думаем, что книги, вместо того чтобы плесневеть за железной решеткой, вдали от любознательных глаз, должны приносить пользу, быть постоянно на виду у читателя. Поэтому-то книги у нас переходят из рук в руки, читаются и перечитываются, и зачастую книга год или два не возвращается на свое место.
– Однако, – ответил дядя с некоторой досадой, – а как же иностранцы…
– Что вы хотите! У иностранцев на родине есть свои библиотеки, а ведь для нас главное, чтобы наши крестьяне развивались. Повторяю, склонность к учению лежит в крови исландца. Поэтому в тысяча восемьсот шестнадцатом году мы основали Литературное общество, которое теперь процветает. Иностранные ученые почитают за честь принадлежать к нему; оно издает книги, предназначенные для воспитания и образования наших соотечественников, и приносит существенную пользу стране. Если вы, господин Лиденброк, пожелаете быть одним из наших членов-корреспондентов, вы этим доставите нам большое удовольствие.
Дядюшка, состоявший уже членом сотни научных обществ, благосклонно изъявил согласие, чем вполне удовлетворил г-на Фридриксона.
– А теперь, – продолжал последний, – будьте так любезны, назовите книги, которые вы надеялись найти в нашей библиотеке, и я смогу, может быть, доставить вам сведения о них.
Я взглянул на дядю. Он медлил ответом. Это непосредственно касалось его планов. Однако, после некоторого размышления, он решился говорить.
– Господин Фридриксон, – сказал он, – я желал бы знать, нет ли у вас среди древних книг также и сочинений Арне Сакнуссема?
– Арне Сакнуссема? – ответил рейкьявикский преподаватель. – Вы говорите об ученом шестнадцатого столетия, о великом естествоиспытателе, великом алхимике и путешественнике?
– Именно о нем!
– О гордости исландской науки и литературы?
– Совершенно справедливо.
– О всемирно известном человеке?
– Совершенно согласен с вами.
– Отвага которого равнялась его гению?
– Я вижу, что вы его хорошо знаете.
Дядюшка слушал с восторгом лестные отзывы о своем герое. Он не спускал глаз с г-на Фридриксона.
– Отлично! – сказал дядя. – А его сочинения?
– Сочинений у нас нет.
– Как? В Исландии их нет?
– Их нет ни в Исландии, ни где-либо в другом месте.
– Почему?
– Потому что Арне Сакнуссем был гоним как еретик, и его сочинения были сожжены в тысяча пятьсот семьдесят третьем году в Копенгагене рукой па- лача.
– Превосходно! – воскликнул дядя, к большому негодованию преподавателя естественных наук.