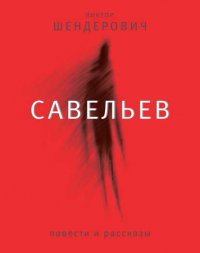Читать онлайн Изюм из булки. Том 1 бесплатно
- Все книги автора: Виктор Шендерович
«Рассказывают, что…»
(Апология жанра)
Записные книжки я вел с молодых лет. Не дневники, а так, от раза к разу: случаи, характеры, диалоги…
Иногда все это пышно называется «творческая лаборатория писателя», но никакого писательства в ту пору, разумеется, не было в помине (проза начинается с личного опыта). Просто нравилось марать бумагу.
Полжизни спустя эти записные книжки пригодились: издатель Игорь Захаров предложил мне, не дожидаясь маразма или кончины, приступить к жизнеописанию. Он сумел убедить меня, что прижизненный мемуар не является разновидностью завещания и не обязательно свидетельствует о желании автора проползти в пантеон и заранее пристроиться там среди гробниц почище…
Я прекрасно отдаю себе отчет в банальности затеи; но банальность почти синоним необходимости. Нет ничего банальнее хлеба, воды и воспоминаний. Всякий, кто не поленится пройтись вдоль этой линии прибоя, разглядит и подберет десятки обточенных историй, в которых окаменело время, характеры… Жизнь!
На этих историях осталась соль эпохи.
Веселые или печальные, они бесценны, если внятно и со вкусом изложены, и нет для меня ничего заманчивее анекдотов в пушкинском значении слова: его table-talk стоит пяти диссертаций. «Как-то раз…», «рассказывают, что…» – именно так и должен начинаться хороший текст!
Что же до подробностей автобиографии – все это, конечно, очень дорого сердцу, но только сердцу автора. Не стоит грузить чужих людей тестом своей жизни – в этой булке можно смело ковырять пальцем в поисках изюма. Сюжет, сюжет прежде всего! Сюжет – и характеры. Глядишь, станут яснее обычаи времени; тогда можно обойтись и без морали.
Но как разделить пережитое и услышанное? Стоит ли, во имя кошерности жанра, жертвовать роскошными свидетельствами современников? Зря я, что ли, полжизни ходил с расставленными ушами и все записывал?
Ну уж нет.
Вы слышали эту историю рассказаной по-другому? Ну что же: даже Евангелие существует в четырех вариантах… Бог с ней, с реальностью, – мы тут с вами не в судебном процессе, а в литературно-историческом, – здесь иные понятия об истине! Возьмите те же пушкинские анекдоты о Екатерине Великой: по отдельности, полагаю, страшное вранье, а все вместе – безусловно, правда…
Как минимум, правда авторского взгляда на эпоху.
Сюжеты и лица, собранные в этой книге, расскажут о временах, в которых мы жили, о людях, милых моему сердцу и милых не очень, – и стране, громко признаваться в любви к которой мешает память о шекспировской Корделии.
Предуведомление
Да, в этой книге встречается ненормативная лексика.
Радость ее своевременного употребления принадлежит не автору, который скромно и с огромным достоинством отходит в тень, – а героям этих историй и русскому языку в целом.
Языку, в котором два-три нехитрых корня лежат в основе доброй сотни глаголов, прилагательных, причастий и междометий, вмещающих всю гамму чувств, оценок и понятий, для выражения которых менее развитые народы вынуждены пользоваться разрозненными и плохо запоминающимися словами, – этому языку не мне указывать, и не мне заменять его великие буквы стыдливой азбукой Морзе!
А кому не нравится русский язык, тот пускай идет по любому из адресов, на этот случай в нем специально предусмотренных.
…………………………
Хорошо придуманной истории незачем походить на действительную жизнь;
жизнь изо всех сил старается походить на хорошо придуманную историю.
Исаак Бабель.«Мой первый гонорар»
Автобио-граффити (часть первая)
Мне кажется, что со временем (…) писатели, если только они будут, будут не сочинять, а только рассказывать то значительное или интересное, что им случилось наблюдать в жизни…
Лев Толстой – из письмаАлександру Гольденвейзеру
Коврик
На пятом десятке собственной жизни я обнаружил у родителей маленький (метр на полтора) коврик с восточным орнаментом – и вдруг ясно вспомнил: в детстве я играл на таком же, только очень большом ковре. Я спросил у мамы: это отрез от того ковра? А где он сам?
Мама засмеялась и сказала: так это он и есть.
О господи. Такой большой был ковер!
Историческая родина
Когда мой дед Семен Маркович раздражался и становился резким и грубым, бабушка Лидия Абрамовна, сделанная совсем из других материалов, говорила ему только одно слово: «Городищ-ще!».
Так называлось белорусское местечко неподалеку от Мозыря – родина деда.
Особому политесу взяться там было, действительно, неоткуда: мой прадед был биндюжником, ломовым извозчиком, и деда в детстве многократно пороли чересседельником; хорошо помня характер Семена Марковича, могу предположить, что перепадало по мягкому месту и моему отцу – так сказать, по наследству…
Мой старший брат и я – первые непоротые в нашей фамилии.
Городище я искал и не нашел, когда ездил по Белоруссии в поисках своей исторической родины. Двадцатый век безжалостно прошелся по этим краям. Местечек уцелело всего два; уцелели, впрочем, только дома. Евреев там нет в помине – кто в России, кто в Америке, кто на земле обетованной, кто просто в земле: в Белоруссии Гитлеру удалось решить еврейский вопрос практически полностью.
Для Городища не потребовалось и Гитлера: к двадцать девятому году на месте еврейского кладбища устроили артиллерийское стрельбище. Это было актуальнее.
Дед Семен к тому времени тоже успел немало. Центростремительная сила революции сорвала его в Москву, и к окончанию института он был убежденным троцкистом.
Троцкого попросили для начала проехать в Алма-Ату, деда – тоже для начала – в Архангельск…
Семеном Марковичем он в ту пору не был – был Шломо Мордуховичем. В Сёму его переделали однокурсники в химико-технологическом институте, – чтобы не ломать язык. О конспирации еврейства в двадцатые годы думать уже (еще) не приходилось.
Деформация имени-отчества спасла деду жизнь, когда его искали для того, чтобы стереть уже в порошок: искали-то Шломо, а не Семена, на что один из нашедших впоследствии (на допросе) прямо деду и посетовал… А спасение состояло в том, что искали деда в конце тридцатых, а нашли в конце сороковых.
Эта история стоит того, чтобы ее рассказать.
Письмо
В 1927 году московский студент Сёма-Шлёма написал письмо своей жене, будущей моей бабушке, в Вологду, куда направила ее партия.
Дед писал из самой гущи исторического процесса, рассказывал о московских фракционных боях и в числе прочего черкнул несколько слов о Сталине. Процитировав, в частности, из Ленина: мол, этот восточный повар любит острые блюда…
Дед предположил, что от Кобы будет еще много крови.
А бабушка Лидия Абрамовна была партийная безо всяких отклонений. Когда, уже в старости, они с дедом ругались, то, перед тем как окончательно перейти на идиш (чтобы внуки перестали понимать текст), – бабушка восклицала:
– Ай, Сёма, ты всегда был троцкистом!
Но в 1927 году бабушка сама пустила письмо мужа по рукам товарищей в вологодской партячейке – еще бы, столько свежих новостей из Москвы! Письмо куда-то пропало, и бабушка не придала этому значения. Времена были, по слову Ахматовой, относительно вегетарианские…
Письмо всплыло через двадцать один год, в 1948-м. Его предъявили деду на Лубянке и поинтересовались: ваше? Через пару дней Сёме-Шлёме, отцу троих детей, дали восемь лет лагерей – на осознание своей юношеской неправоты в оценке вождя.
Или – в подтверждение этой правоты?
Сидевший с дедом в одной камере бывший комендант Кремля Мальков, узнав о дедовых восьми годах, сказал ему:
– Молодой человек, это вообще не срок!
(Мальков только что отбыл «десятку» и тут же получил вторую.)
Это – половина истории, вполне типовая.
Вторая ее половина вполне уникальна.
Прошло еще тридцать лет. В свет вышел роман Василия Белова «Кануны», и в тексте романа мой отец обнаружил удивительное письмо.
Автором письма был очень неприятный персонаж – московский студент, троцкист, с явным местечковым акцентом. Фантазия писателя Белова воспроизвела коллизию с поразительной точностью: персонаж писал в двадцать седьмом году, из Москвы в Вологду, жене! Было в романном письме и про столичную жизнь, и про партийные склоки… Начиналось оно словами «Здравствуй, Эйдля!», а заканчивалось – «Поцелуй Надюшку».
Эйдля – было имя моей бабушки (аналогичным образом превращенное товарками по рабфаку в «Лидию»). А Надей звали старшую сестру отца, родившуюся как раз в 1927 году.
Ко времени публикации романа и дед, и бабушка были еще живы.
После их смерти – в начале восьмидесятых – отец написал Василию Белову. Не вдаваясь в моральные оценки, он сообщил писателю, что в романе «Кануны» использовано реальное письмо его отца к его матери; поинтересовался, каким образом оно попало в роман, и попросил, если это возможно, вернуть в наш дом семейную реликвию…
Что удивительно, Белов ответил. Он признал, что письмо в «Канунах» – реальное; сообщил, что подлинника у него нет, а использовал он копию, найденную в архиве Вологодского обкома партии…
В ответе была слышна некоторая растерянность. Белов не мог и предположить, что троцкист, такое писавший о Сталине в 1927 году и попавшийся органам (а архив обкома КПСС – это, как вы понимаете, эвфемизм), мог дожить до начала восьмидесятых…
Писатель Белов перекатывал чужое частное письмо, не потрудившись даже изменить имена. Он думал, что стягивает сапоги – с мертвого.
Дед Евсей
А вот другое семейное предание – сюжет, годящийся для «Графа Монте-Кристо», но уже с совсем печальным исходом.
Мой дед по материнской линии, Евсей Дозорцев, к началу войны был начальником отдела ПВО Наркомата угольной промышленности. И вот в сентябре 41-го некий сослуживец деда завел прилюдный разговор на русскую народную тему «евреи умеют устраиваться».
В тот же день Евсей положил свою «бронь» на стол и ушел на фронт. Когда я говорю «в тот же день», это следует понимать буквально: дед не простился с бабушкой, передав письмо через ее сестру.
Наверное, дед боялся, что бабушка его отговорит.
Старший лейтенант Дозорцев погиб в октябре 41-го под Ленинградом. Я сейчас уже гораздо старше его…
А в середине 60-х годов, когда мне не было десяти, в коммунальной квартире на Чистых прудах, где мы жили впятером в одной комнате, попросту расползся потолок, и через гнилые доски полилась дождевая вода. И тогда бабушка пошла по инстанциям: ей, вдове погибшего на Великой Отечественной, полагалось по такому случаю некоторое ускорение в очереди на квартиру. В одной средней советской инстанции, высидев очередь, она добилась приема у начальника, вершившего квартирные дела…
Это был тот самый сослуживец деда, знаток еврейского вопроса.
Он благополучно пересидел войну – и теперь от имени советской власти решал, давать ли моей бабушке квартиру.
Увы, дальнейший ход сюжета уводит нас от аналогии с романом Дюма: никто не убил этого человека и даже не опозорил его. Бабушка Ревекка Абрамовна на ватных ногах вернулась домой, всю ночь плакала и пила валерьяновые капли…
Мы жили впятером в комнате в коммуналке, потолок держался на деревянных подпорках, вода лилась в тазы…
Спустя год нам дали новую квартиру на «Речном вокзале».
Евреи умеют устраиваться!
Несчастье
Все это не имеет никакого значения ни для кого, кроме меня. Но, кажется, это мое первое личное воспоминание, и не записать его я не могу.
Мы идем по железнодорожной платформе «Лианозово» – я, мама и старший брат Сережа. Меня везут в мои первые летние ясли-сад. Еще немного – и отдадут чужим людям. У меня в ладошке – спичечный коробок со светлячком. Мы с ним будем жить совсем одни среди чужих людей.
Иногда я останавливаюсь и заглядываю в коробок.
Мы приходим в ясли, мама начинает разговаривать с воспитательницей, а я отхожу в сторонку, чтобы еще раз открыть коробок, сложить ладошки домиком, сделать темно и посмотреть на светлячка.
Светлячка в коробке нет. Я становлюсь на коленки и обползываю все вокруг. Светлячка нет. Мама разговаривает с воспитательницей. Я понимаю, что выронил его по дороге, может быть, еще на станции. Понимаю, что уже никогда его не увижу; что сейчас мама уйдет – и я останусь один на один с огромным чужим миром.
Я стараюсь не заплакать, ведь я мальчик, мне нельзя плакать, но слезы душат, и я прячусь в деревянный маленький домик на площадке – там меня и находит мама, чтобы попрощаться. Она улыбается, она не понимает, как все ужасно.
Я пытаюсь сдержаться, но не могу. Я реву в голос. Я абсолютно, непоправимо, безутешно несчастен…
Полотенца
Как почти всякого еврейского ребенка, меня мучили музыкой.
Хорошо помню эту каторгу – Черни, Гедике, Майкопар… Высиживать перед клавиатурой по два часа в день не позволял темперамент. Даже играя Баха, я немного пританцовывал. В один ужасный день, по просьбе педагога, ноги мне связали полотенцами…
Это – одно из самых ужасных воспоминаний моего детства. Я заплакал. Это был первый опыт несвободы. Я понимал, что полотенца – для моего же блага, но не хотел никакого блага такой ценой.
Предмет гордости
Однажды в нашу музыкальную, имени Игумнова, школу № 5 пришел композитор Кабалевский. Самого этого прихода я не помню – помню последствия в виде фотографии: в окружении девочек в белых парадных фартучках сидит этот Кабалевский, а рядом с Кабалевским сижу я.
Эта фотография некоторое время была предметом моей тайной гордости. Шутка ли! – автор всенародно любимой песни «То березка, то рябина…», добрый высокий седой дедушка…
Много лет спустя я узнал, что этот добрый дедушка травил Шостаковича, доносительствовал, чинил расправы в Союзе композиторов… Потом я услышал «Испанский танец» Сарасате и ясно различил в нем тему песни «То березка, то рябина…».
Нельзя оставлять детей без присмотра! Посадят с кем ни попадя, вздрагивай потом…
«Простая песня»
А еще на хоре в «музыкалке» мы пели песню, слова которой недавно всплыли вдруг в моей памяти, в комплекте с мелодией. Мелодия была скорбно-торжественная, а слова такие:
- Барабаны, молчите, и фанфары, молчите,
- Не мешайте заветным, задушевным словам.
- Наш великий вожатый, самый главный Учитель,
- Эта песня простая посвящается вам…
Кому именно посвящалась эта «простая песня» – черт его знает! Руководительница хора ничего нам не объясняла, – а может, и объясняла, но мне было в ту пору шесть лет, и я ничего не помню. Впрочем, при таком тексте, вариантов в стране Советов было, воистину, раз-два и обчелся…
Граждане, может, кто-нибудь в курсе: про которого из людоедов мне велели скорбеть шести лет от роду?
Занимательная топонимика
В Алма-Ате в советское время имелась школа эстетического воспитания имени Маншук Мамедовой.
Маншук Мамедова была пулеметчицей.
Несколько моих знакомых родились в роддомах имени бездетной Крупской.
Издевались над нами, что ли?
Как моя мама спасла советский футбол
К моим детским годам мама преподавала в станкоинструментальном техникуме при знаменитом Заводе имени Лихачева. Начав с установления дисциплины, она подала на отчисление список самых злостных прогульщиков.
Через день ее вызвал директор и задал странный вопрос.
– Инесса Евсеевна, вы замужем?
– Да.
– Муж – болельщик?
Удивившись повороту разговора, мама подтвердила и это.
– Не буду вам ничего объяснять, – сказал директор. – Просто передайте мужу, что вы хотели выгнать Виктора Шустикова. Муж вам всё объяснит.
Муж, разумеется, объяснил: Шустиков был капитаном «Торпедо» и сборной СССР по футболу! Но профессионального спорта в СССР как бы не было – и Шустиков как бы учился в техникуме…
Портить кровь капитану советской сборной перед чемпионатом мира – это попахивало политической близорукостью, но мама пошла на принцип и потребовала от торпедовца, чтобы тот хотя бы пришел в техникум.
Чисто посмотреть, где учится.
Шустиков явился не один, а с красавицей женой, которая и пообещала:
– После чемпионата мы всё сдадим!
Семейное предание утверждает, что слово свое семья Шустиковых сдержала.
Этим немыслимым блатом (знакомством жены с Виктором Шустиковым) мой отец, не утерпев, однажды воспользовался, и капитан сборной вручил маме два билета на товарищеский матч СССР – Бразилия.
Тот самый, 1965 года, в Лужниках!
Это был первый в моей жизни поход на стадион; знакомство с футболом я начал с Пеле! Может быть, поэтому российский чемпионат дается мне сегодня с таким трудом…
Болельщики
Мы снимали веранду в доме у пары старых латышей – думаю, на двоих им было полтора века. Их сыну, моему тезке, было под пятьдесят. В доме имелся телевизор, но смотреть чемпионат мира по футболу 1966 года мы с дедушкой ходили за тридевять земель, в пожарную часть. Нас пускали в служебную комнатку с крохотным телевизором.
Там, под каланчой, я и переживал за Игоря Численко и К°.
Я не понимал, почему нельзя попросить хозяев дома пустить нас на время матча к ним в комнату – у них же был телевизор! Вместе бы поболели за наших!
Но болеть вместе нам было – не судьба: старики латыши болели за ФРГ. Это мне было объявлено однажды без лишних пояснений, и поразило меня, восьмилетнего, довольно сильно.
Я спросил у дедушки, почему они болеют за немцев, но внятного ответа не получил. Я спросил у бабушки – бабушка почему-то разозлилась.
Это было ужасно и совершенно необъяснимо. Советские люди должны болеть за СССР! И мы с дедом ходили на каланчу.
Первое предательство
Как же его звали, канадского фигуриста-одиночника, который внес в мою неокрепшую советскую душу первый космополитический разлад?
Этот канадец мог отнять «золото» у нашего Волкова! В империи если не зла, то, как минимум, ущемленного самосознания, – это был повод почти для ненависти. Нет, кроме шуток! – фигуристов, брата и сестру Бук из ФРГ, я бы, в моем десятилетнем возрасте, укусил лично. Они воплощали для меня заговор империализма против всего нашего, советского…
Впрочем, Пахомова и Горшков окрашивали патриотическое чувство в эстетические тона. Их «Кумпарсита»… – ах, молодежи не объяснить, а мы не забудем никогда!
Но на противостоянии Волкова с канадцем мои чувства разошлись, как в море корабли. Техническую программу канадец проваливал, – не царское дело, но наступало время произвольной, и он взлетал надо льдом – легкий, точный, вдохновенный! И однажды я понял, что болею за канадца.
Я даже испугался немного, не зная, сказать ли родителям.
Что-то в этом было от государственной измены.
Много лет спустя, уже не такой пугливый, я обнаружил, что не могу болеть за сборную России по футболу – это оказалось страшным насилием над духом игры; ей-богу, для этого надо совсем не любить футбол!
С некоторым тайным ужасом я ждал, что вот сейчас наши забьют дурной гол и выйдут в четвертьфинал, а там – бразильцы! И, значит, из патриотических чувств я должен буду желать, чтобы защитник Ковтун покалечил не одного какого-нибудь рональдо, а пятерых-семерых, потому что других путей к победе природа нам не дала.
Но я ждал этого чемпионата четыре года! Я хочу посмотреть, как Бразилия будет играть с Англией, с Голландией, с Францией! Я люблю Россию, но не хочу Ковтуна, – что же мне делать? Дай ответ, патриот!
Не дает ответа.
А если дает, то лучше бы помолчал.
А началось все с того канадца…
Спасибо Гуглу с Яндексом: его звали – Толлер Крэнстон!
Саулкрасты
Свою футбольную карьеру я начал лет в пять: дедушка вставал между двух сосен, а я лупил мячом…
Незадолго до моего рождения дед вернулся из лагерей. Восемь лет разнообразных (земляных и лесоповальных в том числе) работ в Дубровлаге, вкупе с седьмым десятком жизни, не прибавили Семену Марковичу футбольного мастерства, и к пяти своим годам я деда обыгрывал.
После обеда дед выносил под те же сосны раскладушку и засыпал.
Дело было в Саулкрастах – так называется поселок под Ригой, где прошло мое детство. Саулкрасты – это десять летних лет с бабушкой Ривой, бабушкой Лидой и дедушкой Сёмой…
К тем годам (думаю, мне было лет двенадцать) относится мой первый – и последний из удавшихся! – опыт в области бизнеса.
В летнем кинотеатре в тот вечер шло что-то такое, чего пропустить душа моя не могла, а находился кинотеатр довольно далеко от дома, и я понимал, что никто из моих стареньких родичей в те края со мною не доберется. Поэтому я дождался, когда дед выйдет под сосны с раскладушкой, а потом подождал еще немного… Когда дед уже пребывал в надежных объятиях Морфея, я легонько тронул его за плечо и спросил:
– Деда, можно, я пойду в кино?
– Ухмх… – ответил дед, не открывая глаз.
Дедушка, стало быть, не возражал.
Не заходя домой, чтобы не попасться на глаза бабушке, я втихую почапал в сторону кинотеатра. Я был очень хитрый мальчик. Тридцати копеек на билет не было, но тяга к искусству преодолела все преграды: я подобрал под скамейками несколько бутылок, сдал их и пошел в кино.
Что было за кино, не помню.
Когда я вернулся домой…
А это было уже очень поздно вечером…
В общем, конечно, я удивляюсь, что дедушка меня не убил.
Улитка
Мы – папа и мама и я – шли по лесной дорожке к морю, а поперек, слева направо, старательно ползла улитка. Чтобы никто улитку не раздавил, мама аккуратно взяла ее за домик и отнесла подальше от дорожки. И мягко бросила на мшистую горку под сосной – туда, откуда, собственно, улитка и ползла…
Папа устоил страшный бенц.
– Ты что, не понимаешь, что ей надо было – на ту сторону дороги!
С маминой точки зрения, мох и сосны справа от дорожки ничем не отличались от тех, что были слева. Отец хватался за голову:
– Но она же ползла направо!
– Зачем?
– Какое твое дело, зачем?
…Прошло почти полвека, но всякий раз, когда я наблюдаю попытку спасти или осчастливить кого-либо против его собственной воли, я вспоминаю ту улитку.
Ей так хотелось направо!
Штандер
Играли так: мяч бросался вверх, и все бежали врассыпную. Водящий, поймав мяч, диким голосом кричал:
– Штандер!
И все должны были застыть там, где их заставал этот крик.
«Штандер» – «stand hier» – «стой здесь»… Игра-то, видать, была немецкая!
Выбрав ближайшую жертву, водящий имел право сделать в ее сторону три прыжка – и с этого места пытался попасть мячом. Причем жертва двигаться с места права не имела, а могла только извиваться. Я был небольших размеров и очень быстренький, что давало преимущество в тактике.
Канула в Лету эта игра вместе с диафильмами про кукурузу-царицу-полей и подстаканниками со спутником, летящим вокруг Земли. Кукурузы не жаль, подстаканников не жаль – штандера жаль. Хорошая была игра.
Ночь
Мы живем впятером в одной комнате, мое место – за шкафом. Шкаф сзади обклеен зажелтевшими обоями. Потом поверх них появилось расписание уроков. А до того – ничто не отвлекало от жизни. Пока засыпаешь, смотришь на обойный рисунок, и через какое-то время оттуда начинают выглядывать какие-то лица, пейзажи…
Из-за шкафа шуршит радиоприемник ВЭФ. У него зеленый изменчивый глаз; на передней панели, лесенкой – названия заманчивых городов… Перед радиоприемником, почти прижавшись к нему ухом, полночи сидит отец и слушает голос, перекрываемый то шуршанием, то гудением. В Америке убили президента Кеннеди! Ух ты! Вот было бы здорово не лежать, а посидеть ночью рядом с папой и послушать про убийство. Но если я встану, убьют уже меня…
Непонятно только, почему ночью так плохо слышно? – утром снова ни гула, ни хрипов.
– Вы слушаете «Пионерскую зорьку»!
Ненавистный, нечеловечески бодрый голос. Надо вставать.
– Музыкальное сопровождение – пианист Родионов!
Утренняя гимнастика. «Переходите к водными процедурам». Ужас-ужас…
Единственное опасение
Гены разбегаются иногда удивительным образом: мой родной старший брат Сережа был рыжий, веснушчатый, флегматичный мальчик. Очень собранный и трудолюбивый. Когда он был совсем маленький, а маме с папой надо было отлучиться, Сереже в манежик клали стопку газет. И пока он не дорывал все до мелкого клочка, ни звука из манежика не раздавалось: Сережа работал.
Он отлично закончил начальную школу и пошел в четвертый класс, а тут как раз подоспел к начальному образованию я – с гладиолусами в руке, в сером мышастом костюмчике…
Меня привели в ту же триста десятую школу, к той же учительнице, которая до того три года учила Сережу – старенькой Лидии Моисеевне Кацен. Мама решила подготовить учительницу к разнице братских темпераментов: знаете, сказала она, Витя совсем другой – непоседливый, шумный, несобранный…
Старенькая учительница ответила маме великой педагогической фразой:
– Инночка, – сказала она, – я ведь только дураков боюсь, а больше я никого не боюсь…
Мой рыжий Опекушин
Брат Сережа всегда был реалистом.
В шесть лет, придя из кружка лепки, он поделился с мамой эволюцией своих творческих планов:
– Сначала я хотел слепить памятник Пушкину. Потом – маршрутное такси. А потом подумал и решил слепить дождевого червя…
Училка
В школе я учился хорошо – думаю, что с перепугу: боялся огорчить родителей. Каждая тройка, даже по самым отвратительным предметам вроде химии, была драмой.
Одну такую драму помню очень хорошо.
Дело было на биологии. Биологичка Прасковья Федоровна вызвала меня к доске отвечать, чем однодольные растения отличаются от двудольных. Заморенный хорошист, я все ей как на духу рассказал: у этих корни стержневые, а у этих – мочковатые, у тех то, у этих – се…
Когда я закончил перечисление отличий, Прасковья Федоровна спросила:
– А еще?
Я сказал:
– Всё.
– Нет, не всё, – сказала Прасковья. – Подумай.
Я подумал и сказал:
– Всё.
– Ты забыл самое главное отличие! – торжественно сообщила биологичка. – У однодольных – одна доля, а у двудольных – две.
И поставила мне тройку.
Правильные ответы
Тупизна – вещь наследственная. Это обнаружилось много лет спустя, когда у меня подросла дочка. Жена повела ее в подготовительный класс, на проверку развития, и в порядке проверки развития у дочки спросили:
– Чем волк отличается от собаки?
Девочка рассмеялась простоте вопроса (как-никак, ей было целых шесть лет) – и, отсмеявшись, ответила:
– Собаку называют другом человека, а волка другом человека назвать никак нельзя.
И снова рассмеялась.
– Понятно, – сказала училка и нарисовала в графе оценки минус.
Моя бдительная жена это заметила и поинтересовалась: почему минус-то? Тестирующая ответила:
– Потому что ответ неправильный.
Жена поинтересовалась правильным ответом. Ответ был написан на карточке, лежавшей перед училкой: «Собака – домашнее животное, волк – дикое». Жена спросила:
– Вам не кажется, что она именно это и сказала?
Тестирующая снова сверилась с карточкой и сказала: не кажется.
Жена взяла за руку нашу шестилетнюю, отставшую в развитии, девочку и повела домой, подальше от этого центра одаренности.
Через год в соседнее пристанище для вундеркиндов привели своего сына наши приятели, и специально обученная тетя попросила шестилетнего Андрюшу рассказать ей, чем автобус отличается от троллейбуса.
Андрюша ничего скрывать от тети не стал и честно доложил ей, что автобус работает на двигателе внутреннего сгорания, а троллейбус – на силе тока.
Оказалось: ничего подобного! Просто троллейбус – с рогами, а автобус – без рогов.
Самостоятельное мышление
Шло методическое совещание. В зале сидели учителя средних школ, на трибуне стояла главная методистка страны, статная советская дама.
Она сказала:
– Учитель должен уметь самостоятельно – что?
И учителя хором сказали:
– Ду-умать!
Золотая осень
А одну выдающуюся училку, примерно в те же годы, я встретил в парке возле Института культуры. Училка конвоировала первоклашек. Стоял роскошный сентябрь, жизнь была прекрасна, первоклашки скакали по парку, шурша листвой. Одна девочка, распираемая счастьем, подскочила к педагогше и в восторге выкрикнула:
– Марь Степанна, это – золотая осень?
И Марь Степанна, налившись силой, отчеканила (дословно):
– Золотая осень – это время, когда листья на деревьях становятся красного и желтого цветов!
Парк немедленно померк, и небеса потускнели.
А лет за двадцать до той золотой осени…
Всегда готов
Я учился в четвертом классе, готовясь к приему в пионеры. Я хотел быть достойным этой чести и страшно боялся, что в решительный момент забуду текст клятвы.
Пожалуй, я боялся этого чересчур, потому что сегодня мне шестой десяток, склероз уже вовсю пробивает лысеющую башку, и я забываю любимые строки Пушкина и Пастернака, но разбуди меня среди ночи и спроси клятву юного пионера – оттарабаню без запинки!
Этот текст приговорен к пожизненному заключению в моем черепе.
За хорошее знание текста в тот торжественный день нас угостили чаем с пирожными, но перед этим дали посмотреть на трупик. Я знал о предстоящем испытании и готовил себя к походу в Мавзолей. Меня можно понять: первый мертвец в жизни, и сразу Ленин! Я готовился страдать и жалеть, но у меня не получилось.
Когда мы вошли в подземелье, где лежало на сохранении главное тело страны, меня одолевало любопытство; когда вышли – оставалось одно недоумение.
Я ожидал от трупика большего.
Страшные слова
Слово «жид» я услышал впервые в четвертом классе от одноклассника Саши Мальцева. В его голосе была слышна брезгливость. Я даже не понял, в чем дело, – понял только, что во мне есть какой-то природный изъян, мешающий хорошему отношению ко мне нормальных людей вроде Саши Мальцева.
И сразу понял, что это совершенно непоправимо.
А мне хотелось, чтобы меня любили все. Для четвертого класса – вполне простительное чувство. Полная несбыточность этого желания ранит меня до сих пор…
Вздрагивать и холодеть при слове «еврей» я перестал только на четвертом десятке. В детстве, в семейном застолье, при этом слове понижали голос. Впрочем, вслух его произносили очень редко: тема была не то чтобы запретной, а именно что – непристойной. Как упоминание о некоем семейном проклятье, вынесенном из черты оседлости. Только под самый конец советской власти выяснилось, что «еврей» – это не ругательство, а просто такая национальность…
Еще одно страшное слово я прочел в «Литературной газете».
Дело было летом, на Рижском взморье; я уже перешел в шестой класс и читал все, что попадалось под руку, но этого слова не понял и спросил, что это такое. Вместо ответа мои тетки, сестры отца, подняли страшный крик, выясняя, кто не убрал от ребенка газету с этой гадостью.
Слово было – «секс».
Так до сих пор никто мне ничего и не объяснил.
Препараты
Прообразы рабства разбросаны по детству.
Шестой, кажется, класс. Химичка назначает меня и еще какого-то несчастного ехать с собою после уроков куда-то на край света – покупать препараты для химии.
Я ненавижу химию, я в гробу видел эти колбочки и горелки, от присутствия химички меня мутит, но меня назначили, и я покорно волокусь на Песчаные улицы, в магазин «Школьный коллектор», и жду на жаре, когда ее отоварят какой-то дрянью, чтобы вместе с нею и моим товарищем по несчастью отвезти это в школу.
День погибает на моих глазах. Я чувствую, как уходит жизнь…
А ведь я мог ей сказать: «Я не поеду», а на вопрос «Почему?» ответить: «Я не хочу». Это же так просто! Но я не мог.
Я учился произносить слово «нет»; я учился этому десятилетия напролет и продолжаю обучение…
Фамилия
Когда, в конце пятидесятых годов, отец ненадолго соприкоснулся с советской печатью, его фельетоны публиковались под псевдонимом «Семенов». Появиться на полосе с природной фамилией можно было только в разделе «Из зала суда».
Однажды в «Литгазете» папин текст подписали загадочным словом «Шендеров». Это было лингвистическим обрезанием с обратным знаком: обрезанный как бы переставал быть евреем.
Гиены пера
Отец издавал газету «Кто виноват?» («орган квартиры № 127») – лист ватмана, обклеенный текстами и фотографиями, оформленный рисунками. Это была настоящая газета – с интервью, рубриками типа «Письма читателей» и «Ответ редакции».
Печатать листочки на пишмашинке «Эрика» и клеить их на лист ватмана – это было настоящее, беспримесное счастье!
Отец был фотолюбитель, пару раз даже получал какие-то премии. Публиковались в советской прессе и его фельетоны, но это было совсем короткое время, в ранней оттепели… К началу семидесятых отец переключился на издание газеты «Кто виноват?», орган квартиры № 127.
Фотолаборатория была в ванной. Красный фонарь, щипчики в кювете с проявителем, утром – листы фотографий на диване, постепенно скручивавшиеся, как листья деревьев…
Образовательный процесс
А еще у нас был магнитофон «Астра-4» – неуклюжий, с огромными бобинами. Впрочем, работал он исправно, потому что отец постоянно протирал детали ватой, намотанной на спичку и смоченной в спирте. Записывал он на эту «Астру» лучшие кусочки из воскресной программы «С добрым утром!»: песни и мелодии, Райкин, Карцев – Ильченко…
Но главное было – Высоцкий! Записи появлялись регулярно, чаще всего – плоховатого качества, с концертов. Разобрав текст, отец своим отличным почерком переписывал слова в отдельную тетрадку. В неясных местах ставил в скобках принятые в научной литературе вопросительные знаки.
Тетрадка шла по рукам во время дружеских застолий – на нового Высоцкого приходили специально!
- Вот дантист-надомник Рудик,
- У него приемник «Грюндиг»,
- Он его ночами крутит,
- Ловит, контра, ФРГ…
Борьба с советской властью в нашей семье носила не политический, а общеобразовательный характер. За неимением нормальных книг в магазинах, отец делал их самостоятельно: первые сборники Окуджавы и Ахмадулиной, которые я держал в руках, были отпечатаны отцом на приснопамятной «Эрике» – лично разрезаны, сброшюрованы и аккуратно переплетены.
Переплетал отец и лучшее из журналов: этой рукотворной библиотеки у нас в доме было больше двухсот томов – «Новый мир», «Иностранка», «Юность»… И Солженицын, и Булгаков, и бог знает что еще, гениальное вперемешку с канувшим в Лету…
Номерок каждого тома был вырезан из желтой бумаги и наклеен на торец переплета. Отец изменил бы своему характеру, если бы у этой самодельной библиотеки не было каталога с алфавитным указателем…
Деталь
Когда отец учился в седьмом классе, родители подарили ему записную книжку.
– Писать было нечего, а рука чесалась, – рассказывал отец. – И я написал: «Шестое апреля. Первый день без пальто».
Рассказывая это, отец усмехался и разводил руками: такая, мол, ерунда…
Вовсе не ерунда! Пойманный солнечный зайчик, деталька в ускользающем пейзаже. Вот: отец рассказал это, и теперь я знаю, что в 1944 году в Москве потеплело шестого апреля…
«Хэлло, Долли!»
Шел «Голубой огонек». Со смешным поролоновым тигром в руках (плоская гитара в тигровых лапах) два артиста-кукольника веселили передовиков труда, сидевших за столиками, и советский народ у телеэкранов.
Это было что-то вроде пародии на западную эстраду; «их нравы»…
Поролоновый тигр бил по нарисованным струнам и смешно разевал пасть; хриплый неотразимый голос в фонограмме тянул согласные и пробивал сердце насквозь.
Так я впервые услышал Луи Армстронга.
Ходжа Насреддин и другие
Однажды я сильно заболел, и мне из вечера в вечер читали вслух книгу в обложке морковного цвета: две повести о Ходже Насреддине. Это было такое блаженство, что не хотелось выздоравливать! В двенадцать-тринадцать лет я знал две соловьевские повести, наверное, близко к тексту.
Много позже я узнал, что автор «Насреддина» сидел в сталинском лагере вместе с моим дедом. И даже более того: был его начальником! Дед, «присевший» чуть раньше, бригадирствовал в небольшой «шарашке», когда к нему в барак определили только что посаженного Соловьева. Дед видел, что новенький, работавший в бане санитаром, что-то пишет по ночам и прячет под матрац…
Дед его не заложил, и это – наш главный фамильный вклад в русскую литературу! Писал Соловьев как раз «Очарованного принца», вторую часть книги про Насреддина…
Только «Правда»…
В Рейкьявике идет матч за шахматную корону: Спасский – Фишер! Иногда мы с отцом разбираем партии. Я люблю шахматы, на скучных уроках играю сам с собой на тетрадном листке в клеточку. Делается это так: в тетради шариковой ручкой рисуется доска, а карандашом, поверху, «ставятся» фигуры. Ход делается в два приема: фигура стирается ластиком и рисуется на новом месте.
Но я отвлекся, а в Рейкьявике: Спасский – Фишер!
Какое-то время этот матч – чуть ли не главное событие в советской прессе: через день публикуются партии с пространными комментариями… Потом, по мере катастрофы, комментарии помаленьку скукоживаются, потом исчезают тексты партий… А потом я читаю (петитом в уголке газеты): вчера в Рейкьявике состоялась такая-то партия матча на первенство мира. На 42-м ходу победили черные.
А кто играл черными? И кого они победили? И что там вообще происходит, в Рейкьявике?..
Так впервые я был озадачен советской прессой.
О, это умение сказать и не сказать! Уже много лет спустя, в андроповские времена, всей стране поставило мозги раком сообщение ТАСС о сбитом южнокорейском лайнере: «на подаваемые сигналы и предупреждения советских истребителей не реагировал и продолжал полет в сторону Японского моря».
Как это: продолжал полет в сторону Японского моря? По горизонтали или по вертикали? Стреляли по нему или нет? Военный был самолет или все-таки пассажирский? Понимай, как хочешь.
А еще лучше: не понимай. Напрягись вместе со всем советским народом – и не пойми!
В поисках эпитета
Август, Рижское взморье. Наша московская «колония» сибаритствует, расположившись у речки Петерупе. Друзья родителей – юристы, скрипачи, биологи, историки, математики, физики… Дядя Стасик, тетя Наташа, тетя Регина, дядя Леша…
А по «Голосу Америки» третий день передают о смерти Шостаковича: биография, рассказы современников, музыка… На советских волнах – тишина.
Трое суток в кремлевских кабинетах продолжается согласование прилагательного, положенного покойному в свете его заслуг и провинностей перед партией.
Великий он был, выдающийся – или всего лишь известный? По какому разряду хоронить? Вопрос серьезный, политический, и до его решения о смерти Шостаковича просто не сообщают!
Карта
Дома у одноклассницы Жанны Гриншпун висела карта Израиля…
Это было совершенно немыслимо! Как юный баран перед запрещенными воротами, я стоял в коридоре чужой квартиры, рассматривая нечто, чего как бы не было в природе…
Моря, горы, дороги, города… Я умел читать карту, и с фантазией все было в порядке. Внезапная мысль о том, что по этим дорогам в эти города можно приехать – не эмигрировать, боже упаси! я же советский пионер! просто приехать и посмотреть… – вдруг тайно оборвала сердцебиение, наполнив душу сладкой тоской.
Мне было тринадцать лет, и вместо бармицвы я готовился к вступлению в ВЛКСМ.
Сестры Берри
С национальным самосознанием у меня не сложилось с детства.
Девятиклассником я бывал в одном доме – там жила девушка, которая мне нравилась, и ее мама, которой нравился я. Они уезжали в Штаты, хотя считали себя сионистами.
А я был комсомолец с пионерским прошлым.
Мама девушки, желая меня вовлечь (а может, и увлечь), ставила на радиолу диск сестер Берри.
– Нравится?
– Очень, – честно отвечал я.
– Ты чувствуешь себя евреем? – спрашивала она.
– Чувствую, – честно отвечал я.
Мама девушки, которая мне нравилась, была мною довольна.
Вскоре они уехали.
Но до сих пор, когда я слышу песни сестер Берри, я чувствую себя евреем.
А когда слышу спиричуэлсы – чувствую себя негром.
«Король бельгийцев Бодуэн и королева Фабиола
…однажды к нам попали в плен во время матча по футболу!»
Этот жуткий случай датируется семидесятыми годами прошлого века.
Дело было так. Мой отец увлекся генеалогией. Специалист по сетевому планированию, он скрестил системное мышление с гуманитарными наклонностями и начал на досуге составлять таблицы родственных связей царствующих домов Европы – от Эшториала до Зимнего дворца и от царя Гороха до наших дней.
В просторечии таблица эта называлась «Кто кому Вася» (так или иначе, все царствующие особы оказались родственниками).
Компьютеров еще не было в помине – отец вручную исчерчивал ватманские листы и склеивал их в длиннющие простыни. Иногда внесение в таблицу очередного персонажа сопровождалось безответственной рифмовкой, вроде той, что вынесена в заголовок.
Рифма входит в голову гвоздем – и когда тридцать лет спустя, в Брюсселе, мне показали королевский дворец, имена его обитателей выскочили наружу в ту же секунду, и я страшно поразил окружающих своей эрудицией.
Король бельгийцев Бодуэн и королева Фабиола!
Про их страдания в плену у советских футболистов я из скромности умолчал.
Первомай-75
…мы с мамой встречали в Одессе.
Гуляли по Пушкинской улице – я, мама и мамина знакомая. Параллельным курсом двигалась первомайская демонстрация. Демонстрация притормозила на перекрестке; какой-то дядя, со словами «мальчик, подержи, я сейчас», всучил мне в руки огромный портрет – и ушел.
Ни «сейчас», ни потом дядя не появился. Когда мама, отвлекшаяся на разговор с подругой, спохватилась, я был уже не один. Чей был портрет, не помню – из глубин памяти лох-несским чудовищем выплывает словосочетание «товарищ Долгих», но я не поручусь.
Демонстрация тронулась с места, и мы пошли вместе с ней. Я – с товарищем Долгих на руках. Мама призывала трудящихся поиметь совесть, я что-то жалобно подвякивал снизу, но дурного изображения никто у меня не забирал, и все страшно веселились.
Наконец, решившись, мама вынула эту живопись из моих скрюченных ручек, аккуратно прислонила товарища Долгих к стеночке, и мы пошли от греха подальше…
Лоток
Это называлось – обмен учащейся молодежью. Я был учащейся молодежью, и меня обменяли.
Я шел по Праге – с разинутым ртом и отцовским фотоаппаратом ФЭД[1] на шее. Я щелкал Карлов мост, Яна Гуса, часы на Староместской… – прекрасные дежурные достопримечательности.
Один кадр из той старой пленки спустя много лет поразил меня самим фактом своего существования: летом 1974 года я, советский старшеклассник, сфотографировал крупным планом – лоток у фруктовой лавки.
Апельсины и персики свободно лежали в том лотке, и улица вокруг была пустынна, и ажиотажа не наблюдалось… А еще в лотке лежало – что-то. Только спустя десятилетия я узнал, что это что-то называется: манго и авокадо…
К Табакову
Весной того года я случайно узнал, что Олег Табаков набирает театральную студию, и пошел на прослушивание. Мне нравилось кривляться, и я думал, что это актерские способности.
Помню чеховскую «Хирургию», разыгранную в шестом классе в вышеупомянутых Саулкрастах, на пару с приятелем Лешей, на лужайке перед домом, при большом стечении теть, бабушек и дедушек. Был большой успех. Дедушка трясся от хохота.
Я не знаю, как я должен был сыграть, чтобы дедушке не понравилось…
Потом я занимался в театральном кружке Городского Дворца пионеров, где, по случаю дефицита мальчиков, играл чуть ли не купцов из Островского. Там меня и настигла весть о наборе в табаковскую студию.
В здание «Современника» на площади Маяковского набилось старшеклассников, как сельдей в бочку. Помню закоулки, в которых я с удовольствием заблудился, помню собственный сладкий ужас от причастности к театру, который я заранее обожал.
Читал я стихотворение Александра Яшина о пропавшей собаке – ужасно жалостливое. Грузил я этой собакой артиста Сморчкова, вскоре прославившегося ролью положительного простака Коли из фильма «Москва слезам не верит».
Сморчков моим гуманистическим репертуаром не проникся, и я нагло протырился на прослушивание в соседнюю комнату, чтобы одарить собакой Константина Райкина.
Косте в ту пору было уже двадцать четыре года, но вести он себя не умел: когда, ближе к кульминации, я взвыл и дал слезу в голосе, Райкин откровенно хрюкнул от смеха. Хорошо помню рядом с его гуттаперчевым лицом озадаченное лицо Марины Нееловой. Может быть, именно размеры моего дарования уберегли Марину Мстиславовну от театральной педагогики…
Отхрюкав, Райкин передал меня вместе с собакой самому Табакову.
От волнения я плакал чуть ли не по-настоящему. Табаков был серьезен, потребовал прозу. Я начал читать из Джерома, но рассмешить Олега Павловича историей про банку ананасного сока мне не удалось. Было велено прийти осенью на третий тур, выучив монолог короля Лира. Оценить глубину этого театрального проекта может только тот, кто видел меня в девятом классе…
С чувством юмора у Табакова всегда было хорошо. А у меня, видимо, не всегда, – потому что к будущей роли Лира я отнесся с немыслимой основательностью! Все лето штудировал Шекспира, до кучи прочел все примечания к трагедии, а уж сам монолог в пастернаковском переводе вызубрил так, что до сих пор помню его от корки до корки… «Дуй, ветер, дуй, пока не лопнут щеки!..»
К октябрю никто, кроме меня, про Шекспира не помнил, но я настоял на исполнении. То ли бурей, то ли настырностью мне удалось напугать Олега Павловича – и я был принят в «режиссерскую группу» студии.
Груши и цыплята
С осени 1974 года мы оккупировали Бауманский дворец пионеров на улице Стопани – имя этого коммуниста до сих пор отзывается во мне бессмысленной нежностью.
Мир за пределами студии потерял всякое значение, съежился и исчез.
Поначалу нас было сорок девять человек, не считая педагогов, которых тоже было немало. Табаков пообещал:
– Будете отпадать, как груши!
И мы отпадали.
Исключение из студии было настоящей драмой – с рыданиями и ощущением конца жизни. Присутствие в этом магнитном поле заряжало всерьез – опять-таки, на всю жизнь.
Валентин Гафт называл нас «цыплятами Табака», но больше мы напоминали саранчу. Неся как штандарт табаковское имя, мы прорывались в театр «Современник» – и выкурить нас из-за кулис было невозможно. Да и как в шестнадцать лет уйти оттуда, где обитают и проходят мимо тебя по узкому закулисному коридору Даль, Неелова, Богатырев или Евстигнеев?
«На дне» я смотрел, наверное, раз пять, «Двенадцатую ночь» – не меньше двенадцати уж точно…
Одно из потрясений юности – «Валентин и Валентина» с Райкиным и Нееловой. Потрясение это было огромным и печальным. Огромным – потому что я находился в возрасте рощинских персонажей и все это было мне безумно близко. А печальным – вот почему…
После спектакля я помчался на служебный вход, чтобы поблагодарить Райкина. Я отловил его на выходе и что-то говорил, вцепившись в рукав, когда из лифта вышла Неелова.
– Пока, Костя! – на ходу бросила она.