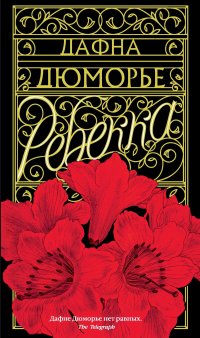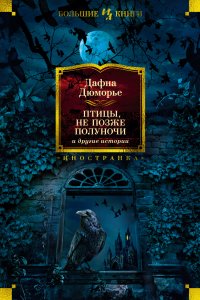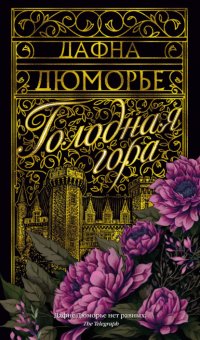
Читать онлайн Голодная гора бесплатно
- Все книги автора: Дафна дю Морье
Daphne du Maurier
HUNGRY HILL
Copyright © The Estate of Daphne du Maurier, 1943
This edition is published by arrangement with Curtis Brown UK and The Van Lear Agency
All rights reserved
© В. М. Салье (наследник), перевод, 2023
© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023
Издательство Азбука®
Книга первая
Медный Джон
(1820–1828)
1
Третьего марта тысяча восемьсот двадцатого года Джон Бродрик выехал из Эндриффа в Дунхейвен, намереваясь проделать все пятнадцать миль, составляющие его путешествие, еще до наступления ночи. Стояла обычная для юго-запада погода: порывистый ветер нагонял внезапный дождь, который лил в течение пятнадцати минут, а потом прекращался, оставив на небе голубое пятнышко размером с кулак, сквозь которое проглядывало ничего не обещающее солнце.
Дорога в те времена была неровная, вся в ухабах и рытвинах, и Джон Бродрик, которого бросало из стороны в сторону в почтовой карете, крикнул кучеру, чтобы тот ехал поосторожнее, а не то им обоим придется провести ночь в канаве и к тому же остаться без ужина.
Все вокруг постоянно говорили о том, что нужно построить новую дорогу, но дело ограничивалось одними разговорами, и правительство пока еще не прислало на строительство дороги ни единого пенни. Все бремя расходов ляжет в конце концов на него и других землевладельцев. Беда в том, что никто из них не спешил опустить руку в карман, а если их вынуждали, они делали это с такой неохотой, столько бывало жалоб на тяжелые времена, неуплаченную вовремя ренту и нерадивых арендаторов, что проще было поберечь собственное время и нервы и прекратить всякие разговоры, а дорога тем временем окончательно разрушалась, так что ездить было не лучше, чем по Килинскому болоту.
Однако в Слейне скоро должны состояться выборы, и если Хейр хочет сохранить свое место в парламенте – а он несомненно этого хочет, – то Бродрик будет вынужден ему объяснить, что голоса отдаются не просто так, не за то, чтобы министры сидели в Лондоне сложа руки, нисколько не заботясь о том, что делается у них в округе.
Как мало у нас энергичных людей, если как следует подумать. Дело тут не в самомнении, но он не может назвать ни одного человека, который был бы способен сделать то, чего он, не далее как сегодня, добился в Эндриффе, да и вообще, кому бы могло прийти в голову, что такое возможно? Слишком рискованно, говорил поначалу старик Роберт Лэмли, качая головой и выдвигая одно возражение за другим: они ведь не смогут оправдать расходы и вернуть свои деньги, они разорятся и им придется продавать землю.
– Рискованно? – возражал ему Бродрик. – Ну конечно, риск в этом есть. Но разве каждый человек не рискует сломать себе шею, стоит только ему выйти из дома? Я допускаю, что заложить шахту непросто, это связано с немалыми расходами: потребуются механизмы, рабочая сила, да и грунт здесь совсем не тот, что в Корнуолле, это надо признать, – ведь там руду можно просто грести лопатой и грузить на тачки, тогда как у нас ни одной унции не получишь без применения пороха. Но медь у нас есть, она наша, только бери. Вчера мы осматривали участок вместе с неким мистером Тейлором, это один из самых знающих директоров на Корнуолльских шахтах, и он вполне разделяет мое мнение о наших местах. В моей земле, так же как и в вашей, зарыто целое состояние, мистер Лэмли. Если вы согласны образовать компанию, которую я собираюсь возглавить, – причем вы сами могли убедиться на основании условий, разработанных моим агентом, которые я вам только что показал, что я рискую гораздо больше, чем вы, – я вам гарантирую, что через несколько лет ваши доходы от разработки меди превысят тысячу фунтов в год. Если же вы не хотите принять участие в соглашении, то больше не о чем говорить.
И он встал с кресла, собрал бумаги и сделал знак своему агенту, что обсуждение на этом заканчивается. Не успел он дойти до середины комнаты, как Роберт Лэмли попросил его вернуться.
– Мой дорогой Бродрик, зачем так спешить? Ведь чтобы принять окончательное решение, мне необходимо уточнить кое-какие детали.
Они снова сели к столу и еще раз обсудили то, что двадцать раз обсуждали до этого, причем Лэмли никак не мог успокоиться и пытался добиться более высокого процента. Наконец контракт был подписан, документы скреплены печатями, а сделка – крепким рукопожатием, и в честь этого события в старинной библиотеке замка Эндрифф было подано угощение. Джону Бродрику, которому удалось наконец добиться своего, не терпелось поскорее уйти, однако ему пришлось остаться и побеседовать с хозяином.
– Я надеюсь, – сказал он, – что вы заглянете к нам в Клонмир, когда дела приведут вас в Дунхейвен. Мои дочери будут рады вас приветствовать, а сыновья предоставят вам возможность поохотиться. – А старик Лэмли, очень довольный, что ему удалось выторговать свои двадцать процентов доходов от будущей шахты, и оттого особенно любезный, в свою очередь пригласил молодых Бродриков в Дункрум пострелять фазанов и зайцев в любое время, когда им угодно будет приехать.
Джон Бродрик уже окликнул кучера и забрался в почтовую карету, когда его позвал Саймон Флауэр, зять Лэмли, который только что вернулся с охоты, забрызганный грязью с головы до ног, и стоял, обнимая за талию свою двенадцатилетнюю дочь.
– Ну и как? – спросил он с широкой улыбкой на красивом, цветущем лице. – Удалось вам заставить старика поставить свое имя на ваших бумажках?
– Мы образовали компанию по разработке меднорудного месторождения на Голодной горе, если вы имеете в виду именно это, – холодно отозвался Джон Бродрик.
– Вот как? И всего за несколько часов? – удивился Флауэр. – А я вот уже пятнадцать лет пытаюсь его уговорить заменить несколько черепиц на крыше замка. Ведь во время дождя, даю вам честное слово, вода хлещет прямо мне на голову, когда я лежу в постели, а на деньги, что он мне дает, даже не замесишь раствор.
– Через год-другой у вас будет достаточно денег на то, чтобы обновить всю крышу и вдобавок пристроить новый флигель, если вам захочется, – сказал Бродрик.
Саймон Флауэр поднял глаза к небу, изображая притворное смирение.
– Этого мне не позволит совесть, – заявил он, – и должен вам заявить со всей прямотой, мой дорогой мистер Бродрик, если я буду знать, что медь добывается потом и кровью молодых рабочих и детей, я не трону ни одного пенса из денег моего тестя; пусть лучше крыша упадет мне на голову.
Джон Бродрик смотрел на эту пару из окна кареты: беззаботный, улыбающийся Саймон, его ровесник, который в жизни не ударил палец о палец и спокойненько жил на деньги своей жены, и хорошенькая, цветущая девочка с чуть раскосыми глазами, которая смеялась, стоя рядом с отцом.
– Я бы вам посоветовал стать одним из директоров компании, Флауэр, – сказал он. – Это серьезное занятие, отнимающее несколько часов каждый день; нужно наблюдать за работой в шахтах, следить за порядком среди рабочих, ездить два раза в год в Бронси на медеплавильный завод и делать еще многое другое.
Саймон Флауэр покачал головой и вздохнул:
– Мне очень жаль, что вообще собираются закладывать эту шахту. Нам она не нужна, мы и без нее хорошо живем. Зачем вам понадобилось лишать нас покоя, зачем нужно, чтобы рабочие надрывались, добывая руду, а бедная старушка-гора сотрясалась от взрывов?
Джон Бродрик пошевелился, удобнее устраиваясь в карете.
– Я верю в прогресс, хочу дать работу всем этим беднягам, которые здесь влачат самое жалкое существование, хочу заработать деньги, чтобы обеспечить своих детей и детей моих детей, когда я умру.
– Ну знаете, – сказал Флауэр, – они не скажут вам за это спасибо. Ладно, Бродрик, давайте стройте свою шахту, зарабатывайте деньги, а я буду сидеть себе спокойно и пользоваться проистекающими из этого благами. – Он улыбнулся и поцеловал дочь, прижав к груди ее головку. – Подумайте о том, сколько измученных рабочих будут копаться в недрах горы, ради того чтобы обеспечить нам спокойную жизнь. – Он засмеялся и, сняв шляпу, весело помахал Бродрику на прощание.
Как это знакомо, думал Джон Бродрик, глядя на противоположный берег залива Мэнди-Бей, все они похожи друг на друга, все или почти все в этих краях: безответственные, безразличные ко всему, думают только о своих собаках и лошадях; полгода проводят на континенте, жарятся там на солнышке, а остальное время зевают, сидя в четырех стенах. Собственные арендаторы их презирают, земля – бог знает в каком состоянии, да к тому же еще закладывают за галстук – к двум часа дня уже навеселе.
Он без труда выкинул Саймона Флауэра из головы, поскольку испытывал презрение к людям, которых не понимал, и, глядя на длинные волны Атлантики, врывающиеся в Мэнди-Бей, пытался представить себе корабли, которые вскоре повезут руду от пристани в Дунхейвене, вдоль побережья, а потом через пролив в Бронси. Транспортировка – это самая трудная часть всего предприятия, поскольку гавань сильно мелеет во время отлива и суда почти что садятся на дно, а в плохую погоду вообще не могут никуда двинуться по целым неделям. Он вспомнил, как они – бедная Сара была тогда еще жива – застряли в Мэнди больше чем на три недели из-за погоды, потому что капитан не хотел подвергать риску свое судно, – дул юго-западный штормовой ветер, и он отказывался пускаться в путь даже на небольшое расстояние, а дороги были такие скверные, что Саре в ее положении, когда вот-вот должна была появиться на свет Джейн, ехать по ним было совершенно невозможно.
Нет, летом судам придется работать, не теряя времени, поскольку зимой в делах неизбежно будет некоторый застой, и он с удовлетворением подумал, что пару недель тому назад заприметил на верфи в Слейне два-три отличных судна (одно из них только-только закончено, даже краска на нем не высохла), которые можно было бы купить по сравнительно небольшой цене, если отправиться туда, не теряя времени, пока не распространились слухи о новой компании. Оуэн Вильямс, что живет по ту сторону воды, тоже будет присматривать подходящее судно у себя. Как удачно, что он, Бродрик, заключил такое выгодное соглашение с фирмой по транспортировке руды и доставке ее медеплавильным компаниям. Он предполагал, что в будущем ему придется достаточно часто бывать в Бронси, и решил, что необходимо купить небольшой домик где-нибудь поблизости от порта, поскольку жить в самом Бронси неудобно. К тому же это внесет некоторое разнообразие в жизнь дочерей. Клонмир достаточно уединенное место, он отрезан от всех возможных удовольствий, и теперь, когда девочки подросли, они начинают об этом поговаривать, особенно Элиза. Мальчики – совсем другое дело. Для них Клонмир – это каникулы, они приезжают туда из Итона и Оксфорда, но девочки… не могут же они гоняться за зайцами на острове Дун или бродить по колено в воде, охотясь на бекасов.
Карета проехала мимо маленькой церквушки в Ардморе – она была своеобразным маяком на берегу моря, самым дальним форпостом обширного дунхейвенского прихода, – и дорога стала круто подниматься вверх к подножию Голодной горы. Джон Бродрик крикнул кучеру, чтобы тот остановился.
– Подожди меня минутку, я долго не задержусь.
Он стал взбираться на холм в сторону от дороги и через пять минут, когда молодой кучер и карета скрылись из глаз, подошел к месту будущей шахты. Он постоял там, оглядываясь вокруг, заложив руки за спину. Трудно себе представить, что пройдет всего несколько месяцев и будет заложена шахта, появятся трубы и прочие мрачные приметы строительства; там, где сейчас нет даже тропки, будет проложена дорога, один за другим появятся сараи, лачуги шахтеров, застучат и загудят машины.
А сейчас здесь клонилась от ветра жесткая трава, солнце, выглянув на секунду из-за облаков, осветило покрытые лишайником скалы, которым вскоре суждено было взлететь на воздух; перед ним вдруг вылетел из травы бекас и взмыл в небо. Джон Бродрик поднял глаза – над ним простиралась дикая, нетронутая громада Голодной горы, вершина которой утопала в тумане. Он знал эту гору во всякое время года, в любом ее настроении. Зимой, когда Дунхейвен стоял еще нетронутый морозом, вершину Голодной горы покрывала снежная шапка, а озеро, расположенное неподалеку от нее, было затянуто тонким льдом. Потом наступал февраль со своими бурями и ливнями, скрывая гору пеленой зыбкого тумана до самой весны, когда однажды утром он просыпался навстречу дню несказанного блеска, сулящему надежду и обещание, а воздух напоен влагой, столь нежной и заманчивой, что другой такой не найдется ни в одном другом месте на земле, только здесь, в родных краях; и вот перед ним снова Голодная гора, она сверкает и улыбается под голубыми небесами – туман рассеялся, бури забыты, и появляется неодолимое желание забросить все дела и заботы рачительного хозяина; она напоминает о том, что на свете существуют бекасы и зайцы, на которых следует охотиться; что в водах озера водится рыба и что есть на свете теплая густая трава, на которую можно улечься и заснуть, греясь в лучах солнца.
Да, и жаркие летние дни, тишина и покой, в небе парит ястреб, над гладью озера порхают бабочки, едва не касаясь поверхности воды, купанье в озере – он помнил со времени своего детства, какая там чистая прохладная вода.
А теперь скрытые богатства Голодной горы будут наконец извлечены на поверхность, ее сила будет взнуздана, сокровища перейдут в руки людей, а тишина нарушена во имя прогресса. Нужно, чтобы силы природы служили человеку, думал Бродрик, и в один прекрасный день этот край, нищий и заброшенный, займет свое законное место среди богатых стран мира. Не при нем и даже не при его сыне или сыне его сына. Но когда-нибудь, лет через сто, это может осуществиться.
Снова набежавшее облако закрыло солнце, Джону Бродрику на голову упала капля дождя, он повернулся спиной к Голодной горе и стал спускаться к дороге.
Подходя к карете, он увидел человека, который стоял на дороге, поджидая его. Это был высокий сгорбленный старик лет шестидесяти, он тяжело опирался на палку; его светлые голубые глаза составляли странный контраст с загорелым, почти коричневым лицом. Увидев Джона Бродрика, он улыбнулся, однако в его улыбке не было ни радости, ни сердечного расположения, казалось, что она родилась из какого-то скрытого недоброго веселья. Джон Бродрик приветствовал его коротким кивком головы.
– Добрый день, Донован, – сказал он. – Далеко ты зашел от дома при больной-то ноге.
– Добрый день, мистер Бродрик, – ответил старик. – Что до моей ноги, то она привыкла бродить по горам и дорогам и служит мне исправно. Как вам нравится участок, который вы выбрали для новой шахты?
– Откуда ты знаешь о новой шахте, Донован?
– Может быть, мне рассказали о ней феи, – сказал Донован, продолжая улыбаться и почесывая голову набалдашником палки.
– Ну что же, сейчас уже не важно, пусть себе знают, – сказал Бродрик. – Да, здесь, на Голодной горе, будет рудник. Только сегодня я подписал соглашение с мистером Лэмли из Данкрума, и мы собираемся начать работы в самое ближайшее время.
Человек по имени Донован ничего не сказал. С минуту он смотрел на Бродрика, потом перевел взгляд вверх, на гору.
– Мало хорошего принесет вам это дело, – заметил он наконец.
– Это мы как раз собираемся выяснить, – коротко отозвался Бродрик.
– Я говорю совсем не о деньгах, их-то вы получите, целое состояние наверное, – сказал его собеседник, презрительно махнув рукой. – Об этом позаботится медь, она обогатит вас, ваших сыновей и ваших внуков тоже, в то время как я и мои дети будем все беднеть и беднеть на жалком клочке земли, который у нас остался. Я думаю о тех неприятностях, которые вам придется претерпеть.
– Надеюсь, мы сумеем с ними справиться.
– Надо было сначала спросить разрешения у горы, мистер Бродрик. – Старик указал палкой на каменную громаду, которая возвышалась над ними. – Можете смеяться, сколько вам угодно, – сказал он, – можете кичиться своим оксфордским образованием, своими книгами и прогрессивными замашками, своими сыновьями и дочерьми, которые ходят по Дунхейвену так, словно он создан для их удовольствия, но только я вам говорю, что шахта ваша превратится в руины, дом будет разрушен, дети забыты, а может, наоборот, покрыты позором, а вот гора будет стоять, как стояла, – вечным проклятием вашему роду.
Джон Бродрик стал садиться в карету, не обращая внимания на этот поток красноречия.
– Возможно, – сказал он, – мистер Морти Донован не откажется получить свою долю в этом руднике, приобретя несколько акций, и тогда не будет так явно демонстрировать свое неудовольствие. Я буду платить хорошие деньги тем, кто станет работать на руднике. Если твои сыновья захотят потрудиться, хотя бы для разнообразия, я с удовольствием возьму их на работу.
Старик презрительно сплюнул на землю.
– Мои сыновья никогда не работали на хозяина, – сказал он, – и никогда не будут, пока я жив. Разве вся эта земля не принадлежит по праву нам, да и медь тоже, и разве не могли бы мы забрать ее обратно, если бы захотели?
– Дорогой мой Донован, – нетерпеливо проговорил Бродрик, – ты живешь в прошлом, словно двести лет назад, и говоришь как слабоумный. Если вы хотите получить медь, почему бы вам не организовать компанию, не нанять рабочих, не привезти сюда машины?
– Вам отлично известно, что я бедный человек, мистер Бродрик. А кто в этом виноват, как не ваш дед?
– Боюсь, что у меня нет времени на старые распри, Донован. Их лучше позабыть. Всего тебе хорошего. – И Джон Бродрик сделал знак кучеру ехать дальше, оставив старика на дороге, где тот продолжал стоять, опираясь на палку и больше уже не улыбаясь.
Когда карета перевалила через гору, Джон Бродрик окинул взором открывшуюся перед ним картину. Там, по другую сторону залива, виднелась гавань Дунхейвена, остров Дун в ее горловине, а за Дунхейвеном, у самого конца залива, подобно часовому, охраняющему окрестные воды, стоял его замок Клонмир.
Карета с грохотом спустилась с горы, въехала в город, пронеслась мимо гавани, распугивая скот и гусей на рыночной площади, чуть не задавила собаку, которая с лаем бросилась под колеса, и только чудом не сбила босоногого мальчугана, пытавшегося загнать в дом курицу; мимо почты, мимо лавки Мэрфи выехала из деревни и, миновав редкие домишки Оукмаунта, направилась к въездным воротам, возле которых стоял Лодж, дом для сторожа. Ворота были открыты, и он нахмурился, потому что именно из-за подобной небрежности его скот в прошлый раз оказался на болоте; работники Морти Донована захватили коров и поставили на них клеймо своего хозяина, что еще больше обострило неприязненные отношения между двумя семьями, и он решил при первой же возможности серьезно поговорить с вдовой Грини, которая жила в Лодже, напомнив, что ей поручено ответственное место и что если она не оправдает оказанного ей доверия, то среди арендаторов найдется достаточно желающих его занять и они будут выполнять свои обязанности гораздо лучше.
Проехав через парк и вторые ворота, они миновали аллею, вдоль которой росли деревья, посаженные его отцом, и кусты рододендронов, которыми так гордилась бедная Сара и за которыми теперь любовно ухаживали ее дочери, выехали на усыпанную гравием дорожку, проехали мимо ручья и сада, через каменную арку и назад, к тому месту, где дорожка делала петлю, заканчиваясь перед серыми стенами замка Клонмир.
2
Бродрики обедали в пять часов, и к тому времени как Джон Бродрик умылся и переоделся, сняв дорожное платье, обед был уже на столе, и вся семья собралась в столовой, чтобы поздороваться с отцом после его недельного отсутствия – он ездил в Слейн и Мэнди. Его жена Сара умерла несколько лет тому назад, и ее место за столом напротив отца теперь занимала их старшая дочь Барбара. Она подошла к отцу, чтобы его поцеловать, и ее примеру последовали младшие сестры: Элиза и Джейн. Генри, старший сын Джона Бродрика, уже поздоровался с отцом, когда тот приехал, и теперь стоял около буфета и точил нож, чтобы отец мог нарезать жареного поросенка. Томас, их слуга, стоял рядом с ним, готовый выполнить любое приказание. Прежде чем начать резать мясо, Джон Бродрик прочитал молитву, после чего приступил к делу, раскладывая куски жареного поросенка на тарелки, которые ему подавал Томас.
– Правду ли говорят, отец, – спросила Барбара, – что раскрыли какой-то ужасный заговор с целью убить кабинет-министра во время его поездки по стране?
– Боюсь, что это весьма вероятно, – ответил Бродрик. – Заговор, кажется, действительно существовал, но его, к счастью, вовремя раскрыли, и ничего плохого не произошло. Этот заговор был инспирирован какими-то подонками, и, когда все объяснится, виновники понесут заслуженное наказание. В Слейне, разумеется, только об этом и говорят. Думаю, это повлияет на ход выборов.
– А что, мистер Хейр снова будет выдвигать свою кандидатуру? – спросил Генри.
– Насколько мне известно, да. Кстати, Генри, ты можешь кое-что сделать в связи с этим. Сообщи всем моим арендаторам, чтобы они были готовы отдать голоса за того, кого я им укажу, а если кто-нибудь из них не явится в назначенный день без уважительной причины – а это может быть только болезнь, – они тут же обнаружат, что у них больше нет крыши над головой.
– Могу ручаться, что кое-кто непременно найдется, – рассмеялся Генри. – Двое-трое по крайней мере. Когда придет время, окажется, что у них сильнейшая лихорадка, так что даже пришлось послать за священником.
– Преподобный отец, если у него хватит ума, постарается на это время куда-нибудь удалиться, чтобы быть подальше от неприятностей, – сказал Джон Бродрик, занимая свое место во главе стола.
Увидев, что стул рядом с ним пуст, он нахмурился.
– Джон опять опаздывает, – сказал он. – Разве он не знает, что я сегодня должен вернуться?
– Мне кажется, он собирался поехать на остров, – поспешно отозвалась Барбара. – Он условился с одним из офицеров гарнизона поохотиться, пострелять зайцев. У них, наверное, что-нибудь случилось с лодкой.
– Я не потерплю неаккуратности ни от кого в этом доме, и менее всего от девятнадцатилетнего мальчишки, – проговорил ее отец. – Клонмир не Эндрифф, и у меня не такой покладистый характер, как у Саймона Флауэра. Имейте это в виду. Объясни своему брату, Генри, как следует себя вести. Мне казалось, что чему-чему, а вежливости в Итоне и Оксфорде вас должны были научить.
– Простите, сэр, – сказал Генри, обменявшись взглядом с сестрой.
– Джон никогда не имел представления о времени, – сказала вторая дочь Бродрика Элиза, которая надеялась снискать расположение отца, встав на его сторону. – Сегодня он проспал завтрак, Тому дважды пришлось его будить.
Незадачливый Джон, который вошел в столовую как раз в этот момент, увидел, что все смотрят на него с сочувствием, за исключением отца и Элизы; быстро пробормотав извинения и багрово при этом покраснев, он занял свое место за столом и еще усугубил неловкость, пролив на скатерть соус.
– Просто удивительно, – сухо заметил отец, – как это случается, что долгое пребывание в нашей глуши превращает джентльмена в неотесанного мужлана, который даже не умеет аккуратно есть. Твои друзья из Брейсноз-колледжа тебя просто не узнают. Впрочем, давайте поговорим о другом. Томас, вы можете нас оставить. Дамам будут прислуживать молодые господа. Дело в том, – сказал он медленно, словно обдумывая каждое слово и глядя на своих детей, когда слуга вышел из комнаты, – что я должен вам кое-что сообщить относительно нашего будущего.
Он положил нож и вилку на тарелку и улыбнулся Генри, словно напоминая ему, что раньше они уже обсуждали этот вопрос, в то время как остальные ждали, что будет дальше.
Для Джона Бродрика это был момент торжества. Вот уже много месяцев, с того самого времени, как предположение о возможности добывать медь из недр Голодной горы превратилось в уверенность, он ни о чем другом не думал. Он поставил себе целью сделать все возможное, чтобы преодолеть апатию и недоверие своих соседей, понимая, что сам он не располагает капиталом, необходимым для покрытия начальных расходов. Кроме того, даже выбранный для рудника участок не принадлежал ему единолично. Часть земель на Голодной горе входила в Данкрум, имение, принадлежащее Роберту Лэмли, и, не заручившись его согласием на образование компании, начинать работы было нельзя. Но вот наконец Роберт Лэмли подписал контракт и можно закладывать шахту. Дело ведь не в том, думал Джон Бродрик, с гордостью глядя на своих детей, что он стремится к богатству для себя или для них. Деньги, конечно, будут, это само собой разумеется. Генри будет жить в Клонмире в полном достатке, а после него его дети. Он увеличит свои владения, купив соседние земли, высадит еще больше деревьев, пристроит новый флигель к замку, а если захочется, распространит свои владения за пределы края, купив землю по другую сторону воды.
Нет, его больше занимает принципиальная сторона дела. Страна его богата, там лежат сокровища, которые можно взять, и только лень его соотечественников мешает им воспользоваться этим богатством. Он считает своим долгом, своей обязанностью перед страной и перед Всевышним извлечь из недр Голодной горы спрятанные сокровища и отдать их – за известную плату – людям. Он посмотрел на портрет своего деда, что висел над камином в столовой, – Джон Бродрик построил Клонмир и был убит в тысяча семьсот пятьдесят четвертом году, когда шел в церковь, потому что пытался бороться с контрабандистами, орудовавшими на побережье. Джон знал, что дед одобрил бы его намерение построить шахту. Как и его внук, он тоже рассматривал бы это начинание как дело принципа. Ну что же, может быть, и его убьют выстрелом в спину, как это сделали с первым Джоном Бродриком, или будут калечить его скот, или подожгут сараи с зерном, но им не удастся его запугать, они не помешают ему выполнить то, что он считает своим долгом. Улыбаясь, он посмотрел на каждого из своих детей по очереди.
– Сегодня днем в замке Эндрифф я подписал соглашение с Робертом Лэмли, согласно которому образована компания по строительству медного рудника на Голодной горе, – сказал он.
Молодые Бродрики молча смотрели на отца, и он подумал со смешанным чувством гордости и веселого удивления, как они похожи друг на друга, – все они, начиная с высокого Генри и кончая малышкой Джейн, несмотря на то что у каждого были свои, только им присущие черты, обладали безошибочным качеством Бродриков: уверенностью в том, что они умнее и лучше воспитаны, чем их сограждане.
Он вспомнил своего отца Генри, который сломал спину во время охоты в Дункруме, и, когда его хотели отнести в ближайший коттедж, на носилках из жердей, и уложить там на кровать, он ругался и говорил: «Пошли вы все к дьяволу, дайте мне умереть на воле, под открытым небом, когда придет мой час». И они ждали – пять часов под дождем, а он смотрел на небо.
А теперь перед ним сидит его собственный сын Генри, ему двадцать один год, и он улыбается отцу со своего места за столом с таким же спокойно-уверенным выражением лица; Джон только с ним обсуждал свои новые проекты, и сын проявил свойственную ему веселую готовность сделать все, что от него требуется.
Вот Барбара, ей двадцать три года, она самая старшая из детей, ее мягкие каштановые волосы падают на лоб; она обдумывает услышанную новость, слегка наморщив лоб от напряжения, – ей всегда требуется время, чтобы освоиться, когда ее вниманию предлагается какая-нибудь новая мысль… Она консервативна по природе и неодобрительно относится к переменам. Ее сестра Элиза годом младше нее, она несколько полнее и светлее и больше похожа на свою покойную мать. Элиза уже прикидывает, что эти новшества принесут лично ей. Отец, конечно, заработает кучу денег, и им больше не придется все время торчать в Клонмире, они смогут на время сезона переселяться в Бат и даже поехать на континент, как это сделали дочери лорда Мэнди год тому назад.
Мысль о континенте промелькнула в голове и у Генри, когда он смотрел на отца. Он любил Клонмир, любил свою семью и считал, что постройка рудника – это разумное предприятие, вполне осуществимое и полезное людям и вообще всей стране. Если это к тому же означает, что он сможет поехать во Францию, Италию, Германию и в Россию, сможет увидеть картины, услышать музыку – словом, познакомиться со всем тем, что они, бывало, обсуждали в Оксфорде, – ну тогда чем скорее Голодная гора откроет свои недра для лопаты, кирки и машины, тем лучше.
Его брат смотрел в окно, на залив, который лежал там, внизу. У него и его сестры Джейн были самые темные волосы из всей семьи. Темный оливковый цвет лица и карие глаза придавали их внешности что-то южное, испанское, может быть даже цыганское, то, чего совсем не было у других.
Шахты на нашей горе, думал он, грохот машин, который распугает птиц, кроликов и зайцев, толпы несчастных рабочих, которые будут день за днем трудиться под землей, счастливые тем, что получили работу, спасающую их от голода, и проклиная в то же время хозяина, который им эту работу предоставил. Он знает, как все это будет. Видел уже раньше, в Дунхейвене, когда отец вел там бесконечные разговоры о прогрессе. В глаза это были сплошные любезности и улыбки, но стоило отцу отвернуться, как люди начинали ворчать и шушукаться между собой, а потом вдруг обнаруживался сломанный забор, исчезала корова или начинала хромать лошадь – странная бессильная злоба.
Ладно, что там говорить, выстроит отец свою шахту, все они станут миллионерами, и дело с концом. До тех пор пока его, Джона, не заставят надзирать за работами в шахте или занять какой-нибудь ответственный пост, ему все это безразлично, и если они не тронут вершину Голодной горы, а он по-прежнему сможет натаскивать там своих собак и лежать в траве, греясь на солнце, тогда пусть новая компания устраивает там хоть десять шахт, его это не волнует. Что касается Джейн, которая в свои восемь лет считалась в семье красавицей, которую все любили и ласкали, хотя ее никак нельзя было назвать балованным ребенком, то у нее в голове возникли самые странные образы и фантазии: она воображала себе, что по склону Голодной горы течет поток меди, красный, как кровь, в нем барахтаются рабочие, похожие на маленьких чертенят, а среди них, словно сам Господь Бог, сидит на троне ее отец.
– Когда вы предполагаете приступить к работам, сэр? – спросил Генри.
– В следующем месяце, – ответил отец. – Однако предварительную разведку можно будет начать и раньше. На днях ко мне должен приехать из Бронси один человек, он привезет с собой инженера. Мы должны начать проходку к середине лета, и, если повезет, у нас будет три месяца на то, чтобы опробовать шахту, прежде чем наступит осень… Было бы нежелательно отказываться от самых высоких цен, если у нас будет что продавать. Однако в первые два года доход будет невелик, поскольку сначала нужно будет возместить затраченные средства.
– А как насчет рабочих, отец? – спросила Барбара.
– Я нашел одного корнуолльца, по имени Николсон, на должность штейгера, – ответил Бродрик, – и он, разумеется, привезет с собой своих людей. А дальше будет видно.
Джон Бродрик встал из-за стола и, подойдя к буфету, отрезал себе еще один кусок жареного поросенка.
– Недовольств нам, конечно, не избежать, – коротко заметил он. – Недовольные были, когда в Дунхейвене появилась почта, были они и тогда, когда открылась аптека-амбулатория для бедняков. Я ничего другого не ожидаю. Но когда люди узнают о размерах зарплаты, которую корнуолльцы кладут себе в карман каждую неделю, мы услышим другие песни. Зима-то была тяжелая, верно? Возможно, они задумаются и о следующей. Я вполне допускаю, что эти мысли у них появятся. И сделаю все возможное, чтобы они пришли на Голодную гору и попросили, чтобы их наняли на работу.
Его сын Джон нахмурился, рассеянно тыкая вилкой в скатерть.
– А что ты думаешь обо всем этом, Джон?
Юноша вспыхнул. Он всегда терялся в присутствии отца.
– Вы правы, сэр, – медленно проговорил он, – они придут к вам наниматься, но никакой радости это им не доставит. Они будут думать: «С чего это мы должны благодарить его за то, что он не дает нам умереть с голода?» Это какой-то вывих в сознании, однако он обязательно у них появится. Вы, наверное, и сами это понимаете и догадываетесь, что они обязательно будут совать вам палки в колеса и стараться как-нибудь напортить, несмотря на то что вы даете им возможность заработать на хлеб.
– Мне кажется, ты им сочувствуешь.
– Нет, сэр, – запинаясь, сказал Джон. – Просто, вы понимаете, на нас до сих пор смотрят как на чужаков, нежелательных пришельцев. Этого никто не может отрицать.
– Мне просто смешно тебя слушать, – раздраженно сказал отец. – Мы принадлежим к этой стране так же, как и все прочие. Ведь здесь жил твой прадед, а до него его брат. Бродрики живут в этих местах с шестнадцатого века.
– А почему же тогда застрелили моего прадеда? – спросил Джон.
– Ты прекрасно знаешь, что его убили, потому что он считал, что исполняет свой долг перед Богом и королем, настаивая на соблюдении закона. Контрабанда есть нарушение закона, и он хотел положить этому конец.
– Нет, сэр, – возразил Джон. – Это был только предлог. Донованы убили моего прадеда, потому что эта земля, прежде чем он ею завладел, принадлежала им, потому что вожди клана Донованов владели Клонмиром, Дунхейвеном и островом Дун еще в те времена, когда Бродрики служили переписчиками в конторе в Слейне, где снимали копии с документов, и Донованы не могли этого забыть. Они и сейчас помнят. Вот почему Морти Донован разрешает своим арендаторам красть ваш скот, и вот почему корнуолльские рабочие не останутся здесь дольше чем на один сезон.
Наступило молчание. Джон Бродрик ничего не отвечал. Он задумчиво смотрел на своего второго сына, в то время как остальные его дети, удивленные взрывом брата, сидели молча, краснея и испытывая крайнюю неловкость.
– Отлично, Джон, – сказал наконец Бродрик. – Я вижу, что Итон и Брейсноз оказали на тебя большее влияние, чем я предполагал. Еще несколько лет в Лондоне, в «Линкольнз инн», – и ты станешь настоящим оратором. А теперь, Барбара, если ты кончила, я предлагаю всем подняться наверх, в гостиную, чтобы Томас мог убрать со стола. Чаем ты нас напоишь в гостиной.
– Хорошо, отец, – сказала Барбара и, бросив укоризненный взгляд на Джона, виновника неприятной сцены, первой стала подниматься по лестнице в гостиную, где слуга уже приготовил поднос со всем необходимым для чая.
– Какая глупость, – сказал Генри, похлопав брата по плечу. Их отец задержался и все еще был внизу. – Что это тебе пришло в голову говорить такие вещи, да еще в такое время? Ты же знаешь, как отец раздражается всякий раз, как речь заходит о Донованах. Зачем тебе понадобилось приводить все эти доводы против шахты, которой он так увлечен?
– Джон, дорогой мой, ты ведешь себя неразумно, – сказала Барбара, – тем более сегодня, когда ты опоздал к обеду. Теперь он будет на тебя сердиться по крайней мере неделю.
– Ах, будь оно все неладно, – с досадой проговорил Джон, бросаясь в кресло. – Почему я все делаю не так, как надо? И почему никто не любит – включая меня самого, – когда говорят правду? Вы же не думаете, что я так уж люблю Донованов? Старик Морти Донован настоящий негодяй, мне это известно.
Он протянул руки к Джейн, и девочка подошла к нему, села на колени и обняла его за шею.
– Что нам с тобой делать, сестричка? Давай убежим вместе на остров Дун, построим там хижину и станем в ней жить.
– Зимой там будет просто ужасно, – ответила Джейн, смеясь и теребя его воротник. – У тебя сразу же испортится настроение, и ты будешь злиться на бедненькую Джейн. Генри гораздо лучше тебя ладит со всякими неудобствами.
– Генри все делает лучше меня, – вздохнул Джон, – разве не так, старина? Ты не пропускаешь ни одной лекции в Оксфорде, завтракаешь с преподавателями. Вы знаете, у него целый длиннющий список знакомых, с которыми нужно обмениваться визитами. А у меня бывают только торговцы, предлагая мне что-нибудь купить, да охотники, желающие продать мне свою собаку.
– Как вы думаете, – спросила Элиза, – мы очень разбогатеем, когда эта шахта начнет приносить доход?
– Мы будем так богаты, – ответил ей Генри, подмигнув Джону, – что все обедневшие графы в наших краях прибегут к тебе свататься. Пора тебе заняться своими туалетами. Бедная миссис Мерфи срочно должна запастись шелками, бархатом и прочими иголками и нитками.
– Миссис Мерфи, – презрительно отозвалась Элиза. – Благодарю покорно. Я буду покупать наряды в Бате и Челтнеме, а к миссис Мерфи больше не пойду.
– Это будет не очень-то великодушно с твоей стороны, – заметила Барбара. – Ей всегда можно поручить какую-нибудь работу. Она так старается сделать все получше. Тебе придется держать свои роскошные туалеты из Бата в секрете от нее.
– Барбара-миротворица, – сказал Джон. – Всем старается угодить и ни с кем не ссорится. Что бы мы без тебя делали? Джейн, перестань трепать мой воротник. Не пора ли тебе спать? Отнести тебя в кроватку или будешь дожидаться, пока за тобой не придет Марта?
– Я еще не пожелала спокойной ночи папе, – сказала Джейн.
– Тогда иди и попрощайся с ним, а потом я уложу тебя в постельку, – сказал ей брат.
Девочка побежала вниз и, подойдя к двери в библиотеку, услышала доносившиеся оттуда голоса.
На ларе, стоящем в холле, она увидела широкополую шляпу и, посмотрев на Джона, который стоял на лестнице, состроила рожицу.
– Там у папы Нед Бродрик, – шепотом сказала она.
– Ну и что, пойди и поцелуй его, скажи спокойной ночи, – велел Джон.
Плечики Джейн затряслись от смеха, но потом, взяв себя в руки и придав лицу подобающее выражение, она постучала в дверь библиотеки. Ее отец стоял у камина, повернувшись к гостю, лицо которого, хотя и более худое и бледное, являло разительное сходство с его собственным. Нед Бродрик и в самом деле был его единокровным братом, и Джон Бродрик, повинуясь чувству родственного долга, несколько лет назад сделал его своим приказчиком. Мать Неда, в высшей степени почтенная женщина, ходила за коровами в Клонмире и в свое время приглянулась отцу Джона. Она жила вместе с сыном в маленьком коттедже в Оукмаунте на небольшой пенсион. Нед получал десять фунтов в год, которые отец, умерший в тысяча восьмисотом году, оставил ему в благочестивой надежде, что эти деньги «уберегут его от шалостей, в результате которых появился на свет он сам». Надежды эти, однако, не оправдались, поскольку Нед Бродрик, вопреки пожеланиям своего родителя, был отцом по меньшей мере четырех незаконных детей, прижитых от разных матерей. Поэтому он был очень рад увеличить свой ежегодный доход за счет жалованья, которое получал в качестве приказчика своего брата. Вел он себя весьма осмотрительно и никогда не претендовал на какие-либо родственные отношения, так что Джон был для него всегда «мистером Бродриком», а племянниц он называл «барышни». Надо сказать, что он был совсем неплохим приказчиком, лучшего едва ли найдешь, а если он иногда и клал кое-что в собственный карман с помощью манипуляций, которые проводил с деньгами, получаемыми от арендаторов, то какой приказчик не стал бы этого делать на его месте?
– Добрый вечер, мисс Джейн, – сказал он с обычным своим важным и серьезным видом, столь несовместимым с какими бы то ни было шалостями, что просто невозможно было вообразить, как могло случиться, что он ослушался Генри Бродрика и поступил вопреки его пожеланиям.
– Добрый вечер, Нед, – ответила девочка и, сразу же отвернувшись от него, подняла личико к отцу.
Джон Бродрик приподнял дочь за локти и поцеловал в обе щечки; его строгое, даже несколько суровое лицо при этом несколько смягчилось. Младшая дочь была ему очень дорога, даже дороже Генри, если только это было возможно, и он с нетерпением ждал того времени, когда она станет ему настоящим товарищем, а не просто прелестной игрушкой.
– Спокойной ночи, – ласково сказал он, – спи сладко, – и, проводив глазами Джейн до самой двери, сразу перестал о ней думать и снова обернулся к брату.
Джейн поднялась по лестнице в поисках Джона, но он, конечно, что было вполне в его духе, забыл о своем обещании, и ей пришлось пройти по коридору в его комнату, которая находилась в башне в самом конце дома. Она увидела, что окно в комнате широко распахнуто, а Джон смотрит вдаль на залив, сверкающий серебром под лучами луны, на темный горб острова Дун в дальнем его конце. Она встала коленями на диванчик под окном рядом с братом, и они немного помолчали.
– Джон, – спросила она наконец, – что они собираются сделать с нашей горой? Они ее, наверное, испортят, так что мы уже никогда не сможем ездить туда на пикник.
– Они испортят ту часть, где будет рудник, – ответил Джон. – Там будут трубы, сама шахта, машины… Ты ведь видела картинку с изображением шахты? Но самую верхушку, дикую часть горы, они не тронут и озеро тоже не испортят. Мы по-прежнему сможем туда ездить, устраивать пикники и веселиться.
– Если бы я была этой горой, я бы очень рассердилась, – сказала девочка. – Мне бы даже захотелось убить людей, которые нарушают мое спокойствие. Я знаю, как наша гора выглядит зимой, когда она вся покрыта облаками и по ней текут потоки дождя. Она похожа на великана, который нахмурил брови. На месте папы я бы не стала копать там шахту, я бы выбрала другое место.
– Но в другом месте нет меди, малышка.
– Ну и не надо, я бы обошлась без меди.
– Разве ты не хочешь быть богатой и выйти замуж за графа, как наша Элиза?
– Нисколько. Я, как и Барбара, хочу только одного: чтобы все были счастливы.
– Я был бы счастлив, если бы не задолжал половине торговцев в Оксфорде, – вздохнул Джон.
– А ты много задолжал? Это очень плохо. Я слышала, как папа об этом говорил. Особенно плохо, когда ты должен человеку, который ниже тебя по своему положению.
– При чем тут плохо? Просто это раздражает. Не будем больше об этом говорить. Я отнесу тебя в кроватку, – сказал Джон, который всегда старался сменить тему, когда речь заходила о вещах, тревожащих его совесть. Он взял сестренку на руки и понес в ее комнату, где вместе с ней до сих пор жила старая няня.
Марты не было, она ужинала, и Джейн спокойно разделась при брате, с важным видом сложила одежду, как ее учили, и, встав на колени, прочла молитву – с такой серьезной искренней набожностью, что у Джона защемило сердце. Поцеловав Джейн и подоткнув одеяло у нее на кровати, он пошел по коридору к гостиной, но, подойдя к двери, остановился. Ему не хотелось слушать болтовню Элизы и отвечать на шутливые поддразнивания Генри, это стало бы его раздражать. Повернувшись, он направился к лестнице в задней части дома, вышел через боковые двери и, пройдя двор, оказался в конюшне, где находилась его собака Нелли со своими щенками.
Тим, мальчик при конюшне, уже ожидал его с фонарем в руке; они опустились на колени на солому, так близко, что их плечи соприкасались, и Джон взял самого слабого щенка в свои сильные, но очень ласковые руки.
– Бедняжка, – сказал он, – из него ничего нельзя будет сделать, у него расплющена лапка.
– Лучше уж его утопить, мастер Джон, – сказал Тим.
– Нет, Тим, мы не будем этого делать. Он достаточно здоров, только вот не сможет выиграть для меня ни одного приза, но это не причина для того, чтобы лишить его жизни. Не бойся, Нелли, мы не обидим твоих детей.
Джон всегда забывал все свои тревоги, когда находился среди собак. Их любовь, их зависимость от него способствовали тому, что на поверхность выходили его лучшие черты, и он бы пробыл на конюшне до полуночи, если бы Тиму не нужно было идти ужинать и спать.
– Это правда, мастер Джон, то, что говорят в Дунхейвене? – спросил Тим, запирая дверь конюшни и ставя пустое ведро около насоса.
– А что там говорят, Тим?
– Ну, будто мистер Бродрик собирается взорвать Голодную гору динамитом, который привезут из Бронси, а нас выгонят из наших домов, чтобы освободить место для шахтеров, которых он собирается привезти из Корнуолла.
– Нет, Тим, это все сказки, и с твоей стороны нехорошо их повторять. Мой отец собирается построить шахту на Голодной горе вместе с мистером Лэмли, это верно, но вам совсем не надо никуда уезжать из-за этих шахтеров. Благодаря шахте в Дунхейвене появится работа, и те, у которых работы нет и нет земли, смогут зарабатывать деньги.
Парень с сомнением посмотрел на Джона и покачал головой.
– Там, в Дунхейвене, говорят, что не годится вмешиваться в дела природы, – сказал он. – Ведь если бы святые хотели, чтобы люди использовали эту медь, она бы и текла себе потоком по склону, и все могли бы ее видеть.
– Кто тебе это сказал? Верно, Морти Донован?
– В Дунхейвене все так говорят, – уклончиво сказал Тим, после чего пожелал хозяину спокойной ночи и ушел на кухню.
Джон пожал плечами, засунул руки в карманы и, обойдя вокруг дома, стал спускаться по заросшему травой склону к дороге и дальше к заливу.
Месяц серебрил поверхность воды в небольшой бухте у самого замка, и широкая серебряная полоса тянулась вдаль, огибая с двух сторон остров Дун, темный силуэт которого заслонял залив Мэнди-Бей и широкие просторы моря.
А там, за Дунхейвеном, милях в семи от Клонмира, высится темная масса Голодной горы, далекая и неприступная в призрачном свете луны.
Между тем в библиотеке Джон Бродрик раздраженно говорил своему приказчику:
– Я сам дал разрешение офицерам гарнизона охотиться на острове на бекасов и вальдшнепов, сколько им угодно, с условием, что они не будут трогать зайцев и куропаток, и они взялись следить по возможности за сохранностью этой дичи. Не могу поверить, чтобы офицеры – ведь в большинстве своем это джентльмены – нарушили обещание. А между тем ты говоришь, что зайцы наполовину уничтожены.
– Мне об этом докладывал Бэрд, мистер Бродрик, – сказал приказчик, – он говорит, что видел молодых офицеров, которые охотились на острове, а с ними был Морти Донован.
– Морти Донован? Каждый раз, когда случается какая-нибудь неприятность, оказывается, что причина этому – Морти Донован. Ты можешь пойти к нему, Нед, и сказать от моего имени, что, если я еще раз услышу о том, что кто-то охотится на острове Дун без моего особого разрешения, этот человек будет наказан со всей суровостью и ему придется предстать перед судом в Мэнди.
– Непременно схожу, мистер Бродрик. Этому Доновану должно быть стыдно. Я постоянно так и говорю в Дунхейвене.
– Морти Донован слов не понимает, так же как и все его семейство. Так ты думаешь, что они будут нам пакостить, когда мы начнем работы на шахте?
– Я не говорю: пакостить, но лично я не хотел бы оказаться на месте этих корнуолльских рудокопов, которых вы собираетесь сюда привезти. Возможно, было бы лучше, если бы они оставались дома.
– Ну, ты такой же, как и все остальные, Нед. Стоит мне отвернуться, как ты, наверное, тут же побежишь к соседям, чтобы посплетничать, словно старая баба. И не забудешь прихватить с собой четки.
– Как перед Богом, мистер Бродрик, я никогда не вступаю в разговоры с людьми, только когда собираю арендную плату, а это тяжелое дело, даже в самые лучшие времена; что же до четок, то разве я не обхожу с тарелкой прихожан, собирая пожертвования, каждое воскресенье в нашей собственной законной церкви, с тех самых пор, как вы сами заняли там свое место?
– Верно, Нед, я не жалуюсь. Ты всегда исполнял свой долг по отношению ко мне, и я этого не забываю. Но меня безумно раздражает, что этот невежда, этот недоучка Морти Донован, играя на суевериях здешнего народа, сумел всех убедить, что мои проекты – это деяния дьявола, колдовские штучки, тогда как будь они поумней, то поняли бы, что я собираюсь положить им в рот кусок хлеба с маслом просто так, ни за что.
– От этих людей нечего ждать благодарности, мистер Бродрик, это уж точно.
– Благодарности, вот как? Я не требую от них никакой благодарности, просто хочу, чтобы они подумали. Ну ладно, хватит об этом. Иди-ка ты домой, Нед, пока еще светит луна. На сегодня мы уже все переговорили. Да не забудь сказать этой женщине, чтобы держала ворота на запоре, мне надоело видеть, как мой собственный скот пасется на болоте с клеймом Морти Донована.
Итак, он наконец один. Все книги и бумаги аккуратно сложены и убраны; все дела на сегодня переделаны.
Теперь он поднимется наверх в гостиную и поговорит с дочерьми, спросит их, что они думают о его намерении приобрести небольшой домик по ту сторону воды, – пусть будет еще одно место, кроме Клонмира, откуда они смогут ездить с визитами в Бат, а когда девочки отправятся спать, он помешает огонь в камине носком башмака и расскажет Генри о методах горных работ, принятых в Корнуолле, о предложениях этого малого из Бронси, о том, как старик Лэмли выторговал у него свои двадцать процентов, и о том, какой никчемный человек этот Саймон Флауэр.
Но прежде он прогуляется – нужно подышать свежим морским воздухом. Он стал спускаться вниз по склону, совершенно так же, как это сделал несколько минут тому назад Джон, и вдруг, глядя на залив в сторону острова Дун, заметил одинокую фигуру – это был его младший сын, который неподвижно стоял на берегу, погруженный в какие-то, очевидно бессмысленные, размышления.
– Захотелось побыть в одиночестве, Джон?
Юноша вздрогнул. Он не заметил, как подошел отец.
– Да, сэр.
Наступило молчание. Ни тот ни другой не знали, что сказать, и оба вспомнили эпизод за обедом. Наконец Джон, желая загладить свою вину, порывисто пробормотал:
– Простите меня, сэр, мне не следовало так себя вести за обедом и говорить такие вещи.
– Ничего, Джон, я уже забыл об этом.
Отец колебался, не зная, стоит ли сказать, что он хорошо понимает все то, что хотел выразить его сын. Ему сорок восемь лет, а сыну всего девятнадцать. Он знает, что первый Джон Бродрик был убит именно по той причине, о которой сегодня говорил сын, и что нынешние Донованы этого не забыли. Ему самому удобнее все это предать забвению. В здешних краях не стоит иметь хорошую память. Люди слишком хорошо все помнят, в этом их главная беда. Он сторонник справедливости, скрупулезной честности по отношению к тем, кому меньше повезло, чем тебе, однако дальше идти опасно. Стоит только начать проявлять сочувствие, как тут же утратишь твердость, сделаешься инертным, начнешь думать о всевозможных обидах, стародавних междоусобицах, о прошлом, которое давно миновало. Если он, Джон, не поведет дело как надо, если не заставит людей понимать, что такое дисциплина, служба, уважение к тем, кто стоит выше тебя, то он превратится в такого же ни на что не годного бездельника, как Саймон Флауэр. И Джон Бродрик ничего не сказал. Он стоял на берегу залива, глядя вдаль, в направлении своей будущей шахты, а сын стоял рядом, нервный и нерешительный, следя за тем, как блики лунного света скользят по темному лику Голодной горы.
3
Когда Джон Бродрик сказал Роберту Лэмли, что его доля в доходах от разработок будет составлять около тысячи фунтов, он это сделал не из безрассудного оптимизма, а в твердой уверенности в том, что подобное утверждение соответствует истине. На самом же деле сумма, поступившая на счет старого джентльмена в слейнском банке в конце четвертого года, превысила полторы тысячи фунтов, притом что все предварительные расходы были покрыты в течение первого же года.
Цены на медь никогда не стояли так высоко, и, купив три парохода, которые были заняты исключительно на перевозке руды из Дунхейвена в Бронси, он добился максимального снижения стоимости фрахта. Роберт Лэмли, увидев, как идут дела, забыл свою былую осторожность и уговаривал партнера удвоить количество рабочих, занятых теперь в шахте, чтобы выбрать из недр Голодной горы всю руду до последней унции, однако Джон Бродрик отказался это сделать.
– Конечно, можно было бы нанять еще рудокопов и выработать самые перспективные участки, получив наибольшее количество меди, однако я поставил себе целью вести все работы без потерь, чтобы сохранить все, что возможно, для наших детей и чтобы не создалось такое положение, при котором какие-то участки месторождения будут потеряны навсегда. Если Николсон, наш штейгер, станет проходить шахту еще дальше вглубь, это будет означать, что мы действуем вопреки собственным интересам. Сила воды слишком велика, с ней невозможно будет справиться, и через короткое время находящаяся там руда будет потеряна безвозвратно.
Старик Лэмли наведывался в Дунхейвен примерно раз в полгода и всегда находил какие-нибудь недостатки то в одном, то в другом, хотя он не имел об этих делах ни малейшего понятия, пока наконец Бродрик, который бывал на руднике каждый день и знал шахту не хуже самих рудокопов, не потерял терпения.
– Вы жалуетесь на то, что управление шахтой оставляет желать лучшего? – сказал он. – Не угодно ли вам прочесть письмо, написанное самым выдающимся экспертом в стране, который посетил нас в прошлом месяце?
Старик некоторое время разглядывал это хвалебное письмо сквозь очки, потом отложил его в сторону и упрямо заявил, что, как бы хорошо ни управляли шахтой, все равно шахтеры получают слишком высокую плату, и в особенности штейгер Николсон.
– В Корнуолле существует давнишнее правило, – возразил ему Бродрик, – согласно которому штейгер в добавление к основному жалованью получает от владельцев шахты премию, в зависимости от количества добытой за год руды. Я собираюсь ввести это правило у нас в отношении Николсона.
– Но ведь от этого уменьшатся наши доходы, Бродрик!
– Да, конечно, но я считаю, что это необходимо. Штейгер Николсон работает на шахте с самого ее возникновения, да еще при весьма неблагоприятных условиях для него самого и его людей из-за противоборства местного населения, а он еще ни разу не пожаловался и не заявил, что возвращается в Корнуолл.
Роберт Лэмли продолжал спорить и доказывать, но наконец уступал доводам директора и уезжал в своей карете, в то время как последний в самом дурном настроении думал о том, как бы выкупить у Лэмли его долю в руднике и таким образом избавиться от него навсегда.
Дела на шахте шли успешно, она приносила хороший доход, однако оставалось еще множество трудностей, которые нужно было преодолеть. Прежде всего оказалось, что жители Дунхейвена настроены еще более враждебно, чем ожидалось. Он и не предполагал, что местное население будет приветствовать корнуолльцев, был готов к тому, что их встретят в штыки, и принял соответствующие меры. Например, он велел выстроить неподалеку от Голодной горы жилища для приезжих, оплатив строительство из собственных средств и проследив, чтобы в каждом доме была необходимая мебель, постели и кухонная утварь. Среди рабочих были семейные, они привезли с собой жен и детей.
Неприятности начались, когда они стали приходить в Дунхейвен, чтобы купить себе необходимые вещи. Лавка Мерфи, непонятно каким образом, оказалась совершенно пустой, на прилавках нельзя было увидеть ни одного куска мыла, ни единой свечки, а сам Мерфи с улыбками и извинениями объяснял разочарованным корнуолльским хозяйкам, что он уже три месяца не видел ни единой свечи, а что касается мыла, то его собственная жена только сегодня утром ходила на берег и наскребла там ведерко песку, чтобы вымыть пол в лавке. То же самое происходило, когда они хотели купить на фермах яиц, или масла, или даже молока. Куры-де не несутся с самой Пасхи, а молоко все прокисло – жара-то стоит какая, – и его пришлось вылить, даже свиньи не желают такое есть. Несчастным рудокопам вместе с семьями пришлось бы голодать, если бы Джон Бродрик не послал один из своих пароходов в Слейн за провизией, с тех пор это вошло в обиход, и единственным способом накормить рабочих стало привозить провизию из Мэнди каждую неделю, потому что в Дунхейвене они ничего купить не могли. Надо отдать справедливость Николсону: он сумел уговорить рабочих, чтобы они не собрали свои пожитки и не уехали домой.
Благодаря продуктам, доставляемым пароходами, шахтеры обрели некоторую независимость; кроме того, они начали сажать овощи, и таким образом их существование стало вполне сносным. Но все равно то и дело оказывалось, что картофель на поле выкопан неизвестно по какой причине, кочаны капусты вдруг исчезли, куры, заблудившись, не нашли дороги домой. В ответ же на недоуменные вопросы дунхейвенцы и обитатели коттеджей, расположенных по соседству, только качали головами и возводили глаза к небу. Джону Бродрику приходилось посылать мешки картофеля и капусты, а также цыплят и кур, чтобы восполнить понесенные ими потери. Зимой, случалось, исчезали дрова, и шахтерам, чтобы не замерзнуть самим и обогреть семью, приходилось рубить деревья или собирать плавник, выброшенный на берег залива у самого подножия Клонмира. Неду Бродрику, ловко маневрируя между угрозами и посулами, удалось уговорить нескольких молодых парней из местных попробовать свои силы на шахте, и в начале второго года они потянулись, один за другим, на Голодную гору с просьбой принять их на работу. Однако, несмотря на это, вражда по отношению к шахте не ослабевала.
Нет, все это совсем не легко, думал Джон Бродрик, и каким облегчением было бы иногда отдохнуть, уехать из Клонмира, перебраться на ту сторону воды и оказаться в Бронси или в уютном домике на ферме Летарог, который он купил для дочерей; там они проводили два-три месяца каждую зиму. Мечта Генри осуществилась, он побывал в Париже, Брюсселе и в Вене, а тем временем Джон все еще изучал юриспруденцию в «Линкольнз инн».
Осенью тысяча восемьсот двадцать пятого года, когда вся семья находилась в Летароге, переехав туда уже в августе, Джон Бродрик получил анонимное письмо из Дунхейвена. Буквы в этом послании были почти сплошь смазаны, и прочесть его было почти невозможно, однако Бродрик все-таки разобрал, что там написано: «Если не хочешь, чтобы было еще хуже, возвращайся домой». Письмо было адресовано на транспортную контору в Бронси, он сунул его в карман и тут же о нем забыл. Неделю спустя, когда у пристани в Бронси ошвартовалась «Генриетта» – один из его пароходов с грузом медной руды, он вспомнил об этом письме и просто из любопытства показал его капитану. Тот внимательно прочитал письмо и довольно долго не говорил ни слова.
– Значит, штейгер Николсон ничего вам не сообщал, – сказал он наконец.
– Нет, я ничего от него не получал после очередного письма, которые он посылает мне в начале каждого месяца. А что, разве что-нибудь неблагополучно?
– Может быть, он не хотел вас беспокоить. Сейчас пока еще трудно что-нибудь сказать. Я вот думаю, может быть, это письмо, которое вы получили, касается потерь, понесенных шахтой за последнее время.
– Потерь? Что это еще за потери?
– Не могу вам сказать ничего определенного, я ведь был в Дунхейвене всего четыре дня – пришли, загрузились и назад. Но дело в том, что в Слейне, Мэнди и других местах появляется руда, которая минует ваши пароходы и о которой ничего не знаем ни мы, ни штейгер Николсон.
– Откуда у вас эти сведения?
– Об этом говорили люди штейгера Николсона, сэр. Руда поступает на поверхность, как обычно, и воры начинают действовать уже тогда, когда она наверху. Насколько я понимаю, Николсон собирается установить систему охраны в ночное время, поскольку руда исчезает именно тогда, однако я не знаю, сделал он это или еще нет.
– А что говорят об этом в Дунхейвене, и говорят ли вообще?
– Прямо – ничего, сэр. Но у меня такое чувство, что люди все равно об этом знают.
Джон Бродрик поблагодарил капитана «Генриетты» и, приказав подать экипаж, отправился домой в Летарог, решив, что в этот же вечер напишет письмо Николсону, требуя объяснений. Однако писать ему не пришлось, ибо в тот самый день прибыло письмо от самого штейгера, написанное в явной спешке и, очевидно, в состоянии крайнего волнения.
Здесь действует целая система хищения, которая в конце концов сведет на нет всю нашу работу. Я уже давно начал замечать, что в партиях породы, выданной на-гора и приготовленной к отправке, наблюдаются недостачи, но вот два дня назад одна такая партия, весьма крупная, исчезла вовсе; ее охранял ночной сторож, поскольку мне было ясно, что кража совершается с наступлением темноты. Этот сторож, один из моих людей, корнуоллец по имени Коллинз, был обнаружен ранним утром – у него проломлена голова, и он вряд ли выживет. Его, по-видимому, ударили сзади, потому что он не видел, кто на него напал. Этот случай так напугал его товарищей, что мне очень трудно найти человека, который согласился бы сторожить ночью, а кое-кто из них поговаривает о том, чтобы забрать семью и вернуться домой в Корнуолл.
Джон Бродрик прочел письмо вслух дочерям и объявил о своем намерении немедленно отправиться в Клонмир.
– Я напишу в Лондон Генри и Джону, попрошу их тоже туда приехать, – сказал он, – если их дела позволят им отлучиться. У меня нет никаких сомнений по поводу того, кто стоит за всеми этими делами.
– Вы имеете в виду Морти Донована? – спросила Барбара после минутного колебания.
– Возможно, он не имеет непосредственного отношения к краже, он для этого слишком умен, – отвечал ее отец. – Но я бы очень удивился, если бы оказалось, что все это придумал не он, а кто-то другой.
– Как вы считаете, кто написал это анонимное письмо? – спросила Элиза.
– Не знаю и не интересуюсь, – сказал Джон Бродрик. – Возможно, один из наших арендаторов, который не решился себя назвать из страха перед Морти Донованом. Во всяком случае, не важно, кто написал письмо, важно найти виновников и примерно их наказать. Именно этим я и намерен заняться, даже если рискую в результате оказаться с проломленной головой.
Сестры с тревогой посмотрели друг на друга.
– Умоляю вас, – сказала Барбара, – будьте осторожны, не делайте ничего сгоряча. Может быть, стоит заручиться помощью солдат из гарнизона, что стоит на острове?
– Дитя мое, – сказал в ответ ее отец, – если я не в состоянии, не прибегая к военной помощи, усмирить двух-трех негодяев, моих собственных соседей, я никогда больше не смогу высоко держать голову в Дунхейвене. Твой прадед ни у кого не просил помощи, когда боролся с контрабандистами.
– Вы правы, не просил, – сказала Джейн, – только они его за это убили выстрелом в спину.
Джон Бродрик строго посмотрел на свою младшую дочь.
– Тебе, наверное, рассказал об этом твой братец Джон, – сказал он.
Джейн отрицательно покачала головой, глаза ее наполнились слезами, она выскочила из-за стола, подбежала к отцу и обняла его за шею.
– Если вы поедете домой, – сказала она, – пожалуйста, позвольте мне поехать с вами. Я не боюсь никаких Донованов, а ведь нужно, чтобы кто-нибудь смотрел за домом и заботился о вас. А я уже не ребенок, мне скоро исполнится четырнадцать лет.
Джон Бродрик улыбнулся дочери и потрепал ее по щеке.
– Неужели ты думаешь, что Медный Джон не может сам о себе позаботиться? – сказал он. – Не надо смущаться, Элиза, я прекрасно знаю, как меня называют в Дунхейвене. Значит, дитя мое, ты будешь обо мне заботиться, следить за тем, чтобы ленивые слуги вовремя подавали горячую воду, чтобы тарелки за обедом были чистые, а простыни – хорошо высушены и выглажены? Ну что же, посоветуйся с Барбарой, я в эти дела не вмешиваюсь. Но что бы вы ни решили, завтра я отправляюсь в Бронси, чтобы сесть на пароход, который вечером отходит в Слейн.
В Лондон было отправлено письмо, уведомляющее Генри и Джона о намерении их отца вернуться в Дунхейвен, в котором он просил их тоже приехать в Клонмир, если им позволят дела, и на следующий день Джон Бродрик вместе с Джейн в сопровождении Марты заняли свои места на пакетботе, совершающем регулярные рейсы между Бронси и Слейном. Пока они находились в Слейне, где им пришлось переночевать, Джон Бродрик постарался разузнать все, что возможно, о том, где и как осуществляется тайная торговля рудой и кто за этим стоит.
Управляющий транспортной конторой проявил живой интерес и сочувствие, однако мало чем мог помочь. Он признал, что слышал о подпольной торговле медью, которая ведется в графстве, и о том, что существуют бессовестные агенты, готовые организовать погрузку краденой руды и отправку ее на медеплавильные заводы на той стороне, однако кто эти агенты и какие транспортные фирмы занимаются перевозкой – этого он сказать не мог.
Джон Бродрик вышел из транспортной конторы в мрачном и решительном настроении. Дело обстояло еще хуже, чем он ожидал. Он отсутствовал ровно три месяца, и за это время сложилась целая система грабежа, которая грозила положить конец всему делу вообще. Он винил штейгера Николсона за то, что тот сразу же не сообщил ему о том, что происходит, винил и Неда Бродрика.
Последний ожидал его в Мэнди и, увидев выражение лица своего хозяина, тут же начал оправдываться, что вовремя ему не написал.
– Я хотел сразу же сесть на пароход и ехать к вам в Бронси, – уверял он, – только этот Николсон все время твердил, что справится сам. И сказать по правде, сэр, у меня хватает и своих дел, связанных с имением, так что я решил предоставить все ему.
Джон Бродрик ничего не ответил. Он подозревал, что на самом деле его брат провел все три месяца, пока отсутствовал хозяин, в коттедже своей матери, греясь у камина, а в хорошую погоду охотился на острове, стреляя вальдшнепов, или же увивался за какой-нибудь вдовушкой, – все они считали, что его худощавая фигура и бледная физиономия отнюдь не лишены привлекательности.
Его карета покрыла расстояние от Мэнди до Дунхейвена вдвое скорее, чем несколько лет тому назад, поскольку новая дорога была наконец закончена, главным образом благодаря тому давлению, которое Джон Бродрик оказывал на их депутата в парламенте.
– Теперь единственное, что с ней может случиться, – говорил он Джейн по дороге в Клонмир, – это если осядет насыпь, которая ее укрепляет, а я не могу себе представить, что это когда-нибудь может произойти. Интересно, выиграл ли Флауэр свое пари, он ведь бился об заклад, что проделает весь путь за два часа. Вы с Мартой поезжайте в Клонмир, а за мной и Недом карету пришлите на рудник.
Шел мелкий дождик, и вершина Голодной горы едва виднелась в густом тумане. От главного шоссе к шахте шла широкая грунтовая дорога местного значения, изрытая широкими колеями, их проделали колеса тяжелых телег, на которых руда доставлялась от шахты к пристани в Дунхейвене; вдоль дороги располагались в ряд деревянные домишки, жилища шахтеров, а в конце ее – сараи, и наконец – высокий конус самой шахты. Служащие, занятые работой на поверхности, а не под землей, здоровались с директором, прикоснувшись пальцами к полям шляпы, бросая на него любопытные вопросительные взгляды, поскольку никто не знал, что он собирается посетить шахту. Весть о том, что Медный Джон вернулся домой, распространилась достаточно быстро, и все испытали некоторое облегчение и в то же время беспокойство – было ясно, что в связи со случившимся на шахте воровством примут строгие меры, причем все понимали, что вместе с виновными могут пострадать и невиновные.
Штейгер Николсон принял директора в конторе, где они могли поговорить, не опасаясь, что их подслушают. Его честное лицо, обычно такое спокойное и уверенное, было встревоженно, по нему было видно, что он уже много ночей не мог спокойно спать. Он подтвердил, что на шахте систематически крадут медь, которая затем переправляется в Мэнди и Слейн и там уже сбывается с рук, однако люди, которые этим занимаются, слишком хитры и поймать их невозможно.
– Я уверен, – заявил он, – что рабочие, которые приехали вместе со мной, не имеют к этому никакого отношения, и виноватых следует искать среди местных жителей, мистер Бродрик. А те местные, что не замешаны в воровстве, покрывают воров из ложного чувства товарищества или же просто боятся мести.
– Вы обыскиваете людей, прежде чем они выходят из шахты?
– Непременно, мистер Бродрик. Поднявшись наверх, каждый шахтер направляется в умывальную, и там его обыскивают, моих людей так же, как и местных. Иначе на поверхность выйти нельзя.
– Я бы хотел спуститься в шахту, Николсон.
– Пожалуйста, сэр. Я сам буду вас сопровождать.
Оба они, хозяин и штейгер, надели шахтерские робы и каски с прикрепленной спереди горящей свечкой и спустились по длинной лестнице, которая вела на штольни, расположенные на разных горизонтах; некоторые из них были настолько узки, что там можно было проходить только по одному. Медный Джон заглянул в каждый штрек и поговорил с каждым из рабочих, которые встречались ему на пути.
За то время, что он находился под землей, он не оставил без внимания ни один уголок на шахте и даже помог заложить заряд пороха под выступ скалы, которую нужно было взорвать, а потом дождался взрыва и наблюдал, как отгребали обломки породы; так что, когда они с Николсоном поднялись на поверхность, время близилось к вечеру. Медный Джон, однако, не выказывал ни малейших признаков утомления и сразу же направился осматривать сортировочное и обогатительное отделения, не оставив без внимания даже вагонетки с рудой, стоявшие на рельсах, пока наступившая темнота не сделала дальнейший осмотр невозможным.
– Ну что же, Николсон, пока мы с вами ничего такого не обнаружили, – сказал он, – однако я не теряю надежды, и можете быть уверены, что в самом скором времени я дознаюсь до всего и выясню, что здесь творится. Продолжайте делать то, что вы делали до сих пор, обыскивайте каждого, кто выходит из шахты, и поставьте ночных сторожей – платите им двойную плату. Завтра утром я снова буду здесь.
На следующий день Медный Джон вместе с братом-приказчиком отправились в западном направлении, в сторону килинских пустошей.
Погода была мягкая и теплая для этого времени года, и над Килинским болотом то и дело взлетали бекасы, вспугнутые спаниелем Неда Бродрика, который бежал впереди хозяина, опустив чуткий нос к земле; сделав косой круг, птицы снова ныряли в вереск. Дунхейвен остался внизу, позади них, скрытый лесами Клонмира, и только Голодная гора виднелась вдалеке, устремив свой пик в небо. Свернув направо от дороги – она увела бы их на запад дальше, чем им было нужно, в сторону реки Денмар, – братья пошли по тропе, которая тянулась вдоль самого болота примерно на милю, огибая его, а затем внезапно обрывалась, упираясь в ограду, внутри которой были расположены сараи, хлев и прочие хозяйственные постройки, а по холму круто поднималась вверх грубо замощенная подъездная аллея, ведущая к дому на вершине.
Все это место производило самое мрачное впечатление: дом был сложен из грязно-бурого камня, на широких зияющих окнах не было ни штор, ни занавесок, а в запущенном саду, окружающем дом, было голо и неуютно. Когда они шли через сад к дому, из сарая выскочила собака, помесь борзой и терьера, и злобно зарычала, поджав, однако, хвост.
На пороге дома появилась женщина, которая, должно быть, услышала шум; увидев незнакомых людей, она хотела было захлопнуть дверь, но потом, передумав, наоборот, гостеприимно ее отворила и сделала книксен.
В молодости она была, должно быть, хороша собой, да и сейчас в ее тонком лице и темных глазах сохранилось что-то от былой красоты, и держалась она с большим достоинством.
– Нечасто вы удостаиваете нас своим посещением, мистер Бродрик, – сказала она. – Боюсь, вам нелегко было добираться до нашего скромного жилища по такой ужасной дороге. Вы, наверное, хотите повидать моего мужа?
– Вы правы, миссис Донован, – ответил Джон Бродрик. – А он дома?
– Дома, он уже недели три как никуда не выходит, все нога его мучает, покоя не дает ни днем ни ночью. Вы найдете его в гостиной, там у него нынче и постель, он как заболел, так и переселился туда из спальни. Не трудитесь вытирать ноги, мистер Бродрик, не бойтесь испачкать мои ковры, они такие старые, что им уже ничего не сделается.
Джон Бродрик отметил про себя жалобные нотки, прозвучавшие в тоне женщины. Извинившись за темноту в передней, хозяйка открыла дверь в гостиную.
– К тебе мистер Бродрик вместе со своим приказчиком, – объявила она, – джентльмены пришли пешком из самого Клонмира.
В комнате было холодно и дымно – в камине горел торф, дававший мало тепла, зато много дыма; под окном на постели, положенной на козлы, лежал Морти Донован, обложенный не слишком чистыми подушками. Его загорелое обветренное лицо было бледно, и он, казалось, заметно постарел с тех пор, как Джон Бродрик видел его в последний раз. Он поднял голову и устремил на вошедших безразличный взгляд своих голубых глаз.
– Присаживайтесь, джентльмены, – пригласил он, – если найдете стул, который под вами не сломается. Сам я встать не могу, как видите, моя несчастная нога меня совсем доконала. Принеси вина для мистера Бродрика, женщина, вместо того чтобы пялить глаза на наших гостей. Мы, может, и бедны, однако вполне можем оказать гостеприимство, когда к нам заходят господа, а в погребе у меня найдется бутылка-другая кларета, который может поспорить с тем, что имеется у вас в Клонмире, мистер Бродрик.
Приказчик с надеждой посмотрел на женщину. Ничто не доставило бы ему большего удовольствия, чем стаканчик кларета, но его хозяин махнул рукой, отказываясь от угощения.
– Я пришел сюда не для того, чтобы пить за твое здоровье, Донован, или даже за мое собственное, – сказал он, – и не для того, чтобы поболтать с тобой по-соседски. Я пришел тебе сказать: мне прекрасно известно, что ты мне пакостишь, причиняя убытки руднику на Голодной горе, и я намерен положить этому конец. Это единственная причина, которая заставила меня приехать сейчас сюда с той стороны. Если ты не прикажешь своим подручным, чтобы они прекратили свои воровские дела, я велю арестовать и посадить в тюрьму всех до одного рудокопов, что работают в шахте.
Губы Морти Донована медленно расплылись в улыбке.
– …которых незамедлительно оправдает выездная сессия суда в Мэнди, – сказал он. – Я не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите, мистер Бродрик. Вот уже несколько месяцев я близко не подходил к Голодной горе. А что до воровства, то спросите лучше ваших корнуолльских наемников, куда они девают руду, да вашего штейгера Николсона, откуда у него появилось столько денег, что он купил своей жене дорогую вышитую шаль, и она теперь разгуливает по Дунхейвену, разрядившись словно пава.
– Корнуолльцы тут совершенно ни при чем, и тебе это отлично известно, – ответил Бродрик, – а люди из Дунхейвена тоже работали бы спокойно и добросовестно, если бы ты не развратил их за моей спиной, отравляя их сознание своим ядовитым влиянием.
– Ядовитым? – воскликнул старик, делая вид, что страшно рассердился. – Разве это отрава – взывать к милосердию всех святых, чтобы они простили тебя за то, что ты сотворил с Дунхейвеном из-за этой своей шахты, где ты заставляешь мужчин и юношей, почти что детей, надрываться, истекая потом, ради того чтобы добыть тебе богатство? Я призываю в свидетели стены этого дома, что не вымолвил ни единого слова, которое могло бы вызвать твое неудовольствие; наоборот, все мои речи исполнены жалости к тебе.
Медный Джон спокойно выслушал до конца, не прерывая этого потока красноречия.
– Можешь говорить, пока не охрипнешь, Донован, – сказал он наконец. – Ты прекрасно знаешь, что это не производит на меня никакого впечатления. Какие бы способы ты ни изобретал для того, чтобы тайно переправлять руду в Мэнди, а потом за пределы графства, можешь быть уверен, что я все равно до всего докопаюсь и ты вместе со своими подручными понесешь суровое наказание. Тебе, я думаю, не особенно захочется провести остаток жизни в тюрьме, но так именно и будет, если ты не прекратишь грабить меня и моих компаньонов.
Морти Донован ничего не ответил. Его голубые глаза утратили свой блеск, и он откинулся на подушки, делая вид, что этот разговор его утомил.
– А если жители Дунхейвена и продают вашу медь потихоньку от вас, мистер Бродрик, – сказал он, – то виноваты в этом только вы сами, ибо, устроив в Дунхейвене шахту, вы с самого начала толкнули их на путь соблазна.
Это последнее заявление переполнило чашу терпения Медного Джона.
Он встал и коротко попрощался с Морти Донованом.
– Запомни, – сказал он, – я пришел сюда, чтобы предупредить тебя и твоих сыновей, если они работают вместе с тобой. И я буду тебе благодарен, если ты оставишь в покое моих арендаторов и не будешь красть их скот.
С этими словами он прошел мимо жены Донована, которая стояла возле открытой двери, и в сопровождении своего приказчика вышел из дома во двор.
– Глупо было с моей стороны сюда приходить, – сказал он. – Но я его, по крайней мере, предупредил, и теперь он знает, чего можно ожидать.
В этот момент хозяйская дворняжка набросилась на спаниеля Неда Бродрика, и обе собаки, вцепившись друг в друга, со злобным рычанием покатились по земле, несмотря на все попытки Неда их растащить. Миссис Донован громко звала собаку из дома, но тут из сарая вышел человек и оттащил ее за шиворот, награждая пинками, так что бедное животное, жалобно скуля, поспешило скрыться подальше от его башмаков.
Сэму Доновану было около тридцати лет, и в нем самым неудачным образом сочетались черты обоих родителей – он не унаследовал от них ничего хорошего. Его голубые глаза были водянисты и невыразительны, редкая щетина прикрывала вялый дряблый рот. У него была манера улыбаться как-то вбок, а смотрел он постоянно вниз, на собственные башмаки, почесывая при этом за ухом.
– Добрый вечер, Сэм, – коротко поздоровался с ним Джон Бродрик. – Если ты хочешь узнать, зачем я приходил к твоему отцу, зайди в дом и спроси у него, пока он еще не забыл, о чем мы с ним говорили.
– Если вы пришли, чтобы объясниться по поводу забора Тима Мура, то меня не было дома, когда туда забрели коровы, я был в Дунхейвене, – сказал Сэм Донован, переводя взгляд с Медного Джона на его приказчика. – Вообще-то говоря, его забор уж слишком далеко выдается на север, он захватывает нашу землю, это вам всякий скажет. Том Мур не имел никакого права ставить там забор.
– Вопрос об этом заборе разбирался в третейском суде еще полгода тому назад, и тебе это прекрасно известно, Сэм Донован, – вмешался в разговор приказчик, который почувствовал себя в своей стихии и не прочь был продемонстрировать свою власть. – Разве я не приходил сюда, для того чтобы измерить участок вместе с двумя беспристрастными свидетелями, которые подтвердили правильность нашего решения? Помнишь, ты же сам тогда сказал…
– Довольно, Нед, – нетерпеливо сказал Джон Бродрик, – все это не важно, и Сэм прекрасно знает, что забор сломали коровы его отца и что он должен возместить ущерб, так что больше не о чем говорить. Пойдем домой, а то мы оба промокнем до нитки.
Он круто повернулся и пошел, не простившись с Сэмом Донованом, и приказчик вынужден был последовать за ним, сожалея о том, что спор был прерван, хотя мог бы длиться еще достаточно долго, и потребовалось бы вернуться в дом и продолжить его за стаканом виски, что непременно состоялось бы, если бы он был один, а не в сопровождении своего брата и хозяина.
Погода переменилась, что часто случается в этих краях, в воздухе повисли липкий туман и морось, а потом полил дождь, так что казалось, будто солнца здесь никогда и не бывает. Теперь ясно одно, думал Медный Джон, шагая вдоль болота, неизменно на пять-шесть ярдов впереди своего приказчика, пришло время показать этим Донованам раз и навсегда, что они должны прекратить мутить народ. Эта глупая вражда между двумя семьями – стародавняя история; прошлое давно пора похоронить и забыть о нем. Если Донованы не преуспели в жизни, не добились ничего хорошего, а, наоборот, потеряли то положение, которое занимали прежде, то это произошло исключительно из-за их лени и безалаберного образа жизни. Преуспеяние Бродриков не имеет к ним никакого отношения. Богатство, которое он, Джон Бродрик, приобретает, основано на его энергии и на счастливой способности идти в ногу со временем. Если Донованы этого не понимают и будут продолжать чинить ему препятствия, Донованы будут сломлены. И чем скорее это произойдет, тем лучше для Дунхейвена. Слишком много в стране таких семей: гордых, ленивых и никчемных, всегда готовых пойти против закона; они являют собой постоянную угрозу спокойствию государства и законопослушных землевладельцев, таких как он сам. Покуда этих людей не заставят повиноваться, примириться с прогрессом и подчиниться общему ходу вещей, страна никогда не станет богатой и процветающей.
Вот к какому решению пришел Медный Джон, оставив за спиной сырое болото и вересковую пустошь и выходя на дорогу, в то время как дождь ручьями стекал по его пальто. Когда он подошел к воротам, ведущим в его владения, отпустил приказчика и зашагал по аллее к замку, небо внезапно прояснилось, зеленая трава на лужайках засверкала на солнце, а там, вдали у края леса, взмыли в воздух цапли; покинув свои гнезда в гуще высоких деревьев, они медленно летели, тяжело взмахивая крыльями, в сторону залива. Он свернул с дороги и постоял в мягкой траве на пригорке перед замком. С любовью глядя на мощные серые стены своего дома, на башни по краям, на холм, поросший высокими деревьями. Он думал о том, как пристроит и новое крыло, сделает его еще более крепким и прочным, с большими окнами и новыми башнями – не для себя, а для Генри и его детей, и когда-нибудь в будущем замок Клонмир станет главной приметой округи, так что люди, проезжая по дороге из Мэнди в Дунхейвен, будут останавливаться у подножия Голодной горы и говорить, указывая на запад: «Вон там, видите? – Клонмир, замок Бродриков». А возле него будут возвышаться трубы и копер рудника.
4
В конце недели из Лондона приехали Генри и Джон. За это время на руднике не было никаких новых происшествий, и штейгер Николсон высказал предположение, что возвращение директора компании испугало воров, а может быть, они просто одумались и вспомнили о честности.
Однако вскоре он понял, что ошибался, поскольку на следующий день после приезда молодых Бродриков было обнаружено, что в одной из вагонеток, доверху нагруженной в конце рабочего дня рудой, уже промытой, отсортированной и оставленной на обычном месте возле сортировочного отделения, с тем чтобы ее можно было сразу везти в обогатительное, вместо медной руды оказалась пустая порода, оставшаяся после сортировки. Штейгер Николсон сразу же призвал к себе тех двоих рабочих, которые накануне были заняты на погрузке и нагружали именно эту вагонетку, и подверг их строгому допросу, однако оба они были в полном недоумении и никак не могли понять, как это случилось. Штейгер Николсон спустился в шахту и, ползком пролезая по узкой штольне, добрался до забоя, где накануне велись работы. На прошлой неделе почти непрерывно производились взрывы, и в забое, еще не очищенном от обломков породы, до сих пор держался едкий запах пороха. Рабочие, занятые в забое, как и те, что обслуживали вагонетку на поверхности, были местные, из Дунхейвена, а не те, что приехали вместе с Николсоном из Корнуолла; они ничего не знали и не могли понять, каким образом в вагонетке очутилась пустая порода. В доказательство своей невиновности они напомнили штейгеру, что он сам накануне вечером присутствовал при том, как их смена поднялась на поверхность, сам наблюдал, как их обыскивали, и убедился в том, что ни у кого из них не было обнаружено ни крупицы руды.
– Что мы, съели твою руду, что ли? – спросил один из них, пылая справедливым негодованием. – Будешь вспарывать нам животы, чтобы ее найти?
– А я так думаю, – серьезно заметил его товарищ, – что ее украли духи, те, что живут в старой горе, а нас на это время заколдовали, так что мы не видели, как они прокрались мимо нас со своими тачками.
– Единственные духи, которые пробрались сюда в шахту, находились в той бутылке, что ты купил в лавке в Дунхейвене, – сказал на это штейгер. – Продолжайте работать и помните, что вам еще придется ответить на вопросы мистера Бродрика, когда он сюда приедет. Я так полагаю, что он вызовет полицию и всех вас велит арестовать и отправить в Мэнди.
Эта новая неприятность нанесла сильный удар по самолюбию штейгера, который еще накануне поздравлял себя с тем, что всем бедам наступил конец, и он с крайней неохотой послал мальчика в Клонмир с запиской к директору, в которой сообщалось о том, что произошло.
Медный Джон прибыл в течение ближайшего часа в сопровождении обоих сыновей и молча выслушал рассказ Николсона, сохраняя при этом строгое, непроницаемое выражение лица.
– Ну как, Генри, – сказал он, когда Николсон закончил, – у тебя свежий молодой ум, и ты здесь совсем новый человек. Что ты обо всем этом думаешь?
Генри задумчиво молчал. Ему было уже двадцать пять лет, брату – двадцать четыре, но оба они привыкли только почтительно прислушиваться к тому, что говорил отец, и не спешили высказывать свои собственные соображения, и, когда им вдруг предложили высказать свое мнение, это было для братьев полной неожиданностью.
Путешествие, которое Генри совершил по Европе – во Францию, а потом в Германию, – сообщило ему уверенность в себе, которой по-прежнему был лишен его брат; к тому же у него была хорошая голова, природа наградила его известным обаянием и любезными манерами, и вот, посмотрев с улыбкой на Николсона, он попросил разрешения спуститься в шахту.
– Конечно, конечно, сэр, – сказал штейгер. – Я сам буду вас сопровождать.
– О нет, не утруждайте себя, – сказал Генри. – Мне кажется, будет лучше, если я пойду один или вместе с братом. Возможно, мы обнаружим там что-нибудь такое, что даст нам ключ к загадкам и поможет разрешить ваши затруднения.
– Желаю вам удачи, – сказал их отец, коротко посмеявшись, – только будьте осторожны и не заблудитесь. Джон вполне способен провалиться в какой-нибудь штрек и сломать себе шею.
Братья вышли из тесного помещения конторы и, миновав обогатительное отделение и вагонетки, стоящие на рельсах, направились к лестнице, которая вела в шахту.
– Ну, скажи, – обратился к брату Джон, – что ты там придумал?
– Кое-что есть, – отвечал Генри. – Только я пока лучше промолчу. Но тем не менее я хочу, чтобы ты мне помог. Когда мы доберемся до штрека, где, как говорил Николсон, вчера велись работы, ты должен отвлечь шахтеров, завести с ними какой-нибудь разговор, чтобы я мог осмотреть забой без помех. Я подам тебе сигнал: высморкаюсь.
– А о чем мне с ними говорить? – пытался протестовать Джон.
– Да о чем хочешь. Расскажи им про свою новую борзую. Самое главное, надо их отвлечь.
– Все это сплошная глупость, – сказал Джон. – Я бы на месте отца оставил их в покое – пусть себе таскают медь, сколько им угодно. Там, внутри, ее, наверное, предостаточно. Черт возьми, Генри, ты только посмотри, во что они превращают Голодную гору.
Он указал на высокий узкий копер, на длинный ряд сараев и сбившиеся в кучку домишки, в которых жили рудокопы.
– И все это для того, – рассмеялся его брат, – чтобы я мог развлекаться в Париже и Брюсселе, а ты – устраивать собачьи бега.
Они надели шахтерские каски и робы и по длинной крутой лестнице стали спускаться в шахту. Там царила атмосфера, в которой странным образом сочетались холод и духота, а свечки, укрепленные в кронштейнах через определенные промежутки, давали тусклый неверный свет.
Они дошли до первого горизонта, где увидели двух рабочих возле ствола шахты, которые подцепляли к цепям бадьи, чтобы их можно было поднять на поверхность с помощью ворота. Генри спросил, в какой стороне ведутся взрывные работы, и братьев направили вниз, на следующий горизонт.
– Это самая узкая штольня в шахте, – сказал один рабочий. – Вам придется идти друг за другом, а иногда даже ползти.
Генри все это, по-видимому, нравилось, и он с живым интересом оглядывался, время от времени постукивая по стенке штольни и тихонько посвистывая – верный признак того, что он что-то серьезно обдумывает, в то время как Джон, которому из-за его высокого роста было очень трудно идти – низкая кровля штольни заставляла его все время нагибать голову, – молча шел следом за братом, чувствуя, что с каждым шагом, который приближал его к самому чреву горы, его и без того подавленное настроение еще больше ухудшается. Ему хотелось как можно скорее выбраться отсюда вон, подняться на поверхность, глотнуть свежего воздуха на вершине Голодной горы. Он думал, нет, был уверен, что копаться в ее недрах, забираться в самую глубь, разрушать древние скалы, взрывая их динамитом, для того чтобы добыть скрытый там металл, – низко, даже греховно.
Глухой рокот взрыва дал им знать, что они находятся совсем близко к месту работ, и наконец, с трудом пробравшись по темной, наполненной дымом штольне, они оказались среди шахтеров.
В тусклом свете свечей их лица казались серыми и измученными, и Джона с новой силой охватила тоска. Если с этими людьми что-то случится, если они пострадают в результате такой ужасной работы, вина за это ляжет на отца и на него самого.
Генри сразу же вступил в разговор с рабочими, стал их расспрашивать о том о сем, в то время как Джон стоял в стороне, разглядывая мокрые стены, по которым каплями стекала вода, и груду породы – результат последнего взрыва, – которую шахтеры отгребали кирками и лопатами. Он слышал, как его брат спрашивает, далеко ли тянется эта штольня, в каких местах были взрывы на прошлой неделе, и один из шахтеров, корнуоллец, который как раз занимался тем, что поджигал запал, указал на дальний конец штольни, где скопилась груда неубранной породы и где высота кровли не превышала четырех футов.
– Мы зря теряем здесь время, – сказал он. – Здесь сплошной мел и никакой руды. Можно палить целую неделю, и все равно ничего, кроме мела, не получишь. Я почти уверен, что в этом месте наверху холм дает большую крутизну, образуется широкая впадина, и мы совсем недалеко от поверхности.
– Да-да, – подтвердил Генри, – гуляя по горе, я часто встречал такие впадины, они похожи на естественные карьеры. Мне кажется, что в далеком прошлом здесь, возможно, велись какие-нибудь работы.
– Да, сэр, – согласился корнуоллец, не вполне, впрочем, понимая, что тот имеет в виду под земляными работами, и тут Джон вдруг услышал, что брат усиленно сморкается. Он сразу же обернулся к шахтерам.
– У вас бывают несчастные случаи во время взрывов? – спросил он.
Один из рабочих повернулся к нему.
– Нет, сэр, – ответил он. – В этих делах главное – осторожность. Конечно, нужно знать свое дело.
Корнуоллец показал Джону, в каких местах в скале пробиваются шпуры, для того чтобы заложить туда заряд. Джон задавал множество вопросов, выказывая живой интерес, в общем-то ему несвойственный, в то время как остальные трое рабочих, довольные тем, что удалось немного отдохнуть, опершись на свои лопаты и кирки, вступили в беседу о том, когда и где на шахтах впервые применили порох.
Никто не обращал внимания на Генри, который не участвовал в беседе и вообще куда-то исчез, растворившись в темноте дальнего конца штольни. Когда минут через десять-пятнадцать он наконец вернулся, Джон к тому времени успел рассказать с большим красноречием о пороховом заговоре, отдавая все свои симпатии Гаю Фоксу и вызвав тем самым уважение двоих рабочих из Дунхейвена, – Джон, взглянув на брата, заметил, что платье его перепачкано мелом и что он чрезвычайно возбужден.
– Ну что же, Джон, – сказал он, – если ты наговорился, предоставим этим ребятам вернуться к своей работе и пойдем наверх. – Коротко поблагодарив шахтеров, он направился к лестнице, с трудом пробираясь по узкой штольне.
Братья поднимались наверх молча, Джон не задавал никаких вопросов, но когда они оказались на поверхности, Генри отряхнул пыль, покрывавшую его с ног до головы, и с торжеством повернулся к брату.
– Чутье меня не обмануло, – сказал он. – Мне теперь понятно, каким образом эти дьяволы таскают у нас руду. Подожди немного, вот придем в контору, и я все расскажу.
Их отец, который уже начал выказывать признаки нетерпения, ходил взад-вперед по комнате, заложив руки за спину.
– Ну как? – спросил он, увидев входящих сыновей. – Ничего не случилось, все кости целы?
– Покуда целы, – ответил Генри, – но пока вся эта история не кончится, ни в чем нельзя быть уверенным. Штейгер Николсон, нас никто не может подслушать?
– Нет, сэр. Клерк ушел обедать, и здесь нет никого, кроме нас.
– Очень хорошо, – сказал Генри. – В таком случае могу вам сообщить, что вашу руду крадут снизу, не вынося ее на поверхность.
– Что, черт возьми, ты хочешь этим сказать, Генри? – раздраженно спросил его отец.
– Именно то, что сказал, сэр. Я всегда считал, что в доисторические времена на Голодной горе обитали пещерные жители, которые рыли себе пещеры и прокладывали подземные ходы; следы от них сохранились до сих пор. Я сам натыкался на эти пещеры и пустоты, когда мне случалось подниматься на гору, но не давал себе труда посмотреть, насколько глубоко они идут. И вспомнил о них только тогда, когда зашла речь о краже руды.
– Ну и что? – спросил отец.
– Так вот, когда мы спустились на второй горизонт, я оставил Джона разговаривать с шахтерами, которые работали в забое, и дошел до конца штольни, до того места, где они прекратили работу, потому что штольня уперлась в меловой пласт. Я раскидал груду породы, сдвинул один довольно большой камень – мне показалось, что его положили там нарочно. Пробравшись за этот камень, я и обнаружил то, о чем подозревал с самого начала: штрек, настолько узкий, что продвигаться по нему может только один человек, да и то на четвереньках, отходит круто вверх. Стенки у него гладкие, это указывает на то, что им недавно пользовались. Я обследовал всего несколько ярдов, мне не хотелось, чтобы меня обнаружили, но я вполне уверен, что он ведет в одну из пещер на склоне горы. Нет ничего легче, чем проползти по этому штреку до пещеры, доставив туда добычу, а потом кто-нибудь другой явится за ней утром, погрузит ее на тележку, и все в порядке. Очень просто догадаться, как они это делают. Двое рабочих из Дунхейвена, которые участвуют в этом жульническом деле, сговариваются работать в одной штольне, и пока один из них сторожит, другой перетаскивает краденую руду в пещеру. Я совершенно уверен, капитан Николсон, что ваши корнуолльцы в этом не замешаны. Тот человек, который производил сегодня взрывы, знает о штреке за меловым пластом не больше, чем мой брат Джон. А между тем, если бы у него была хоть капля любопытства, он бы очень скоро его обнаружил. Вот вам и разгадка, отец, а теперь делайте, что считаете нужным.
Он улыбнулся отцу и штейгеру и подмигнул брату. В конце концов то, что он сегодня проделал, можно было рассматривать как серьезное достижение.
– Ну что же, Николсон, – сказал Медный Джон, – похоже, мой сын за полчаса добился того, над чем вы бьетесь уже несколько недель. Себя я, впрочем, тоже не оправдываю. Итак, мы сделаем вот что. Когда сегодня закончится смена, вы с моим сыном Генри спуститесь в штольню и осмотрите штрек до конца, до его выхода на поверхность. Там мы установим пост и будем сторожить каждую ночь, пока не поймаем воров на месте преступления. А если будет драка, то тем лучше. Что ты думаешь об этом деле, Джон? Ты ведь наш семейный адвокат.
Джон терпеть не мог юриспруденцию, однако у него не хватало смелости в этом признаться. Он жалобно посмотрел на брата, который не обратил на это никакого внимания.
– Не знаю, сэр, – промямлил он. – А вы не думали о том, чтобы просто сказать людям, что вы разгадали их хитрости, а потом забить этот штрек и таким образом положить конец всему этому делу? Тогда ни одна сторона не пострадает.
– Если тебя ничему другому не научили в «Линкольнз инн», то неудивительно, что никто тебе не предлагает места адвоката, – презрительно заметил его отец. – Боюсь, что мой младший сын лучше разбирается в собаках, чем в своей профессии, капитан Николсон. Прекрасно, Джон, можешь сидеть дома; по крайней мере, Джейн будет не одна. Нам здесь слабонервные не нужны. Полагаю, на ваших корнуолльцев можно положиться, Николсон? А я тем временем поищу помощников среди соседей. Не хочу обращаться за помощью к военным в этом деле. Может, удастся уговорить Саймона Флауэра из Эндриффа, чтобы он нам помог. Что там ни говори, а силы ему не занимать.
Джон Бродрик возвратился в Клонмир в отличном расположении духа. Скоро можно будет поставить этих мерзавцев на место, их так проучат, что они забудут, как соваться в его шахту. Джейн рассказали, что там произошло; она с удовольствием выслушала рассказ о том, какую находчивость проявил Генри, однако ее радость померкла при виде мрачного выражения лица Джона, вызванного, как она полагала, сознанием его собственной неполноценности.
– Пусть Генри ползает по этому проклятому штреку, – говорил он сестре, растянувшись в отцовском кресле в гостиной. – Меня нисколько не интересует, что он там обнаружит. Эта история мне до чертиков надоела.
– Зачем же ты сюда приехал, если не хочешь помочь отцу?
– Ты когда-нибудь слышала, чтобы я отказался от возможности удрать домой? Да еще когда вальдшнепы на острове только и ждут, чтобы их постреляли? Пойдем со мной в кладовку, поможешь мне вычистить ружье. А что до меди, то пусть эти ребята растащат ее всю до крошки, мне на это наплевать.
Было решено, что на следующую ночь на склоне горы установят пост, за день Медный Джон разузнает у соседей, смогут ли они помочь ему, а Джон и Генри съездят в замок Эндрифф, чтобы поговорить с Саймоном Флауэром. Старик Роберт Лэмли был в Челтнеме, где он обычно проводил зиму; впрочем, даже если бы он оказался на месте, толку от него было бы немного.
Погода стояла прекрасная, на небе – ни облачка, и молодые Бродрики ехали в Эндрифф в отличном настроении, везя в подарок миссис Флауэр вальдшнепа. Хозяйка Эндриффа была крупной внушительной женщиной с сильно развитым чувством собственного достоинства; она не могла забыть, что ее муж Саймон приходится братом лорду Мэнди, каковое обстоятельство сам Саймон Флауэр предпочитал игнорировать. Замок Эндрифф со своими золочеными стульями и мраморными полами по великолепию мог бы сравниться на первый взгляд разве что с королевским дворцом, а сама миссис Флауэр – с королевой, восседающей на троне; однако при ближайшем рассмотрении обнаруживалось, что сидеть на золоченых стульях небезопасно, поскольку у многих из них сломаны ножки; что же касается мраморного пола, то он был до такой степени грязен и загажен – об этом позаботились любимые сеттеры мистера Флауэра, – что вполне мог бы потягаться с собачьей конурой. Бродриков встретил и проводил в гостиную пудреный лакей, облаченный в ливрею; его великолепный вид несколько портила штопка на белых чулках и весьма ощутимый запах навоза, свидетельствующий о том, что утро он обычно проводит на конюшнях. Наверху раздавались возбужденные голоса, верный показатель того, что там происходит домашняя ссора. Интенсивность перебранки усугублялась диссонирующими звуками фортепиано, за которым, как увидели, к своему величайшему удивлению, Бродрики, войдя в гостиную, сидел Саймон Флауэр; сдвинув на затылок шляпу, закрыв глаза и сжимая в зубах непомерной длины трубку, он играл какую-то странную мелодию своего собственного сочинения, раскачиваясь в такт музыке.
Миссис Флауэр, разодетая словно для лондонского приема, штопала парчовые занавески, нимало не смутившись приходом гостей.
– Я счастлива видеть вас обоих, – сказала она, милостиво протягивая руку Генри, который смутился, думая, что от него ждут, чтобы он ее поцеловал. – У нас, как обычно, некоторый беспорядок. Пожалуйста, присаживайтесь и расскажите, что у вас новенького. Нет-нет, мистер Бродрик, возьмите другой стул, у этого может подломиться ножка. Как мило со стороны вашего батюшки, что он прислал нам дичи. Дело в том, что мой деверь, лорд Мэнди, – брат моего мужа – в настоящее время отсутствует, не живет в своем поместье, а вообще-то, нас, как вы понимаете, снабжают дичью регулярно… А что, ваши сестры по-прежнему наслаждаются природой на вашей маленькой ферме? Мисс Бродрик, вероятно, воображает себя Марией-Антуанеттой в Малом Трианоне. Приятное разнообразие после Клонмира…
Она продолжала щебетать, не дожидаясь ответов и ни на секунду не останавливаясь, чтобы передохнуть, а поскольку она старалась говорить погромче, чтобы ее можно было расслышать, ее муж тоже постепенно увеличивал громкость, так что наконец один из сеттеров, лежавший до этого у него в ногах, вылез из-под стула и начал жалобно выть, аккомпанируя таким образом своему хозяину.
– Бедный Борис не выносит фортепиано, – прокричала миссис Флауэр. – Иногда он воет целыми часами, однако моего мужа это нисколько не смущает. Когда вы оба приедете поохотиться к моему отцу в Данкрум?
Генри с трудом выдерживал напряжение, которое он испытывал от беседы, проходящей в таких условиях, – ему почти не удавалось вставить слово, он только кивал головой, улыбался и делал учтивые жесты, тогда как Джон хранил упорное молчание, как всегда, когда втайне забавлялся происходящим.
Наконец концерт подошел к концу, последовал бурный финал с громовыми аккордами в басах, которые вызвали протестующий вой несчастной собаки, и Флауэр, громко захлопнув крышку, встал от инструмента.
– Говорят, что это признак большого ума, когда собака поет под музыку, – сказал он, махнув трубкой в сторону братьев. – Вы, наверное, никогда раньше не слышали, как моя собака мне аккомпанирует. Она вкладывает в это всю душу. У меня прямо сердце разрывается, когда я ее слушаю.
– Не говори глупостей, Саймон. Собака терпеть не может музыки.
– Терпеть не может? Уверяю тебя, этот пес сидит возле меня как пришитый, впившись глазами в ноты, до того он обожает этот инструмент. Но довольно об этом. Молодым людям необходимо подкрепиться после дороги. Пойдемте-ка в погреб, джентльмены, это будет лучше, чем чай, которым вас будет потчевать моя супруга.
Он повел своих гостей по узкой винтовой лестнице, а потом через целый лабиринт коридоров, в погреб. Там, пошарив с огарком свечи по углам, он извлек бутылку старой мадеры, которую тут же перелил в графин, спрятанный в укромном уголке вместе с полдюжиной рюмок.
– Когда на улице мороз и я не могу охотиться, – серьезно объяснял он, – я привожу своих друзей сюда, и вы просто удивитесь, если я вам расскажу, как приятно мы проводим здесь время. Моя жена воображает, что мы играем на бильярде, и я специально посылаю в бильярдную лакея, чтобы он стучал там шарами. Она и не подозревает, что мы находимся здесь, доверчивая душа. Наливайте себе, дети мои, и устраивайтесь поудобнее. Здесь для всякого найдется пивная бочка.
Молодые люди вместе с хозяином действительно отлично провели там время, значительно приятнее, чем в гостиной за чайным столом хозяйки, так что, когда они наконец вышли из погреба, щурясь от яркого света, и снова стали подниматься в верхние покои замка, Генри начисто забыл о своей миссии, Джон испытывал любовь и благорасположение ко всем окружающим, а хозяин дома распевал песенку «О владычица моя, где ты теперь?», слова которой, по мнению Джона, вряд ли могли относиться к достопочтенной миссис Флауэр. В гостиной тем временем был сервирован чай, а Генри пришел наконец в себя – по крайней мере настолько, чтобы вспомнить о цели своего визита, – и изложил, довольно невразумительно, просьбу своего отца. Рассказ его звучал настолько непонятно, что Саймона Флауэра, даже если принять во внимание интерлюдию в погребе, вряд ли можно было винить за то, что, когда Генри кончил, он только покачал головой.
– Я не собираюсь ползать на животе в этих кротовых норах ради вашего батюшки, да и вообще ради кого бы то ни было, – зевая, проговорил он, поскольку старая мадера начинала входить в силу, и его голубые глаза стали неудержимо слипаться. – Ведь я могу там заблудиться, и ни одна живая душа меня никогда больше не увидит. Помнишь, Мария, у нас так пропала наша Таунсер? Она залезла в барсучью нору, и все – назад уже не возвратилась. Самая лучшая сука из всех, что были на моей псарне.
– Вы меня неправильно поняли, сэр, – сказал Генри. – Никто не говорит, что вам надо спускаться в шахту или лазать по штрекам. Согласно плану моего отца, вы и другие наши соседи должны караулить на склоне горы у выхода из штрека, с тем чтобы схватить воров, когда они будут оттуда выходить.
– Так на кого же вы охотитесь, на лисиц или на людей?
– На людей, мистер Флауэр. Я должен вам все объяснить. Речь идет о злоумышленниках, которые крадут медь с нашей шахты. Отец хочет их арестовать в назидание остальным. Он считает, что за всем этим стоит Морти Донован.
– Ну нет, против Морти Донована я не пойду. Разве не он продал мне отца Таунсер, той самой суки, о которой я только что говорил? Удивительная собака, Джон. Ты, я думаю, оценил бы эту пару по достоинству. Нет-нет, зачем это я буду валяться целую ночь на горе только для того, чтобы поссориться с Морти Донованом? Не понимаю, зачем ваш батюшка вообще вмешивается в это дело?
– Но, мистер Флауэр, вы же мировой судья, разве вы не считаете, что необходимо бороться с нарушителями закона?
– Стыдись, Саймон, – сказала его жена. – Бедный мистер Бродрик там, в Дунхейвене, день и ночь трудится над тем, чтобы спасти от расхищения шахту, которая принадлежит ему и моему отцу, а ты не хочешь пальцем шевельнуть, чтобы ему помочь. Я очень сожалею, мистер Бродрик, что мой деверь сейчас в отъезде. Граф Мэнди никогда бы не стал сидеть сложа руки и смотреть на то, как творится беззаконие, и, смею сказать, если я воспользуюсь своим влиянием на него и пошлю ему весточку…
– Это очень любезно с вашей стороны, сударыня, однако дело это не терпит отлагательства. Мне кажется, мой отец надеялся, что мистер Флауэр поедет с нами сегодня же.
– Сегодня? Это невозможно. Сегодня я не двинусь с места, даже если сюда нагрянут все воры Европы, – театральным голосом заявил Саймон Флауэр. – Пусть Морти Донован крадет медь и пусть она принесет ему больше счастья, чем она приносит нашему дому. – И, плотнее нахлобучив на голову шляпу, Саймон Флауэр снова уселся за фортепиано.
Генри посмотрел через стол на Джона и пожал плечами, но в этот момент дверь распахнулась и в гостиную влетела дочь Саймона. Лицо ее пылало, глаза гневно сверкали, каштановые волосы спутались, свободно рассыпавшись по плечам.
– Черт знает что! – кричала она. – Надо же! Я этого не потерплю, я ей так прямо и заявила. Расцарапала ей физиономию и заперла в бельевом шкафу. Чтобы она там сдохла!
С этими словами она захлопнула крышку фортепиано, заставив отца прекратить игру, и стояла, тяжело переводя дух и глядя на мать с вызывающим видом.
Явление, столь внезапно представшее перед молодыми Бродриками, произвело на них потрясающее впечатление. Они вскочили на ноги, потеряв дар речи от смущения, – и впрямь, семнадцатилетняя Фанни-Роза Флауэр могла привести в полное онемение любого мужчину, способного ценить женскую красоту.
Гнев, во власти которого она находилась, делал ее прелестное лицо еще краше: румянец, пылающий на щеках, придавал особую глубину ее зеленым, чуть раскосым глазам, а небрежно растрепанные волосы делали ее похожей на вакханку, явившуюся из дикого леса. То, что она была босой, казалось, вполне соответствовало ее характеру. Только теперь она заметила, что у родителей гости.
– Здравствуйте, – сказала девушка с царственной повадкой матери и с улыбкой отца. – Прошу прощения за то, что помешала, но я поругалась со своей гувернанткой и очень надеюсь, что эта ссора будет последней.
– Фанни-Роза, – сказала ее мать, – ты меня удивляешь и огорчаешь. Что подумают о тебе мистер Бродрик и его брат? А мисс Харис? Она же задохнется в бельевом шкафу.
Миссис Флауэр в большом волнении покинула гостиную, в то время как ее супруг, готовый отнестись к выходке дочери с полным снисхождением, поглядывал на нее из-за фортепиано.
– Мне никогда не нравилась эта мисс Харис, – сказал он. – В ней есть что-то низкое и лицемерное, а нам это совершенно не подходит. И вообще, тебе давно пора обходиться без гувернантки.
Фанни-Роза, успокоившись после приступа гнева, глянула краешком глаза на братьев Бродрик и уселась в кресло своей матери.
– А я думала, что вы оба в Лондоне, – приветливо сказала она. – Мне казалось, что вы приезжаете в Клонмир только на Рождество, это правда?
Генри вдруг поймал себя на том, что снова рассказывает историю, связанную с шахтой, однако на этот раз он нашел более благодарную аудиторию. Фанни-Роза сидела, скрестив свои босые ноги и не сводя с него глаз.
– Как бы мне хотелось поехать вместе с вами, – сказала она, – вместо папы. Было бы очень интересно сидеть в засаде на горе, да еще посреди ночи. А если бы пришлось драться с нашими шахтерами, я бы ничуть не испугалась.
– Я тебе вот что скажу, – обратился к дочери Саймон Флауэр, – судя по твоей сегодняшней стычке с мисс Харис, ты вполне готова ввязаться в любую драку. Не сомневаюсь, что любой из этих юношей с удовольствием взял бы тебя с собой, посадив позади себя на лошадь, а уж ты бы не ударила в грязь лицом. Однако ты нам не рассказала, что у тебя произошло с мисс Харис.
– Она заявила нам с Тилли, что нам пора учиться аккуратно складывать свою одежду, а я ответила, что не намерена этого делать. Все молодые леди, сказала она, должны уметь следить за своими вещами и не разбрасывать свою одежду повсюду, как это делают судомойки. «Что бы сказал ваш дядя Мэнди, если бы увидел, какие вы неряхи?» – поучала она. «Он бы меня, наверное, простил, если бы я села рядышком с ним, погладила бы его бакенбарды и сказала бы ему, какой он красивый», – ответила я ей. После этого она засопела и велела мне выучить наизусть страницу французских глаголов, тут я и расцарапала ей физиономию и заперла ее в бельевом шкафу, как вам уже известно, и я вижу по вашим глазам, что вы бы сделали с ней то же самое, мистер Бродрик.
Фанни-Роза лукаво посмотрела на Джона, который покраснел до корней волос, и потихоньку рассмеялась. После этого она взяла из вазочки большой кусок кекса и налила себе чаю, в то время как молодые Бродрики с восхищением смотрели на ее босые ножки, не в силах оторвать глаза от этого очаровательного зрелища.
– Вы ведь бывали на континенте, правда? – спросила она у Генри, набивая рот кексом. – Я все про вас знаю, наш лакей – двоюродный брат вашей кухарки. Мы тоже были в Париже прошлой зимой, дедушка дал папе денег на новые портьеры для маминой спальни, а мы вместо этого поехали в Париж.
– Верно говоришь, плутовка, – сказал Саймон Флауэр, глядя на дочь. – Вы знаете, когда мы бывали в картинных галереях, то за нами из зала в зал тащился целый хвост молодых французов, так что в конце концов нам начинали кланяться, решив, что это шествует какая-нибудь царственная особа со свитой.
– Гувернанткой у меня тогда была мисс Уилсон, – сообщила Фанни-Роза, – и я два раза от нее убегала, когда мы гуляли по улицам; она думала, что меня украли, и в слезах бежала в полицию, но они там ничего не понимали, они же французы. А когда мы вернулись домой, ей пришлось уехать в какую-то тихую деревню, чтобы отдохнуть, потому что у нее сделалось нервное расстройство. Вы не поверите, после четырнадцати лет у меня было по крайней мере десяток гувернанток, но вот в прошлом месяце мне исполнилось семнадцать, так что теперь с гувернантками покончено.
– Заодно ты доконаешь и своих родителей, – сурово обратилась к дочери миссис Флауэр, которая в этот момент вошла в комнату, так и не сумев умилостивить несчастную мисс Харис. – Вы должны почитать себя счастливым, мистер Бродрик, что ваши сестрицы ведут себя прилично, а не так, как моя дочь, и я надеюсь, что, когда вы вернетесь домой, вы не расскажете мисс Бродрик о том, что происходит здесь.
– Вот что я вам скажу, дети мои, – воскликнул вдруг Саймон Флауэр. – Зачем вам вообще возвращаться домой? Пусть ваш отец отправляется к своим норам и сторожит там шахтеров, если ему этого хочется, а вы оставайтесь-ка с нами обедать, а потом мы снова отправимся в погреб и возьмем с собой Фанни-Розу.
Однако Генри отрицательно покачал головой и двинулся к двери, к великому разочарованию своего брата.
– Вы очень добры, сэр, – сказал он, – но мы и так слишком задержались. Отец будет беспокоиться, подумает, что с нами что-то случилось.
Саймон Флауэр беззаботно махнул рукой и снова уселся за фортепиано.
– Я как-нибудь приеду поохотиться с вашим батюшкой на острове Дун, – сказал он. – Никогда не отказываюсь от подобного приглашения. Но ползать на животе, гоняясь на Морти Донованом, – вот уж нет, от этого увольте. Так прямо и скажите вашему батюшке.
Он снова ударил по клавишам и запел веселую песню, к которой тут же присоединился сеттер, так что Бродрики уезжали из замка Эндрифф под аккомпанемент нестройных аккордов фортепиано, звучного баритона Флауэра и лая по крайней мере полудюжины собак, в то время как старшая дочь дома, прелестная босоножка, махала им ручкой, стоя на каменных ступенях.
Очарованные и смущенные, не вполне протрезвевшие после выпитого вина, братья скакали домой таким аллюром, который привел бы в ярость Медного Джона, их отца, если бы он мог их видеть. Только подъехав к Дунхейвену, они слегка сдержали лошадей, и Генри в какой-то степени обрел способность соображать.
– Ты знаешь, Джон, – обратился он к брату, – отец совершенно прав. Пока в этой стране живут такие люди, как Саймон Флауэр, она никогда не достигнет процветания.
Джон ничего не ответил. Процветание страны ничего для него не значило. Пусть себе Генри продолжает свои критические рассуждения, пусть он ругает Саймона Флауэра, сколько ему угодно. Джона сейчас занимало только одно: никогда в жизни он не видел ничего более прекрасного, чем дочь Саймона Флауэра.
5
В одну из суббот все семейство Бродрик собралось после раннего, как обычно, обеда у камина в библиотеке. Весь день Джейн собирала в лесу шишки и теперь подбрасывала их одну за другой в камин поверх тлеющего торфа; они шипели и стреляли в пламени, заглушая шум ветра, который выл и стонал в ветвях деревьев позади Клонмира. На море бушевал настоящий шторм, но длинные волны Атлантики не достигали входа в Дунхейвен, поскольку вытянутый в длину раскоряченный остров Дун служил естественным волнорезом.
Было время отлива, и вода в заливе, у самого подножия замка, быстро отступала, покрываясь зыбью от сильного ветра, однако сам Клонмир был так хорошо защищен от натиска бури, что лишь тогда, когда верхушки деревьев вздрагивали под порывами ветра, можно было догадаться, что хорошей погоде наступил конец.
Генри сидел за письменным столом отца и писал письмо Барбаре в Летарог, в то время как Джон, развалившись в самом удобном кресле, одной рукой рассеянно ласкал свою любимую борзую, а в другой руке держал книгу, которую он не читал. Он пристально смотрел на шишки, наблюдая за тем, как они вспыхивают ярким пламенем, а Джейн, глядя на его полузакрытые глаза, пыталась догадаться, о чем он думает.
Неделя прошла спокойно. Случаев воровства больше не было, и хотя на склоне горы каждую ночь выставлялись сторожа, там, кроме них самих, никто не появлялся. И тем не менее в воздухе ощущалось непонятное беспокойство, тревожное чувство надвигающейся опасности. Шахтеры работали молча и угрюмо, бросая подозрительные взгляды друг на друга.
Тяжелая атмосфера царила не только на шахте. В самом Дунхейвене, когда Джейн однажды отправилась в сопровождении старой Марты за покупками в лавку Мэрфи и, как обычно, стала весело болтать с хозяином, которого она знала с младенческого возраста, последний вел себя как-то странно, избегал смотреть ей в глаза и, пробормотав какие-то извинения, ушел в задние помещения, оставив Джейн на попечение молодого и неумелого приказчика. К тому же ей казалось, что люди на рыночной площади смотрят на нее враждебно, а когда она здоровалась с ними, как обычно, они отворачивались, делая вид, что не замечают ее. Дунхейвен внезапно превратился в такое место, где постоянно шепчутся, выглядывают из дверей и тут же скрываются, и Джейн, у которой в сердце находилось местечко для всякого приезжего и в особенности для каждого обитателя Дунхейвена, возвратилась домой с тяжелым чувством, с ощущением грозящей им всем опасности.
– Не нравится мне это, – говорила она Генри. – По-моему, отец недостаточно серьезно относится к тому, что происходит на шахте. Он думает только о том, как бы изловить и наказать тех немногих, что крадут у него медь. Он не понимает, что шахту ненавидят все до единого – все жители Дунхейвена.
– Дело просто в том, что они завидуют, – отвечал Генри. – Они бы хотели пользоваться всеми преимуществами, которые дает медь, не затрачивая никаких трудов, чтобы ее добыть. Отец знает, что делает. Если не проявить твердость по отношению к местным жителям, то ничего нельзя будет сделать и всякий прогресс станет невозможным.
– Как нам было хорошо без этого прогресса.
– Это просто сантименты, ты наслушалась того, что говорит Джон.
Джейн бросила в огонь еще одну шишку. Шишка выплюнула сноп искр, зашипела и затихла. В комнате наступила тишина, слышался только скрип пера Генри да время от времени шелест, когда Джон переворачивал страницу книги. Вдруг собака насторожила уши и повернула морду в сторону двери; дверь распахнулась, и на пороге показался их отец, Медный Джон. Пальто его было застегнуто на все пуговицы, до самого подбородка, шляпа глубоко надвинута на лоб, так что были видны только его длинный нос и тонкие губы над решительным подбородком; в руках он держал свою любимую трость с набалдашником, короткую и суковатую, больше похожую на дубину. У него за спиной в передней стоял его приказчик Нед Бродрик – похоронное выражение его лица составляло разительный контраст с решительным видом его более удачливого брата.
– Я хочу, чтобы вы оба немедленно пошли вместе со мной, – сказал Медный Джон. – Через пять минут мы отправляемся на шахту. У подъезда дожидаются арендаторы, их человек пятнадцать; кроме них, там таможенный офицер Парсонс, почтмейстер Салливан, доктор Бимиш и еще два-три человека, которых удалось найти. Нельзя терять ни минуты.
Все трое молодых Бродриков поднялись на ноги. Генри – взволнованный и напряженный, готовый к любым действиям; Джон, внезапно выведенный из состояния задумчивости, казался растерянным; Джейн, бледная и встревоженная, стояла рядом с братьями, крепко сжимая руки.
– Что-нибудь случилось, сэр? – спросил Генри.
Медный Джон мрачно улыбнулся:
– Нам сообщили, что из Дунхейвена на Голодную гору направляется толпа человек в тридцать, а во главе – пятерка шахтеров, тех самых, что были под подозрением у капитана Николсона. Они, конечно, замышляют что-то недоброе, но я намерен этому воспрепятствовать.
Джейн вышла вместе с отцом и дядюшкой в холл, где ее братья уже надели пальто и застегивались; в тусклом свете свечи их лица казались бледными и возбужденными. Входная дверь была открыта, и у подъезда она увидела группу мужчин. В ожидании ее отца они стояли, переминаясь с ноги на ногу, на гравии подъездной аллеи и шепотом переговаривались между собой. Некоторые из них размахивали фонарями, каждый держал в руке толстую палку.
Дождя пока еще не было, но дул порывистый ветер, и по небу стремительно неслись рваные облака. Было около половины девятого, стояла полная тьма. Луны не было, лишь светлые точечки звезд порой появлялись на темном небе и тут же исчезали.
Медный Джон и оба его сына присоединились к группе мужчин, собравшихся у подъезда, и Джейн, стоя у открытой двери, наблюдала за тем, как они скрылись в темноте, слышала топот тяжелых сапог по гравию, видела, как из-за угла от конюшни появились Кейси и Тим с лошадьми; через минуту вся группа скрылась за поворотом, двигаясь к подъездной аллее, а потом дальше, через парк и вверх по дороге, в сторону Голодной горы.
В Дунхейвене все было тихо и спокойно, деревня спала. Двери были заперты, в окнах ни огонька; ни на улицах, ни на площади не было ни одного человека, и ничто не нарушало ночную тишину, только волны бились о берег возле причальной стенки.
На выходе из деревни Медный Джон велел остановиться, и группа разделилась надвое. Одна часть во главе с самим Медным Джоном и Генри продолжала подниматься по дороге по направлению к шахте, остальные, среди которых был Джон, направились к тому месту на склоне горы, где был выход из шахты на поверхность. Здесь, на высоте, они испытали на себе всю силу ветра, который заставлял их мчаться вперед, не разбирая дороги, спотыкаясь о камни, путаясь ногами в вереске, и самый младший из Бродриков, теперь, когда он был один и рядом не было ни отца, ни брата, ощутил новое, непривычное волнение, нечто похожее на восторг, не связанное ни с шахтой, ни с разгневанными обитателями Дунхейвена, – просто это было то, что он любил и понимал: борьба с ветром на Голодной горе. Внизу под ним расстилается море, омывающее берег залива Мэнди-Бей во всю его длину, оно катит свои волны к замку Эндрифф, и, может быть, Фанни-Роза слушает их шум из своего окна, и до нее тоже доносится рокот волн, принесенный ветром, однако это не гневное ворчание, а размеренные звуки торжественного гимна. Люди, шедшие следом за ним, чертыхались, проклиная неровную почву; неистовый ветер забирался им под одежду, надувая ее пузырями. Джон поднял глаза вверх – по небу наперегонки неслись тучи; первые капли дождя с силой ударили по лицу, знаменуя собой приближение бури, и он, смеясь, стал еще быстрее подниматься по склону, уверенно находя точку опоры среди камней и влажного, льнущего к ногам мха, вдыхая сладкий пронзительный запах вереска, которым был напоен воздух. Наконец они добрались до выхода из шахты, так хорошо скрытого в зарослях дрока, что в темноте и под начинавшимся дождем его почти невозможно было обнаружить, и стали ждать, укрывшись, насколько это было возможно, под выступом скалы, а ветер дул с неослабевающей силой, и ночь становилась все темнее. В их группе находился и Нед Бродрик. Он сидел, скорчившись в вереске, возле племянника, мрачный и насупленный, покусывая время от времени кончики пальцев, чтобы восстановить в них кровообращение.
– Надо бы вашему батюшке прийти к соглашению с Морти Донованом, мастер Джон, – сказал он. – Мне-то не раз приходилось улаживать споры с помощью стаканчика виски. Но батюшка ваш человек гордый, очень уж много о себе понимает, а у Морти Донована тоже есть своя гордость. Ничего хорошего нынче ночью не получится. А что до меня, то сидел бы я сейчас у себя дома в Оукмаунте, задернул бы занавески и знать бы не знал, что здесь делается.
– Я не сомневаюсь, что ты бы так и сделал, Нед, – сказал Джон. – Но сейчас-то мы на Голодной горе, и, поскольку выбора у нас нет, нужно с этим примириться.
– Что человеку нужно, так это благоразумие, – продолжал Нед. – С тех самых пор, как я служу приказчиком у вашего батюшки, я поставил себе за правило: разговаривая с ним, я соглашаюсь с тем, что говорит он, а когда имею дело с арендаторами, то соглашаюсь с ними. Таким образом, все остаются довольными и никто не в обиде. Я еще ни разу в жизни ни с кем не поссорился.
– А как же ты выходишь из положения, Нед, когда арендаторы не вносят вовремя деньги? Как тебе удается заставить их отдавать долги?
– Ну, между нами говоря, мастер Джон, я знаю, какие цифры нужно записывать в книгу, чтобы казалось, будто они всё заплатили, хотя я иногда не вижу ни единого пенса из этих денег. Однако не хотите ли выпить капельку чего-нибудь эдакого для поддержания духа? – Воровато оглядевшись, приказчик достал из глубокого кармана пальто бутылку и, опустившись среди вереска на колени, со вздохом удовольствия поднес ее ко рту. – Должен вам сказать, мастер Джон, – проговорил он, утираясь рукавом, – что я всей душой предан вашему семейству и, если Морти Донован задумает кому-нибудь из вас навредить, он это сделает только через мой хладный труп. Что же касается до вас лично, мастер Джон, то вы самый лучший из всех, да не посетует на меня мастер Генри.
Джон засмеялся, прекрасно зная, что, будь сейчас на его месте Генри, Нед сказал бы то же самое про него, и отхлебнул «капельку эдакого», которое оказалось адской смесью производства, по всей видимости, самого Неда, поскольку напиток этот больше всего напоминал жидкий пламень. Он вернул бутылку Неду как раз вовремя, ибо в этот момент к ним подбежал один из мужчин, которые караулили в некотором отдалении от них.
– Там, на востоке, какое-то зарево, мистер Джон, – выкрикнул он. – Мне сдается, что нынче ночью шахтеры и не собираются сюда являться. Вместо этого они подожгли шахту.
Остальные караульные, крича и возбужденно жестикулируя, побежали вниз по склону, и тут Джон увидел, как из-за верхушки соседнего холма в небо взвился багрово-красный язык пламени.
– Он верно говорит, мастер Джон! – закричал приказчик. – Нынче никто не собирается ползать по штольням и прочим кротовым норам, а если они задумали какую пакость, то будут пакостить на земле, наверху, где копер и другие постройки. Да покарает Господь этих негодяев за их сатанинские деяния!
– Эй, посмотрите-ка сюда! – вдруг закричал один из арендаторов. – Кто-то едет по дороге на тележке, а в оглоблях – осел. Глядите, как тележка подпрыгивает на камнях да на вереске – как пить дать, сейчас перевернется.
– Можно подумать, что осел знает эту местность, как свое стойло, или же его заколдовали, – сказал второй. – Смотри, свалился… нет… кучер направляет повозку вон на ту тропинку. А как он гонит несчастную скотину, лупит его ручкой от кнута, ну совсем спятил!
Тележка, влекомая ослом, кренясь и подпрыгивая на неровном грунте, неслась с дикой, поистине безумной скоростью, приближаясь к группе мужчин, в то время как сидящий в ней человек что-то кричал и хохотал, указывая в их сторону кнутом; длинный черный плащ ездока надувало ветром, делая его похожим на какую-то фантастическую фигуру.
– Это сам дьявол! – закричал кто-то из мужчин. – Сам дьявол вырвался из ада, чтобы всех нас погубить! – И они стояли в растерянности, не зная, то ли бежать сломя голову, то ли броситься ничком на землю, моля о спасении. Но потом один из мужчин, менее суеверный, чем другие, с возгласом облегчения обернулся к остальным.
– Это Морти Донован! – крикнул он. – Посмотрите на его лицо, посмотрите на глаза! Мастер Джон, мне сдается, что он помешался, совсем ума решился.
Старик, с трудом сохраняя равновесие, едва держался на краю тележки, вытянув вперед хромую ногу. В одной руке он держал вожжи, направляя своего осла, в другой – кнут, которым размахивал над головой. Подъехав к стоявшим на склоне холма мужчинам, он остановил повозку и, вглядевшись в темноту и узнав среди стоявших Джона, снова стал хохотать, что-то выкрикивая и раскачиваясь из стороны в сторону, изображая безумное веселье.
– Пытаетесь, значит, меня изловить, вот как? – кричал он. – Повязать здесь, на горе, и отправить в тюрьму? Так вот, скажу я вам, вы попусту теряете здесь время. Ребята развели хороший костер на шахте вашего папаши, мастер Джон, к утру там не останется ни щепочки, ни камня. Так что отправляйтесь туда, к папаше и братцу, горите все огнем и будьте прокляты, вот что я вам скажу.
Старик снова щелкнул кнутом, с проклятиями понукая осла, и помчался дальше.
– Остановите его! – крикнул кто-то. – Хватайте осла за узду, ведь он искалечится!
Один из мужчин бросился к ослу; испуганное животное дернулось в сторону, отчего человек свалился в вереск, в то время как Джон, вскочив на подножку тележки, пытался вырвать из рук Морти Донована кнут. Однако старик оказался проворнее него. Он обернулся и с громким проклятием вытянул Джона кнутом по голове, ослепив его на мгновение и продолжая изрыгать ругательства, ибо его бурное веселье сменилось слепой яростью.
– Сегодня ночью я предал проклятью твоего отца и твоего брата, а теперь проклинаю тебя, Джон Бродрик, – кричал он, – и не только тебя, а и твоих сыновей, что придут после тебя, и внуков твоих, и пусть их богатство не принесет им ничего, кроме горя и отчаяния, пусть введет их во грех, так что последний из них со стыдом и унижением будет стоять посреди развалин его, тогда как Донованы возвратятся в Клонмир, на землю, что принадлежит им по праву!
Джон соскочил с тележки, обливаясь кровью из раны, нанесенной кнутом, плохо соображая после удара, а его спутники, потрясенные и испуганные силой страсти этого старого человека, расступились, давая ему дорогу. Только Нед Бродрик, казалось, не испытывал особого страха или беспокойства.
– Полно, мистер Донован, – сказал он, протягивая ему руку с неуверенной улыбкой, – никто из этих людей, включая и мастера Джона, не желает вам зла, Бог тому свидетель. Я сам поговорю с мистером Бродриком и попрошу его, в качестве личного мне одолжения, высказать свое беспристрастное мнение…
Однако Морти Донован остановил его, презрительно смеясь.
– Заткни-ка ты свою глотку, болван, – сказал он. – Иди, спрячься за бабьей юбкой. Разве в твоих жилах не течет та же дурная кровь? Дай мне проехать, дьявол тебя забери!
И осел снова двинулся вперед, Морти Донован продолжал размахивать кнутом, а тележка, кренясь то на один, то на другой бок, устремилась в темноту, пока не скрылась из глаз за изгибом холма.
– Вам очень больно, мастер Джон? – обратился дядюшка к молодому человеку, заглядывая ему в лицо. – Может быть, вам лучше поехать домой, чтобы вам промыли рану? Мне кажется, здесь мы больше ничего не можем сделать.
– Не беспокойся, Нед, это скоро пройдет. Как же мы можем ехать домой? Ты слышал, что сказал этот старый безумец? Они подожгли шахту. Мы должны ехать туда, не теряя ни минуты, больше не о чем и говорить.
По его лицу обильно текла кровь, в голове болезненно пульсировало, от прежнего восторженного настроения не осталось и следа, и, повернувшись лицом к ветру и дождю, который заметно усилился, Джон во главе всей группы направился в сторону шахты. Минут через двадцать они вышли в темноте на дорогу, ведущую к руднику, и увидели в конце ее высокий копер, озаренный светом пламени, услышали гул голосов, крики, громко отдаваемые распоряжения. Они увидели, что на шахте царит невероятный беспорядок: люди в темноте натыкаются друг на друга, кто-то отдает приказания, другие язвительно смеются, и вся масса людей настолько перемешана, что невозможно разобрать, кто из них свой, а кто чужой, где друзья, а где враги.
– Это горят лачуги корнуолльцев, – сказал один из арендаторов, сопровождавших Джона. – Взгляните на дорогу, сэр, все до одной пылают.
Так оно и было: деревянные домишки оказались желанной добычей для огня, и на крошечных участках, отведенных шахтерам под огороды, стояли женщины с детьми, испуганные и дрожащие, в то время как мужчины пытались остановить огонь с помощью ведер воды, которые они передавали друг другу по цепочке.
Собственно рудник пока не пострадал, потому что Джон Бродрик и его люди встали стеной, заслоняя собой шахту и прочие постройки, так что бунтовщики не могли к ним подойти, не вступая в драку, к которой они отнюдь не были готовы. Поэтому они удовольствовались тем, что стали рушить домишки корнуолльцев, таща оттуда все, что только возможно, наводя страх на женщин и детей. Когда Джон со своими людьми прибыл на место действия, некоторым бунтовщикам, в основном заводилам этого бунта, удалось проникнуть на обогатительную фабрику; подзадориваемые снаружи своими более робкими товарищами, они занимались тем, что с торжествующими дикими криками переворачивали вагонетки и выбрасывали их содержимое через раскрытые двери.
Вдруг кто-то схватил Джона за руку, это был Генри, который стремительно выскочил из дверей конторы и потащил его в укрытие, под защиту здания.
– Спокойно, ложись на землю, – прошептал Джону брат, – сейчас отец задаст этим мерзавцам, они у него запрыгают.
Он дрожал от возбуждения, указывая на две фигуры – это были его отец и капитан Николсон, – которые стояли невдалеке от здания, держа что-то в руках. Медный Джон был без шляпы, пальто его было расстегнуто, так что видна была вся его мощная фигура, а длинные волосы развевались на ветру. Он оглянулся, увидел своего младшего сына и подмигнул ему, указав на предмет, который держал в руках капитан Николсон.
Джон сразу же понял, что они задумали, и похолодел.
– Боже мой, Генри! – воскликнул он. – Это же убийство!
Брат ничего не ответил, он продолжал следить за тем, что делают отец и Николсон. Рудокопы были слишком заняты и не заметили двух мужчин, которые незаметно подкрались к обогатительной фабрике и, нагнувшись к основанию стены, что-то там делали. Через минуту эти двое выпрямились и быстро побежали назад к конторе, где их ожидали Джон и Генри, и, так же как и они, бросились на землю.
– Ну, теперь они никуда не денутся, – сказал Медный Джон, и его младший сын заметил торжество в его глазах и твердой линии губ.
С минуту все было тихо, а потом раздался оглушительный взрыв, в воздух взметнулись камни и обломки, послышались душераздирающие крики.
Медный Джон поднялся на ноги и, не говоря ни слова, обернулся к Николсону. Затем он первым вышел из конторы и постоял, глядя на картину, открывшуюся его взору.
Обогатительная фабрика, мгновенно взлетевшая на воздух от мощного порохового заряда, представляла собой груду развалин; устоял лишь дальний конец здания, который теперь был объят пламенем. Оттуда выскочил единственный оставшийся в живых шахтер из тех шести, что три минуты назад орудовали на обогатительной фабрике, оглашая ее победоносными криками.
При виде этого зрелища над толпой взметнулся вопль ужаса и отчаяния; люди, опасаясь того, что этот взрыв лишь первый, что за ним последуют другие и все они будут уничтожены, в панике бросились бежать с криками и воплями, торопясь как можно скорее выбраться из этого места, падая и давя друг друга, так что через минуту широкий проход к шахте представлял собой беспорядочную массу рвущихся прочь людей, освещенную зловещим пламенем горящей фабрики.
– Догнать их! – крикнул Медный Джон. – Не дайте им скрыться! – И, врезавшись в толпу, он бил по головам направо и налево своей толстой тростью, похожей на дубину, а за ним устремился Николсон и другие его помощники, в то время как Джон стоял на пороге конторы, совершенно обессиленный, борясь с приступами тошноты, а едкий запах пороха забивал ему ноздри, и он ничего не видел, кроме квадратной фигуры отца, который бил по головам испуганных шахтеров, а они бросались от него в разные стороны, ошеломленные и отчаявшиеся, – весь боевой дух покинул их при виде ужасной гибели вожаков. Потом послышался пронзительный визг женщин и детей, оказавшихся под ногами бежавших в панике мужчин, а пламя, пожиравшее их домишки, потерявшее силу, оттого что у него не было больше пищи, окончательно погасло под потоками дождя, хлынувшего из черных туч и мгновенно промочившего до нитки всех, кто находился на месте действия. Наступившая темнота и внезапный ливень еще усилили сумятицу – друг нападал на друга, враг обнимался с врагом, и сквозь все это море звуков слышался уверенный голос Медного Джона, который командовал, давал советы и указания Николсону и другим своим помощникам, призывая на помощь Генри, а Джон все стоял на пороге конторы, глядя на груду развалин, в которые превратилась обогатительная фабрика.
Была уже половина третьего к тому времени, когда на шахте восстановили относительный порядок. Человек десять шахтеров были арестованы и посажены под замок в конторе, остальные разбежались – либо для того, чтобы спрятаться где-нибудь на горе, либо для того, чтобы вернуться домой в Дунхейвен, в расчете на то, что в темноте никто не узнает об их участии в бунте. Ливень прекратился, теперь с неба падал ровный мелкий дождик, который окончательно загасил огонь, так что на месте домов корнуолльцев остались только мокрые дымящиеся головешки. Их семьи провели остаток ночи в помещениях самой шахты, надеясь, что утром для них что-то будет сделано. Больше до наступления рассвета ничего нельзя было предпринять, однако Медный Джон уже сидел в конторе со стаканом подогретого рома в руке и диктовал распоряжения капитану Николсону.
– Я полагаю, мы вполне можем рассчитывать на то, что с людьми из Дунхейвена у нас больше не будет никаких неприятностей. Они вернутся на работу, во всяком случае те, что не сбежали и не прячутся на горе, а может случиться и так, что завтра придут наниматься новые люди. Кстати, со штреком, который ведет из шахты на поверхность, мы поступим так же, как и с обогатительной фабрикой. Не забудьте, капитан Николсон: то, что осталось от фабрики, нужно разобрать в течение сорока восьми часов, чтобы как можно раньше можно было расчистить площадку и приступить к сооружению на этом месте нового здания. Кроме того, нужно предать земле тех, кто лежит там, под этими развалинами, вернее, то, что от них осталось, – я полагаю, осталось не так уж много… А теперь, джентльмены, я должен поблагодарить вас всех за ту помощь, которую вы оказали мне нынешней ночью. Вы увидите, что я в долгу не останусь. Тех из вас, кто не слишком утомлен, приглашаю отправиться вместе со мной и моими сыновьями в Клонмир, где моя дочь будет иметь удовольствие предложить вам закуску.
Его помощники, промокшие и измученные, едва не падая с ног от усталости, один за другим извинились и отказались от приглашения, и Медный Джон под дождем и в кромешной тьме, которая обычно наступает перед рассветом, сел на лошадь и поехал по безмолвным улицам Дунхейвена к себе в Клонмир в сопровождении своих сыновей. Джейн, Марта и остальные слуги в волнении и тревоге ожидали их, столпившись в холле; увидев, что они возвращаются целыми и невредимыми, старая Марта разразилась слезами и принялась бранить своего хозяина, качая головой и горестно цокая языком при виде распухшего лица Джона.
– Полно, полно, Марта, – уговаривал ее Медный Джон, делая знак слугам, чтобы они шли спать. – Никто из нас не пострадал, кости у всех целы. Рана у Джона быстро заживет, я в этом нисколько не сомневаюсь. Все, что нам сейчас нужно, – это поесть, выпить и обогреться у жаркого огня в камине, а потом как можно скорее в постель, чтобы хоть ненадолго соснуть, ибо завтра у нас будет много дел.
Они стояли в библиотеке, четверо Бродриков: отец – со стаканом в руке, заложив вторую руку за спину; его суровое лицо смягчилось, когда он с улыбкой обернулся к дочери, которая тоже улыбнулась ему в ответ, однако была по-прежнему бледна и так встревожена, что ее улыбка казалась всего-навсего тенью настоящей улыбки; Джон стоял, опершись локтями о каминную полку и обхватив руками голову; лицо у него распухло и побледнело, в то время как Генри, мокрый до нитки, так что платье прилипало к его худому телу, дрожал от холода. Он поднял бокал и чокнулся с отцом.
– Во всяком случае, – сказал он, – мы их одолели, несмотря ни на что, верно, отец?
– Да, – ответил Медный Джон, – мы их одолели, Генри.
Они выпили вместе, улыбаясь друг другу поверх бокалов.
Шахта, думала Джейн, шахта осталась в целости, она по-прежнему будет работать на Голодной горе, а Морти Донован проиграл в этой игре. Брат и отец в безопасности. У Джона распухло лицо, но больше ничего худого не случилось. Эту сцену она запомнила на всю жизнь: отец и сын поднимают бокалы в ознаменование благополучного окончания неприятностей. И еще она запомнила, как Джон, отвернувшись от камина, посмотрел на бледного дрожащего Генри и, вдруг рассердившись, сказал:
– Ради бога, Генри, пойди и переоденься, ты простудишься насмерть.
Она запомнила, как стучит в оконное стекло дождь, как тихо шелестит листва под вздохами ветра за окном; запомнила и то, что, хотя все они были в безопасности, ей все равно было страшно.
Все молодые Бродрики крепко спали в эту ночь, а их отец, Медный Джон, заворочался во сне, нахмурился и что-то пробормотал, словно ему что-то приснилось. Ветер еще немного повздыхал и затих; дождь пошептал, покапал и успокоился. А там, далеко, в пяти милях от замка, стоял среди вереска маленький ослик, дрожа всем телом, рядом с ним валялась перевернутая тележка, придавив собой мертвое тело Морти Донована, который сжимал в окоченевших руках камни и мох с Голодной горы.
6
Первого числа каждого месяца Джон Бродрик из Клонмира, как бы он ни был занят другими делами и что бы ни случилось в тот день, писал письмо своему партнеру Роберту Лэмли из Данкрума с отчетом о состоянии дел на принадлежащей им шахте на Голодной горе в Дунхейвене. Это было одно из строгих правил, которые он установил для себя с самого начала их партнерства, и хотя он не испытывал особых дружеских чувств к Роберту Лэмли и виделся с ним не чаще двух-трех раз в год, все равно каждый месяц отправлялось письмо – из Клонмира, Бата, Лондона, Бронси или Летарога, – написанное аккуратным угловатым почерком и запечатанное гербом Бродриков: рука в стальной перчатке, сжимающая кинжал, – и сложенное таким образом, как это было принято в те времена.
Имею удовольствие сообщить Вам, мой дорогой мистер Лэмли, – писал он, – сумма моего и Вашего дохода за этот год превышает предыдущую, и сего дня, то есть четырнадцатого февраля, я перевел на Ваш счет в банке в Слейне сумму в две тысячи фунтов.
Очень типично для Джона Бродрика было то, что эта приятная информация сопровождалась небольшой горькой пилюлей.
К сожалению, должен Вам сообщить, – продолжал он, – что расходы в нынешнем году были также достаточно велики: я был вынужден установить еще одну паровую машину, стоимость которой будет вычтена из доходов будущего года. Однако цены на медь в настоящее время достаточно высоки, и, мне кажется, имеет смысл рискнуть значительной суммой, для того чтобы произвести разведку соседнего участка, примерно в четверти мили от шахты, в северной части горы, над дорогой. Разведка обойдется довольно дорого, однако польза, которую такого рода работы принесут этой стране, настолько очевидна, что я бы рискнул произвести известные затраты и заложить вторую шахту, несмотря на то что доходы от нее будут не столь велики.
Итак, была заложена новая шахта, заработал рудник, были наняты рабочие, куплены пароходы для доставки руды из Дунхейвена в Бронси на медеплавильные заводы, и мало-помалу, а потом все быстрее, состояние Бродриков росло, и Медный Джон расширял свои владения в Клонмире, прикупая земли с одной, с другой стороны, земли на побережье за островом Дун, земли за Килином по дороге к Денмару.
Затем возникли вопросы назначения должностных лиц в Дунхейвене, и владелец Клонмира считал, что право распоряжаться в этом вопросе принадлежит ему, а не Роберту Лэмли.
К сожалению, мы в скором времени можем лишиться услуг доктора Бимиша, который пользует нас в Дунхейвене. Очень важно найти для графства знающего врача, который пользовал бы бедных и к которому в случае необходимости мы и сами могли бы обратиться, с уверенностью в том, что на него можно положиться. Мне дали понять, что доктор Армстронг, который обслуживает гарнизон на острове Дун, собирается выйти в отставку и не прочь поселиться где-нибудь в провинции, причем именно в наших краях. Полковник Лесли отзывается о его знаниях и способностях самым хвалебным образом, и мне кажется, что доктор Бимиш тоже знает его достаточно хорошо. Вам известно, что должность врача в графстве выборная, и голоса при выборах распределяются в зависимости от суммы денег, поступающих на медицинскую помощь по подписке. Поскольку то, что плачу я лично, вдвое или даже втрое превосходит все, что платят остальные, считаю нужным Вас уведомить, что именно мне принадлежат все голоса и что, если мне будет угодно и если доктор Армстронг согласится, эту вакансию займет он…
Не стоит и говорить, что доктор Армстронг согласился, к великому удовольствию молодых Бродриков, которые сразу с ним подружились.
Что же до Ваших арендаторов, – добавил Медный Джон, – по каковому вопросу Вы спрашивали моего совета в Вашем последнем письме, то могу сказать: я не одобряю Вашего намерения прощать задержки с внесением арендной платы. Те немногие арендаторы, которые платят вовремя и сполна, сочтут, что их добросовестность не приносит им никаких преимуществ по сравнению с должниками, и, конечно, не склонны будут в дальнейшем вносить плату столь же аккуратно. Моя же система заключается в том, чтобы отдавать землю неплательщиков более добросовестным арендаторам, с тем чтобы они работали и, соответственно, платили еще более старательно.
И Джон Бродрик, выражение лица которого с каждым месяцем становилось чуть более суровым, а линия рта еще более твердой, заключал свое послание сообщением о домашних делах.
Мы намереваемся перебраться на ту сторону воды в первых числах сентября, с тем чтобы провести зиму, как обычно, в Летароге. К сожалению, должен сообщить, что здоровье Генри по-прежнему неважно и мы все о нем тревожимся. Доктор, к которому он обращался в Брайтоне, сказал, что ему полезно было бы переменить климат на более теплый, и он собирается поехать на Барбадос, может быть даже не дожидаясь нашего отъезда в Летарог. Джон вполне благополучен, у него появились новые собаки, как обычно борзые, и он уверяет, что они потеряют форму, если он не сможет их как следует погонять перед наступающим сезоном, поэтому он хотел бы приехать с ними к Вам в Данкрум, когда Вы в следующий раз будете у себя. Дочери мои, к счастью, здоровы, они присоединяют, мой дорогой мистер Лэмли, свои наилучшие пожелания к моим…
И вот, под подписью подведена черта, письмо сложено и вручено Томасу, с тем чтобы он отнес его в Дунхейвен; таким образом, еще одна обязанность выполнена и о ней можно больше не думать.
Взяв трость, Медный Джон вышел из дома, чтобы пройтись по своим владениям. Он направился к заливу, чтобы посмотреть, высоко или низко стоит вода; оглядел лодку Джона, стоявшую у причала, бросил взгляд на садик Джейн, который она развела у лодочного сарая, посмотрел вверх на цапель, свивших гнезда на высоких деревьях; затем взгляд его скользнул через залив на дымок, вьющийся над трубами гарнизонных зданий на острове Дун, а потом, мимо Дунхейвенской гавани, к подножию Голодной горы. Обогнув дом, он оказался в огороде, где, конечно, встретил Барбару, занятую серьезной беседой со стариком Бэрдом на тему, как надо ухаживать за виноградной лозой, только что посаженной в оранжерее; потом через лес, насаженный его дедом, где в сосновых ветвях шелестел ветерок, совсем как прибой на песчаном берегу, по узеньким дорожкам, составлявшим гордость Барбары, к беседке, которую нынешней весной построили для Генри. Там он и лежал в своем шезлонге, а рядом сидела Джейн и читала ему вслух.
При виде отца Генри весело улыбнулся. Глаза его ярко блестели, на щеках горел яркий румянец, и отец, стараясь не замечать похудевшего тела, укрытого пледом, думал о том, что сын его действительно поправляется.
– Вы опять застали меня на месте преступления, сэр, – смеясь, говорил Генри. – Я ведь, как обычно, ленюсь. Должен вам признаться, я даже уснул вскоре после полудня и спал бы, наверное, до сих пор, если бы Джейн не подкралась ко мне и не начала читать мне стихи.
– Неправда, Генри, ты несправедлив ко мне, – упрекнула его сестра. – Я пришла сюда по твоей просьбе, и ты совсем не спал, просто лежал, положив руки за голову, а лицо у тебя было такое усталое. Мне даже жаль, что ты не спал. Доктор Армстронг говорит, что тебе нужно как можно больше отдыхать.
– Вилли Армстронг просто старая баба, – сказал Генри. – Кудахчет надо мной, словно я младенец, а не здоровый мужик, который просто слегка захворал, потому что имел глупость простудиться прошлой зимой. Вот увидите, каким я вернусь с Барбадоса, велю, пожалуй, сделать себе татуировку и отращу курчавую бороду. Вы гуляете, сэр? Можно я пойду с вами, а то мне уже надоело лежать?
Желая показать, как он презирает свою слабость, Генри откинул плед и встал на ноги, весело напевая какую-то песенку, и сразу же завел разговор о делах, касающихся имения; отец взял его под руку, и они направились через лес к ферме, принадлежащей собственно имению и расположенной в парке.
«Они зайдут слишком далеко, – думала Джейн, – отец так увлечется разговором, что обо всем забудет, а к вечеру Генри будет так утомлен, что за обедом ничего не станет есть, и Барбара встревожится, а если среди ночи мне случится выглянуть из моей комнаты, я непременно увижу полоску света из-под его двери, и станет ясно, что он опять не спит».
Она продолжала сидеть в маленькой беседке возле пустого кресла брата, пытаясь понять, какие мысли занимали Генри всю весну и все лето, когда он лежал здесь день за днем, поднявшись с постели после болезни. Генри, такой живой и деятельный, он так любит общество, путешествия, а теперь лишен всех этих удовольствий; у него даже нет сил помогать отцу в делах, связанных с шахтой. Любой другой на его месте сделался бы мрачным, беспокойным и раздражительным, но Генри, даже если он и испытывает такие чувства, ничем этого не показывает. У него всегда находится доброе слово и улыбка для каждого члена семьи, всегда наготове забавная шутка, он постоянно строит планы: что они будут делать, когда он поправится, как весело будут проводить время, какие пикники будут устраивать, как часто будут собираться вместе.
– Уж один-то пикник мы обязательно устроим, – сказал он в тот самый вечер, – прежде чем я уеду на Барбадос. Мы возьмем лошадей и отправимся на озеро на Голодной горе, совсем как тогда, когда мы были детьми, и доктор Вилли Армстронг тоже с нами поедет, и молодой Дикки Фокс – не красней, пожалуйста, Джейн, – и Фанни-Роза Флауэр, если ее отпустит миссис Уайт, и ее брат Боб, если у него еще не кончился отпуск, и все мы будем веселиться от души, и никто не будет болеть, печалиться и грустить.
Радость, вызванная предвкушением приятной поездки, так его взволновала, что у него сделался приступ кашля, и Джейн живо вспомнилась та ночь, когда Генри, весь промокший, стоял в библиотеке, дрожа от холода. Те дела, по крайней мере, закончились, нет больше воровства, нет никаких столкновений, и Морти Донована нет на свете. Сэм Донован продал ферму и держит лавку в Дунхейвене. В каком гневе был бы гордый старик: Донован – и вдруг лавочник, какой позор! Второй сын живет в маленьком домишке где-то по дороге на Денмар. Он держит пару-другую свиней и тайком приторговывает виски, не имея на это разрешения. Нет, Донованы никогда больше не будут беспокоить Бродриков. Старая шахта процветает, заложена новая, рабочих они нанимают больше, чем когда-либо. Все идет гладко. Все они были бы так счастливы, если бы не тревожились за Генри. И внезапно Джейн охватила легкая дрожь. Беседка без Генри казалась брошенной и унылой, Джейн стало одиноко и даже жутковато, словно брат уже уехал на Барбадос, к тому же и солнца уже не было – оно скрылось за густыми деревьями. Надо будет их проредить, подумала она, а то они совсем заслонили солнце, и оно не может заглядывать в беседку. И она взяла книгу, подушку с пледом и пошла через сад к дому.
Стоя на склоне повыше Клонмира, она видела, как лодка Джона, в которой вместе с ним сидел доктор Армстронг, подошла к причалу. Они ездили на остров Дун, чтобы погонять зайцев с борзыми, подготовить собак к состязаниям. Джон взглянул наверх; прядь темных волос упала ему на лицо. Он увидел сестру, рассмеялся и махнул ей рукой. Собаки на своре стояли на носу и дрожали от нетерпения, готовые выпрыгнуть на берег и туго натягивая сворку. Большой серебряный кубок, который они выиграли в прошлом сезоне, – предмет величайшей гордости Джона – красовался на каминной полке в столовой. Он показывал его Фанни-Розе Флауэр, когда она приезжала с отцом справиться о здоровье Генри. Джейн очень позабавило замечание Фанни-Розы, которая совершенно серьезно говорила Джону, что на кубке нужно выгравировать верхушку фамильного герба, а на собачьих попонах вышить весь герб целиком.
Бедняжка Джон, с каким смущенным видом он сидел, не говоря ни слова, в то время как Фанни-Роза пила чай, наблюдая за ним краешком глаза; и Джейн не могла понять, выражают ли слова девушки ее собственные мысли, или же они продиктованы снобизмом, унаследованным от матери. А может быть, она говорила все это просто, чтобы подразнить Джона и позабавиться.
«Как она, однако, хороша, – думала Джейн, – как весело с ней разговаривать и как странно, что доктор Армстронг, гостивший в Клонмире одновременно с Флауэрами, так убежденно сказал после их отъезда, что Фанни-Роза слишком уж смела и беспокойна, на его вкус, и что ее легкомыслие объясняется не просто молодостью, а вообще свойственно ее натуре». – «А какие женщины нравятся вам?» – наивно спросила Джейн, а он только серьезно на нее посмотрел, словно желая что-то сказать, но воздержался, ограничившись замечанием, что докторам, в силу их профессии, возбраняется восхищаться кем бы то ни было, ибо каждая женщина может оказаться его пациенткой, и он оставляет нежные чувства Дикки Фоксу и другим офицерам гарнизона.
Все эти мысли пронеслись в голове Джейн, пока она смотрела, как ее брат и доктор выбираются вместе с собаками из лодки, и она подумала о том, что сказал бы доктор, знай он, что томик стихов, который она держит в руках, был подарен ей лейтенантом Фоксом и что в нем отмечена крестиком страничка с любовным стихотворением поэта елизаветинской эпохи «Входя в чертог моей царицы». Весьма возможно, что он счел бы это не вполне приличным.
Но вот из окна своей спальни высунулась Элиза и крикнула, что Томас уже дал звонок, призывающий одеваться к обеду, и, следовательно, оставалось всего четверть часа, и, если Джон с доктором Армстронгом собираются сами вести собак на псарню, они к обеду опоздают, и отец рассердится.
В это время из леса показались Джон Бродрик и Генри, который опирался на его руку, и к ним присоединилась Барбара, шедшая из сада; она несла корзинку персиков, еще теплых от солнца, и Джейн вдруг охватило странное чувство счастья и покоя. Вот мы все вместе, думала она, мы разговариваем и смеемся, нам так покойно и хорошо, скоро сядем за стол, Томас уже идет из кухни с подносом, двери и окна в замке распахнуты настежь, чтобы можно было насладиться золотистыми лучами заходящего солнца. О, если бы эти минуты можно было удержать, если бы они сохранились и не было бы никаких сборов в дорогу, никаких отъездов, когда мебель укрывается чехлами, ставни затворяются и однажды, холодным осенним утром, все садятся на пакетбот, следующий из Слейна, а впереди зима, сулящая неуверенность и перемены.
Но вот длинные августовские дни миновали, наступил сентябрь – слишком рано и слишком быстро, – а с ним и приготовления к отъезду Генри на Барбадос. Он должен был отбыть из Дунхейвена на «Генриетте», судне своего отца, которое отправлялось с грузом в Бронси, а оттуда Генри проследует в Ливерпуль, где сядет на корабль, следующий в Вест-Индию.
Казалось, ему стало лучше, он окреп, кашель его почти не мучил, и в самый день его отъезда состоялся давно обещанный пикник на Голодную гору. С самого утра установилась ясная безоблачная погода, все вокруг было окутано мягким задумчивым сиянием поздней осени, и маленькая кавалькада выехала из Клонмира вместе с Генри, который торжественно восседал в коляске с Тимом в качестве кучера, в сторону Голодной горы, вершина которой мерцала в лучах солнца, суля тепло нагретой травы, благоухание вереска, зеркальную гладь озера, над которым будут носиться пестрые стрекозы, и покой теплых, покрытых лишайником скал, что спокойно будут нежиться на солнце.
Они поднимались по западному склону горы, вдалеке от шахты, а потом, когда дорога исчезла в скалах и коляска не могла двигаться дальше, Джон спешился и посадил на свою лошадь брата, тогда как Тим, нагруженный корзинками с едой, плелся позади. Что это была за кавалькада! Барбара с огромнейшим зонтиком, который должен был защитить ее от мух; Элиза, нагруженная этюдником, скамеечкой и мольбертом, – она ведь обожает рисовать; у Джейн в руках два томика стихов, ее с обеих сторон эскортируют офицеры гарнизона: лейтенант Фокс и лейтенант Дейвис, причем последний приглашен для Элизы, однако он, по-видимому, просто забыл о своих обязанностях; доктор Армстронг ведет в поводу лошадь Генри; сам Генри в седле, он отдает распоряжения всадникам, указывая им, куда нужно ехать, а Джон тут же дает прямо противоположные указания; далее следует Боб Флауэр, капитан драгунского полка, – это дает ему основание считать себя более значительной персоной, чем молодые офицеры гарнизона, и, наконец, Фанни-Роза, которая держит все общество и в особенности Джона в состоянии непрерывного волнения и беспокойства, поскольку она все время держится в стороне от других, выбирая самые неудобные и опасные участки дороги, а когда ее призывают к осторожности, только отмахивается и ничего не слушает.
Наконец они подъехали к озеру, при виде которого молодые люди разразились возгласами облегчения, а дамы – восторга. Барбара тут же занялась корзинами, доставая оттуда провизию и ковры, на случай если земля окажется сырой, чего, конечно, не случилось, и беспокоясь о том, чтобы Генри не слишком утомился, а Генри улегся на спину и, погрузив руки в теплую траву, тихо лежал, счастливый и довольный.
Фанни-Роза, подобрав юбки выше колен, карабкалась на камень, с которого был хорошо виден залив, а Джон, которому хотелось быть рядом с ней, задумчиво наблюдал за ней, думая о том, что, если он полезет следом, другие решат, что он делает это для того, чтобы любоваться на ее неприлично обнаженные ноги, и это было бы верно, хотя дело было не только в этом. Не зная, на что решиться, он стоял на берегу озера. Он жалел, что поехал на пикник, и в то же время понимал, что, если бы он остался дома, ему было бы грустно, так что день для него все равно был бы испорчен.
Джейн куда-то скрылась вместе с обоими офицерами, а доктор Армстронг, вздыхая по непонятной причине, предложил свои услуги Барбаре, спросив ее, не может ли он ей помочь приготовить все к завтраку.
– Пожалуйста, помогите, – с благодарностью отозвалась она, надеясь, что он не заболел и хорошо себя чувствует (ему ведь совсем несвойственно предаваться грусти и вздыхать), и в то же время беспокоясь о том, что куда-то запропастилась дюжина пирожков с мясом, которые она сама положила дома в корзинку. Если они не найдутся, цыплят на всех не хватит, и ей надо как-нибудь предупредить своих, чтобы они брали только ножки, а белое мясо оставили гостям.
А теперь еще Элиза, с выражением неодобрения на слегка покрасневшем лице, тянула ее за руку.
– Я считаю, что ты должна поговорить с Джейн, – яростно зашептала она. – Она ушла с обоими офицерами, они скрылись за утесом, и теперь их никто не видит. Это неприлично. Просто не знаю, что подумает о ней капитан Флауэр.
Но Барбара, все еще занятая лихорадочными поисками пирожков, только раздраженно ответила:
– Пусть капитан Флауэр лучше смотрит за своей сестрой. Джейн просто отправилась ловить бабочек, а молодые люди пошли вместе с ней.
Элиза фыркнула, сказав, что бабочек полно и здесь и что нет никакой необходимости искать их за скалами, что же до лейтенанта Дейвиса, то она просто не понимает, чего ради его вообще пригласили на пикник: он такой противный и слишком громко смеется; и ей совсем не хочется, чтобы он заглядывал ей через плечо, подсматривая, как она рисует. Он будет ей страшно мешать.
– Может быть, он и не собирается этого делать, дорогая, – рассеянно проговорила Барбара и – наконец-то! – обнаружила пирожки, вот они, она вспомнила, что завернула их в салфетку, чтобы они не остыли.
– Скажите, пожалуйста, всем, что завтрак готов, – попросила она доктора Армстронга.
Он тут же отправился искать Джейн с ее спутниками, и все они почти сразу же вернулись – доктор Армстронг и офицеры подозрительно следили друг за другом, словно собаки, готовые вступить в бой, в то время как Джейн, задумчивая и серьезная, спокойно смотрела своими большими карими глазами на всех по очереди.
– Как здесь прекрасно, как хорошо я себя чувствую и как глупо, Вилли, что вы, доктора, посылаете меня на Барбадос, – говорил Генри, садясь на свое ложе и глядя на аппетитную еду, разложенную перед ним. – Барбара, я умираю с голода. Два пирожка, пожалуйста.
Вскоре общество собралось вокруг скатерти и все принялись за цыплят, пирожки, холодную грудинку и прочие яства с таким аппетитом, словно до этого они никогда ничего не ели.
Фанни-Роза сидела, скрестив ноги наподобие портного, и Джон гадал, видел ли кто-нибудь, кроме него, что ноги ее, прикрытые юбками, босы, – сам-то он заметил, как выглядывают из-под юбки кончики пальцев. Она уселась рядом с Генри и заявила ему, что он – султан на этом празднестве, а она – рабыня, готовая ему служить.
– Как было бы забавно, если бы это действительно было так, – сказал Генри с насмешливым поклоном. – Привезти вам из Вест-Индии золотые браслеты и серьги? Рабыни всегда носят такие украшения в знак покорности и повиновения.
– Пожалуйста, привезите, – согласилась Фанни-Роза, – и еще тамбурин, чтобы я могла перед вами танцевать.
Джон страшно жалел, что не умеет разговаривать так же легко и весело. Он думал, что Генри научился этому, когда был на континенте, так же как и Фанни-Роза.
– Если вам не понравится на Барбадосе, – говорила Фанни-Роза, – возвращайтесь в Европу и присоединяйтесь к нам в Неаполе. Я твердо решила, что эту зиму мы проведем именно там.
– Я не слышал, чтобы отец и матушка говорили что-нибудь о Неаполе, – возразил ее брат. – Эта идея кажется мне весьма маловероятной.
– Ты будешь у себя в полку, значит это тебя совершенно не касается, – сказала Фанни-Роза. – Если я решу ехать в Италию, папа с мамой сделают, как я хочу. Мы поедем в Неаполь, будем любоваться на Везувий и слушать музыку. Папа будет в восторге, он сделается сентиментальным, будет пить, сколько ему захочется, а я накуплю себе платьев, оденусь, как неаполитанка, – роза в волосах и все такое – и буду посылать с балкона воздушные поцелуи вам, Генри.
– Не обращайте на нее внимания, – сказал капитан Флауэр. – К сожалению, должен сказать, что обе мои сестрицы сумасшедшие. Младшая, Матильда, еще хуже, чем Фанни-Роза. Она все время проводит в конюшне, у нас и гувернантки теперь нет. Вообще замок Эндрифф сильно напоминает сумасшедший дом.
– Бедная миссис Флауэр, – сказала Барбара. – Вы должны стараться ей помочь, Фанни-Роза, и подавать пример младшей сестре. Вот Джейн очень мне помогает, а она на три года младше вас.
– Ах, но Джейн постоянно думает о других, мисс Бродрик, – возразила Фанни-Роза, – а я думаю только о себе. «Наслаждайся жизнью, пока ты молода, – сказал мне отец только вчера, – ведь мы можем умереть, не дожив до конца года».
– Совершенно верно, – сказал Генри, – но, пока этого не случилось, давайте встретимся в Неаполе, как вы предполагаете, и я потребую обещанного поцелуя, который вы пошлете мне с балкона.
Они продолжали в том же духе на протяжении всего завтрака – смеялись, дразнили друг друга, строили планы, в то время как Джон яростно набивал себе рот холодной грудинкой, думая о «Линкольнз инн», о своей мрачной квартире, о серых декабрьских туманах, которые так не похожи на солнечный Неаполь, балконы и розы в волосах.
После завтрака еще немного поговорили, потом послышались вздохи, кто-то зевнул, и стало ясно, что теперь каждый будет проводить время по своему усмотрению. Генри пристроился отдохнуть в тени огромного валуна, рядом с ним сидела Барбара под своим зонтиком, Джейн и молодые офицеры читали стихи, укрывшись за кустами вереска. Элиза устроилась возле чахлого кустика дрока, сквозь ветви которого она время от времени могла посматривать на лейтенанта Дейвиса и говорить себе, какой он некрасивый, а затем возвращаться к своему мольберту, на котором начинали вырисовываться контуры далекой дунхейвенской гавани. Боб Флауэр уснул и громко храпел, что Элиза сочла верхом невоспитанности с его стороны, к тому же ему следовало присматривать за своей сестрицей, которая куда-то исчезла.
Джон бездумно швырял камешки в озеро. Как глупо, что он не взял с собой удочки, в озере масса форели – на воде то и дело появляется рябь, тут и там раздаются всплески. Он пошел по берегу к северному краю озера, подальше от всей остальной компании. Как тепло было на Голодной горе, как все тихо и спокойно. Никто бы не подумал, что всего в трех милях к востоку отсюда высятся безобразные копры отцовской шахты. Под ногами хлюпал влажный мох, Джон вдруг почувствовал кисловатый болотный запах озерной воды, смешанный с ароматом вереска. Бедняга Генри, подумал он, ему нужно было бы постоять вот здесь, ощущая на лице мягкий ветерок, вместо того чтобы валяться под одеялом, положив под голову руки.
Вдруг поблизости раздался более громкий всплеск – в озере, должно быть, водится совсем крупная форель; он взобрался на валун, чтобы посмотреть, что это за рыба, и – о боже! – это была совсем не рыба, а Фанни-Роза, совершенно обнаженная, с распущенными по плечам волосами, она входила в озеро, раздвигая воду руками.
Она обернулась и увидела его, но, вместо того чтобы завизжать от смущения и стыда, как сделали бы на ее месте другие женщины, она посмотрела на него и сказала:
– Почему бы вам тоже не выкупаться? Вода такая прохладная, просто прелесть.
Он почувствовал, что краснеет и что лоб его покрывается потом. Не сказав ни слова, он повернулся и быстро пошел прочь, но провалился ногой в кроличью нору, упал и покатился в вереск, ругаясь и проклиная все на свете. Ему пришлось посидеть, растирая пострадавшую лодыжку, а из кустов прямо перед ним поднялся жаворонок, взмыл в вышину и завис, распевая свою вольную песню.
Через некоторое время – ему казалось, что прошло несколько часов, впрочем, ему это было безразлично – он услышал шаги, кто-то подошел и уселся рядом с ним, и, обернувшись, он увидел, что это Фанни-Роза, уже одетая, с разгоревшимся после купания лицом и мокрыми волосами.
– Вы считаете, что я бесстыдница, – тихо проговорила она, – вы испытываете ко мне отвращение.
– О нет, – быстро ответил он, окидывая ее взором. – Вы не понимаете. Я ушел, потому что вы были так прекрасны…
У него перехватило горло, и он не мог больше сказать ни слова, потому что она улыбалась, и вынести это было почти невозможно.
– Вы ведь не скажете мисс Бродрик, правда? Она больше никогда не пригласит меня в Клонмир, а то и маменьке нажалуется.
– Я никому не скажу, ни одной душе, – обещал Джон.
Они помолчали, и она начала рвать траву своими маленькими тонкими ручками. Потом положила свои руки рядом с его руками, как бы сравнивая их; он по-прежнему ничего не говорил, и тогда она накрыла его руки своими и сказала чуть слышно:
– По-моему, вы на меня сердитесь.
– Сержусь? – сказал он. – Фанни-Роза, разве можно на вас сердиться?
В следующий миг она вдруг оказалась в его объятиях, закрыв глаза, лежала в вереске на спине, а он ее целовал.
Через некоторое время она открыла глаза, но смотрела не на него, а на жаворонка, который парил в небе; она подняла руку и коснулась его щеки, потом тронула губы, глаза, темные волосы и сказала:
– Вы ведь уже давно хотели меня поцеловать, правда?
– Вот уже почти целый год я ни о чем другом не думаю, – признался он.
– А теперь, когда это случилось, – сказала она, – вы разочарованы, да?
– Нет, – пробормотал он.
Как ему хотелось рассказать ей о том, чем полно его сердце, какую нежность он испытывает к ней, как тоскует по ней его тело. Но он не мог выразить этого словами, слова не шли, и он мог только смотреть на лежащую в вереске девушку, страдать и боготворить ее.
– А я думала, что вы интересуетесь только собаками, – сказала наконец Фани-Роза и протянула руку, которую он стал целовать пальчик за пальчиком. – В тот день, когда вы приезжали в Эндрифф, помните, зимой? Тогда мне казалось, что вы веселый и беззаботный, а ваш брат серьезный. Но теперь, когда я познакомилась с вами поближе, я понимаю, что все наоборот: Генри веселый, а вы мрачный и задумчивый.
Когда она произнесла имя Генри, Джон вдруг почувствовал укол ревности, вспомнив, как она смеялась и флиртовала с ним на протяжении всего завтрака, а на него не обращала ни малейшего внимания. При этом воспоминании мысли его мгновенно приняли другое направление, он сел и стал смотреть куда-то вдаль; жаворонок, который так весело распевал в небе, спустился на землю и укрылся где-то в вереске.
– Вам ведь нравится Генри, правда? – спросил Джон. – Он всем нравится.
– Я люблю вас обоих, – сказала она.
Вдали послышались голоса, сзывавшие всех, и Фанни-Роза скорчила гримаску.
– Беспокоятся, наверное, не знают, куда мы делись. Нужно возвращаться.
Она поднялась с земли, отряхивая платье и что-то напевая, а Джон с болью в сердце смотрел на нее и думал, как мало она знает о том, что делается у него в душе, и каким глупым он бы ей показался, если бы она об этом догадалась. Он целовал ее, держал в своих объятиях, и для него это было таким огромным событием, что он был уверен: отныне вся его жизнь будет окрашена тем, что произошло сегодня днем. Он никогда не сможет забыть, как прекрасно ее обнаженное тело в воде, на всю жизнь запомнит, как она прикоснулась пальчиком к его губам, когда лежала в вереске.
Но для Фанни-Розы это было лишь эпизодом, приятным моментом после купания, и Джон, полный своей любовью, пытался угадать, случилось ли бы то же самое, если бы на его месте был Генри, или Вилли Армстронг, или кто-нибудь из молодых офицеров с острова Дун. Она взяла его за руку, совсем как ребенок, так же, как это делала Джейн, и повела по холму обратно к озеру, рассказывая по дороге какую-то глупую историю про своего отца и его арендаторов, как однажды на Рождество он напоил их всех виски, так что они отправились по домам совершенно пьяные, а Джон смотрел на ее профиль, на облако каштановых волос, испытывая сладостное чувство счастья, в котором, однако, была и доля горечи.
Она бросила его руку, когда они оказались на виду у остальных. Вот и конец, подумал он; день для него кончился, больше ничего не будет, и он молча направился к своей лошади, оседлал ее и стал помогать Тиму седлать остальных, ибо болтать и смеяться, вступать в беседу, как это делала Фанни-Роза, было выше его сил. Все они, все эти люди, вдруг стали ему чужими, он предпочитал оставаться в одиночестве или в обществе флегматичного Тима.
– Какой это был прекрасный день, как все было хорошо! – говорил Генри. – Вы все должны поехать со мной на пристань, чтобы проводить меня, когда я взойду на борт «Генриетты», и помахать мне с берега, желая счастливого пути.
Пробираясь через камни и вереск, все общество двинулось к дороге, где была оставлена коляска, Фанни-Роза запела веселую задорную песенку, все подхватили, и громче всех молодые офицеры. Небо, такое ослепительно-яркое днем, приобрело более спокойную светлую окраску сентябрьского вечера, солнце заслонили белые барашки облаков. Первые тени пали на Голодную гору. Вот и подошел к концу этот прекрасный день, думала Джейн, и мы оставляем у себя за спиной озеро, скалы, вереск; наши голоса не нарушат больше их тишину и покой. День этот принадлежит прошлому, это то, что мы будем вспоминать, говоря друг другу: «Ты помнишь? Помнишь, как смеялся Генри, как он пел вместе с Фанни-Розой?»
Итак, все спустились на дорогу, и лошади весело понеслись к Дунхейвену. А там, на площади, их уже дожидался Кейси, еще кто-то из слуг и грум из Эндриффа, готовые принять лошадей; все спешились и пошли вместе с Генри к пристани, где стояла на якоре «Генриетта» и матросы ставили паруса, готовясь к отплытию. На пристани находился капитан Николсон, наблюдая за окончанием погрузки, а рядом с ним стоял Медный Джон. Он улыбнулся сыну и пошел к нему навстречу.
– Не слишком утомился, мой мальчик?
– Нет, сэр. Это был один из самых счастливых дней моей жизни, – сказал Генри.
– Отлично. Именно этого мы для тебя и хотели. Однако ты очень точно рассчитал время, ничего не оставил для прощания. Капитан хочет поднять якорь, как только ты поднимешься на борт. Ветер попутный, и, если он продержится, вы очень скоро будете в Бронси.
Генри поцеловался с сестрами, пожал руку брату и друзьям, выслушал обязательные в таких случаях нарочито веселые напутствия провожающих. «Привези нам с Барбадоса шали, Генри!» – просила Элиза. «Не забывай принимать свое лекарство от кашля!» – наставляла Барбара, а молодые люди советовали не влюбиться в какую-нибудь из тамошних красоток. «Побыстрей поправляйся, сын, это единственное, что меня интересует», – сказал его отец, и Генри повернулся и стал спускаться к ожидавшей его лодке, лодка отчалила и пошла по направлению к «Генриетте». Генри стоял на корме, улыбался и махал шляпой.
– Встретимся в Неаполе! – крикнул он Фанни-Розе. – Вы обещаете, правда?
Она кивнула, улыбаясь ему в ответ.
– Буду ожидать вас на балконе.
Они следили за тем, как лодка подошла к судну и Генри вместе с капитаном поднялись на борт. В тот же момент на судне все пришло в движение: с полубака слышались команды помощника капитана, раздавался скрип лебедки.
– Пойдемте, не будем больше ждать, – вдруг сказала Джейн. – Не люблю смотреть, как корабль выходит из гавани. В этом есть что-то непредотвратимое.
– Вон там ваш брат, – сказала Фанни-Роза. – Посмотрите, он обернулся к нам, он что-то нам кричит.
– Это бесполезно, – сказал Медный Джон. – Ветер относит звук в сторону. А тут еще эта лебедка… Пойдемте, Джейн права. Нет никакого смысла в том, чтобы здесь стоять. Судно можно увидеть и из Клонмира, если спуститься к самому концу нашего залива.
Когда он повернулся, чтобы идти, ему под ноги попалась собака, и он чуть не упал на булыжники. Медный Джон сердито выбранился и, подняв палку, изо всех сил вытянул животное по спине, после чего собака, с жалобным воем и сильно хромая, бросилась в открытую дверь лавки своего хозяина.
– Распустили тут собак! – крикнул Медный Джон владельцу лавки, который показался на пороге, красный и разгневанный, готовый вступить в ссору. Медный Джон, увидев, кто это, тут же повернулся и пошел прочь от набережной к рыночной площади в сопровождении сына и дочерей. Лавочник смотрел ему вслед с выражением угрюмой злобы на лице, потом нагнулся, чтобы погладить пострадавшее животное, ворча что-то про себя, а между тем, откуда ни возьмись, вокруг него собралась толпа, осаждая его вопросами и подавая советы.
– Как это неприятно, – прошептала Барбара, покраснев. – Вы видели?
– Да, – медленно проговорила Джейн. – Да… это был Сэм Донован.
Поглядев через плечо, она увидела, что «Генриетта», распустив паруса, набирает ход, в то время как буксиры направляют ее к середине пролива.
Их отец ничего не сказал по поводу недоразумения с собакой.
Он помог Фанни-Розе сесть на лошадь, обменялся парой слов с Бобом Флауэром, попросив что-то передать его деду, Роберту Лэмли, когда в следующий раз они будут с визитом в Дункруме. Доктор Армстронг и офицеры откланялись и удалились, Флауэры поехали вверх по холму к Эндриффу, а Бродрики, погрузившись в отцовский экипаж, – к себе домой в Клонмир. Солнце спряталось за верхушки деревьев, замок и залив погрузились в тень. Минуту-другую они постояли на подъездной аллее, глядя на «Генриетту», – она двигалась по водной глади к горизонту и наконец скрылась за островом Дун; больше они ее не видели.
Медный Джон медленно вошел в дом, крепко сцепив руки за спиной. Барбара и Элиза последовали за ним. А Джон и Джейн направились к дальнему концу парка, где громадные сосны склонили свои ветки к самой воде залива и стояли там, глядя на широкие просторы гавани, пока на Голодной горе не погасли последние отблески солнечного света.
– Как жаль, что произошла эта неприятная сцена, – сказала Джейн.
– Что ты имеешь в виду? – спросил ее брат.
– Неприятно, что отец ударил собаку Сэма Донована.
– Ах, ты об этом… Да, это несколько подпортило приятный день. Я бы мог осмотреть собаку, только ничего хорошего из этого не получилось бы. Отец рассердился бы, а Сэм Донован мог бы неправильно это истолковать.
– Ты бы все равно ничего не мог сделать. Мне просто неприятно, что это случилось… Как ты думаешь, будет какая-нибудь польза от поездки на Барбадос? Поможет она Генри?
– Я в этом уверен. Весной он будет уже в Италии. Ты, наверное, слышала, они договорились с Фанни-Розой встретиться в Неаполе.
Джон повернулся и медленно зашагал к дому. Джейн взяла его под руку. Оба они молчали, думая о Генри. Джейн вспоминала его веселую улыбку, его смех, то, как он стоял, помахивая им рукой, на корме небольшой лодки, которая только что отчалила от пристани и направлялась в сторону «Генриетты», и гадала, была ли его веселость естественной, не маска ли это, за которой он пытался скрыть свою болезнь от родных и от самого себя. А Джон видел лишь балкон в Неаполе и девушку с цветком в волосах, это была Фанни-Роза, и она бросала свой цветок Генри. Возможно, в окрестностях Неаполя есть холмы и озеро. Возможно, Фанни-Роза будет там купаться и покажет свое нагое тело Генри. Возможно, они будут там гулять, взявшись за руки, а потом лягут, и она позволит ему себя целовать. Ему, его брату Генри, который гораздо достойнее его, который умен, обаятелен, лучше во всех отношениях, чем он, Джон. Его брату Генри, который так болен… Ревность, охватившая Джона при этой мысли, была столь постыдной и достойной презрения, что он почувствовал ненависть к самому себе. Несмотря на любовь к брату, он ему завидовал – каждый взгляд, каждая улыбка Фанни-Розы, одно-единственное прикосновение ее руки причиняли ему невыносимые страдания, хотя он понимал, что этот взгляд, эта улыбка принесет несколько недель счастья и забвения больному, умирающему человеку. Он не просто завидовал, он ненавидел. И то, что Генри будет думать о Фанни-Розе, мечтать о ней, показалось ему таким чудовищно невыносимым, что Джейн, взглянув на его бледное лицо и горящие глаза, с тревогой спросила:
– Что с тобой, Джон? Ты не заболел?
– Нет, – ответил он. – Все в порядке.
Она постояла в нерешительности, затем вошла в дом, а Джон, глядя на окна Клонмира, увидел, что в комнатах зажигают свечи, задергивают занавеси, что уже наступил вечер, но ему казалось, что все это лишено смысла и ничто не имеет и не будет иметь значения, кроме его тоски по Фанни-Розе, что он способен совершить убийство, стать клятвопреступником, отправиться в ад, лишь бы она ждала там, наверху, в его комнате в башне, ждала бы его, Джона Бродрика, а не его брата Генри.
7
Осень тысяча восемьсот двадцать седьмого года оказалась чрезвычайно тяжелой для Джона Бродрика. Погода была скверная, непрерывно дули ветры, так что в течение всего ноября доставлять руду из Дунхейвена в Бронси было почти невозможно, а новая шахта, недавно заложенная, не приносила ожидаемых доходов. Прежде всего, капитан Николсон, не вполне правильно рассчитав направление штольни, слишком сильно углубил ее, так что она уперлась в водоносный пласт, и дальнейшие работы были связаны с большими трудностями, несмотря на новый насос, установка которого потребовала нескольких сотен фунтов. Поэтому было решено оставить этот участок и попробовать бить шурфы в восточном направлении. Однако здесь, несмотря на то что результаты сразу же оказались благоприятными, грунт был настолько твердым, что ни одного дюйма нельзя было пройти, не прибегая к помощи взрывчатки. А это тоже требовало значительных расходов. На каждую унцию пороха, ввозимого в графство, требовалось специальное разрешение муниципальных властей, а бочонки с порохом приходилось хранить на складе боеприпасов дунского гарнизона, и, для того чтобы переправить через бухту очередной бочонок, нужно было расписываться в специальной ведомости. К тому же цены на медь, стоявшие до тех пор достаточно высоко, значительно упали. Крупные медеплавильные компании в Бронси вполне могли диктовать свои условия, и Медный Джон стал подумывать о том, чтобы частично сбывать свою продукцию с помощью частных контракторов.
На смену влажным ноябрьским ветрам пришли сильные морозы, что явилось источником новых затруднений для владельца Клонмира, поскольку мороз погубил весь урожай картофеля, и многим арендаторам грозил настоящий голод. В связи с этим он был вынужден отдать распоряжение Неду Бродрику, чтобы тот не торопил с уплатой полугодовой ренты, и в результате даже те арендаторы, которые меньше других пострадали от мороза, воспользовались случаем и тоже отказались платить. Возникали бесконечные споры между арендаторами, что объяснялось, по-видимому, их склочными характерами, и Медному Джону после утомительного дня на шахте приходилось выслушивать какие-то нелепые истории, в которых он никак не мог разобраться, и выносить свое решение.
Как тяжело, думал он, быть единственным человеком во всей округе, способным принимать решительные меры, не получая при этом ни помощи, ни благодарности со стороны окрестных землевладельцев. Роберт Лэмли редко бывает в Дункруме, а если и приезжает, то только для того, чтобы наведаться в Дунхейвен, просмотреть счета с рудников и пожаловаться на то, что процент его прибыли ниже того, на что он рассчитывал. Граф Денмар приезжает в свои владения только на время рыбной ловли, когда идет лосось, а лорд Мэнди хворает и никоим образом не желает беспокоить себя заботами о местных делах. Что же касается Саймона Флауэра, то к нему вообще бесполезно было обращаться с чем бы то ни было. С человеком, который распивает в конюшне вино вместе со своими конюхами или, как гласит молва, приглашает их к себе в гостиную, когда его жена отправляется спать, бесполезно разговаривать о необходимости поддерживать в округе порядок и справедливость. Кроме того, Флауэры сейчас в Италии – Генри встречался с ними во Флоренции и намеревался присоединиться к ним в Неаполе, что, по мнению его отца, совершенно бессмысленно. Пребывание на Барбадосе принесло Генри огромную пользу, судя по тому, что он писал своим родным. Кашляет он теперь гораздо меньше, и отец может о нем не беспокоиться. Он уверен, что если пробудет несколько месяцев в Италии, то излечится окончательно.
В середине апреля Медный Джон вместе с дочерьми проводил Пасху в Летароге. В конце месяца он собирался вернуться в Дунхейвен, где новая шахта давала такие великолепные результаты, но вдруг изменил свои планы и решил вместо этого отправиться в Италию. Такое решение было принято после того, как Барбара получила за завтраком письмо от своей приятельницы, некоей мисс Люси Моллет, присланное из Парижа, где они с матерью снимали квартиру. «Мы только что приехали из Италии, – сообщала она, – были в Риме, а также в Неаполе, где имели удовольствие встретиться с вашим братом, который находится там вместе с вашими друзьями, это мистер и миссис Флауэр с дочерью. Мы с матушкой очень огорчились, узнав, как тяжело болен ваш брат, он действительно выглядел очень скверно, когда мы его встретили, ведь до этого, как нам сообщила миссис Флауэр, он целую неделю пролежал в постели…» Дальше в письме следовало описание достопримечательностей Италии, которые Медный Джон читать не захотел. Он смотрел прямо перед собой, барабаня пальцами по столу, а дочери сидели рядом, бледные и встревоженные.
– Я сам поеду в Италию, – произнес он наконец. – Я всю зиму был неспокоен, волновался по поводу здоровья Генри, а теперь, после этого письма, решил, что поеду к нему сам.
– А нам можно поехать вместе с вами? – спросила Барбара с беспокойством.
– Нет, дорогая, я предпочитаю ехать один. Не понимаю, почему Флауэры не сообщили нам о болезни Генри, если он так много времени проводит с ними. Саймону Флауэру, конечно, не до писем, но миссис Флауэр как будто не совсем лишена здравого смысла.
– Я не сомневаюсь, что Генри не хотел нас беспокоить, – сказала Барбара, – наверное, он и их старался убедить, что нет ничего страшного.
– Вполне возможно, – сказала Элиза, – что Люси Моллет несколько преувеличивает. Она ведь не встречалась с Генри несколько лет, и, конечно же, ее поразила перемена, которая произошла с ним за это время. Тон его писем достаточно бодрый, а в последнем письме, которое Джейн получила перед Пасхой, он пишет, что собирается принять участие в карнавале.
– И возможно, переутомился на этом празднестве, – сказал ее отец. – Нет, я твердо решил отправиться в Италию и, скорее всего, выеду в конце следующей недели. Я надеялся встретиться в Челтенхэме с Робертом Лэмли, однако это придется отложить, повидаюсь с ним по приезде.
Джон Бродрик поговорил с Барбарой о том, следует ли предупредить Генри о предполагаемой поездке, и вопреки ее совету решил, что сообщать ничего не нужно, что его приезд в Неаполь должен быть для Генри сюрпризом. Однако дела заставили Медного Джона отложить свой отъезд, и он отправился на континент только в мае. Он отказался от слишком долгого путешествия морем и решил ехать не торопясь, через Францию и Италию, употребив это время на то, чтобы подвести полный баланс доходов и расходов по шахте, начиная с тысяча восемьсот двадцатого года и по сей день, пользуясь исключительно собственной памятью. Он не обращал ни малейшего внимания на окружающий его пейзаж, страдал от невыносимой жары и надоедливых мух и никак не мог понять, как можно тратить время и деньги для того, чтобы путешествовать не по делам, а для собственного удовольствия.
На третьей неделе мая он высадился из дилижанса в Неаполе, весь покрытый пылью, страдающий от жары и раздраженный, и первый человек, которого он увидел, был Саймон Флауэр; его соотечественник сидел в кафе на площади и курил огромную сигару в обществе итальянки весьма сомнительной респектабельности. Саймона Флауэра, по-видимому, нисколько не смутило неожиданное появление соседа по имению в многонациональной неаполитанской толпе; сняв шляпу, он размахивал ею над головой, приглашая Джона Бродрика присесть за его столик.
– Мой дорогой друг, какая приятная встреча, – говорил он. – Эта малютка ни слова не понимает по-английски, так что при ней можно говорить все, что угодно. Я очень рад вас видеть. Что вы, собственно, здесь делаете?
Медный Джон, который и в лучшие времена находил его общество не слишком приятным, а теперь, после долгого утомительного путешествия, в особенности, ответил, что присаживаться ему некогда, потому что он торопится повидать сына в его гостинице, и не может ли Саймон Флауэр его туда проводить.
– Генри? – спросил Флауэр, раскрыв от удивления рот. – Но ведь он уже две недели как уехал из Неаполя.
Медный Джон с минуту смотрел на соседа, не говоря ни слова. Потом присел за столик, расстроенный полученным известием, которое нарушило все его планы. Он молча принял предложенный ему стакан вина и не стал возражать, когда Флауэр заставил его выпить еще один.
– Скажите мне, пожалуйста, – сказал он наконец, – что же все-таки произошло?
– Да ничего особенного, – отвечал тот, – кроме того, что вы предприняли это путешествие зря. Вне всякого сомнения, вы разминулись с Генри по дороге. Он неважно себя чувствовал, бедняга, и решил отправиться домой, прежде чем жара станет здесь совсем невыносимой. Лучшее, что вы можете предпринять, – это сесть в следующий дилижанс и ехать за ним той же дорогой. Впрочем, куда спешить? Побудьте денек-другой в Неаполе. Я могу вам обещать пару веселых деньков. Если эта малютка приведет свою подружку, мне известно одно местечко…
– А что, здоровье Генри было очень плохо? – перебил его Медный Джон. – Вы должны понять, что я и моя семья очень за него тревожимся.
– Да как вам сказать, я не думаю, что так уж плохо. Выпейте-ка еще стаканчик. Это единственное, чем можно заняться в таком климате, уверяю вас. А что касается здоровья Генри, то об этом гораздо лучше знает моя дочь, чем я. Она повсюду таскала его за собой, заставляла сопровождать ее в прогулках по городу. Спросите лучше у нее.
– Могу ли я найти миссис Флауэр и мисс Флауэр в вашем отеле?
– Несомненно. В это время дня они обычно отдыхают. А я пользуюсь возможностью, чтобы заглянуть сюда. Эта малютка не имеет счастья быть знакомой с моей супругой.
– Ничего подобного я и не предполагал, – заметил Медный Джон. Он встал из-за стола, пожелал своему соседу всего хорошего и, игнорируя присутствие его собеседницы, оставил эту парочку в состоянии приятнейшего благодушного опьянения.
Медный Джон пробирался по узким оживленным улицам – его высокая внушительная фигура, широкие плечи, волевой подбородок и важный вид заставляли праздношатающуюся публику, которую он расталкивал на своем пути, оглядываться на него, – пока не дошел до нужной ему гостиницы; там он послал свою карточку в апартаменты миссис Флауэр.
Она приняла его суетливо и с бесконечными извинениями: номер такой неприглядный, управляющий, как обычно, все перепутал, ей ужасно неловко, Саймон такой рассеянный, когда дело касается денег, и платье у нее совсем не годится для приема гостей, мистер Бродрик должен ее извинить. Да, верно, Генри уехал две недели тому назад; они много времени проводили вместе, Фанни-Роза была так рада его обществу, а потом – она, право, не знает, как это получилось, бедный мальчик, должно быть, слишком переутомился, – он вдруг страшно ослаб и однажды утром сообщил им, что собирается домой; Фанни-Роза очень расстроилась, сказала, что он просто ревнует ее к итальянскому графу, – вы знаете, какие глупости говорят иногда девицы, – ничего подобного, конечно, не было, просто у них случилась размолвка, и кроме того, да, Генри, кажется, стал кашлять и уехал из Неаполя в такой жаркий пыльный день, она очень надеется, что во Франции прохладнее и он будет чувствовать себя лучше; мистер Бродрик несомненно нагонит его по дороге; насколько она поняла, Генри не собирался особенно торопиться…
Дверь отворилась, и в комнату вошла Фанни-Роза. Она была в кружевной шали, наброшенной на каштановые волосы по итальянской моде, и даже на Медного Джона, которому было не до того, чтобы восхищаться женской красотой, произвели впечатление яркий румянец, слегка раскосые глаза – словом, поразительная красота дочери Саймона Флауэра. Когда она увидела, кто сидит в гостях у матери, у нее сделался испуганный вид и она побледнела.
– В чем дело? Что-нибудь случилось? – спросила она.
– Я предпринял бесполезную поездку, – ответил Медный Джон. – Я приехал, чтобы встретиться с Генри, но мне сказали, что его здесь нет, что он уехал домой. Мы получили письмо от наших друзей – их фамилия Моллет, – которые встречались здесь с Генри, и они сообщили нам весьма неблагоприятные сведения о его здоровье. И вот я изменил свои планы и, вместо того чтобы возвращаться в Клонмир, отправился сюда. Очень жаль, что проехался напрасно.
Фанни-Роза, казалось, испытала облегчение. Она села рядом с матерью и принялась теребить оборки платья.
– Мне кажется, что Генри переутомился во время карнавала, – сказала она. – Он плохо выглядел, ему даже пришлось полежать в постели.
– Какой это очаровательный молодой человек, мистер Бродрик, – лепетала миссис Флауэр. – Мы были просто в восторге от него. Он, наверное, особенно устал в последний вечер карнавала; они с Фанни-Розой принимали участие в какой-то процессии – верно, дорогая? – и возвратились очень поздно. Я пошла к себе и уже спала, когда они приехали. Я не знаю, что было с твоим отцом, он не приходил домой ночевать, но именно после этого дня Генри слег в постель, верно, Фанни-Роза?
– Я, право, не помню, как все это было.
Она сделала книксен Медному Джону, просила передать привет Генри, когда тот увидится с ним, постояла с минуту и вышла из комнаты. Вскоре после ее ухода Медный Джон принес свои извинения и тоже удалился. Он выяснил, что успеет пообедать и немного отдохнуть, прежде чем пустится в обратный путь. От этих Флауэров никакого толка, думал он. Их отношение к делу было так типично для них – в Италии они ведут себя так же легкомысленно и безалаберно, как и дома, в замке Эндрифф. Просто позор: видеть, как пожилой человек, того же возраста, что и он сам, у которого к тому же взрослые дети, сидит среди бела дня в кафе с какой-то девкой и распивает вино, зная при этом, что деньги, на которые он пьет, – злополучный хозяин гостиницы их, наверное, еще и не нюхал – даны ему его тестем Робертом Лэмли из доходов, полученных от шахты на Голодной горе. Он, Джон Бродрик, директор этой шахты, работает по десять часов в сутки, для того чтобы добиться максимальной производительности, так что теперь ее можно считать наиболее эффективной во всей стране, а этот никчемный бездельник и пьяница Саймон Флауэр сидит себе на солнце и пожинает плоды его трудов.
Он выехал из Неаполя усталым и подавленным, и долгое утомительное путешествие домой без уверенности, что по дороге удастся встретиться с сыном, представлялось ему кошмаром. Станция следовала за станцией, и повсюду он расспрашивал о молодом человеке, стройном и белокуром, у которого, по всей вероятности, утомленный и нездоровый вид. Да, подтвердили хозяева и слуги одного из отелей, они видели молодого человека, отвечающего этому описанию. Он останавливался у них с неделю или десять дней тому назад. Молодой джентльмен казался очень усталым и непрерывно кашлял. Он просил их отправить письмо. Нет, они не помнят кому. Нет, не в Англию. Кажется, оно было адресовано в Неаполь. Господин, несомненно, вскоре нагонит своего сына…
Однако в следующем городе в ответ на его вопрос следовал непонимающий взгляд, равнодушное пожатие плечами. Молодой человек такой наружности здесь не появлялся…
Странно, думал Медный Джон, что Флауэры ничего ему не сказали об этом письме. Вряд ли он писал кому-нибудь другому в Неаполе. Возможно, письмо или даже письма затерялись. Он продолжал ехать вперед, день за днем, теперь уже по Франции, где жара была не столь томительной, но пыли на дорогах не убавилось, а солнце по-прежнему стояло в голубой лазури неба. Вечером четвертого дня дилижанс с грохотом въехал в небольшой городок Санс, что примерно в семидесяти милях к юго-востоку от Парижа, и подкатил к гостинице, которая носила название «Отель де л’Экю». «Завтра, – думал Медный Джон, с трудом вылезая из экипажа, – я буду в столице, где почти наверняка получу сведения о Генри». Он несомненно побывает с визитом у Моллетов, а может быть, и остановится у них. Какое это будет облегчение – закончить путешествие почти на две трети и, дай-то бог, вернуться домой вместе с сыном.
Он направился в гостиницу, темное и скучное старомодное здание, и пожелал видеть ее владельца. Хозяин явился немедленно; это был грузный человек с круглым веселым лицом, который вышел, утирая рот тыльной стороной ладони, так как ему пришлось оторваться от ужина. Медный Джон на примитивном и очень старательном французском задал ему свой неизменный вопрос: не встречал ли он молодого человека, стройного, белокурого, у которого мог быть больной или утомленный вид? При этих словах выражение лица хозяина мгновенно изменилось. Он положил Джону Бродрику руку на плечо и разразился потоком французских слов, за которыми последний не мог уследить, а потом повернулся и исчез, чтобы через минуту возвратиться вместе с женщиной – его женой – и еще какими-то людьми. Они забросали его вопросами, перебивая один другого, пока наконец наш путешественник в отчаянии не проговорил:
– Я отец этого молодого человека. Ради всего святого, говорит здесь кто-нибудь по-английски?
Наступила мгновенная тишина. Женщина тихо сказала:
– C’est le père. Quelle tristesse! Faut lui monter la chambre…[1]
Они снова шепотом о чем-то посовещались, а потом хозяин со скорбным выражением лица попросил Медного Джона немного подождать, он пошлет за доктором, мсье Жетифом, который все ему объяснит, он знает немного по-английски. Медный Джон не на шутку встревожился. В отеле, несомненно, видели Генри, а доктор, вероятно, его пользовал. Женщина предложила ему закусить, однако он отказался и уселся ждать, в то время как остальные стояли на почтительном расстоянии, обмениваясь замечаниями, смысла которых он не мог уловить. Напряженное ожидание и неизвестность становились совершенно невыносимыми, но наконец, минут через двадцать, хозяин возвратился в сопровождении высокого худощавого человека в очках и с бородкой; увидев Медного Джона, он подошел к нему, поклонился и, сняв очки, стал старательно их протирать – верный признак того, что он нервничал.
– Вы отец, месье? – спросил он, стараясь говорить негромко.
– Да, отец, – ответил Медный Джон. – Прошу вас, скажите мне поскорее, что с моим сыном. Что-нибудь неладно?
Месье Жетиф сделал глотательное движение и развел руками.
– Я очень сожалею, – сказал он. – Вы должны быть готовы к жестокому удару, месье. Ваш сын был тяжело болен, у него было congestion pulmonaire[2]. Я сделал все, что возможно, но болезнь зашла слишком далеко.
– Что, собственно, вы хотите сказать? – спросил Медный Джон твердым голосом.
– Мужайтесь, месье. Ваш сын умер, вчера в пять часов утра… Тело находится наверху, в его комнате.
Медный Джон не произнес ни слова. Он смотрел мимо доктора, мимо хозяина и его жены, глядевших на него с любопытством и сочувствием, за окно, на пыльную, мощенную булыжником улицу. Мимо с грохотом катилась телега, парень на козлах погонял лошадь, размахивая кнутом, на упряжи весело звенели колокольчики. Старые башенные часы на площади пробили очередной час. Медный Джон распустил узел галстука и крепче сжал набалдашник трости.
– Проводите меня, пожалуйста, в комнату моего сына, – сказал он.
Доктор пошел вперед, за ним – хозяин с женой. Они вошли в комнату второго этажа, выходившую окнами на улицу. Занавеси были задернуты. В изголовье стояли две свечи, две другие – в изножье. Генри лежал на кровати. Он был покрыт только белой простыней, весь, кроме лица, и выглядел очень молодым и спокойным. Одежда его была аккуратно сложена на стуле, стоявшем у стены. Кошелек, ключи и книги лежали на каминной полке. Тишину нарушила хозяйка, сказав что-то шепотом.
– Она говорит, что здесь ничего не трогали; он сам так сложил свои вещи.
– Он давно здесь? – спросил Медный Джон.
– Шесть дней. Он заболел в первую же ночь, как только приехал. И не позволил нам написать в Англию. «Они будут беспокоиться», – сказал он.
– Говорил он что-нибудь о семье, обо мне?
– Нет, месье, он был слишком слаб. Просто лежал, и все. Он был очень терпелив. Вчера вечером мадам услышала, как он кашляет, вошла к нему и увидела, что он… умирает, месье. Она послала за мной, но было уже слишком поздно… Все мы очень сожалеем, месье.
– Спасибо. Я вам очень благодарен за все, что вы сделали.
Один за другим они вышли из комнаты, оставив его наедине с сыном. Он взял стул и сел возле кровати. За стенами «Отеля де л’Экю» проезжали телеги, грохоча по булыжной мостовой, слышался звон колокольчиков на упряжи. Переговаривались между собой люди. В доме напротив пела какая-то женщина.
Он должен что-то делать, что-то организовать, распорядиться. Тело Генри нужно бальзамировать и похоронить в Париже. Позднее они попытаются перевезти его в Англию. Ему не хотелось, чтобы Генри лежал здесь один, в чужой земле. Нужно написать Барбаре, Роберту Лэмли, Флауэрам – такое множество писем… Генри было двадцать восемь лет. Целых три месяца ему было двадцать восемь. Но здесь, на этой кровати, он выглядел гораздо моложе. И его отец невольно вспомнил те дни, когда они с Сарой ездили в Итон навестить мальчика. Генри всегда так радовался, когда они приезжали. А потом в Оксфорд. Столько друзей, с которыми нужно было знакомиться. Он никогда не наказывал Генри, не бил его – не мог припомнить случая, чтобы тот в чем-нибудь провинился. А каким он был прекрасным товарищем и компаньоном в последние годы, с тех пор как они заложили шахту. Вскоре он несомненно женился бы и поселился в Клонмире вместе с молодой женой. А теперь Клонмир будет принадлежать Джону… Он продолжал сидеть на стуле, глядя на тело сына, а свечи догорали, оставляя на полу возле кровати капли воска.
Спустя некоторое время раздался стук в дверь, и хозяйка гостиницы спросила, не хочет ли он перекусить; ему необходимо подкрепить силы, он не должен поддаваться отчаянию.
Он вспомнил о том, что нужно продолжать жить, а для этого необходимо есть, пить, спать, строить и осуществлять планы, и что смерть Генри ничего в этом смысле не изменила. Он спустился вниз и пообедал в одиночестве в малой гостиной отеля, а после обеда пришел доктор, и они вместе отправились домой к мэру – его звали Жак-Теодор Леру, – где надо был подписать бумаги и выполнить различные формальности. Доктор и мэр подписали свидетельство о смерти и еще одну бумагу, в которой говорилось, что отцу разрешается подвергнуть тело сына бальзамированию, а затем похоронить в Париже. Эти дела в какой-то мере отвлекли Медного Джона. Он был занят. У него не было времени на то, чтобы сидеть и думать о сыне. Расставшись с доктором и мэром, он до самой темноты бродил по улицам Санса, а потом вернулся в «Отель де л’Экю» и снова поднялся в комнату Генри. Он словно ожидал увидеть какую-то перемену: возможно, Генри пошевелился или что-то произошло с его вещами, сложенными на стуле. Но Генри лежал неподвижно и спокойно, как и раньше. Только свечи у кровати стали еще короче и горели теперь низким прерывистым пламенем. Отец погасил их, одну за другой, – это действие он ощутил как нечто неотвратимое: он окончательно простился с Генри.
Медный Джон вышел из комнаты и закрыл за собой дверь. Он спросил у хозяина бумаги, перо и чернил. Подписывая свидетельство о смерти, он вспомнил, что четвертого числа каждого месяца он обычно писал Роберту Лэмли, сообщая ему о работе шахты. В мае он этого не сделал, поскольку готовился к поездке в Италию, и послал своему партнеру только короткую записку, объясняя ему, что едет на континент. Роберт Лэмли сочтет его неаккуратным человеком, если он оставит своего партнера в неведении на целых два месяца. Хорошо, что он захватил с собой все счета, касающиеся шахты, за последние полгода. К тому же не помешает, если у Роберта будут копии этих материалов. Он обмакнул перо в чернила и начал писать свое письмо.
«Отель де л’Экю»,
Санс, департамент де л’Ионн, Франция
Дорогой мистер Лэмли,
Вы, очевидно, уже знаете, что поездка моего сына Генри в Италию для поправления здоровья не принесла ожидаемых результатов. Возвращаясь домой, он смог доехать только до города Санс во Франции, где и скончался вчера, третьего мая. Для меня это было тяжелым ударом, и столь же тяжелым ударом окажется для всей нашей семьи, но мы должны молиться Всевышнему, дабы он даровал нам силы справиться с горем. Я не сомневаюсь в том, что Вы получили тысячу четыреста девяносто фунтов, это сумма Вашего дохода за прошлый год. Что же касается новой шахты, то от нее пока не было никаких поступлений, хотя я надеюсь, что она окажется еще более перспективной, чем первая…
Книга вторая
Джон Борзятник
(1828–1837)
1
Лето тысяча восемьсот двадцать восьмого года тянулось медленно для Джона, который стоял у окна своей квартиры в «Линкольнз инн», глядя на скучный узкий дворик, и думал о том, как бьются о берег волны на острове Дун, о том, как прилив быстро наполняет водой бухту возле Клонмира. Работа, как и всегда, не представляла для него ни малейшего интереса, и чаще всего он сидел за своим заваленным бумагами столом, лениво развалясь в кресле и покусывая перо, а когда приходил клерк с просьбой найти какой-нибудь документ, хранящийся в его отделе, ему приходилось тратить уйму времени, чтобы его отыскать. Он тосковал о доме больше, чем когда-либо. Теперь, когда Генри умер, было бы так просто положить конец этой комедии с его службой в Лондоне, поскольку у него было законное и естественное оправдание: его присутствие требовалось в Клонмире. Однако что-то мешало ему это сделать, какой-то сдвиг в сознании, появившийся после смерти брата. Все эти долгие недели в Лондоне ему казалось, что он каким-то образом виноват в том, что живет на свете и здравствует, в то время как Генри, который лучше и достойнее его во всех отношениях, лежит, мертвый и недвижный, на унылом кладбище во Франции. Если бы было наоборот, то в жизни семьи ничего не изменилось бы, его очень скоро забыли бы. А Генри такой умный, такой веселый, сестры его так любили, а отец на него чуть ли не молился – разве кто-нибудь может его заменить? Они никогда не оправятся от удара, без конца будут обсуждать все обстоятельства его болезни, как делали это в Летароге, когда отец только что вернулся из Франции, всегда будут вздыхать, возвращаясь к злополучному вечеру на шахте в прошлом году.
– Именно тогда он и простудился, – говорила Барбара. – Помните, когда он через неделю вернулся в Бронси, у него была высокая температура. И все рождественские праздники он пролежал в постели.
– А ведь ему и раньше случалось промокнуть, – подхватывала Элиза, – и ни к чему плохому это не приводило. К тому же и Джон тогда промок до нитки, верно ведь, Джон? Однако на его здоровье это ничуть не отразилось.
– Генри вел себя очень благородно в ту ночь, – заметил отец. – Я никогда этого не забуду. Он себя не щадил, был примером для всех нас.
А Джон стоял, засунув руки в карманы и глядя в окно на заботливо ухоженный садик Барбары, слушал отца и чувствовал, что в его словах скрывается невольный упрек. Если бы он, Джон, действовал более энергично, Генри, возможно, не пришлось бы взваливать так много на свои плечи. Джон сознавал, что он в семье не помощник. Теперь он был единственным братом для сестер и чувствовал, что не оправдывает возлагаемых на него надежд. Он понимал, что ему следует сделать усилие и попытаться занять место Генри, заслужив тем самым если не любовь отца, то хотя бы его уважение, и отправиться в Бронси, чтобы взять на свои плечи какую-то долю ответственности. Ему мешали робость, сознание своей неполноценности, страх, что, если он что-нибудь скажет или сделает, отец заметит: «Никуда он не годится по сравнению с Генри». Следовательно, лучше было не делать ничего. Джон уходил в себя и молчал. И вот, вместо того чтобы ехать вместе с отцом в Бронси, он брал удочки и уходил на ручей за фермой ловить рыбу, непрерывно размышляя о своем брате, пытаясь представить себе, о чем он думал в эту последнюю неделю там, во Франции, когда лежал больной и одинокий в своем номере в отеле. А сестры, сидя в гостиной в Летароге, говорили друг другу: «Джон странный человек, он никого не любит, кроме самого себя. Подумать только, его нисколько не тронула смерть Генри». Только Джейн догадывалась о том, что творится в его душе; иногда она подходила к нему и обнимала его, но он знал, что даже Джейн, со всем своим умом и чуткостью, не может догадаться, какие жестокие мысли его терзают. Через две недели он вернулся в Лондон, и, когда отец написал ему из Клонмира во время жуткой августовской жары, спрашивая, приедет ли он домой, как обычно, Джон ответил, что у него слишком много работы и он сильно сомневается, удастся ли ему выбраться в Клонмир, пока там находится вся семья. Отец ничего не ответил на эту явную отговорку, зато Барбара написала ему длинное письмо, полное упреков. Они никак не могут понять, писала она, что на него нашло. Можно подумать, что у него нет никакой привязанности к дому. А Джон, кусая перо в своей душной лондонской конторе, пытался объяснить сестре, что он не может приехать именно потому, что слишком любит дом. Он видел себя со стороны – вот он, гордый владелец Клонмира, обходит именье рядом с отцом, обсуждает с ним различные усовершенствования, поглядывает на окна, на серые стены, и вдруг, в одно мгновение, гордая радость обладания разлетается в прах при мысли о том, что все это пришло к нему в результате трагедии, по ошибке, что на самом деле он не имеет права ни на что – Клонмир принадлежит Генри, который лежит в могиле, и отец думает о том же самом, когда они идут рядом вдоль стен замка. Нет, бесполезно. Барбара все равно ничего не поймет. Джон разорвал письмо в клочки и не стал писать нового. Пусть они думают о нем что хотят. И вместо того чтобы ехать домой, Джон отправился в Норфолк к одному приятелю по Оксфорду, который разводил борзых собак для бегов, и всю зиму, начиная с ранней осени, как только удавалось найти предлог, чтобы выбраться из Лондона, он находился в Норфолке, где думал исключительно о собаках и говорил только о них, поскольку, как он признался своему другу: «Собаки – это единственное, что я понимаю, а они – единственные существа, которые понимают меня». Борзая собака была для Джона воплощением красоты и душевной тонкости, воплощением изящества и грации. И чем чище порода, тем ярче темперамент, тем лучше результаты при правильном воспитании, но зато и безнадежнее неудачи, если подход оказывался неверным. Он изучил своих собак и знал, чего можно ожидать от каждой из них, – одна капризничает при дожде, теряет интерес к работе от каждого пустяка, а другая, наоборот, сохраняет форму и стойкость в любую погоду и при любых обстоятельствах. Джон испытывал к ним настоящую нежность, ласково гладил их своими сильными крепкими руками, а потом начиналась работа в поле – угонка и натравка, – и, наконец, награда за его умение, опыт и терпение: бега, возбужденные крики зрителей, крупные ставки и Молния, которая казалась такой хрупкой и нервной на вид, когда он только что ее приобрел, за эти несколько минут, на глазах у толпы, оправдала свою родословную и свое воспитание, складываясь буквально пополам, мчась зигзагами за испуганным зайцем, так что спасения ему не было. Снова Джона хлопали по плечу, поздравляли; ему вручался очередной кубок, а Молния, дрожа от возбуждения и восторга, жалась к его колену.
В марте сезон бегов подошел к концу, и Джон, который в последние полгода не думал ни о чем, кроме своих собак, оказался перед выбором: вернуться в Лондон, где ему предстояло еще одно томительное лето и надоевшая работа, которую он порядком запустил, или поставить крест на «Линкольнз инн», прекратить этот фарс и обосноваться с отцом и сестрами в Клонмире. Если он оставит работу, то сможет приятно побездельничать летом в Клонмире, осень провести в окрестных полях со своими собаками, а через три месяца после Рождества, когда семья будет в Летароге, снова привезти их в Норфолк на бега. Подобная перспектива была слишком хороша, чтобы ею пренебречь, и он стал думать, что с его стороны было, наверное, очень глупо воспринимать смерть брата так, как это делал он. Смерть – это, конечно, трагедия, но ведь любое горе со временем теряет остроту, и уж во всяком случае не Генри возражать против того, чтобы он сделался хозяином Клонмира.
Итак, с наступлением мая Джон распрощался с папками, документами, чернильницами и пылью «Линкольнз инн» и с непривычным для него чувством свободы погрузился на пакетбот, следующий в Слейн, а потом покатил по дороге на Дунхейвен, вместе с борзыми и псарем, который за ними ходил. Когда дорога поднялась на холм возле Голодной горы и Джон оглядел лежащий внизу Дунхейвен, задержавшись взглядом на Клонмире, расположившемся у края бухты, сердце его наполнилось восторгом и гордостью, которых раньше он никогда не испытывал. Клонмир вдруг стал для него интимным и значительным, драгоценностью изумительной красоты, которая со временем будет принадлежать ему.
Возвращение домой оказалось радостным событием. Отец и сестры вышли на подъездную аллею, чтобы его встретить, в их отношении к нему не было и тени сдержанности или холодка. Отец пожал ему руку, сказал, что он хорошо выглядит, и тут же стал расспрашивать о собаках. Борзых выпустили из ящика, с гордостью продемонстрировали, и все семейство, весело смеясь и болтая, направилось вдоль бухты к замку – сестры вели Джона под руки. Хвоя, устилавшая тропинку, пружинила под ногами, в воздухе носился смешанный аромат сосновой смолы и рододендронов, к которому примешивался острый запах мокрой после отлива земли.
Они вышли из леса возле садика Джейн, который она разбила на берегу бухты, и нужно было похвалить новые посадки и побранить вымощенную каменными плитами дорожку, а Джейн краснела и волновалась, не выпуская руки брата; потом пошли дальше, к лодочному сараю, где один из слуг был занят тем, что красил Джонову яхту, тогда как ялик был уже спущен на воду. Все улыбались, все были счастливы, а сердце Джона полнилось каким-то новым теплым чувством, которому он не мог найти названия. Он побежал наверх, в свою комнату в башне. Там были его ружья и удочки, старые школьные учебники, растрепанные и знакомые, рисунок, изображающий часовню в Итоне, и другой, на котором был запечатлен квадратный дворик его колледжа в Оксфорде. Был там и ящичек с коллекцией бабочек – плод страстного увлечения одного каникулярного лета; и другой, с птичьими яйцами; а на каминной полке – всякая всячина, предметы, которые ему случилось подобрать в разное время: кусочек кремня с Голодной горы; камешек странной формы, похожий на яйцо, который он нашел на острове Дун; комок сухого мха с Килинских болот.
– Завтра, – сказал он Джейн, – поедем ловить рыбу. В заливе полно килиги. – И, отстранив ее на расстояние вытянутой руки и наклонив набок голову, он заметил: – Знаешь, ты стала очень хорошенькой.
Джейн вспыхнула и сказала ему, чтобы он не глупил.
– Тут один художник пишет ее портрет, – сказала Барбара. – Мы считаем, что сходство просто поразительное, хотя Вилли Армстронг уверяет, что художник не сумел отдать ей должное и что на самом деле она лучше.
И вот в гостиной Джон видит портрет, прислоненный к мольберту, на холсте еще не высохла краска, а на портрете – Джейн, совершенно такая же, как та, что стоит рядом с ним в новом светлом платье, купленном в Бате нынешней зимой, в жемчужном ожерелье на шейке, а в теплых задумчивых карих глазах такое знакомое Джону выражение неуверенности.
– А что думает о портрете Дик Фокс? – спросил Джон.
– Ах, он, конечно, в восторге, – ответила Элиза, тряхнув головой. – Он являлся сюда каждый день, когда Джейн нужно было позировать, и развлекал ее, чтобы ей не было скучно. Ничего удивительного, что у Джейн на портрете такое жеманное выражение лица.
Джон, взглянув на младшую сестру, увидел, что ее огорчили слова Элизы и что она вот-вот расплачется. Он улыбнулся ей и покачал головой.
– Не обращай на нее внимания, – сказал он. – Зелен виноград, и больше ничего. – И, все поняв, он быстро перевел разговор на другое. Так, значит, Джейн уже успела вырасти, думал он, сидя за обедом, и влюбиться в Дика Фокса из дунского гарнизона, а ведь кажется, только вчера она была девчушкой и читала сказки перед камином в их старой детской. Спору нет, Дик Фокс симпатичный парень, но на какое-то мгновение в сердце Джона вспыхнула жгучая ревность – как это так, его любимая сестра Джейн, которая была ему таким отличным товарищем, будет ласково смотреть не на него, а на другого мужчину; мысль же о том, что ее будет целовать, а может быть, даже ласкать какой-то паршивый гарнизонный офицер, показалась ему отвратительной, прямо сказать, нестерпимой.
– …и я бы хотел знать твое мнение об арендном договоре, прежде чем я его окончательно подпишу, – говорил его отец, откладывая нож и вилку и глядя через стол на сына.
Джон вздрогнул и пробормотал:
– Да, сэр, с большим удовольствием, – не имея ни малейшего понятия, о чем идет речь.
Барбара предупреждающе толкнула его коленом под столом.
– Я заключил с ним соглашение, – продолжал Медный Джон, – в соответствии с которым с него взыскивается половина его задолженности и аренда остается за ним из расчета ста тридцати фунтов в год. Нечего и говорить, я не видел и пенни из этих денег, и еще в марте послал предупреждение, чтобы он убирался, однако он до сей поры не съехал. Положение, как видишь, нетерпимое.
– О да, сэр, абсолютно нетерпимое.
– Я намереваюсь сделать все, что в моих силах, чтобы наладить сообщение между Дунхейвеном и Денмаром посредством новой хорошей дороги, что, согласись, принесет неисчислимые преимущества владениям Роберта Лэмли и лорда Мэнди, и, если нам удастся, наладить сообщение от озер через Денмар, Дунхейвен и Мэнди на Слейн. В таком случае, мне кажется, гости, приезжающие к нам на Запад, предпочтут возвращаться именно этим путем, а не прежним. И тогда мы без всякого риска можем построить в Дунхейвене гостиницу. А может даже случиться так, что кто-нибудь из джентльменов захочет поселиться в наших краях. Что ты об этом думаешь, Джон?
– Всецело разделяю ваше мнение, сэр.
– Не знаю, располагает ли государство средствами для этой цели, но, во всяком случае, я намерен собрать всю необходимую информацию. Вполне возможно, что они это сделают по собственному почину. Ведь это большое дело – обеспечить связь с западным районом страны, к тому же, если случится война, это поможет обеспечить продовольствием флот. Я только надеюсь, что наши министры не устроят скандала и не поставят нас в затруднительное положение.
– Надеюсь, этого не случится, сэр, – сказал Джон. Его очень мало интересовало то, о чем говорил отец, однако он надеялся, что голос его звучит достаточно убедительно.
– Между прочим, Флауэры сейчас у себя в Эндриффе, – сообщила Барбара. – Они, как обычно, были за границей и только недавно вернулись. Я рада, что Фанни-Роза теперь не такая дикая и безалаберная, как раньше. Зима, проведенная за границей, благотворно отразилась на ее манерах и поведении. Однако мне кажется, что она по-прежнему делает все, что ей вздумается. Что же касается младшей сестры, то бедная миссис Флауэр вообще ничего не может с ней поделать.
– Говорят, что в Фанни-Розу был безумно влюблен один итальянец, – сказала Элиза, – какой-то знатный господин с громким титулом, к тому же женатый.
– Никогда не слушай сплетен, Элиза, – сказал ее отец, – они не приносят никакой пользы тому, кто их слушает, и еще меньше тому, кто их передает. Если ты пройдешь со мной в библиотеку, Джон, я покажу тебе то место на плане Голодной горы, где я планирую вести дальнейшие разработки. Медь там есть, причем на небольшой глубине, так что затраты будут не слишком велики.
Джон прошел за отцом в библиотеку, делая вид, что его интересуют цифры и расчеты, связанные с шахтой, но мысли его то и дело обращались к Фанни-Розе. Он не видел ее полтора года, с того дня на Голодной горе, когда она лежала в его объятиях, а Генри собирался отправиться на Барбадос. В прошлом году, в знойные летние месяцы в Лондоне, он мучился, задавая себе вопрос: как часто она виделась с Генри в Неаполе? Горевала ли она, когда Генри умер? Эти мысли усугубляли тревожное состояние его души, а Фанни-Роза сделалась для него символом чего-то необычного, редкостно-прекрасного, призрачным созданием, которое ему никогда больше не суждено увидеть. Она выйдет замуж за какого-нибудь итальянца и через несколько лет вернется в Эндрифф с целым выводком ребятишек и блестящим мужем, а сама поблекнет, черты лица ее огрубеют, очарование юности исчезнет навсегда.
Он нарочно рисовал в уме эти картины, чтобы не испытывать боли, думая о ней, и мысль о том, что она выйдет замуж за иностранца и будет потеряна для него навсегда, доставляла ему особое, даже несколько извращенное удовольствие. Его Фанни-Роза останется воспоминанием, призраком, рожденным прелестью Голодной горы, в то время как до настоящей Фанни-Розы, той, что будет продолжать жить, ему нет никакого дела. И вот все эти замкнутые двери, за которыми он прятал свои воспоминания, будут отворены реальной Фанни-Розой; это будет не призрак, а живая женщина, живая и свободная, и пусть за ней ухаживали все итальянские графы в Неаполе, все равно она будет еще краше, чем раньше, и на следующей неделе приедет в Клонмир, как сказала Барбара. Может быть, ей захочется посмотреть на его собак, и Джиму было дано специальное распоряжение привести их в наилучший вид, подготовить ко дню приезда Флауэров и, несмотря на жару, надеть на них попонки – алая ткань с серой отделкой выглядит на них очень красиво, и на ее фоне четко выделяются крупные буквы Д. Л. Б. Примерно за два часа до того момента, когда должны были приехать Флауэры, его охватили страх и уныние, и, забившись в самый дальний угол парка, он уселся под соснами так, чтобы его не было видно из замка, и стал смотреть через водную гладь на остров Дун, думая о том, не лучше ли было бы взять лодку, исчезнуть на целый день и вообще не встречаться с Флауэрами. Вдруг он вообразил, что ему совсем не хочется видеть Фанни-Розу, не хочется с ней разговаривать, но даже если это случится, все равно все будет не так, как он планировал, – собаки покажутся ей отвратительными, над кубком она будет смеяться, говорить станет только об итальянцах, с которыми встречалась в Неаполе, и весь день от начала до конца будет испорчен. Он все еще сидел на берегу бухты, когда послышался стук колес экипажа, вот он проехал под аркой из рододендронов, подкатил к дому, и оттуда уже слышался голос Барбары и ненатуральный раздражающий смех Элизы. «Джон!.. Джон!..» – звала его Барбара, а он спрятался за дерево и твердо решил не выходить к гостям, думая только о том, как бы незаметно пробраться в башню и скрыться у себя в комнате. Голоса смолкли, все, наверное, вошли в дом, и он слышал, как к коляске подошел Кейси, сел на козлы и погнал лошадей в конюшню. Какой-то импульс, совладать с которым Джон не мог, заставил его подняться на ноги и медленно двинуться по траве к дому. Руки у него дрожали, и он засунул их в карманы. Вдруг он почувствовал, что кто-то смотрит на него из окна гостиной.
– Как вы поживаете, Джон?
И, подняв голову, он улыбнулся, потому что это была Фанни-Роза, призрак со склона Голодной горы, и полутора лет, прошедших с момента их встречи, как не бывало, это было словно вчера, и в памяти отчетливо и ясно возникло прикосновение ее руки, тепло ее губ, когда она лежала в его объятиях среди папоротников.
И вот он уже в гостиной, сидит возле нее, ему что-то говорит Барбара, все оживленно беседуют, смеются, едят печенье. Он слышит свой голос, предлагающий Бобу Флауэру рюмку мадеры.
– Отец уехал на шахту, – говорила Барбара, – но в пять часов он вернется к обеду, как обычно. Вы, господа мужчины, отправляйтесь на рыбалку, пока стоит хорошая погода.
– Я бы тоже хотела поехать, – сказала Фанни-Роза. – А что, Джон разрешает дамам находиться на его яхте?
– О, конечно! – поспешно отозвался Джон. – Конечно, разумеется… Я никак не думал, что вам захочется…
И – о, какое счастье! – все нужно было планировать заново, ибо, если в рыбалке будет участвовать Фанни-Роза, ее будет сопровождать Джейн, а так как Булл-Рок – это слишком далеко и на море может случиться волнение, им придется держаться возле острова; в корзины пришлось добавить еды, а Фанни-Розу снабдить одной из шалей Барбары, на случай если поднимется ветер. Какое счастье спуститься к бухте и подвести яхту к пристани, чтобы Джейн и Фанни-Роза могли подняться на борт, а потом, когда паруса уже подняты и руль поставлен на место, откинув волосы со лба и закатав рукава выше локтя, прокричать Бобу команду отдать концы. И вперед к выходу из бухты, в открытые воды Дунхейвена, где раскорячился вытянутый в длину остров Дун, за ним – открытое море, а налево – зеленая громада Голодной горы, сверкающая на солнце.
Как приятно перестать дуться, стесняться, жалеть и ненавидеть себя за свои настроения и вместо этого делать то, что любишь, – плыть под парусом, ветер развевает волосы, а рядом сидит Фанни-Роза. Она не изменилась, разве что стала еще прелестнее, и в ее движениях появилась грация, которой не было прежде. Зеленая шаль, которую дала ей Барбара, была под стать ее глазам. Она небрежно накинула ее на плечи, смотрела снизу вверх на Джона и улыбалась; ее улыбка таила в себе обещание, а обещание сулило надежду.
– Я слышала, что ни один человек в стране не знает о собачьих бегах столько, сколько вы, – сказала она. – Расскажите мне, чем вы занимались все то время, что мы не виделись.
Он начал говорить о своих собаках, сперва нерешительно, боясь, что она не будет слушать, а потом со все возрастающей уверенностью, рассмешив ее рассказом о толпах, собирающихся на бегах, о владельцах собак, о зависти и обманах, процветающих в их кругу.
Боб тоже выказал интерес к его рассказу, задавая множество вопросов. Как приятно, думал Джон, хоть раз в жизни выступать в качестве авторитетного лица, знать, что его мнение о единственном предмете, с которым он по-настоящему знаком, выслушивается с уважением.
Они встали на якорь у западного берега острова Дун, с тем чтобы позавтракать мясными пирожками и бутербродами с кресс-салатом, и вдруг Боб Флауэр, взглянув на казармы, вспомнил про своего приятеля, который недавно был послан в должности адъютанта в расквартированный на острове батальон, и тотчас же поступило предложение всему обществу сойти на берег, пройтись до офицерских казарм и попытаться его найти. Джон взглянул на невинное личико своей сестры, и ему пришло в голову, что, возможно, Дик Фокс в этот самый момент наблюдает за ней из своей комнаты, вооружившись подзорной трубой.
Когда яхта подошла к пристани, Фанни-Роза заявила, что не желает сходить на берег, она приехала сюда, чтобы любоваться водой, а вовсе не для того, чтобы угощаться сомнительного качества кларетом в гостиной у офицеров, а с Джейн ничего худого не случится под эскортом такого положительного человека, как Боб; ведь всем известно, что Боб – воплощенная осмотрительность. Итак, Джейн, очень хорошенькая и застенчивая, сошла на берег, опираясь на надежную руку Боба, и, конечно же, исключительно по счастливой случайности на тропинке в этот момент появился лейтенант Фокс, направляясь им навстречу.