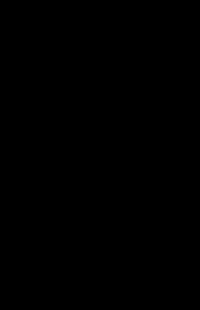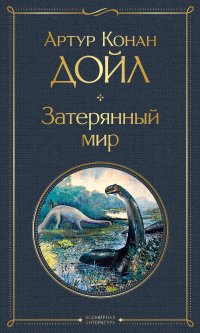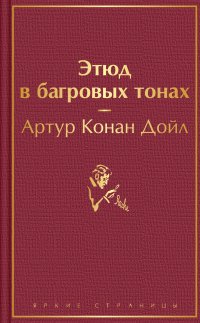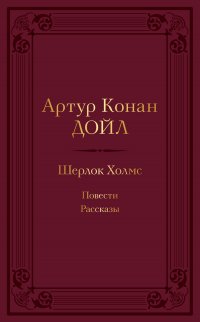Читать онлайн Этюд в багровых тонах. Приключения Шерлока Холмса бесплатно
- Все книги автора: Артур Конан Дойл
© Л. Ю. Брилова, перевод, 2016
© С. Л. Сухарев (наследник), перевод, 2016
© Издание на русском языке, состав, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022
Издательство Иностранка®
Из книги «Воспоминания и приключения»
Ранние воспоминания
Родился я 22 мая 1859 года, в Эдинбурге, на Пикардийской площади, названной так потому, что в прежние дни там обитала колония французских гугенотов. О детстве мне сказать почти нечего – кроме того, что обстановка меня окружала спартанская как дома, так и тем более в эдинбургской школе, где учитель старой закалки, со своим вечным ремнем, превратил наши юные дни в сплошной кошмар.
Я любил читать и глотал книги с такой скоростью, что в маленькой библиотеке, где мы их брали, мою мать предупредили, чтобы она являлась за новой порцией не чаще двух раз в день. Вкус у меня был вполне мальчишеский, из авторов я предпочитал Майн Рида, из книг – «Охотников за скальпами». В совсем раннем детстве я и сам сочинил книжку и снабдил ее иллюстрациями. Там был человек, там был тигр, они встретились и слились воедино. В разговоре с матерью я сделал не по годам мудрое замечание: очень просто поставить человека в трудное положение, а вот вызволить – дело другое. Несомненно, всем сочинителям приключенческих книг пришлось усвоить эту истину.
На десятом году жизни меня определили в Ходдер, где подготавливают к Стонихерсту, большой римско-католической школе в Ланкашире. В Стонихерсте и продолжилось мое обучение; это обширное средневековое здание полторы сотни лет назад досталось иезуитам, которые учредили там частную школу, для чего привезли из одного голландского колледжа полный состав преподавателей. Курс наук был подобен самому зданию – средневековому, но основательному. Как я понимаю, ныне он осовременен. В школе было семь классов: начальный, арифметический, элементарный, грамматический, синтаксический, поэтический и риторический; на каждый отводился год, каковые семь лет я благополучно и отучился, с учетом двух классов в Ходдере. В последний год я выпускал журнал колледжа и сочинил немалое количество посредственных стихов. К тому же я прошел вступительный экзамен Лондонского университета – отличную всестороннюю проверку, которая завершает курс Стонихерста, – и, ко всеобщему удивлению, заслужил отличие, так что, проучившись все время ни шатко ни валко, в шестнадцать лет покинул школу, как ни странно, весьма успешным выпускником. Ранее, пока я учился, моей матери предложили освобождение от платы, если она согласится посвятить сына Церкви. Она отказалась, чем спасла и Церковь, и меня.
Мне, однако, пришлось провести у иезуитов еще один год: было решено, что приобретать профессиональные знания еще рано, а лучше отправиться в Германию для изучения немецкого языка.
Студенческие воспоминания
Вернувшись в Эдинбург из Германии, где за не лишенный приятности год ничем особенным не обогатил ни свой ум, ни душу, я обнаружил, что моя семья по-прежнему стеснена в средствах. Мне было назначено сделаться доктором – надо думать, главным образом потому, что Эдинбург славится как центр обучения медицине. В октябре 1876 года я был принят студентом, а в августе 1881-го выпущен бакалавром медицины. Между этими двумя датами пролегает череда однообразных дней, посвященных скучной зубрежке: ботаника, химия, анатомия, физиология и длинный список обязательных дисциплин, многие из которых имеют к искусству целительства весьма косвенное отношение.
В Эдинбурге никому из профессоров даже не приходило в голову завести дружбу или хотя бы ближе познакомиться с кем-нибудь из студентов. Отношения были сугубо деловые: ты платил, к примеру, четыре гинеи за лекции по анатомии и в обмен получал зимний курс, профессора видел только за кафедрой и ни при каких обстоятельствах не вступал с ним в беседу. Меж тем среди профессоров имелись и весьма любопытные люди, и мы умудрялись многое о них узнать даже без личного знакомства.
Наиболее примечателен был Джозеф Белл, хирург из Эдинбургской больницы. Он был яркой личностью как внешне, так и внутренне. Худой, жилистый, темноволосый, крупный нос, умное лицо, проницательный взгляд серых глаз, квадратные плечи, подпрыгивающая походка. Голос высокий и немузыкальный. Хирург он был очень умелый, но самым сильным его качеством было умение поставить диагноз, причем не только болезни, но и занятий и характера человека. По причине, до сих пор мне неизвестной, он выделил меня из толпы студентов, посещавших его отделение, и сделал своим администратором по приему амбулаторных больных; моей обязанностью было их учитывать, делать краткие записи о жалобах и пропускать пациентов по одному в большую комнату, где важно восседал Белл, окруженный помощниками и студентами. Так я получил возможность изучить его методы и заметить, как часто он при помощи мимолетного взгляда узнавал о пациенте больше, чем я путем расспросов. Результаты бывали поразительны, хотя иногда он попадал пальцем в небо. Вот один из примеров его удач. Белл говорит пациенту (штатскому):
– Что, приятель, служили в армии?
– Да, сэр.
– Вышли в отставку не так давно?
– Недавно, сэр.
– Хайлендский полк?
– Да, сэр.
– Сержант?
– Да, сэр.
– Стояли на Барбадосе?
– Да, сэр.
– Видите, джентльмены, – объяснял он обыкновенно, – держится и выглядит этот человек прилично, но шляпу не снял. Так ведут себя армейские, хотя, будь он в отставке не первый год, усвоил бы штатские манеры. Смотрит властно, на вид явный шотландец. Что касается Барбадоса, то слоновая болезнь, которою он страдает, распространена в Вест-Индии, а не в Британии.
Многочисленным ватсонам, слушавшим Белла, его догадки казались чудом, но, получив объяснение, они убеждались, что нет ничего проще. Неудивительно, что, запомнив его методы, я использовал и развил их позднее, когда пытался создать образ ученого сыщика, который раскрывает дела благодаря собственной проницательности, а не промахам преступников. Белл очень заинтересовался этими детективными историями и давал советы – не особенно, надо сказать, пригодные. Я долгие годы поддерживал с ним связь, и он оказал мне деятельную помощь в 1901 году, когда я участвовал в эдинбургских выборах.
Когда я взялся помогать Беллу с амбулаторными пациентами, он предупредил меня о необходимости знать шотландские идиомы, а я с юношеской самоуверенностью заявил, что владею ими в достаточной мере. Получилось забавно. В один из первых дней пришел старик, который в ответ на мой вопрос заявил, что у него «чиряк под пазухом». Я был буквально сражен, к немалому удовольствию Белла. Похоже, пациент имел в виду абсцесс в подмышечной области.
Чуть ли не с самого начала я стремился освоить годичный курс наук за полгода, чтобы в освободившиеся месяцы немного подработать в должности ассистента, который готовит снадобья и выполняет прочие работы для доктора.
Именно в это время я впервые узнал, что шиллинги можно зарабатывать и не прикасаясь к аптечным пузырькам. Кто-то из моих друзей заметил, что стиль моих писем очень выразителен и я мог бы писать что-то за деньги. Надо сказать, литература обладала для меня неодолимым притяжением, а интересы мои были разнообразны и притом как будто вполне бесцельны. На ланч мне обычно полагалось два пенса, это была стоимость пирожка с бараниной, но рядом с пирожковой находилась другая лавка, букинистическая, где над бочонком, полным старых книг, красовалась надпись: «Любая за 2 пенни». Частенько стоимость моего ланча шла в уплату за какой-нибудь экземпляр из бочонка, и сейчас, когда я пишу эти строки, у меня под рукой стоят Гордонов Тацит, труды Темпла, Гомер Поупа, «Спектейтор» Аддисона и сочинения Свифта, все из этого двухпенсового хранилища. Всякий, кто знал мои интересы и вкусы, сказал бы, что столь сильные устремления непременно найдут себе выход, но я даже не мечтал стать автором сколько-нибудь достойной прозы, и замечание друга, человека ничуть не льстивого, застало меня врасплох. Однако же я сел за стол и написал небольшой приключенческий рассказик «Тайна долины Сэсасса». К моей неописуемой радости и изумлению, рассказ приняли в «Чамберс джорнал» и уплатили за него три гинеи. Не важно, что другие попытки провалились. Однажды я уже добился своего и подбадривал себя мыслью, что смогу сделать это еще раз. Много лет после этого я не печатался в «Чамберсе», но в 1879 году мой «Рассказ американца» был опубликован в «Лондон сосайети», и я получил за него скромный чек. Однако мысль о подлинном успехе была еще от меня далека.
Первый профессиональный опыт
В 1880 году мне довелось провести семь месяцев в арктических морях; я плавал на «Надежде», которой командовал Джон Грей, известный китобой. На судно я поступил в качестве врача, однако ко времени выхода в море мне исполнилось всего двадцать и мои познания в медицине не превышали уровень третьего курса университета. Вспоминая это, я часто радуюсь тому, что не столкнулся на судне ни с одним серьезным случаем.
На борт китобойного судна я вступил легкомысленным юнцом, на берег же сошел взрослым и сильным мужчиной. Впереди были выпускные экзамены, которые я сдал в конце зимней сессии 1881 года, заслужив отличные, но не выдающиеся оценки. Бакалавр медицины и магистр хирургии, я был хорошо подготовлен к профессиональной карьере.
Не имея никаких сколь-нибудь определенных планов, я был согласен поступить в армию, на флот, на службу в Индию, лишь бы занять вакансию. Но, совершив поездку на грузовом судне вдоль западного берега Африки, я в конце концов завел практику в Плимуте, [а затем перебрался в Саутси].
Неделю я потратил на осмотр пустующих домов и наконец решил снять за 40 фунтов в год Буш-виллу, которую любезный хозяин ныне переименовал в Дойль-хаус. На аукционе в Портси я накупил мебели – возможно, даже не из вторых, а из десятых рук – примерно на 4 фунта. Ее хватило на все мои нужды, и я сумел обставить кабинет для приема пациентов: три стула, стол, ковер в центре комнаты. Для верхних комнат были куплены какая-никакая кровать и матрас. Я повесил привезенную из Плимута табличку, купил в кредит красный фонарь – сделал все чин по чину. Под конец у меня осталось два-три фунта. О слугах, конечно, речи идти не могло, и я каждое утро собственноручно чистил табличку, подметал крыльцо и наводил в доме относительную чистоту. Оказалось, я вполне обхожусь менее чем шиллингом в день, так что могу продержаться еще долго.
В то время я поместил несколько рассказов в «Лондон сосайети» – журнале, который нынче не издается, но тогда процветал под руководством некоего мистера Хогга. В апрельском номере 1882 года вышел мой рассказ «Кости», ныне благополучно забытый, в предыдущем, рождественском номере – «Блюменсдайкский каньон»; оба были слабым подражанием Брету Гарту. К этим рассказам, вкупе с упомянутыми выше, и сводилась вся моя тогдашняя литературная продукция. Я объяснил мистеру Хоггу свое положение и сочинил для его рождественского номера новую повесть – «Убийца, мой приятель». Хогг показал себя молодцом и прислал мне 10 фунтов, которые я отложил, чтобы оплатить аренду за первые три месяца. Годом позднее я уже не был им так доволен, поскольку он заявил полные авторские права на эти незрелые вещи и опубликовал их книгой с моим именем на обложке. Будьте на страже, молодые авторы, будьте на страже, иначе узнаете, что самый злостный ваш враг – это ваше прежнее «я»!
Тогда мне еще не приходило в голову, что можно жить за счет литературы, а не только от случая к случаю зарабатывать себе карманные деньги, хотя она уже начала определять мое существование: без нескольких фунтов, которые мне прислал мистер Хогг, я бы либо сдался, либо умер с голоду, а так можно было все прочие скромные поступления тратить на еду.
Неделя шла за неделей, перекинуться словом было не с кем, и я начал уже тосковать по домашнему кружку в Эдинбурге и задумываться о том, не пригласить ли кого-нибудь из родных в свой восьмикомнатный дом. Из девочек кто-то устроился гувернанткой, а кто-то учился этой профессии, но оставался еще малолетний брат Иннес. Если я его заберу, то облегчу жизнь и матери, и себе. Так и было устроено, и в один прекрасный вечер я обрел себе компаньона – мальчика в коротких штанишках, которому только-только пошел одиннадцатый год. Причем компаньона такого веселого и занимательного, что лучше и не пожелаешь. Скоро я нашел для него хорошую дневную школу и наша жизнь окончательно наладилась. Ему очень нравилось смотреть в Портсмуте на солдат, и его наклонности прирожденного лидера и руководителя ясно указывали на будущую карьеру. Мог ли я предвидеть, что мой брат заслужит отличия на величайшей из войн и умрет в цвете лет – но не прежде, чем узнает о полном разгроме противника? Однако даже в ту пору мысли наши были сосредоточены на войне, и я помню, как мы под дверью конторы местной газеты дожидались сведений о том, чем завершилась бомбардировка Александрии.
Некоторое время мы с Иннесом жили уединенно, деля между собой домашние труды и по вечерам, для моциона, совершая длительные прогулки. Потом меня осенила идея, и я поместил в вечерней газете объявление: предоставлю первый этаж дома тому, кто возьмется вести наше хозяйство. С тех пор мы избавились от хлопот на кухне и зажили совсем благополучно.
В 1885 году брат уехал от меня в частную школу в Йоркшире. Вскоре после этого состоялось мое бракосочетание. Женитьба оказалась во многих отношениях поворотным пунктом моей биографии. Холостяк, в особенности неоднократно менявший место жительства, легко приобретает богемные привычки, и я не был исключением. До тех пор главной моей целью была медицинская карьера. Но когда жизнь сделалась более размеренной, появилось сознание ответственности, естественным образом созрел ум, и литератор стал преобладать над медиком, чтобы в конце концов вытеснить его полностью.
Первый литературный успех
В предшествовавшие женитьбе годы я время от времени сочинял рассказы, которые были достаточно хороши, чтобы получать за них какие-то гроши (в среднем четыре фунта за штуку), но недостаточно хороши, чтобы их перепечатывать. Они рассеяны по страницам «Лондон сосайети», «Круглого года», «Темпл-Бар», «Бойз оун пейпер» и прочих журналов. Там пусть и остаются. Они сослужили службу, хоть немного облегчив вечное бремя финансовых забот. Из этого источника поступало не более 10–15 фунтов в год, так что идея зарабатывать литературным трудом никогда не приходила мне в голову. Я ничего не выдавал, однако же накапливал. У меня до сих пор хранятся записные книжки, куда я заносил всякого рода сведения, собранные в это время. Большая ошибка – приступать к разгрузке, едва успев принять на борт груз. Благодаря своей медлительности и другим особенностям характера я этой опасности избежал.
Примерно через год после женитьбы я осознал, что могу без конца писать рассказы, но вперед так и не продвинусь. Требуется главное: чтобы твое имя стояло на корешке книги. Только таким путем ты утвердишь свою личность и получишь оценку своего труда. В 1884 году я начал писать приключенческий роман, который назвал «Торговый дом Гердлстон». Это была моя первая попытка создать связное повествование. За исключением нескольких отрывков, книга никуда не годится; она грешит подражательностью, как бывает обычно с первыми пробами пера, разве что автор одарен особым оригинальным талантом. Я подозревал это тогда, впоследствии же увидел ясно. Когда издатели отвергли мой роман, я согласился с их решением, и после нескольких путешествий в город потрепанная рукопись нашла себе место в дальнем углу ящика письменного стола.
Я почувствовал, что способен писать четче и лаконичней, как настоящий профессионал. Мне нравился Габорио с его искусно сплетенными сюжетами, а мастер расследований месье Дюпен, герой Эдгара По, с детства был одним из моих кумиров. Но что я мог привнести от себя? Мне вспомнился мой давний учитель Джо Белл, его орлиный нос, причудливые повадки, его поистине магическое искусство умозаключений. Стань он сыщиком, ему наверняка удалось бы приблизить это увлекательное, однако плохо организованное ремесло к точной науке. Не попытаться ли мне сделать это за него? Не сомневаюсь, что в реальной жизни такое возможно, так почему бы не сочинить об этом книгу? Можно ограничиться утверждением, что сыщик умен, но читателю нужны примеры – вроде тех, какие Белл демонстрировал нам каждый день в больнице.
Идея показалась мне занимательной. Как же назвать своего героя? У меня до сих пор хранится листок из записной книжки с перечнем вариантов. Можно было бы дать сыщику имя с намеком – Шарп, к примеру, или Феррет, – но мне подобный убогий прием претит. Первоначально он звался Шеррингфорд Холмс, потом сделался Шерлоком Холмсом. Описывать свои подвиги сам он не мог, нужно было придать ему для контраста товарища, личность вполне заурядную. Последнему предстояло и участвовать в приключениях, и их описывать, а значит, он должен был владеть пером и быть человеком действия. Ему полагалось обычное, без претензий, имя. Вполне сойдет, к примеру, Ватсон. Замысел сложился, и так возник «Этюд в багровых тонах».
Зная, что он написан на пределе моих возможностей, я надеялся на успех. Когда «Гердлстон» стал с регулярностью почтового голубя возвращаться ко мне, я был расстроен, но не удивлен, поскольку понимал решение издателей. Но когда та же судьба постигла книжицу о Холмсе, меня это неприятно поразило: я знал, что она заслуживает лучшего. Джеймс Пейн похвалил книгу, но нашел ее одновременно и слишком короткой, и слишком длинной, и нельзя сказать, что он был не прав. «Эрроусмит» принял рукопись в мае 1886-го и в июле вернул непрочитанной. Двое или трое других презрительно ее отвергли. Наконец я послал ее «Уорду, Локку и Ко», которые специализировались на легковесной, нередко сенсационной прозе.
«Дорогой сэр, – написали они, – мы прочитали вашу повесть, и она нам понравилась. В этом году мы ее опубликовать не можем, так как рынок в настоящее время наводнен развлекательной литературой. Но если вы не против, она полежит у нас до следующего года и мы заплатим вам за авторские права двадцать пять фунтов.
Искренне ваши
„Уорд, Локк и К°“
30 октября 1886 г.».
Предложение было не слишком привлекательное, и даже я, несмотря на свою бедность, задумался. Колебания были вызваны не столько скромным гонораром, сколько длительной отсрочкой, потому что эта книга проложила бы мне путь в литературе. Однако, пав духом из-за частых разочарований, я смирился с тем, что лучше поздно, чем никогда. Поэтому я согласился, и моя книга вышла в 1887 году как «Рождественский ежегодник Битона». Для Уорда – Локка сделка обернулась поразительной прибылью: помимо рождественского номера, они выпустили еще несколько изданий и за тот же нищенский гонорар получили ценные права на экранизацию. Мне от их конторы не поступило больше ни пенса, и, хотя по случайности именно они проложили мне путь к успеху, не думаю, что обязан Уорду и Локку особой благодарностью.
Ждать публикации оставалось долго, а в голове у меня зрели большие замыслы, поэтому я решился подвергнуть свои силы полной проверке, для чего избрал жанр исторического романа. Мне казалось, это единственная возможность сочетать в книге известные литературные достоинства с динамичным приключенческим сюжетом, к которому понятным образом тяготел мой молодой и пылкий ум. Этими соображениями я вдохновлялся, сочиняя «Михея Кларка» – книгу, давшую мне выход на большую дорогу приключений.
Но увы, хотя книжечка о Холмсе разошлась и обеспечила мне некоторую долю комплиментарных отзывов, я как будто снова уперся в закрытую дверь. Первым с романом ознакомился Джеймс Пейн, и его письмо с отказом начиналось словами: «Как, Бога ради, вам пришло в голову тратить свое время и мозги на исторические романы?» После года работы услышать такое было неприятно. Потом последовал вердикт «Бентли»: «По нашему мнению, роману недостает того, что является необходимым украшением книги, а именно увлекательности; поэтому мы не думаем, что он сделается популярен в библиотеках и вообще у читателей». Высказался в свой черед и «Блэквуд»: «Недостатки романа помешают его успеху. Шансы привлечь внимание публики недостаточно высоки, чтобы мы рискнули его издать». Прочие отзывы удручали еще больше. Я готовился уже отправить манускрипт в богадельню к его пострадавшему собрату «Гердлстону», но напоследок решил все же попытать счастья в издательстве «Лонгманз», где роман попал в руки Эндрю Лэнга, который его одобрил и рекомендовал принять. Именно Эндрю Пестровласому (как называл его Стивенсон) я и обязан своим настоящим дебютом, о чем никогда не забывал. Книга появилась в феврале 1889 года и, не имея оглушительного успеха, все же заслужила необычайно хорошие отзывы и продается без перерывов по сей день. Она стала первым краеугольным камнем моей какой-никакой литературной репутации.
Британская литература была тогда в Соединенных Штатах в большой моде по той простой причине, что права не охранялись и за них не требовалось платить. Это не шло на пользу британским авторам, но американским – тем более, потому что им приходилось выдерживать суровую конкуренцию. Как обычно бывает, грехи государства в себе же заключали наказание; страдали не только ни в чем не повинные американские авторы, но и сами издатели: то, что принадлежит всем, практически не принадлежит никому, и стоило им выпустить приличное издание, как тут же появлялся дешевый вариант. Я видел одно из своих ранних американских изданий, напечатанное на бумаге, какую торговцы используют как оберточную. Впрочем, имелся, мне кажется, и один плюс: британский автор, не лишенный достоинств, быстро зарабатывал признание за океаном и впоследствии, после принятия Закона об авторском праве, располагал готовым кругом читателей. Моя книжка о Холмсе была встречена в Америке довольно благосклонно, и однажды я узнал, что в Лондон приехал сотрудник журнала «Липпинкоттс», который желает со мной встретиться и договориться о книге. Само собой, я предоставил своим пациентам выходной и поспешил на встречу.
Стоддарт, американец, оказался превосходным малым; за обедом присутствовали еще двое гостей. Это были ирландец Гилл, член парламента и очень интересный собеседник, и Оскар Уайльд, уже успевший прославиться как поборник эстетизма. Вечер принес мне истинное наслаждение. Уайльд поразил меня тем, что читал «Михея Кларка» и был о нем высокого мнения, поэтому я не чувствовал себя абсолютным чужаком. Беседа с ним произвела на меня неизгладимое впечатление. Возвышаясь над всеми нами, он умудрялся проявлять интерес к каждому нашему слову. Он показал себя человеком тактичным и деликатным: ведь если собеседник, сколь бы он ни был умен, любит превращать разговор в монолог, ему далеко до подлинного джентльмена. Уайльд не только давал, но и брал, но то, что он давал, было бесподобно. Он бывал удивительно точен в высказываниях, тонко приправлял их юмором и подкреплял свою речь сдержанной, свойственной только ему жестикуляцией. Воспроизвести это невозможно, но помню, как разговор зашел о войнах будущего и он, произнеся фразу: «С каждой стороны к пограничной линии двинется химик с бутылкой в руках», воздел руку и сделал строгое лицо, отчего описанная им гротескная сцена предстала перед нами как живая. Удачны и занимательны были и его анекдоты. Мы обсуждали циничную максиму, согласно которой удачи наших друзей вызывают у нас досаду. «Однажды дьявол шел по Ливийской пустыне, – начал Уайльд, – и набрел на мелких бесенят, которые мучили святого отшельника. Святой с легкостью отверг все искушения. Видя неудачу сотоварищей, дьявол выступил вперед, чтобы преподать им урок. „Топорная работа, – молвил он. – Позвольте-ка мне“. И прошептал на ухо святому: „Твой брат назначен епископом Александрийским“. Безмятежное лицо отшельника тут же перекосила злобная гримаса зависти. „Вот такие приемы, – заметил дьявол бесенятам, – я бы вам и порекомендовал“».
Результатом вечера стало наше с Уайльдом обещание написать по книге для «Липпинкоттс мэгэзин». Уайльд исполнил его, сочинив такую высокоморальную книгу, как «Портрет Дориана Грея», я же написал «Знак четырех», где Холмс вторично выходит на сцену.
Ободренный теплым приемом, который «Михей Кларк» встретил у критиков, я задумался о чем-то еще более смелом и честолюбивом. Замысел воплотился в двух книгах – «Белом отряде», от 1889 года, и «Сэре Найджеле», написанном четырнадцатью годами позднее. Из них мне больше нравится вторая, но не побоюсь сказать, что, вместе взятые, они полностью достигли цели – составить точный портрет великой эпохи – и что ничего лучшего, более законченного и амбициозного я в жизни не писал. Всякий труд получает должную оценку, но, сдается мне, Холмс отодвинул в тень мои более весомые сочинения, и, не будь его, моя роль в литературе была бы признана куда более значительной. Для работы потребовалось множество разысканий, и у меня сохранились записные книжки, заполненные всякого рода сведениями. Стиль я практикую простой, длинных слов по возможности избегаю, и не исключено, что эта внешняя легкость иной раз мешает читателю оценить разыскания, лежащие в основе моих исторических романов. Впрочем, меня это не тревожит: я всегда полагал, что справедливость в конечном счете торжествует и истинные достоинства любого труда не будут забыты.
Помню, как я, написав заключительные слова «Белого отряда», ощутил прилив ликования и с криком «Ну все, готово!» швырнул свою ручку в дальнюю стену комнаты, где она оставила на серо-зеленых обоях черное чернильное пятно. В душе я знал, что роман обретет жизнь и осветит наши национальные традиции. Теперь, когда книга выдержала пять десятков изданий, полагаю, не будет нескромным сказать, что мои предвидения оправдались. Это была последняя книга, написанная в дни, когда я занимался врачебной практикой в Саутси, и она знаменует в моей жизни целую эпоху.
Великий прорыв
Это было прекрасно – снова оказаться в Лондоне, чувствуя при этом, что перед нами лежит настоящее поле битвы, где остается только победить или умереть, потому что мы сожгли за собой все корабли. Нынче мне легко, оглядываясь назад, думать, что исход был предрешен, тогда же дело обстояло иначе: репутация набирала силу, однако заработано было всего ничего. Меня поддерживала только вера в долгую жизнь «Белого отряда», который тогда месяц за месяцем печатался в журнале «Корнхилл». За себя я не тревожился, поскольку первые дни в Саутси основательно меня закалили, однако теперь, будучи мужем и отцом, не мог и помыслить о том, чтобы вернуться к тому аскетическому образу жизни, который в прошлом был для меня приемлем и даже приятен.
Мы наняли квартиру на Монтегю-Плейс, и я стал искать, куда бы приладить свою табличку с надписью «Окулист». Мне было известно, что многие состоятельные люди не находят времени, чтобы подобрать себе линзы, ведь в отдельных случаях при астигматизме процедура ретиноскопии бывает очень сложна. Я наловчился в этом занятии и любил его, поэтому надеялся, что оно принесет мне успех. Но, чтобы залучить к себе состоятельную клиентуру, требовалось, понятное дело, находиться с нею рядом и быть под рукой. Обойдя врачебные кварталы, я нашел наконец подходящее помещение на Девоншир-Плейс, 2, в начале Уимпол-стрит, по соседству со знаменитой Харли-стрит. За 120 фунтов в год я получил в свое полное распоряжение кабинет с окнами по главному фасаду и в частичное – комнату ожидания. Вскоре обнаружилось, что кабинет тоже сделался комнатой ожидания, и теперь я понимаю, что это было к лучшему.
Каждое утро я выходил из квартиры на Монтегю-Плейс, в десять занимал свое место в кабинете для консультаций и сидел там до трех или четырех, но ни один звонок не нарушал мой покой. Возможно ли вообразить себе лучшие условия для размышлений и работы? Это было все, о чем можно мечтать, и пока мое профессиональное начинание оставалось безуспешным, я имел все шансы дальнейшего продвижения в литературе. Возвращаясь к себе пить чай, я каждый раз приносил с собой плоды литературных занятий – начатки будущей обильной жатвы.
В то время выходило довольно много ежемесячных журналов, и в их ряду выделялся «Стрэнд», которым и по сю пору очень умело руководит Гринхо Смит. Когда я думал об этих журналах и разрозненных рассказах, в них публиковавшихся, мне пришла в голову мысль: если в ряде номеров печатать цикл историй, объединенных главным героем, и читателям они понравятся, это привяжет их к журналу. С другой стороны, мне давно думалось, что обычный роман с продолжением скорее вредит популярности журнала: рано или поздно читатель пропустит какой-нибудь номер и после этого потеряет весь интерес. Идеальным компромиссом представлялся сквозной персонаж, но завершенные истории: тогда покупатель будет уверен, что получит удовольствие от всего, что найдет в журнале. Кажется, мне первому пришла эта идея, и «Стрэнд мэгэзин» стал первым журналом, ее воплотившим.
Подыскивая центрального персонажа, я решил, что в цикл коротких рассказов отлично впишется Шерлок Холмс, которого я уже изобразил в двух книжках. Эти рассказы я и начал сочинять в долгие часы ожидания в своем кабинете. Смиту они сразу понравились, и он побудил меня продолжать. Улаживать за меня деловые вопросы взялся А. П. Уотт, лучший литературный агент, благодаря которому я был избавлен от ненавистной торговли с издателями. Он повел дело так успешно, что вскоре я перестал заботиться о хлебе насущном. И это было очень кстати, поскольку ни один пациент так и не пересек моего порога.
Моя жизнь снова достигла перепутья, и Провидение, руку которого я ощущал постоянно, дало мне об этом знать способом не самым приятным. Однажды утром я пустился в свой обычный путь, но вдруг почувствовал озноб и, чудом не свалившись с ног, вернулся домой. Меня настигла злостная инфлюэнца, эпидемия которой была как раз в разгаре. Всего за три года до этого моя дорогая сестра Аннетт, всю жизнь посвятившая заботам о семье, умерла в Лиссабоне от этой же болезни, а ведь тогда мои дела пошли настолько успешно, что я мог бы наконец снять с нее бремя обязанностей, столь долго над ней тяготевших. Теперь настал мой черед, и я был близок к тому, чтобы последовать за Аннетт. Не припомню ни мук, ни особо тягостных ощущений или переживаний, однако же в течение недели моя жизнь висела на волоске, а потом я очнулся – слабый, как дитя, и такой же чувствительный, но с ясным, как кристалл, умом. Именно тогда, обозревая собственную жизнь, я понял, как глупо было расходовать свои литературные заработки на содержание кабинета на Уимпол-стрит, и ощутил дикий прилив радости от решения порвать с прежним ремеслом и доверить свою будущую судьбу писательству. Помню, как в восторге подхватил ослабевшими пальцами носовой платок, который лежал на покрывале, и, ликуя, подбросил его к потолку. Наконец-то я буду сам себе господин. Не нужно больше одеваться как доктор, не нужно никому угождать. Ничто не помешает мне жить как и где вздумается. Это был один из самых радостных моментов в моей жизни. Пришелся он на август 1891 года.
Итак, набравшись храбрости, я сел сочинять что-то, достойное именоваться литературой. В работе над Холмсом трудность заключалась в том, что каждый рассказ требовал четкого оригинального сюжета, какого хватило бы и на длинную книгу. Изобретать сюжеты в таком количестве – задача, требующая усилий. Они становятся натянутыми или вовсе не складываются. Теперь, когда меня больше не подгоняла настоятельная нужда в деньгах, я решил больше не писать ничего недостойного своих возможностей. Каждый рассказ о Холмсе должен содержать добротный сюжет и загадку, интересную мне самому, иначе и других не заинтересовать. Если я сумел так долго длить существование Холмса и если публика сочтет, что последний рассказ о нем ничуть не хуже первого (а я на это рассчитываю), причина этому одна: я никогда, или почти никогда, не писал через силу. Некоторые утверждали, будто качество рассказов падало; наиболее точно это критическое суждение выразил один корнуоллский лодочник, сказавший мне: «Сдается мне, сэр, пусть Холмс не убился насмерть, когда упал с утеса, но все равно он до конца так и не пришел в себя». Думаю, однако, если читатель возьмется за цикл в обратном порядке и посмотрит на последние рассказы свежим взглядом, он согласится со мной в том, что, каков бы ни был их средний уровень, заключительный рассказ ни в чем не уступает первому.
Тем не менее я утомился изобретать сюжеты и наметил для себя работу, несомненно, менее прибыльную, однако более значимую в литературном отношении. Меня уже давно интересовали эпоха Людовика XIV и гугеноты – французское подобие наших пуритан. Я неплохо изучил мемуары, относящиеся к тому времени, и заготовил кучу заметок, так что написание «Изгнанников» заняло у меня не так уж много времени.
Но публика по-прежнему требовала историй о Шерлоке Холмсе, и время от времени я старался исполнить ее пожелания. Наконец, завершив два сборника, я увидел, что рискую сделаться ремесленником и к тому же полностью связать себя с низшим, как мне представлялось, жанром литературы. И вот, дабы показать, что настроен твердо, я вознамерился лишить своего героя жизни. Эта мысль сидела у меня в голове, когда мы с женой отправились на краткий отдых в Швейцарию, где при виде Райхенбахского водопада я понял, что в этом поразительном, внушающем трепет месте и должен упокоиться бедный Шерлок, пусть даже заодно с ним канет в бездну и мой банковский счет. Туда я его и отправил, будучи совершенно убежден, что он там останется, – и какое-то время так оно и было. Меня, однако, удивило огорчение публики. Говорят, человека начинают ценить по достоинству только после его смерти, вот и мне стало ясно, как много у Холмса друзей, не ранее, чем бесчисленный хор голосов принялся упрекать меня за скорую с ним расправу. «Скотина!» – так начиналось письмо протеста, посланное одной дамой, и, похоже, она говорила не только за себя. Я слышал, многие даже проливали слезы. Сам я, боюсь, проявил полное бессердечие и только радовался новым просторам, открывшимся перед моим воображением, ведь прежде соблазн высоких гонораров мешал мне думать о чем-либо, кроме Холмса.
В том, что Холмс был для многих чем-то большим, нежели вымышленный персонаж, я убедился благодаря нескончаемым письмам, поступавшим на мой адрес с просьбой переслать их сыщику. Немало писем приходило и Ватсону: авторы желали узнать адрес или получить автограф его знаменитого confrère[1]. Одно агентство, рассылавшее газетные вырезки, спрашивало Ватсона, не желает ли Холмс подписаться. Когда Холмс удалился от дел, несколько пожилых дам брались вести для него хозяйство, и одна из них, дабы повысить себе цену, уверяла меня, что прекрасно разбирается в пчеловодстве и умеет «отделять королеву». Не было недостатка и в клиентах, предлагавших Холмсу расследовать разнообразные семейные тайны.
Часто меня спрашивали, обладаю ли я сам качествами, которыми наделил Холмса, или же я Ватсон не только по внешности. Конечно, мне хорошо известно, что одно дело столкнуться с какой-то задачей в реальной жизни и совсем другое – разрешать ее на своих условиях. В то же время никакое умозрение не поможет сочинить литературного героя и придать ему жизнеподобие, если в тебе самом полностью отсутствуют хотя бы зачатки его свойств, – допущение довольно опасное для автора, из-под пера которого вышло немало злодеев. В моем стихотворении «Дальняя комната», где описывается многообразие нашего внутреннего мира, сказано:
- Гости мрачные обжили
- Угол мой,
- Тенью проскользнув зловещей —
- Как домой.
- То причудливы, то строги, —
- Дикари иль полубоги? —
- Смутно мреют на пороге,
- Скрыты тьмой[2].
Среди этих гостей найдется, возможно, и проницательный сыщик, но, как я убедился, в реальной жизни, чтобы до него доискаться, необходимо подавить всех остальных и привести себя в то особое расположение духа, когда дальнюю комнату населяет один-единственный обитатель. В таких случаях я получаю результат, и несколько раз мне удавалось методами Холмса решать загадки, перед которыми пасовала полиция. При всем том надобно признать, что в обычной жизни я не отличаюсь наблюдательностью и способен взвешивать свидетельства и проницать последовательность событий, только если специально создам особое умонастроение.
Кое-что о Шерлоке Холмсе
А сейчас я, пожалуй, прерву свой рассказ, чтобы привести некоторые подробности о самом известном из моих героев, которые могут быть любопытны читателям.
Уверенность в том, что Холмс – реальный человек из плоти и крови, усиливается, наверно, благодаря его частому появлению на сцене. Когда в театре, который я на шесть месяцев взял в аренду, сошла со сцены моя пьеса по «Родни Стоуну», я отважился на крупную игру, и ничего рискованней я никогда не затевал. Увидев, какой оборот принимают дела, я затворился в кабинете и сосредоточился на сенсационной драме о Шерлоке Холмсе. Я написал ее за неделю и озаглавил «Пестрая лента», по одноименному рассказу. Не будет преувеличением сказать, что за каких-то две недели после закрытия одной пьесы собрался актерский состав и начались репетиции другой. Спектакль имел немалый успех. Настоящим мастером показал себя Лин Хардинг, сыгравший доктора Гримсби Райлотта – едва ли не эпилептика и вполне чудовище; очень хорош был и Сейнтсбери в роли Шерлока Холмса. До конца прогона я возместил все потери из-за предыдущей пьесы и создал не лишенную ценности вещь. Пьеса вошла в репертуар, и ее по сей день представляют в турне по провинции.
Заглавную роль у нас исполнял красивый удав, которым я от души гордился, поэтому представьте себе, с каким возмущением я прочитал финал одной уничижительной рецензии: «Поворотный пункт сюжета был ознаменован появлением откровенно искусственной змеи». Я охотно предложил бы ему кругленькую сумму за согласие взять эту рептилию себе в постель. В разное время у нас выступало несколько змей, но все норовили либо повиснуть, словно шнурок от колокольчика, либо проползти обратно в отверстие и поквитаться с театральным плотником, который взбадривал их, щипая за хвост. В конце концов мы стали использовать искусственных змей, и все, включая плотника, признали, что так лучше.
Это был второй спектакль про Шерлока Холмса. Я упустил упомянуть о первом, который был поставлен много ранее – еще во время Африканской войны. Написал пьесу знаменитый американец Уильям Джиллетт, он же превосходно исполнил роль. Поскольку он воспользовался моими персонажами и отчасти моими сюжетами, мне, естественно, была предложена доля в предприятии, которое оказалось весьма успешным. «Можно мне женить Холмса?» – телеграфировал он мне однажды в муках творчества. «Жените, убейте – делайте, чего душа пожелает», – бездушно ответил я. Я был очарован и пьесой, и актерской игрой, и денежными поступлениями. Думаю, любой, в ком есть артистическая жилка, согласится с тем, что выручка, как бы она ни радовала в час поступления, все же занимает в мыслях автора последнее место.
Сэр Джеймс Барри отдал дань Шерлоку Холмсу в искрометной пародии. Это был веселый жест смирения после провала нашей комической оперы, для которой он взялся написать либретто. Работа была совместной, однако из наших усилий не вышло ничего хорошего. После этого Барри прислал мне пародию на Холмса, написанную на форзаце одной из его книг. Вот она.
Дело о соавторах
Подводя к концу рассказ о приключениях моего друга Шерлока Холмса, я волей-неволей вспоминаю, что, за единственным исключением (об этом случае, завершившем его необычную карьеру, вы вскоре услышите), он никогда не брался за расследования, касающиеся того разряда людей, которые зарабатывают себе на жизнь пером. «Я не отличаюсь особой разборчивостью и готов вести дела с кем угодно, – говаривал он, – однако литературные персоны – это для меня слишком».
Тот вечер мы проводили у себя на Бейкер-стрит. Помнится, я, сидя за столом в центре комнаты, писал рассказ «Человек без пробковой ноги» – историю, столь поразившую Королевское общество и прочие научные учреждения Европы; Холмс же ради развлечения взялся немного попрактиковаться в стрельбе. У него было заведено летними вечерами стрелять по мне так, что пули пролетали вплотную к лицу, а на противоположной стене складывалось мое фотографическое изображение; многие из этих пистолетных портретов отличаются поразительным сходством, что служит некоторым подтверждением его мастерства.
Случайно взглянув в окно, я заметил двух джентльменов, быстрым шагом шедших по Бейкер-стрит, и спросил моего друга, кто они. Холмс тут же закурил трубку и, свернувшись восьмеркой в кресле, ответил:
– Это соавторы комической оперы, и пьеса их не стала триумфом.
Я подпрыгнул до потолка от изумления, а Холмс объяснил:
– Дорогой мой Ватсон, эти люди явно посвятили себя какому-то низменному ремеслу. Это даже вы могли бы установить по их лицам. Голубые бумажки, которые они так яростно расшвыривают, – газетные заметки от агентства «Дюррантс Пресс». Судя по оттопыренным карманам, этих бумажек у соавторов сотни. Будь это приятное чтение, они бы не устроили на нем пляски!
Снова подпрыгнув до потолка (он у нас сплошь в выбоинах), я воскликнул:
– Поразительно! Но может быть, они просто писатели.
– Нет, – возразил Холмс, – просто писатели упоминаются в прессе лишь раз в неделю. Сотни упоминаний собирают только преступники, драматурги и актеры.
– Тогда почему бы не актеры?
– Актеры бы ехали в экипаже.
– Что еще вы можете о них сказать?
– Много чего. По грязи на сапогах того, длинного, я заключаю, что он пришел из Южного Норвуда. Другой, очевидно, писатель из Шотландии.
– Откуда вам это известно?
– В кармане у него книга, которая, как ясно видно, называется «Что-то там Auld Licht»[3]. Кто, кроме автора, станет носить в кармане книгу с таким названием?
Пришлось признать, что никто.
Теперь уже можно было не сомневаться, что двое мужчин (если так их можно назвать) направлялись к нам. Я уже говорил (и не раз), что Холмс редко давал волю какого-либо рода эмоциям, но на этот раз он весь побагровел. Вдруг ярость на его лице сменилась странным торжеством.
– Ватсон, – сказал он, – тот, длинный, годами наживал капитал на самых примечательных моих расследованиях, и наконец он попал мне в руки! Наконец-то!
Я снова взмыл к потолку, а когда приземлился, двое незнакомцев были уже в комнате.
– Замечаю, джентльмены, – проговорил мистер Шерлок Холмс, – вы сейчас расстроены каким-то нерядовым известием.
Тот посетитель, что посолидней, спросил в изумлении, откуда он это знает, однако длинный только скривился.
– Вы забываете о кольце у вас на безымянном пальце, – ответил мистер Холмс невозмутимо.
Я уже готовился подпрыгнуть к потолку, но грубый верзила вмешался:
– Свои фокусы поберегите для публики, Холмс, мне они без надобности. А вы, Ватсон, если опять собираетесь к потолку, я позабочусь, чтобы там вы и остались.
И тут я увидел нечто странное. Мой друг Холмс стал скукоживаться. Он уменьшался прямо у меня на глазах. Я поднял тоскливый взгляд к потолку, но не нашел в себе смелости.
– Первые четыре страницы вырезаем, – сказал верзила, – переходим к делу. Я хочу знать, почему…
– Позвольте мне, – заговорил мистер Холмс, в голосе которого послышался прежний кураж. – Вы хотите знать, почему публика не пошла на вашу оперу.
– О чем безошибочно свидетельствует одна из моих запонок, – с иронией подхватил посетитель. И добавил уже серьезно: – И, поскольку иначе вы ничего не выясните, я должен настаивать, чтобы вы посмотрели спектакль с начала и до конца.
Меня охватила тревога. Я задрожал, понимая, что, если Холмс пойдет на представление, мне придется разделить его участь. Но у моего друга было поистине золотое сердце.
– Ни за что! – отчаянно вскричал он. – Требуйте что угодно, только не это.
– От этого зависит ваше дальнейшее существование, – угрожающе произнес верзила.
– Лучше я растаю в воздухе, – гордо отозвался Холмс, пересаживаясь в другое кресло. – Но я могу объяснить, почему зрители не ходят на вашу пьесу. Для этого мне не обязательно самому высиживать представление.
– И почему же?
– Не хотят, – невозмутимо заявил Холмс, – потому и не ходят.
За этим поразительным замечанием последовала мертвая тишина. Несколько мгновений незваные гости ошеломленно вглядывались в человека, столь удивительным образом раскрывшего их тайну. Потом, вынув ножики…
Холмс съеживался и съеживался, и под конец от него осталось только колечко дыма, которое, медленно крутясь, поднималось к потолку.
Последние слова великих людей нередко бывают примечательны. Вот последние слова Шерлока Холмса: «Эх ты, глупец! Годами я содержал тебя в роскоши. Благодаря мне ты разъезжал в кэбах, а ведь писатель в кэбе – диковинка, какой прежде не видывали. Отныне ты будешь ездить в омнибусах!»
Пораженный ужасом, грубиян упал в кресло.
Второй писатель не выказал ни малейших признаков волнения.
А. Конан Дойлю
от его друга
Дж. М. Барри.
Эта пародия, рядом с которой меркнут все другие, может служить образцом не только остроумия автора, но также его добродушного мужества, так как была написана сразу после нашего горького провала. В самом деле, нет ничего печальнее театрального неуспеха – ведь он касается не только тебя, но и многих других, разделивших твою неудачу. Рад сказать, что пережил такое всего один раз, и, не сомневаюсь, то же самое мог бы повторить Барри.
Прежде чем завершить разговор о многочисленных сценических образах Холмса, я должен отметить: ни один из них, равно как и ни один из рисунков, нисколько не походит на то, как я сам первоначально воображал своего героя. Мне он виделся очень высоким: «ростом он превышал шесть футов, а из-за редкостной худобы казался еще выше», сказано в «Этюде в багровых тонах». Я воображал худое, узкое, как бритва, лицо, большой ястребиный нос, маленькие, близко посаженные глазки. Таков был мой замысел. Но случилось так, что бедному Сидни Пэджету, который до самой своей преждевременной смерти рисовал моего героя, послужил моделью его младший брат – помнится, его звали Уолтер. Красавец Уолтер занял место энергичного, но не столь привлекательного Шерлока, и читательниц, вероятно, такая замена устроила. Театральные постановщики следовали образцу, заданному художником.
Кинематограф, разумеется, появился позже. Когда наконец зашла речь об экранизации рассказов и права на них почти за бесценок приобрела одна французская компания, я счел это подарком судьбы и с радостью принял условия. Впоследствии я убедился, что сделка оказалась провальной: чтобы выкупить права обратно, понадобилась сумма ровно в десять раз большая. Зато теперь «Столл компани» сняла серию фильмов с Эйлом Норвудом в роли Холмса, и качество этой продукции оправдывает все затраты. Впоследствии Норвуд выступил в той же роли на сцене и заслужил одобрение лондонской публики. Он обладает редким качеством, которое нельзя определить иначе нежели «очарование»; благодаря ему зрители неотрывно следят за актером, даже когда он ничего не делает. У него задумчивый, пробуждающий ожидания взгляд, и он умеет бесподобно менять свою наружность. Мне не в чем упрекнуть создателей фильма, кроме того, что на экране появляются телефоны, автомобили и прочие предметы роскоши, неизвестные викторианцу Холмсу.
Меня часто спрашивали, знаю ли я развязку очередной истории о Холмсе, когда берусь за перо. Конечно знаю. Как можно прокладывать курс, если не знаешь места назначения? Первым делом необходимо замыслить интригу. Когда она разработана, следует прикрыть ее, сделать акцент на всем, что подкрепляет иное объяснение событий. Холмсу, однако, видна несостоятельность иных версий, и он более или менее эффектным способом приходит к верному решению, причем каждый свой шаг способен описать и объяснить.
Он демонстрирует свои возможности при помощи остроумных образчиков дедукции (в Южной Америке их называют «шерлокхолмитос»), которые часто не имеют ничего общего с проводимым расследованием, однако же внушают читателю мысль о всемогуществе Холмса. Этот эффект подкрепляется и мимолетными упоминаниями других расследований. Одному Богу известно, сколько заголовков я между делом сочинил и сколько читателей умоляли меня удовлетворить их любопытство по поводу «Риголетто и его ужасной жены», «Случая с усталым капитаном» или «Странных приключений семейства Паттерсон на острове Уффа». Раз-другой я пускал в дело заголовок за годы до того, как сочинял к нему историю, – так обстоит дело со «Вторым пятном», на мой вкус одним из лучших рассказов.
По поводу некоторых рассказов читатели из разных уголков земли периодически задают одни и те же вопросы. В «Приоратской школе» Холмс замечает в своей обычной небрежной манере, что по отпечаткам велосипедных шин на влажной пустоши можно определить, в каком направлении ехал велосипед. Читатели, кто с сочувствием, а кто и с гневом, без конца оспаривали это утверждение, так что я взял велосипед и стал проверять. Мне представлялось, что в тех местах, где велосипед ехал строго по прямой, наложение задней шины на переднюю укажет, куда он двигался. Оказалось, что мои корреспонденты были правы, а я нет: направление не влияет на рисунок следов. С другой стороны, существует куда более простой признак: на холмистой пустоши велосипед оставляет более глубокие отпечатки в горку, чем под горку, так что Холмс все же был оправдан.
Случалось мне ступать на зыбкую почву, когда я недостаточно знал предмет, о котором пишу. К примеру, я никогда не увлекался скачками – и все же рискнул написать «Звездного», где загадка связана с лошадьми и их тренировкой. Сюжет хорош, и Холмс, пожалуй, проявил себя во всей красе, но вот мое невежество вопияло к небесам. В одной из спортивных газет я прочел превосходную и вполне уничижительную заметку, автор которой, явно человек знающий, объяснял, каким в точности наказаниям подлежали участники событий за те действия, которые я им приписал. Половина из них сидела бы в тюрьме, а остальным был бы навеки заказан путь на ипподром. Как бы то ни было, я никогда особенно не заботился о деталях, и в некоторых случаях произвол вполне допустим. Однажды всполошенный редактор написал мне: «В этом месте нет второго рельсового пути», и я ответил: «Так я проложу». С другой стороны, бывают и сюжеты, требующие неукоснительной точности.
Я не хотел бы проявить неблагодарность по отношению к Холмсу, который не раз доказал мне свою дружбу. Если он иногда мне прискучивал, то это потому, что его характер не допускает светотени. Холмс – вычислительная машина, и любые дополнения к его образу только смазывают картину. А значит, разнообразие историй определялось только сюжетными линиями, их компоновкой и трактовкой. Скажу и про Ватсона, который на протяжении семи томов умудрился сохранять серьезность и ни разу не пошутить. Если хочешь создать правдоподобного героя, нужно все принести в жертву последовательности и помнить замечание Голдсмита о Джонсоне: «У него всякая мелкая рыбешка разглагольствует как кит».
Мне и в голову не приходило, что иные простодушные читатели принимают Холмса за настоящего живого человека, пока я не услышал очень милую историю о французских школьниках на автобусной экскурсии. На вопрос, что они в первую очередь желают увидеть в Лондоне, последовал единодушный ответ: квартиру мистера Холмса на Бейкер-стрит. Многие спрашивали меня, который это дом, но такого рода сведений я, по понятным причинам, не даю.
Существует несколько шерлокхолмсовских историй (не стоит даже оговаривать, что вымышленных), которые с регулярностью кометы вновь и вновь появляются в прессе.
Одна из них – это история о кэбмене, который якобы вез меня в парижский отель. «Доктор Дойль! – воскликнул он, рассматривая меня в упор. – Глядя на вас, я заключаю, что недавно вы посетили Константинополь. Кроме того, вы явно побывали в Буде, а также – судя по некоторым признакам – где-то вблизи Милана».
«Поразительно. Как вы это делаете? Плачу пять франков за секрет».
«Я прочитал наклейки на вашем чемодане», – ответил проницательный кэбмен.
Еще одна байка рассказывает о женщине, которая консультировалась у Холмса.
«Сэр, я не знаю, что и думать. За одну неделю у меня пропали клаксон, щетка, коробка с мячами для гольфа, словарь и рожок для обуви. Вы можете это объяснить?»
«Нет ничего проще, мадам, – отвечает Шерлок. – Ясно, что ваш сосед держит козу».
Есть и третья, о том, как Холмс попал в рай и, благодаря своей наблюдательности, сразу опознал Адама. Объяснение, однако, касается анатомии, поэтому от его обсуждения я лучше воздержусь.
Этюд в багровых тонах
Предисловие издателей
(1893)
Поскольку в «Этюде в багровых тонах» читатель знакомится с Шерлоком Холмсом и его методами работы, издатели решили привести здесь заметку о Шерлоке Холмсе, которую доктор Джозеф Белл, прежний учитель доктора Дойля и прообраз Шерлока Холмса, опубликовал недавно в «Букмэне». Несомненно, она весьма заинтересует читателей, которые увидят ее впервые.
По словам доктора Дойля, опубликованным на страницах «Стрэнд мэгэзин», доктор Белл, принимая пациентов, проявлял «интуицию поистине поразительную». Вот вам первый случай.
«„Вижу, – говорит доктор Белл, – вы злоупотребляете выпивкой: у вас и сейчас при себе фляжка – во внутреннем кармане на груди“.
А вот другой.
„Как вижу, сапожник“. Повернувшись к студентам, доктор Белл указывает на изношенные на коленке брюки этого человека. Там он держал выколотку – так делают только сапожники.
Все это очень меня поразило. Я наблюдал его постоянно: зоркие, проницательные глаза, орлиный нос, необычные черты. Он сидел в кресле, сложив пальцы домиком (руки у него были очень подвижные), и просто смотрел на пациента или пациентку. Со студентами он обращался ласково, по-дружески и обучал их очень добросовестно; уехав по окончании университета в Африку, я не забыл яркую индивидуальность моего прежнего преподавателя, его проницательность и такт, хотя и представить себе не мог, что в конце концов эти воспоминания побудят меня бросить медицину и заняться литературой».
Что доктор Дойль решил «бросить медицину и заняться литературой» и к чему это привело, известно всем. И поскольку Шерлок Холмс сделался добрым знакомым каждой семьи и едва ли не общественной институцией, издатели «Этюда в багровых тонах» полагают, что рассказ о том, как доктор Дойль обучался профессии и как сформировалась у него привычка к точному наблюдению, будет интересен многим читателям. Приносим нашу искреннюю благодарность доктору Дойлю, доктору Беллу, а также издателю и владельцам «Букмэна» за любезное разрешение воспроизвести здесь эту статью.
Доктор Джозеф Белл
«Мистер Шерлок Холмс»
Вот недурная примета последнего десятилетия: в наш вялый, обветшавший век даже у самых простецких из наших современников, как говорится, «светлеет в голове». Светские журналы порождают, а ежедневные газеты подпитывают ненасытный, сладострастный интерес к жизни высших классов. Такие сведения ничего не дают уму и ведут к упадку морали; от них не развивается ни одно из чувств и слабеет воображение. Знаменитости в домашней обстановке, иллюстрированные интервью, светские скандалы на всех уровнях – обо всем этом приятно чесать языками. Мемуары, воспоминания, анекдоты из юридической или научной среды представляют ценность куда большую, бросая новый свет на историю, но и они служат не более чем развлечению, помогают убивать время, которым мы разучились дорожить. В последние годы, однако, отчетливо проявляется спрос на книги, которые хотя бы в малой степени дают пищу уму и стимулируют наблюдательность. Цикл «Егерь у себя дома» и ему подобные сочинения, к примеру, открывают глаза горожанам, не знакомым с Уайтом из Селборна (или его подзабывшим), на то, какой прекрасный мир образов и звуков является тому, кто умеет наблюдать. Подобный же интерес возбуждает и «жуткая улица в городе тесном», если связать ее с криминальной романтикой, с загадками и их решением, как это делают более или менее остроумно авторы так называемой детективной литературы, поток которой затапливает страницы периодических изданий. Ни один газетный киоск не обходится без детектива за шиллинг, ни один журнал, стремящийся увеличить свой тираж, не пренебрежет повестями о грабежах и убийствах. Бо́льшая их часть – невысокого пошиба: запутанная интрига сводится на нет в первой же главе, совпадения невероятны, сыщики наделены неправдоподобной интуицией, полагаются не столько на улики, сколько на озарения, для окружающих совершенно непонятные; они однообразны, от этого скучны, и если чем-то интересны, то не методами расследования, а исключительно результатом. Мы можем восхищаться Лекоком, но не представляем себя на его месте. Заслуженный успех доктора Конан Дойля как автора детективных рассказов и успех его героя, сделавшегося любимцем всех британских мальчишек, объясняется изумительным остроумием метода. Он демонстрирует, с какой легкостью умелый наблюдатель вызнает массу подробностей о жизни своих ни в чем не повинных и ничего не подозревающих друзей и далее, при помощи тех же приемов, разоблачает преступника и подробности его злодеяния. Нет ничего нового под солнцем: Вольтер научил нас методу Задига, и каждый толковый преподаватель медицины и хирургии повторяет в своей повседневной практике этот метод и его результаты. Точное, вдумчивое наблюдение и оценка мелких различий – одно из важнейших условий правильного диагноза. Перенесите эту методику в обычную жизнь, добавьте ненасытную любознательность и обостренную восприимчивость – и получится Шерлок Холмс, повергающий в изумление своего туповатого друга Ватсона; перенесите ее в профессиональную сферу – получится Шерлок Холмс, искусный сыщик.
Будучи студентом-медиком, доктор Конан Дойль научился наблюдать, а врачебная практика в качестве терапевта и специалиста дала ему – человеку, наделенному зрением, памятью и воображением, – возможность отточить это умение. Глаза, способные видеть, уши, способные слышать, память, способная удерживать и воспроизводить впечатления органов чувств, воображение, способное сплетать версии и соединять порванные цепочки, распутывать запутанные клубки, – таковы орудия диагноста, которыми он владеет сполна. А поскольку наш доктор к тому же прирожденный рассказчик, ему остается только выбирать, станет ли он писать детективные рассказы или прибережет свои силы для большого исторического романа, такого как «Белый отряд». Сайм, один из самых крупных специалистов, когда-либо обучавших хирургической диагностике, любил приводить сравнение, которое, будучи традицией его школы, наложило отпечаток на метод доктора Конан Дойля: «Старайтесь изучить облик болезни или повреждения так же точно, как помните облик, походку, жесты ближайшего друга». Друга вы различите сразу даже в толпе; пусть вокруг много одинаково одетых людей, у всех похожие глаза, носы, волосы, руки и ноги; пусть все их отличия состоят в мелочах, и все же, зная эти мелочи, вы с легкостью установите диагноз или узнаете близкого человека. Так же обстоят дела и с болезнями души, тела или морали. Расовые признаки, наследственные черточки, акцент, работа или ее отсутствие, образование, среда – все эти незначительные обыденные воздействия постепенно формируют индивида, оставляют на нем подобие отпечатков пальцев или следов резца, которые способен распознать эксперт. Общие признаки, даже на беглый взгляд свидетельствующие о сердечных заболеваниях, чахотке, хроническом алкоголизме или длительной кровопотере, способен распознать и самый зеленый новичок в медицине, однако лишь мастер своего искусства оценит сотни примет, которые говорят о многом, но только тому, кто умеет их услышать. Недавно вышла объемистая и очень толковая книга об одном-единственном симптоме – пульсе; любому, кроме опытного врача, это сочинение покажется таким же нелепым, как бессмертный трактат Шерлока Холмса о ста четырнадцати разновидностях табачного пепла. Самое большое достижение последних лет в области медицинской профилактики и диагностики – это бактериологические исследования, позволяющие различать микроорганизмы, которые распространяют холеру и лихорадку, туберкулез и сибирскую язву. Важность этих бесконечно малых организмов трудно переоценить. Достаточно отравить колодец в Мекке бациллами холеры, и святая вода, которую увозят в бутылках пилигримы, инфицирует целый континент, и все морские порты христианского мира ужаснутся лохмотьям жертв моровой язвы.
Привыкнув замечать и оценивать мелкие детали, доктор Дойль понял: чтобы заинтересовать неглупого читателя, нужно сделать его доверенным лицом, раскрыть свои методы работы. Он создал сообразительного, проницательного героя, наполовину врача, наполовину музыканта, располагающего свободным временем и цепкой памятью, а кроме того, наделенного едва ли не главным даром – умением освобождать свой мозг от бремени ненужных подробностей. Холмс говорит Ватсону: «В чердачке своего мозга следует хранить всю мебель, которая может тебе пригодиться, а остальную выставить в чулан своей библиотеки, откуда ее можно достать в случае надобности». Притом его живейшим образом интересуют незначительные следы, отпечатки, отметины, оставленные средой, трудом, ремеслом, поездками, – все, что может послужить пищей его ненасытной любознательности, едва ли не бесчеловечной, поскольку она не направлена на человеческую личность. Автор присваивает герою роль сыщика-любителя, свободного по этой причине от ответственности; к нему обращаются по множеству разнообразных поводов, и мы узнаем, каким образом он справляется с задачей. По воле автора герой объясняет добропорядочному Ватсону банальные, или мнимо банальные, звенья в цепи доказательств. После этого они становятся столь незамысловаты и очевидны, что простодушный читатель тут же говорит себе: я тоже так могу; жизнь – не такая уж скучная штука; я буду бдителен и до многого докопаюсь. Золотые часы с поцарапанным отверстием для ключа и отметками ростовщиков поведали ему все о брате Ватсона. Пыльный старый котелок сообщил, что его владелец уже не первый год попивает и вчера постригся. Крохотный шип и зловещий отпечаток ноги, оставленный не ребенком и не обезьяной, помог Холмсу опознать и поймать туземца с Андаманских островов. Но, несмотря на все это, вы говорите: тут нет ничего чудесного, мы тоже так можем.
Квалифицированные врачи и хирурги каждый день, принимая самых скромных пациентов, проделывают схожие рассуждения, в меру своих сил, кто быстрее, кто медленней; опытные – почти автоматически, новички – с трудом, часто наугад, но каждому требуются те же простейшие средства: органы чувств, чтобы воспринимать факты, а также образование и ум, чтобы использовать полученные сведения. Одной только остроты зрения и слуха недостаточно. Следопыт-индеец расскажет вам, что следы на листве оставлены не краснокожим, а бледнолицым, потому что судит по форме отпечатка, но только эксперт, разбирающийся в коже для обуви, способен определить, где эта обувь сшита. Зоркий сыщик замечает отпечаток грязного или испачканного кровью пальца на бархате или зеркале, но необходимы познания такого специалиста, как Гальтон, чтобы проявить и закрепить выступы и бороздки на пятне и затем по их рельефу установить подозреваемого вора или убийцу. Шерлок Холмс обладает необходимой остротой чувств, а также специальной подготовкой и знаниями, позволяющими извлечь пользу из наблюдений; и он может позволить себе ознакомить нас с секретами своего метода. Но созданием героя доктор Дойль не ограничился; в своих замечательных произведениях он проявил себя прирожденным рассказчиком. Ему хватает выдумки, чтобы создать отличную интригу и усложнить ее интересными поворотами; его язык – подлинный, мощный, свободный от вычурности англосаксонский; к тому же он не грешит многословием. Он понимает, сколь приятна краткость и как скучны затяжки, и потому создал истории, которые успеваешь прочитать между обедом и кофе, не рискуя забыть начало, прежде чем доберешься до конца. Обычные детективы, от Габорио и Буагобея до новейших сенсационных романов, заставляют читателя совершать ненужные и утомительные усилия, чтобы удержать в памяти все обстоятельства преступления и возникающие на каждом шагу ложные следы. У доктора Дойля вы не забудете ни одного происшествия и не упустите ни одной важной детали.
Часть I
(Из воспоминаний доктора медицины Джона Х. Ватсона, бывшего хирурга Военно-медицинского управления)
Глава I
Мистер Шерлок Холмс
Получив в 1878 году в Лондонском университете диплом доктора медицины, я прошел затем в госпитале Нетли подготовку к службе армейским хирургом. По завершении курса меня, в звании помощника хирурга, записали в Пятый нортамберлендский стрелковый полк. В ту пору полк находился в Индии, и, прежде чем я успел туда добраться, началась Вторая афганская война. Высадившись в Бомбее, я узнал, что мой корпус преодолел горную местность и значительно углубился во вражескую территорию. Однако я, вместе со многими другими офицерами, оказавшимися в таком же положении, сумел благополучно добраться до Кандагара, где нагнал свой полк и приступил к новым обязанностям.
Афганская кампания принесла многим ее участникам славу и чины, на мою же долю выпали одни злосчастья. Из моей бригады меня перевели к беркширцам, с ними я участвовал в роковом сражении при Майванде. Там меня ранило в плечо пулей из джезайла, которая раздробила кость и задела подключичную артерию. Я попал бы в руки кровожадных гази, если бы не преданность и мужество моего ординарца Марри: он погрузил меня на вьючную лошадь и благополучно доставил в расположение нашей пехоты.
Страдающего от раны и изнуренного долгими невзгодами, меня, вместе со многими другими бедолагами, перевезли в главный госпиталь в Пешаваре. Там я окреп, мог уже ходить по палате и даже нежиться на веранде, но вскоре подхватил брюшной тиф – истинное проклятье наших индийских владений. Несколько месяцев моя жизнь висела на волоске, а когда я наконец пришел в себя и начал поправляться, медицинский консилиум, ввиду слабости и истощенности пациента, определил, что его надлежит немедля отослать обратно в Англию. Так я взошел на борт войскового транспорта «Оронтес» и месяцем позднее высадился на причале Портсмута. Здоровье мое оказалось безвозвратно расстроено, однако благодаря отеческой заботе властей мне было дано девять месяцев, чтобы его поправить.
Не имея в Англии ни единой родной души, я оказался свободен как воздух – точнее, свободен в меру своего дохода, составлявшего одиннадцать шиллингов шесть пенсов в день. В таких обстоятельствах меня, естественно, потянуло в Лондон – великую клоаку, что принимает неостановимые потоки бездельников и дармоедов изо всей Империи. Некоторое время я жил в частной гостинице на Стрэнде, ведя бессмысленное, безрадостное существование и тратя больше денег, чем мог себе позволить. С финансами стало так туго, что вскоре я понял: надо либо покинуть столицу и обосноваться где-нибудь в провинции, либо полностью поменять свой образ жизни. Выбрав второй вариант, я задумался о том, чтобы вместо гостиницы избрать себе жилище скромнее и дешевле.
В тот самый день, когда созрело это решение, я заглянул в бар «Крайтерион». Кто-то похлопал меня по плечу, и я, обернувшись, узнал молодого Стэмфорда, моего прежнего ассистента из «Бартса». Когда ты один-одинешенек, что может быть приятней, чем встретить в огромной пустыне, зовущейся Лондон, знакомое приветливое лицо? В старые времена мы никогда не были особо близки, но сейчас я тепло его приветствовал, а он, похоже, был искренне рад меня видеть. От избытка чувств я пригласил его на ланч в «Холборне», мы взяли хэнсом и отправились туда.
– Как вы жили-поживали все это время, Ватсон? – с нескрываемым любопытством осведомился Стэмфорд, пока мы катили по запруженным лондонским улицам. – Вы загорели до черноты и исхудали как щепка.
Я вкратце описал свои приключения, что заняло почти целиком время поездки.
– Бедняга! – посочувствовал он, выслушав мой рассказ. – И какие у вас теперь планы?
– Ищу квартиру, – ответил я. – Поставил себе задачу найти за разумную цену удобное жилье.
– Странное дело, – заметил мой спутник, – в точности то же я сегодня уже слышал.
– И от кого?
– От одного знакомого, он работает в химической лаборатории при нашем госпитале. Жаловался нынче утром, что не может найти сожителя: ему попалась премилая квартирка, но снимать ее в одиночку ему не по карману.
– Бог мой, если он действительно подыскивает компаньона, я-то ему и нужен. По мне, так вдвоем даже веселее.
Молодой Стэмфорд бросил на меня странный взгляд поверх бокала:
– Вы ведь не знакомы с Шерлоком Холмсом. Быть может, постоянное соседство с ним не придется вам по вкусу.
– Почему? Чем он плох?
– Я не говорю, что плох. Просто он немного того: страстно увлечен наукой, точнее, некоторыми науками. Насколько мне известно, он вполне приличный человек.
– Изучает медицину?
– Нет… понятия не имею, на что Холмс нацелился. Он поднаторел в анатомии и отлично знает химию, но, насколько мне известно, никогда не изучал медицину систематически. Его научные занятия причудливы и отрывисты, но он накопил такую уйму разрозненных сведений, что его профессоры были бы поражены.
– А вы не спрашивали, что у него на уме?
– Нет, его нелегко вызвать на откровенность, хотя под настроение он бывает довольно разговорчив.
– Пожалуй, я не прочь свести с ним знакомство. Если придется делить с кем-то жилье, пусть это будет человек спокойный, занятый наукой. Я еще недостаточно окреп, чтобы выносить шум и треволнения. Всего этого мне с лихвой хватило в Афганистане. Как встретиться с этим вашим приятелем?
– Наверняка он в лаборатории, – предположил мой спутник. – Он либо неделями там не бывает, либо сидит с утра до ночи. Если хотите, поедем туда сразу после ресторана.
– Очень хорошо, – ответил я, и разговор свернул на другие предметы.
По дороге из «Холборна» в госпиталь Стэмфорд сообщил мне новые подробности о человеке, которому я собирался предложить соседство.
– Если вы не уживетесь, меня не вините, – сказал он. – Я с ним знаком только по случайным встречам в лаборатории. Это была ваша идея, так что не обессудьте.
– Если не уживемся, то разъедемся, да и все. Сдается мне, Стэмфорд… – Я пристально вгляделся в своего спутника. – Сдается мне, вы неспроста хотите умыть руки. В чем дело? У него такой уж скверный характер? Хватит ходить вокруг да около.
– Нелегко объяснять то, что объяснению не поддается, – усмехнулся Стэмфорд. – Холмс, на мой вкус, чересчур погружен в науку – я бы сказал, до бесчувствия. Могу вообразить, как он дает какому-нибудь приятелю щепотку новейшего растительного алкалоида – без всяких недобрых намерений, единственно из желания узнать, как он действует. В его оправдание: думаю, он с готовностью поставил бы тот же опыт на себе. Похоже, у него тяга к точному знанию.
– Очень правильная тяга.
– Если не доводить ее до крайности. Она выглядит несколько странной, когда он, к примеру, избивает палкой трупы в прозекторской.
– Избивает трупы?
– Да, чтобы выяснить, могут ли у мертвых возникнуть синяки. Я собственными глазами видел его за этим делом.
– И все же – предмет его занятий не медицина?
– Нет. А что именно – одному Богу известно. Но вот мы и пришли, и скоро вы сможете составить собственное представление о моем знакомом.
Мы свернули в тесный переулок и через низкую дверцу проникли в боковое крыло обширного госпиталя. Мне все здесь было знакомо, и я не нуждался в проводнике, пока мы поднимались по мрачной каменной лестнице и шли по длинному коридору с белеными стенами и серовато-коричневыми дверями. В дальнем конце, сбоку, виднелся арочный проход в химическую лабораторию.
В обширной комнате с высоким потолком стояло рядами и валялось в беспорядке великое множество склянок. Там и сям на широких и низких столах громоздились реторты, пробирки, мерцали голубыми огнями миниатюрные горелки Бунзена. Людей не было, кроме единственного исследователя; с головой уйдя в работу, он склонился над дальним столом. Заслышав шаги, он обернулся и вскочил с ликующим возгласом.
– Нашел, нашел! – крикнул он моему спутнику и с пробиркой в руках кинулся к нам. – Я нашел реактив, который осаждается гемоглобином и больше ничем. – На лице его сияла такая радость, словно он открыл золотую жилу.
Стэмфорд представил нас друг другу:
– Доктор Ватсон, мистер Шерлок Холмс.
– Как поживаете? – сердечно осведомился Холмс и сжал мою руку с такой силой, какой я от него не ожидал. – Вижу, вы побывали в Афганистане.
– Как вы узнали? – поразился я.
– Не важно, – отмахнулся он, довольно посмеиваясь. – Речь не об этом, а о гемоглобине. Вы, разумеется, понимаете, насколько важно это открытие?
– Химиков, конечно, оно заинтересует, однако для практики…
– Именно: для судебно-медицинской практики это самое настоящее открытие века. Подумайте только: мы теперь сможем безошибочно распознавать кровавые пятна. Смотрите-ка сюда! – Холмс нетерпеливо подтащил меня за рукав к своему рабочему столу. – Возьмем капельку свежей крови. – Он вонзил себе в палец длинную иглу и набрал немного крови в пипетку. – Теперь я растворяю эту капельку в литре воды. Можете убедиться: вода на вид ничуть не изменилась. Доля крови в смеси не превышает одну миллионную. Однако я уверен, что мы сможем получить характерную реакцию.
Холмс кинул в сосуд несколько белых кристаллов и добавил немного прозрачной жидкости. Содержимое мгновенно окрасилось в тускло-красный цвет, на дно стеклянной банки выпал коричневатый осадок.
– Ха! – Холмс захлопал в ладоши и просиял, как ребенок при виде новой игрушки. – Ну, что вы об этом думаете?
– Похоже, это очень чувствительная методика, – заметил я.
– Отличнейшая! Прежняя – с гваяковой камедью – очень неудобная и неточная. То же относится и к изучению частиц крови под микроскопом – это возможно только в первые часы. А мой метод действует независимо от давности пятна. Если бы его изобрели раньше, сотни преступников, гуляющих сейчас на свободе, понесли бы кару за свои злодеяния.
– А ведь и правда! – пробормотал я.
– Многие расследования зависят именно от этого обстоятельства. Человека подозревают в преступлении, совершенном не один месяц назад. На белье или одежде подозреваемого находят бурые пятна. Что это: кровь, уличная грязь, ржавчина, плодовый сок? Вопрос ставил в тупик всех экспертов, а почему? Потому что не было надежного теста. Теперь же имеется тест Шерлока Холмса и обо всех затруднениях можно забыть.
Победно сверкая глазами, Холмс прижал руку к сердцу и раскланялся в ответ на аплодисменты воображаемой толпы.
– Что ж, поздравляю, – заметил я, немало удивляясь его пылу.
– Возьмем прошлогоднее франкфуртское дело. Если бы мой тест уже существовал, фон Бишоффа наверняка бы вздернули. А Мейсон из Брэдфорда, а пресловутый Мюллер, Лефевр из Монпелье, Сэмсон из Нового Орлеана? Я могу назвать дюжину случаев, когда этот метод сказал бы решающее слово.
– Вы похожи на ходячий справочник по преступлениям, – рассмеялся Стэмфорд. – Могли бы выпускать такого рода газету. Под названием «Стародавние полицейские новости».
– Небезынтересное было бы чтение, – заметил Шерлок Холмс, заклеивая палец кусочком пластыря. – Надо остерегаться, – улыбнулся он, обращаясь ко мне, – ведь каких только ядов не перебывало у меня на столе.
На его протянутой руке я заметил множество таких же кусочков пластыря и участки кожи, обесцвеченные сильными кислотами.
– Мы пришли по делу, – сказал Стэмфорд, усаживаясь на трехногий стул и подталкивая второй ко мне. – Мой друг подыскивает себе жилье, а вы жаловались, что никак не найдете, кто бы пожелал снять квартиру на паях с вами, вот я и подумал вас свести.
Мысль о том, чтобы делить жилье со мной, видимо, привела Шерлока Холмса в восторг.
– Я приглядел квартирку на Бейкер-стрит, – сообщил он, – удобней не придумаешь. Надеюсь, вы ничего не имеете против табачной вони?
– Я и сам курю матросский табак.
– Прекрасно. Я постоянно вожусь с химикалиями, иногда ставлю опыты. Вам это будет досаждать?
– Ничуть.
– Погодите, припомню остальные свои недостатки… Временами на меня нападает хандра и я по нескольку дней ни с кем не разговариваю. Когда такое случается, не надо думать, будто я сердит. Просто не трогайте меня – и скоро это пройдет. Ну а вам есть в чем признаться? Раз мы собираемся стать компаньонами, лучше заранее узнать друг о друге самое худшее.
Этот допрос меня насмешил.
– Я держу щенка бульдога, по причине расстроенных нервов не терплю шум и гам, поздно встаю по утрам и безобразно ленив. Когда здоров, я подвержен и другим порокам, но пока что в основном обхожусь этими.
– А игру на скрипке вы относите к шуму и гаму? – встревожился Холмс.
– Зависит от исполнителя. Искусная игра – это пир богов, а вот плохая…
– А, ну тогда все в порядке. – Холмс рассмеялся. – Думаю, мы можем ударить по рукам… если, конечно, вам понравится квартира.
– Когда мы ее посмотрим?
– Встретимся здесь завтра в полдень, поедем туда и все уладим.
– Отлично… ровно в полдень.
Я пожал Холмсу руку.
Оставив его наедине с химикалиями, мы со Стэмфордом направились пешком к моей гостинице.
– Кстати… – Я остановился. – Как, во имя всего святого, он догадался, что я прибыл из Афганистана?
Стэмфорд загадочно улыбнулся:
– Вот этим он и отличается от остальных людей. Многие желали бы знать, как он доискивается до таких вещей.
– А, так это тайна? – воскликнул я, потирая руки. – Заинтригован! Спасибо, что свели меня с ним. Ведь, как вам известно, «предмет людской науки – человек».
– Тогда его и изучайте, – сказал Стэмфорд на прощанье. – Правда, вам с ним придется непросто. Пари держу, он уже знает о вас больше, чем вы о нем. До свиданья.
– До свиданья. – И я пошагал к гостинице, размышляя о своем новом знакомце.
Глава II
Наука дедукции
На следующий день мы, как было условлено, встретились и осмотрели квартиру в доме 221Б по Бейкер-стрит, о которой в прошлый раз говорил Холмс. В ней оказались две удобные спальни и просторная общая гостиная с уютной мебелью и двумя широкими окнами. Жилье было во всех отношениях превосходным, арендная плата, поделенная на двоих, очень умеренной, так что сделка была заключена тут же, на месте, и мы сразу вступили во владение. Тем же вечером я привез из гостиницы свои вещи, а наутро моему примеру последовал Шерлок Холмс со своими сундуками и чемоданами. Почти два дня ушло на то, чтобы распаковать и разложить наш скарб. После этого мы начали постепенно обживаться и привыкать к новой обстановке.
Холмс оказался неплохим соседом – тихим, ведущим размеренную жизнь. Ложился он обычно не позднее десяти, завтракал и уходил на улицу, пока я еще спал. День он проводил либо в химической лаборатории, либо в прозекторской; временами совершал длительные прогулки – похоже, в наименее респектабельные районы города. Когда на него находил стих, он работал как проклятый, но иногда наступала реакция, и он целыми днями лежал на диване в гостиной, не говоря ни слова и не шевелясь. В таких случаях взгляд моего соседа делался мутным и отсутствующим, и я бы заподозрил его в употреблении какого-то наркотика, если бы не знал, насколько умеренную, безупречную жизнь он ведет.
Неделя шла за неделей, а меня все больше донимало любопытство – хотелось узнать, что за человек мой компаньон и каковы его жизненные цели. Даже его внешний вид сразу привлекал к себе внимание. Ростом он превышал шесть футов, а из-за редкостной худобы казался еще выше. Взгляд острый, пронизывающий (за исключением описанных выше периодов апатии); нос тонкий, ястребиный, что делало облик Холмса еще более настороженным и целеустремленным. Подбородок, выдающийся и квадратный, также обличал человека решительного. Руки, вечно в пятнах от чернил и химикалий, тем не менее были способны к движениям самым нежным и аккуратным – я заметил это, наблюдая, как Холмс обращается с хрупкими принадлежностями при натурфилософских опытах.
Читатель заклеймит меня как любителя совать нос в чужие дела, если я признаюсь, насколько овладело мной любопытство, как часто пытался я сорвать завесу молчания, за которой Холмс скрывал все, что касалось его личных обстоятельств. И все же, прежде чем судить, подумайте о том, насколько тусклой была моя жизнь и как приходилось хвататься за все, способное ее расцветить. По слабости здоровья я почти все время сидел дома, позволяя себе выходить на улицу только в самую хорошую погоду, и это монотонное существование не оживлялось ни одним дружеским визитом. Стоит ли удивляться поэтому, что я с жадной заинтересованностью взялся разгадывать тайну, окружавшую моего компаньона, и этому занятию посвятил немало времени.
Нет, Холмс не изучал медицину. Он сам, в ответ на какой-то случайный вопрос, подтвердил слова Стэмфорда. Осваивал ли он какой-либо курс наук, дабы получить ученое звание и обеспечить себе положение в научном мире? Нет, на это ничто не указывало. В то же время он проявлял большое усердие в занятиях и приобрел настолько полные и детальные познания в очень причудливом круге областей, что оставалось только поражаться. Затрачивать такие усилия, накапливать такие точные сведения и при этом не иметь в виду определенной цели? Случайный студент не станет вдаваться в подобные детали. Чтобы обременять ими свой мозг, нужны особые, веские резоны.
Не менее, чем его познания, поражала его неосведомленность. О современной литературе, философии, политике Холмс, похоже, не знал почти ничего. Однажды я процитировал Томаса Карлейля, и Холмс пренаивно осведомился, кто это такой и чем прославился. Но еще больше я удивился, когда обнаружил случайно, что Холмс не знаком с учением Коперника и не представляет себе, как устроена Солнечная система. Чтобы цивилизованный человек в девятнадцатом веке не знал, что Земля вращается вокруг Солнца, – такое просто не укладывалось у меня в голове.
– Похоже, я вас изумил, – улыбнулся Холмс, взглянув на мою вытянувшуюся физиономию. – Но теперь вы меня просветили, и я постараюсь быстрее выбросить эти сведения из головы.
– Выбросить из головы?
– Видите ли, – объяснил Холмс, – по-моему, мозг человека похож на пустой чердачок, который вы обставляете по своему желанию. Дурак тащит туда весь хлам, что попадет под руку, так что для нужных вещей не остается места или, в лучшем случае, их трудно найти в этой куче. А толковый профессионал очень тщательно отбирает то, что будет хранить на своем чердаке. Ему не нужно ничего, кроме того, что пригодится в работе, но такие вещи он запасает в большом разнообразии и содержит в идеальном порядке. Ошибется тот, кто подумает, будто стены у чердака эластичные и вместимость безграничная. Поверьте, со временем обнаруживаешь, что, если требуется место для новых знаний, надо забыть что-то из старых. А следовательно, важно, чтобы бесполезные знания не вытесняли полезные.
– Но Солнечная система! – запротестовал я.
– А что мне от нее проку? – нетерпеливо прервал меня Холмс. – Вы говорите, Земля вращается вокруг Солнца. С тем же успехом она могла бы вращаться вокруг Луны – на моей работе это никак не скажется.
Я чуть не спросил, в чем же состоит его работа, но, сам не зная почему, решил, что вопрос будет нежелателен. Тем не менее наша краткая беседа засела у меня в сознании, и я принялся гадать. Холмс сказал, что не накапливает ненужных знаний. Следовательно, все его знания относятся к нужным. Я мысленно перечислил все научные области, относительно которых Холмс выказал обширную осведомленность. Я даже взял карандаш и составил перечень, а завершив запись, невольно улыбнулся. Она выглядела так:
Шерлок Холмс. Познания
1. Литература – никаких.
2. Философия – никаких.
3. Астрономия – никаких.
4. Политика – скудные.
5. Ботаника – отрывочные. Хорошо осведомлен относительно белладонны, опиума и ядов вообще. Ничего не знает о садоводстве.
6. Геология – сведения в узкой практической области. С одного взгляда опознает различные виды почв. После прогулки, беседуя со мной, по цвету и консистенции пятен определил, в какой части Лондона забрызгал себе брюки.
7. Химия – глубокие.
8. Анатомия – точные, но не систематические.
9. Сенсационная литература – обширнейшие. Похоже, он помнит все подробности всех совершенных в нашем веке злодеяний.
10. Хорошо играет на скрипке.
11. Мастерски владеет стальной и деревянной рапирой, боксирует.
12. Обширные практические познания в области британского права.
Дойдя до этого пункта, я отчаялся и бросил перечень в камин.
«Выходит, – сказал я себе, – пока не станет ясно, что связывает между собой эти навыки и в каком ремесле все они потребны, я не пойму, чему он намерен себя посвятить? Коли так, то лучше и не пытаться».
Я упомянул, что Холмс искусно играл на скрипке, но, как и в прочих своих талантах, не обходился без причуд. Он с легкостью исполнял известные произведения, причем сложные, – в этом я убедился, потому что сам просил его сыграть «Lieder»[4] Мендельсона и другие любимые пьесы. Однако, когда Холмс бывал предоставлен сам себе, его игра не походила на музыку; в ней не прослеживалось даже подобия связной мелодии. Вечером, откинувшись на спинку кресла, он закрывал глаза и небрежно водил смычком по скрипке, которая лежала у него на коленях. В пении струн слышались то грусть, то прихотливое веселье. Несомненно, оно отражало владевшие Холмсом мысли, но была ли его игра подспорьем мыслям или просто причудой воображения, оставалось только гадать. Я мог бы восстать против этих жутких соло, но обычно, как небольшая награда за мое терпение, концерт завершала череда моих любимых мелодий.
В первую неделю к нам никто не приходил, и я начал думать, что мой компаньон такой же одинокий человек, как я сам. Вскоре, однако, я убедился, что знакомства его обширны и распространяются на самые различные круги общества. Захаживал, раза по три-четыре в неделю, маленький человечек с желтоватой крысиной мордочкой и темными глазками; он был представлен как мистер Лестрейд. Однажды утром явилась молоденькая, модно одетая девица и пробыла больше получаса. Ближе к вечеру случился еще один визитер, седой, в поношенном платье, похожий на еврея-разносчика и очень, как мне показалось, взволнованный; сразу после пришла пожилая, неряшливо одетая женщина. В другой раз мой компаньон имел беседу с седовласым стариком, далее – со станционным носильщиком в вельветиновой униформе. При появлении очередного посетителя (мне никак не удавалось понять, что же у них общего) Холмс обыкновенно просил предоставить ему гостиную, и я удалялся к себе в спальню. Он каждый раз извинялся за доставленные неудобства. «Приходится использовать гостиную в качестве приемной, – говорил он. – Эти люди – мои клиенты». Можно было бы воспользоваться случаем и впрямую задать вопрос, но я был слишком деликатен, чтобы вынуждать своего соседа к откровенности. В то время я подозревал, что у Холмса есть серьезные причины избегать этой темы, но вскоре он сам завел о ней разговор.
Это было четвертого марта (дату я запомнил неспроста). Я поднялся с постели немного раньше обычного и застал Шерлока Холмса в гостиной за завтраком. Хозяйка, привыкшая к тому, что я поздняя пташка, еще не поставила для меня приборы и не приготовила кофе. Поддавшись, как это свойственно мужчинам, капризной раздражительности, я позвонил в колокольчик и кратко сообщил, что жду. Взяв со стола журнал, я попытался скоротать время за чтением, меж тем как мой компаньон молча жевал тост. Один из заголовков был подчеркнут карандашом, и я, естественно, начал именно с этой статьи.
Называлась она – ни много ни мало – «Книга жизни», и автор объяснял, сколь многое узнает внимательный наблюдатель, пристально изучающий все, что попадается ему на глаза. Остроумные замечания чередовались в статье с нелепостями. Из убедительных рассуждений делались преувеличенные, чересчур далеко идущие выводы. Автор утверждал, будто по мимолетной гримасе, дернувшемуся мускулу или косому взгляду можно отгадать тайные мысли человека. Из статьи следовало, что невозможно обмануть того, кто приучен наблюдать и анализировать. Заключения такого наблюдателя так же непогрешимы, как теоремы Евклида. Непосвященные дивятся его проницательности и готовы признать в нем колдуна, пока не узнают, каким путем он пришел к своим выводам.
«Человек, освоивший логику, способен, глядя на каплю воды, вывести возможность существования Атлантического океана или Ниагары, даже если никогда их не видел и даже не слышал о них. Бытие представляет собой гигантскую цепь, и по одному ее звену можно судить о целом. Как все прочие премудрости, наука Дедукции и Анализа требует длительного, терпеливого изучения; человеческой жизни не хватит, чтобы овладеть ею в совершенстве. Моральные и ментальные ее аспекты, представляющие наибольшую трудность, исследователю лучше оставить напоследок, а для начала избрать себе задачи поскромнее. Пусть научится хотя бы, бегло оглядев своего ближнего, распознавать, как он жил раньше и чем занимается теперь. Это упражнение покажется пустячным, однако оно развивает наблюдательность и учит, на что нужно обращать внимание. Ногти, рукава, обувь, коленки брюк, мозоли на указательном и большом пальце, манжеты, выражение лица – все это поможет безошибочно назвать профессию человека. Трудно себе представить, чтобы знающий исследователь, опираясь на все эти данные, не сделал однозначного заключения».
– Что за дикая чепуха! – Я швырнул журнал на стол. – В жизни не читал такого бреда.
– Вы о чем? – спросил Холмс.
– Да вот об этой статье. – Я указал нужное место ложечкой для яйца, поскольку завтрак уже подоспел. – Вижу, вы ее пометили, значит уже читали. Изложено живо, ничего не скажешь. Но читаешь – и злость берет. Не иначе как эту теорию сочинил какой-то досужий бумагомарака, который в тиши своего кабинета изобретает изящные парадоксы. Для практики это непригодно. Вот бы посадить его в вагон третьего класса в подземке, и пусть попробует угадать ремесло всех своих попутчиков. Ставлю тысячу против одного, что его постигнет фиаско.
– Вы потеряете свои деньги, – хладнокровно заметил Холмс. – Что до статьи, то ее написал я.
– Вы?
– Да; наблюдения и дедукция – как раз то, что меня интересует. А теории, которые я описал и которые показались вам химерами, на самом деле вполне утилитарны – утилитарны настолько, что с их помощью я зарабатываю себе на хлеб.
– Каким же образом? – вырвался у меня вопрос.
– Ну, я занимаюсь соответствующим ремеслом. Полагаю, во всем мире я единственный. Я сыщик-консультант – надеюсь, вы поняли, что это такое. Здесь, в Лондоне, не перечесть как полицейских сыщиков, так и частных. Когда им случается зайти в тупик, они обращаются ко мне и я навожу их на след. Они излагают мне все данные, и обычно я, благодаря знакомству с анналами преступлений, подсказываю отгадку. Злодеяния схожи между собой, и если вы подробно изучили тысячу из них, то с легкостью распутаете тысячу первое. Лестрейд – очень известный сыщик. Недавно он столкнулся с трудным делом о подлоге, и это привело его сюда.
– А другие посетители?
– Большинство присланы частными сыскными агентствами. Каждый попал в ту или иную неприятную историю и нуждается в совете. Я выслушиваю рассказ клиента, он выслушивает мои соображения, а потом я кладу в карман гонорар.
– И вы хотите сказать, что можете, не выходя из дома, распутать узел, с которым не справились другие, хотя имели в руках все нити?
– Именно так. У меня особая интуиция. Время от времени попадаются дела несколько сложнее прочих. Тогда приходится напрячься и самому собрать свидетельства. Видите ли, я накопил большой объем специальных знаний, которые существенно упрощают мою работу. Те самые принципы дедукции, которые вызвали у вас скептическую насмешку, в моей практической деятельности просто неоценимы. Привычка наблюдать сделалась моей второй натурой. Вы как будто удивились, когда я при знакомстве сказал, что вы были в Афганистане.
– Вы, конечно, это от кого-то слышали.
– Ничего подобного. Я знал, что вы были в Афганистане. Благодаря долгой практике мои мысли так ускорились, что я прихожу к заключению мгновенно, не отдавая себе отчет в промежуточных ступенях. Но это не значит, что их не было. Я рассуждал так: «Вот джентльмен, по типу медик, но похож и на военного. Ясно, армейский врач. Недавно из жарких краев: лицо смуглое, но от загара, а не от природы, потому что запястья светлые. Судя по изможденному лицу, перенес лишения и болезнь. Левая рука ранена. Движения ее неестественные, скованные. В какой из тропических стран на долю английского армейского врача могли выпасть такие беды? Конечно, в Афганистане». Эти рассуждения не заняли и секунды. Далее я заметил, что вы прибыли из Афганистана, чем немало вас удивил.
– Теперь, когда вы объяснили, я понимаю, что это довольно просто, – улыбнулся я. – Вы напомнили мне Дюпена – героя Эдгара Аллана По. Я думал, такие персонажи бывают только в книгах.
Шерлок Холмс поднялся на ноги и закурил трубку.
– Вы, конечно, полагаете, что сравнение с Дюпеном мне льстит. Нет, на мой вкус, Дюпен – сыщик отнюдь не самого высокого пошиба. Да, его трюк, когда он после пятнадцатиминутного молчания откликается на невысказанные мысли собеседника, по-своему эффектен. В аналитическом уме ему не откажешь, но он вовсе не был таким уникумом, каким его, видимо, считал По.
– А книги Габорио вы читали? Может быть, Лекок отвечает вашим представлениям о том, каков должен быть настоящий сыщик?
Шерлок Холмс сардонически хмыкнул.
– Лекок – жалкий неумеха, – раздраженно бросил он. – Единственное его достоинство – это энергия. Мне было тошно читать этот роман. Задача состояла в том, чтобы установить личность неизвестного заключенного. Мне хватило бы суток, Лекок возился около полугода. По книге Габорио можно учиться тому, как не нужно вести расследование.
Меня несколько задело, что Холмс так лихо обошелся с двумя литературными героями, которыми я восхищался. Я отошел к окну и стал наблюдать за снующей по улице толпой. «Может, он и неглуп, – сказал я себе, – но заносчив не в меру».
– Выродились в наши дни и преступники, и преступления, – проворчал Холмс. – Что толку от мозгов, если их не к чему приложить? Я знаю, что мог бы прославить свое имя. За всю историю никто не накопил столько знаний и не обладает моим детективным талантом. И что в итоге? Мне нечего расследовать, правонарушители настолько беспомощны, а оставленные ими улики настолько красноречивы, что даже Скотленд-Ярд не затрудняется с раскрытием дел.
Меня по-прежнему раздражал его самонадеянный тон, и я решил сменить тему.
– Интересно, что нужно этому типу? – спросил я, указывая на скромно одетого крепыша, который медленно шел по противоположной стороне улицы и неуверенно всматривался в номера домов. В руке он держал голубой конверт, который, по всей вероятности, должен был доставить адресату.
– Вы об отставном флотском сержанте? – спросил Холмс.
«Пускает пыль в глаза! – подумал я про себя. – Знает, что я не могу его проверить».
В тот же миг человек, которого мы рассматривали, увидел номер на нашей двери и быстро перебежал дорогу. Послышались громкий стук, низкий голос в прихожей, тяжелые шаги по лестнице.
– Мистеру Шерлоку Холмсу, – проговорил посланец, переступая порог и вручая моему приятелю письмо.
Теперь можно было сбить с него спесь. Холмс на это не рассчитывал, высказывая наобум свое предположение.
– Любезный, можно поинтересоваться, чем вы зарабатываете на жизнь? – как бы между прочим осведомился я.
– Работаю посыльным, сэр, – хмуро отозвался он. – Униформа в починке.
– А до этого чем занимались? – Я злорадно покосился на своего компаньона.
– Служил сержантом, сэр; в Королевской морской пехоте, сэр. Ответа не будет? Хорошо, сэр.
Посыльный щелкнул каблуками, отсалютовал нам и вышел.
Глава III
Загадка Лористон-Гарденз
Признаюсь, я был поражен, когда еще раз убедился в том, что теории моего компаньона применимы на практике. Я преисполнился уважения к его аналитическому уму. И все же меня не оставляло подозрение, что весь этот эпизод был подготовлен заранее. Холмс желал меня поразить – но, бога ради, с какой целью? Холмс дочитал записку и смотрел пустым, тусклым взглядом, свидетельствовавшим о том, что он ушел в свои мысли.
– Как же вы все-таки догадались? – спросил я.
– О чем? – буркнул он.
– О том, что этот человек – отставной флотский сержант.
– У меня нет времени на эту ерунду, – отрезал он, но тут же с улыбкой добавил: – Простите мою грубость. Я из-за вас потерял мысль, но ладно, не важно. Вы действительно не распознали, что наш посетитель – из бывших военных моряков?
– Действительно.
– Догадаться было проще, чем теперь объяснять. Если вас попросят доказать, что дважды два четыре, вам это может показаться затруднительным, притом что в самом факте вы совершенно уверены. Даже через улицу я разглядел его татуировку – большой синий якорь на тыльной стороне ладони. Это наводит на мысли о море. Меж тем – военная выправка, уставные бакенбарды. Стало быть, военно-морской флот. Держался этот человек с достоинством, видно было, что привык командовать. Обратили внимание, как высоко он держал голову, как помахивал тростью? Степенный, респектабельный, средних лет – все факты говорили, что это сержант.
– Чудеса! – воскликнул я.
– Обычное дело, – бросил в ответ Холмс, хотя по его лицу я заметил, что мое восторженное удивление ему нравится. – Недавно я сказал, что преступники выродились. Похоже, я был не прав – глядите!
Он перебросил мне записку, принесенную посыльным. Пробежав ее, я воскликнул:
– Какой ужас!
– Кажется, случай не совсем ординарный, – заметил Холмс хладнокровно. – Не будете ли вы любезны прочесть это вслух?
И вот что я прочитал:
«Уважаемый мистер Шерлок Холмс,
этой ночью в доме номер 3 по Лористон-Гарденз, близ Брикстон-роуд, случилась скверная история. Примерно в два часа наш постовой заметил там свет и, поскольку дом необитаем, заподозрил недоброе. Дверь была открыта, в пустой парадной комнате лежало тело. Это был хорошо одетый джентльмен; на визитных карточках, найденных в кармане, значилось: „Енох Дж. Дреббер, Кливленд, Огайо, США“. Признаки грабежа отсутствовали, обстоятельства смерти оставались непонятны. В комнате имелись следы крови, но тело погибшего было не тронуто. Мы не понимаем, как он попал в пустой дом, да и все это дело для нас полнейшая загадка. Если вы сочтете возможным до полудня явиться по указанному адресу, то найдете меня там. Пока вы не дадите о себе знать, оставляю все in statu quo[5]. Если же это неосуществимо, я сообщу вам более полные данные и буду надеяться, что вы любезно соблаговолите поделиться со мной вашим мнением.
Преданный вам,
Тобайас Грегсон».
– Из всей скотленд-ярдской компании Грегсон самый сообразительный, – заметил мой друг. – Они с Лестрейдом – раки на этом безрыбье. Оба проворны, энергичны, однако же безнадежно узко мыслят. Кстати, между собой не ладят. Как пара записных красоток, ревнивы к чужому успеху. Будет потеха, если их обоих пустили по следу.
Меня поразил этот тон непринужденной беседы.
– Так вам нельзя терять ни минуты? Пойду поймаю кэб?
– Право, не знаю, ехать мне или нет. Таких лентяев, как я, еще поискать… то есть это под настроение, а в иных случаях я проявляю изрядную прыть.
– Но вы ведь мечтали о подобной возможности!
– Дружище, да что от нее толку. Ну распутаю я это дело, и тогда, будьте уверены, все заслуги присвоят себе Грегсон, Лестрейд и компания. Вот что значит не состоять на службе.
– Но он просит о помощи.
– Да, он сознает мое превосходство и не скрывает этого от меня, но только когда мы наедине. В ином случае он быстро прикусил бы язык. Впрочем, почему бы нам не пойти и не взглянуть? Проведу расследование собственными методами. Раз мне больше ничего не достанется, то хотя бы посмеюсь над полицией. Вперед!
Холмс кинулся за пальто. Его торопливость говорила о том, что период апатии прошел и он настроен действовать.
– Возьмите шляпу, – сказал он.
– Вы хотите, чтобы я поехал с вами?
– Да, если у вас нет других дел.
Через минуту мы мчались в хэнсоме к Брикстон-роуд.
Утро было туманное и облачное, над крышами висела серая пелена, словно уличная грязь отражалась в небе. Мой компаньон был в превосходном настроении и всю дорогу толковал о кремонских скрипках и различии между Страдивариусом и Амати. Сам я помалкивал, угнетенный пасмурной погодой и мыслями о невеселом занятии, которое нам предстояло.
– Вас как будто не так уж заботит расследование, – заметил я наконец, прерывая рассуждения Холмса.
– Не хватает данных, – объяснил он. – Кардинальная ошибка – строить теории на основании неполных данных. Это ведет к предвзятым суждениям.
– Данные у вас скоро будут. – Я указал пальцем в окно. – Вот и Брикстон-роуд и, если не ошибаюсь, тот самый дом.
– Верно. Стоп, приехали!
До места оставалось около сотни ярдов, но Холмс настоял, чтобы мы сошли и остаток пути проделали пешком.
Номер 3 по Лористон-Гарденз выглядел неуютно и даже зловеще. Это был один из четырех домов, расположенных немного в глубине; два были заселены, другие два – нет. Они печально глядели на прохожих тремя рядами пустых окон; объявления «Сдается» там и сям на пыльных стеклах походили на катаракту. Перед всеми четырьмя домами располагались маленькие садики, по которым островками была рассыпана чахлая растительность; узкие, желтоватого цвета дорожки состояли, очевидно, из глины с гравием. Всюду было очень сыро: ночью прошел дождь. Нужный нам садик был огражден трехфутовой кирпичной стеной с деревянным забором поверху. На стену опирался рослый констебль, окруженный несколькими зеваками; те тянули шеи и щурились, пытаясь разглядеть, что происходит в доме.
Я думал, что Шерлок Холмс сразу поспешит внутрь и примется за исследование тайны. Ничто не могло быть дальше от его намерений. Напустив на себя беззаботный вид (показавшийся мне при данных обстоятельствах несколько нарочитым), он стал расхаживать туда-сюда по тротуару и рассеянно оглядывать землю, небо, дома напротив и ограду. Завершив осмотр, Холмс медленно направился к дому, ступая не по дорожке, а по травянистой обочине и не отрывая глаз от земли. Дважды он останавливался, один раз улыбнулся и удовлетворенно хмыкнул. На сырой глине отпечаталось множество следов, но на что надеялся мой компаньон, было непонятно: все улики наверняка затоптали полицейские. Правда, я уже знал, насколько острое у него восприятие, и не сомневался, что он замечает много больше, чем я.
У двери нас встретил высокий белолицый человек с соломенного цвета волосами, державший в руке записную книжку. Он приветствовал моего компаньона бурным рукопожатием.
– Как любезно с вашей стороны, что вы приехали, – сказал он. – Я ничего здесь не трогал.
– За исключением вот этого! – Мой друг указал на дорожку. – Стадо бизонов учинило бы меньший беспорядок. Но вы, Грегсон, наверняка допустили это не раньше, чем подвели итог своим наблюдениям.
– У меня было слишком много хлопот в самом доме, – уклончиво отозвался сыщик. – Здесь мой коллега, мистер Лестрейд. Я рассчитывал, что за дорожкой присмотрит он.
Обернувшись ко мне, Холмс сардонически приподнял брови:
– Когда на месте двое таких специалистов, как вы и Лестрейд, третьему мало что остается.
Грегсон самодовольно потер руки:
– Думаю, мы сделали все возможное. Но случай заковыристый, а вы, я знаю, как раз такие любите.
– Вы не в кэбе сюда прибыли? – спросил Шерлок Холмс.
– Нет, сэр.
– А Лестрейд?
– Тоже нет.
– Тогда пойдемте осмотрим комнату.
Сделав это непоследовательное замечание, Холмс вошел в дом. Грегсон, явно удивленный, двинулся за ним.
К кухне и подсобным помещениям вел короткий коридор с пыльным дощатым полом. С двух сторон находилось по двери. Одну из них, как было заметно, давно не открывали. Другая принадлежала столовой – загадочное происшествие случилось именно там. Холмс переступил порог, я последовал за ним, подавленный, как всегда при встрече со смертью.
Большая квадратная комната была пуста, отчего казалась еще больше. На стенах проступала плесень; безвкусные кричащие обои местами висели клоками, и за ними виднелась желтая штукатурка. Напротив двери помещался внушительный камин с полкой из искусственного мрамора. Сбоку на ней виднелся огарок красной восковой свечи. Единственное окно так заросло грязью, что едва пропускало неверный свет, придававший всем предметам тускло-серый оттенок, тем более густой, что на них лежал толстый слой пыли.
Все эти подробности я разглядел позднее. А в ту минуту я не сводил глаз со зловещей фигуры, неподвижно простертой на половицах. Невидящий взгляд мертвеца был устремлен в линялый потолок. Это был мужчина лет сорока трех – сорока четырех, среднего роста, широкоплечий, с черными, в крутых завитках волосами и короткой щетинистой бородкой. Одежда состояла из черного суконного фрака с жилеткой и светлых брюк; воротничок и манжеты сияли чистотой. Рядом, на полу, лежал аккуратный, тщательно начищенный цилиндр. Руки были раскинуты, кисти стиснуты в кулаки, ноги перекрещены – видимо, в мучительной агонии. На лице застыло выражение ужаса и, как мне показалось, ненависти, какой мне прежде не доводилось видеть. Эта злобная гримаса в сочетании с низким лбом, коротким толстым носом и выступающей челюстью придавала мертвецу странное сходство с обезьяной, которое подкреплялось ненатуральной, изломанной позой. Я немало навидался смертей, но то, что предстало мне в темной и грязной комнате с окном на одну из главных транспортных артерий лондонских пригородов, было страшнее всего.
У двери нас с Холмсом приветствовал Лестрейд – тощий человечек с острым взглядом ищейки.
– История наделает шуму, сэр, – заметил он. – На моем веку это первый подобный случай, а я ведь привычен ко всему.
– Полезных улик нет? – спросил Грегсон.
– Ни единой, – кивнул Лестрейд.
Шерлок Холмс склонился над телом и тщательно его осмотрел.
– Вы уверены, что на трупе нет ран? – спросил он, указывая на пятна и брызги крови вокруг.
– Абсолютно! – хором подтвердили сыщики.
– Значит, кровь принадлежит второму – вероятно, убийце, если это действительно убийство. Мне вспоминаются обстоятельства смерти ван Янсена в тридцать четвертом году в Утрехте. Помните, Грегсон, этот случай?
– Нет, сэр.
– Почитайте – вам, право, будет полезно. Ничто не ново под солнцем. Все уже случалось.
Пока он говорил, его проворные пальцы так и порхали, ощупывая, трогая, расстегивая, изучая, меж тем как в глазах появилось уже знакомое мне отсутствующее выражение. Осмотр прошел так быстро, что было трудно оценить его тщательность. Под конец Холмс обнюхал губы мертвеца и осмотрел подошвы его кожаных ботинок.
– Его не сдвигали с места? – спросил Холмс.
– Разве что чуть-чуть, когда осматривали.
– Теперь можно унести его в покойницкую. Изучать больше нечего.
У Грегсона имелись носилки и четверо подручных. По его распоряжению труп подняли и унесли. При этом что-то звякнуло: по полу покатилось кольцо. Лестрейд ухватил его и стал с интересом рассматривать.
– Здесь была женщина! – воскликнул он. – Это женское обручальное кольцо.
Он протянул ладонь. Мы обступили его и уставились на кольцо. Сомнений не было: миниатюрный золотой обруч украшал когда-то палец невесты.
– Это усложняет дело, – заметил Грегсон. – А оно и так уже запутано донельзя.
– Вы уверены, что не упрощает? – бросил Холмс. – Рассматривать бесполезно, это ничего не даст. Что вы нашли в карманах?
– Все здесь. – Грегсон указал на одну из нижних ступенек лестницы. – Золотые часы, номер девяносто семь сто шестьдесят три, от Барро, Лондон. Золотая альбертова цепочка, очень тяжелая и основательная. Золотое кольцо с масонским символом. Золотая булавка для галстука – голова бульдога с рубиновыми глазами. Визитница из юфти, в ней карточки Еноха Дж. Дреббера из Кливленда, на белье тоже метка «Е. Дж. Д.». Кошелька нет, но в карманах были деньги – всего семь фунтов тринадцать шиллингов. Карманное издание «Декамерона» Боккаччо, на форзаце имя – Джозеф Стэнджерсон. Два письма – одно адресовано Е. Дж. Дребберу, другое Джозефу Стэнджерсону.
– Какой адрес?
– Американская фондовая биржа, Стрэнд. До востребования. Оба от Пароходной компании Гиона, в обоих сообщается об отплытии ее судов из Ливерпуля. Очевидно, бедняга готовился вернуться в Нью-Йорк.
– Вы навели справки об этом Стэнджерсоне?
– Сразу, сэр, – кивнул Грегсон. – Послал объявления во все газеты, и один из моих людей поехал на Американскую фондовую биржу, но еще не вернулся.
– А Кливленд вы запрашивали?
– Этим утром послал телеграмму.
– Как вы сформулировали запрос?
– Мы попросту описали обстоятельства и сказали, что будем рады любым полезным сведениям.
– Справлялись вы подробнее о предметах, которым придаете особую важность?
– Справлялся о Стэнджерсоне.
– И больше ни о чем? Разве не нашлось такого обстоятельства, которое решает дело? Что, если отправить еще одну телеграмму?
– Я спросил обо всем, что посчитал нужным, – обиженным голосом ответил Грегсон.
Шерлок Холмс хмыкнул про себя и как будто собирался сделать еще какое-то замечание, но тут на сцене снова появился Лестрейд, самодовольно потиравший руки (пока мы беседовали в холле, он оставался в парадной комнате).
– Мистер Грегсон, – начал он, – я только что нашел чрезвычайно важную улику. Ее бы проглядели, но я позаботился тщательно осмотреть стены.
Глаза коротышки сверкали, он с трудом скрывал свою радость оттого, что обошел коллегу.
– Идемте. – Лестрейд поспешил обратно в комнату, где сделалось легче дышать после того, как вынесли ее жуткого обитателя. – Вот, стойте здесь.
Он чиркнул спичкой о подошву и поднес огонек к стене.
– Глядите! – произнес он тоном победителя.
Я уже говорил о том, что обои кое-где отставали от стены. В углу, где мы стояли, отвалился большой лоскут, обнажив квадратный кусок грубой желтой штукатурки. На голой стене кроваво-красными буквами было написано единственное слово:
RACHE
– И что вы об этом думаете? – Сыщик походил на циркача, демонстрирующего свой номер. – Эту надпись не заметили, потому что никому не пришло в голову заглянуть в самый темный угол. Убийца написал – или написала – это своей собственной кровью. Видите потеки? Версию самоубийства можно отбросить. Почему надпись сделана именно в этом углу? Я скажу. Видите свечу на каминной полке? Она в то время горела, а если угол освещен, это не самая темная, а, наоборот, самая светлая часть стены.
– Ну, нашли вы эту надпись, и что она означает? – фыркнул Грегсон.
– Что означает? Она означает женское имя Рейчел, только незаконченное, потому что писавшему (или писавшей) помешали. Помяните мои слова, в конце концов окажется, что женщина по имени Рейчел к этому делу так или иначе причастна. Смейтесь-смейтесь, мистер Шерлок Холмс. Вам, конечно, в проницательности не откажешь, но мы все равно убедимся, что старая ищейка лучше двух молодых.
– Простите, ради бога! – извинился мой компаньон, чей взрыв веселья задел коротышку-инспектора. – Вы, несомненно, первым нашли эту надпись и справедливо заметили, что она сделана одним из участников загадочных событий. Пока что я не удосужился осмотреть комнату, но, с вашего дозволения, сделаю это сейчас.
Холмс выхватил из кармана рулетку и большую лупу. С этими инструментами он быстро и бесшумно обошел всю комнату, где-то задерживался, где-то опускался на колени, а однажды даже растянулся плашмя. Это занятие так его захватило, что он, похоже, совсем забыл о нашем присутствии: непрерывно бормотал что-то себе под нос, издавал стоны и восклицания, присвистывал, радостно и обнадеженно вскрикивал. Глядя на него, я невольно представлял себе чистокровного, отлично натасканного фоксхаунда: как он, повизгивая от нетерпения, мечется в поисках потерянного следа. Холмс трудился минут двадцать, тщательнейше мерил расстояние между невидимыми мне метками, а временами прикладывал рулетку к стене и вовсе непонятно зачем. Аккуратно собрал с пола в конверт горстку серой пыли. Наконец рассмотрел под лупой слово на стене, добросовестнейшим образом изучая каждую букву. Затем, судя по всему, удовлетворенный, спрятал рулетку и лупу в карман.
– Говорят, гений – это неистощимая работоспособность, – заметил Холмс с улыбкой. – Определение никуда не годное, однако к работе сыщика вполне применимое.
Грегсон и Лестрейд наблюдали маневры сыщика-любителя с немалым любопытством и не без презрения. Им, очевидно, было невдомек то, что я уже начал понимать: все действия Шерлока Холмса, вплоть до самых незначительных, направлены к определенной практической цели.
– Что вы об этом думаете, сэр? – спросили они в один голос.
– Боюсь присвоить себе ваши заслуги, если станет известно о моем содействии, – ответил мой друг. – Вы так успешно вели расследование, что жалок будет тот, кто в него вмешается. – Слова его были преисполнены сарказма. – Если станете сообщать мне о ходе дел, я буду счастлив помочь, чем смогу. А пока я хотел бы поговорить с констеблем, который обнаружил тело. Не дадите ли мне его имя и адрес?
Лестрейд справился у себя в записной книжке.
– Джон Ранс, – сказал он. – Он сейчас не на дежурстве. Вы найдете его по адресу: Кеннингтон-парк-гейт, Одли-Корт, сорок шесть.
Холмс записал адрес.
– Пойдемте, доктор, нам нужно с ним поговорить. Дам вам одну подсказку – может, и пригодится, – обратился он к сыщикам. – Здесь было совершено убийство, и убийца – мужчина. Ростом он превышает шесть футов, в расцвете лет, ступни, для его роста, маленькие; носит грубые ботинки с квадратными носами, курит трихинопольские сигары. Прибыл вместе с жертвой в четырехколесном кэбе, везла этот кэб лошадь с тремя старыми подковами и одной новой – на правой передней ноге. Лицо у убийцы, скорее всего, румяное, ногти на правой руке очень длинные. Примет маловато, но они могут оказаться полезны.
Лестрейд с Грегсоном обменялись недоверчивыми ухмылками.
– Если этот человек был убит, то каким образом? – спросил первый из них.
– Яд, – бросил Холмс на ходу. У двери он обернулся. – Да, Лестрейд, еще одно. Rache – по-немецки «месть», поэтому не тратьте время на поиски мисс Рейчел.
Выпустив эту парфянскую стрелу, он вышел, а двое соперников остались стоять, разинув рты.
Глава IV
Что рассказал Джон Ранс
Из дома 3 по Лористон-Гарденз мы вышли в час. Шерлок Холмс повел меня в ближайшую телеграфную контору и отправил оттуда длинную телеграмму. Потом подозвал кэб и дал кучеру адрес, полученный от Лестрейда.
– Ничто не сравнится с показаниями из первых рук, – заметил он. – Собственно, я уже полностью разобрался в этом деле, но не будет лишним выяснить все, что можно.
– Удивляюсь вам, Холмс. Наверняка, перечисляя приметы убийцы, вы не были в них так уж уверены.
– Ошибка исключена. Первым, что остановило мое внимание, когда мы прибыли на место, были два следа колес у самой обочины. До прошлой ночи дожди не шли целую неделю, выходит, глубокие отпечатки колес не могли появиться раньше. Имелись также следы лошадиных копыт, причем один из них гораздо четче трех остальных – свидетельство того, что подкова новая. Кэб был здесь в дождь, а утром исчез (Грегсон за это поручился), значит он подъезжал к дому ночью и привез тех двоих.
– С этим вроде бы все понятно, но как насчет роста второго мужчины?
– В девяти случаях из десяти рост человека можно определить по ширине его шага. Расчет нетрудный, но я не стану докучать вам цифрами. Следы шагов отпечатались и на глине снаружи, и на пыльном полу. Но мне выпала возможность проверить свои вычисления. Когда человек пишет на стене, он инстинктивно выбирает место над уровнем своих глаз. Надпись расположена чуть выше шести футов. Детская задачка.
– А возраст? – спросил я.
– Если человек способен играючи перемахнуть четыре с половиной фута, вряд ли он «сух и желт». На садовой дорожке есть лужа такой ширины, и он ее явно перешагнул. Лакированные ботинки ее обошли, а те, что с квадратными носами, перепрыгнули. В этом нет ничего таинственного. Я просто прилагаю к обычной жизни некоторые методы наблюдения и дедукции, которые описаны в моей статье. Что еще вам не ясно?
– Длинные ногти и трихинопольские сигары.
– Надпись на стене незнакомец сделал, обмакнув указательный палец в кровь. Благодаря лупе я увидел, что при этом он слегка оцарапал штукатурку, чего бы не случилось, будь ногти коротко острижены. Я собрал с пола пепел. Это темные хлопья, характерные только для трихинопольских сигар. Я специально изучал сигарный пепел – собственно, написал по этой теме монографию. Смею утверждать, что с одного взгляда определю по пеплу сорт сигары или табака известных марок. Именно такие мелочи отличают искусного детектива от какого-нибудь Грегсона или Лестрейда.
– А что насчет румянца? – спросил я.
– Тут я самую малость положился на удачу, хотя не сомневаюсь, что и здесь прав. На нынешнем этапе расследования не спрашивайте меня об этом.
Я провел рукой по лбу:
– У меня голова идет кругом. Чем больше я думаю об этом деле, тем больше вопросов. Как эти двое (если их и вправду было двое) проникли в пустой дом? Что сделалось с кэбменом, который их привез? Как один из них заставил другого принять яд? Откуда взялась кровь? Каковы мотивы убийцы, если ограбления не было? Как туда попало женское кольцо? И самое главное: почему этот второй, прежде чем убежать, написал на стене немецкое слово RACHE? Признаюсь, я не вижу, что могло бы объединить все эти факты.
Мой компаньон одобрительно улыбнулся:
– Вы кратко и четко подытожили все трудности. Загадок осталось немало, хотя основные факты мне уже ясны. Что касается улики, открытой беднягой Лестрейдом, это всего-навсего ложный след, намек на социализм и тайные общества. Писавший не имеет никакого отношения к Германии. Буква А, как вы заметили, похожа на готическую, этот шрифт считается германским, меж тем настоящие немцы им не пользуются, поэтому можно с уверенностью утверждать, что автор надписи хотел выдать себя за немца, но перестарался. Эта хитрость придумана, чтобы сбить с толку следствие. Все, доктор, больше я вам об этом деле не рассказываю. Сами знаете, стоит фокуснику раскрыть свои секреты – и его славе конец. Если я подробней ознакомлю вас со своими методами, вы, пожалуй, решите, что я – самый обыкновенный человек.
– Ни в коем случае, – заверил я. – Вы сделали криминалистику едва ли не точной наукой, а большего не удастся достичь никому из смертных.
Мой компаньон зарделся от удовольствия, польщенный и моими словами, и убежденностью, с какой я их произнес. Я успел уже заметить, что он так же падок на комплименты своему искусству, как девушка – своим чарам.
– Открою еще одно, – сказал он. – Лаковые ботинки и Квадратные носы прибыли в одном кэбе и по дорожке прошли дружной парой – вполне возможно, под руку. В комнате они ходили туда-сюда; точнее, Лаковые ботинки стояли на месте, а Квадратные носы прохаживались. Я прочел это по следам в пыли; узнал и то, что второй все больше и больше волновался: его шаги все удлинялись. Он говорил, говорил и, несомненно, довел себя до бешенства. Тут-то и произошла трагедия. Теперь вы знаете столько же, сколько я; все остальное – не более чем догадки и предположения. Однако же у нас есть теперь основа, начальный материал. Надо бы поторопиться: хочу послушать Норман-Неруду, она выступает вечером с оркестром Халле.
Эту беседу мы вели в кэбе, пока он тащился длинной чередой неопрятных улиц и мрачных закоулков. В самом грязном и мрачном из них кучер вдруг остановился.
– Одли-Корт. – Он указал на узкую щель в ряду тусклых кирпичных домов. – Я буду ждать вас здесь.
Одли-Корт ничем не радовала глаз. Через тесный переулок мы вышли на квадратную площадь, мощенную плитами и обставленную убогими домишками. Лавируя меж чумазых ребятишек и веревок с застиранным бельем, мы добрались до номера 46, где на двери красовалась латунная табличка с гравировкой «Ранс». Справившись в доме, мы узнали, что констебль еще не вставал с постели. Нам предложили подождать его в маленькой гостиной с окнами на площадь.
Вскоре констебль пришел, слегка недовольный тем, что его сон прервали.
– Я уже отчитался в участке, – сказал он.
Холмс достал из кармана монету в полсоверена и стал задумчиво ею поигрывать.
– Мы подумали, что лучше будет самим услышать ваш рассказ, – объяснил он.
– Охотно сообщу вам все, что знаю, – заверил констебль, не отрывая взгляд от золотого кругляша.
– Просто расскажите своими словами, как это случилось.
Ранс уселся на диван из конского волоса и сдвинул брови, словно сосредоточившись, чтобы ничего не забыть.
– Начну с самого начала, – проговорил он. – Моя смена – с десяти до шести утра. В одиннадцать была потасовка в «Белом олене», но в остальном дежурство проходило без происшествий. В час припустил дождь, я встретился с Гарри Мерчером, который дежурил на Холланд-Гроув, и мы остановились переговорить на углу Хенриетта-стрит. Часа в два, в начале третьего мне вздумалось сделать обход и убедиться, что на Брикстон-роуд все спокойно. На улице было грязно, вокруг ни души. По дороге мне никто не попался, только проехал кэб, а может, два. Шагаю я эдак, думаю (между нами), как кстати пришлось бы сейчас хлебнуть джину, порцию на четыре пенса с горячей водой и лимоном, – и вдруг замечаю огонек в том самом доме. А я ведь знаю, что два этих дома по Лористон-Гарденз стоят пустые, потому как владелец не пожелал наладить канализацию, хотя последний съемщик умер от брюшного тифа. При виде огонька у меня глаза на лоб полезли, и я заподозрил недоброе. Подхожу к двери…
– Вы остановились, а потом вернулись к калитке, – прервал Холмс констебля. – Почему?
Ранс подскочил и в изумлении уставился на него:
– Все верно, сэр, хотя как вы дознались, одному Богу известно. Видите ли, у двери мне подумалось, что больно здесь глухо и безлюдно и не будет большой беды, если я прихвачу напарника. По эту сторону могилы мне ничего не страшно, а вот что, если тот, тифозный, пришел осмотреть канализацию, которая его сгубила? Когда мне это стукнуло в голову, я воротился к калитке посмотреть, не светится ли где фонарь Мерчера, но вокруг никого не было.
– Никого-никого?
– Не то что человека, даже и собаки. Тогда я собрался с духом, повернул обратно и открыл входную дверь. Внутри все было тихо, и я направился в комнату, где горел огонек. На каминной полке мигала свеча из красного воска. При ее свете я увидел…
– Да, я знаю, что вы увидели. Вы несколько раз обошли комнату, опустились на колени около трупа, потом проверили противоположную, кухонную дверь, потом…
Джон Ранс испуганно вскочил на ноги; в глазах его вспыхнуло подозрение.
– Где вы прятались? Вы там были? Сдается мне, слишком уж много вам известно.
Холмс рассмеялся и через стол кинул констеблю свою визитную карточку.
– Подумываете, не арестовать ли меня за убийство? Не стоит. Я не волк, а одна из ищеек; мистер Грегсон и мистер Лестрейд это подтвердят. Но продолжайте. Что вы сделали дальше?
Ранс, с той же удивленной миной, сел.
– Воротился к калитке и свистнул в свисток. Откликнулись Мерчер и еще двое полицейских.
– На улице снова никого не было?
– Почитай что никого.
– Как вас понять?
Физиономия констебля расплылась в ухмылке.
– Повидал я на своем веку пьяных, но этот малый уж вовсе упился до чертиков. Когда я вышел, он опирался на ограду у калитки и во все горло распевал – «Колумбины флаг водно-волосатый» или что-то вроде. Ноги его совсем не держали.
– Как он выглядел? – спросил Шерлок Холмс.
Джону Рансу явно не понравился этот не имеющий отношения к делу вопрос.
– Да в стельку пьяный тип, – ответил он. – Забрать бы его в участок, но нам было не до того.
– Лицо, одежда – запомнили что-нибудь? – нетерпеливо прервал его Холмс.
– Еще бы, ведь нам с Мерчером пришлось поддерживать его с двух сторон. Долговязый, лицо румяное, подбородок закутан…
– Отлично! – воскликнул Холмс. – И что с ним?
– Мы были слишком заняты, чтобы с ним нянчиться, – обиженным тоном отозвался полицейский. – Держу пари, целехонек добрался до дома.
– Как он был одет?
– Коричневое пальто.
– В руке кнут?
– Нет… кнута не было.
– Стало быть, не взял, – пробормотал мой компаньон. – После этого вы заметили кэб? Или, может быть, слышали стук колес?
– Нет.
– Вот ваши полсоверена. – Шерлок Холмс встал и взялся за шляпу. – Боюсь, Ранс, карьера в полиции вам не светит. Голова вам служит только для украшения. Прошлой ночью вы могли заслужить сержантские нашивки. У вас в руках побывал человек, владеющий ключом к этой тайне, – тот самый, которого мы ищем. Нет смысла теперь об этом рассуждать, просто поверьте мне на слово. Пойдемте, доктор.
Мы направились к кэбу, а наш собеседник проводил нас недоверчивым, однако же явно растерянным взглядом.
– Несусветный дурень, – фыркнул Холмс. – Подумать только, ему улыбалась такая редкостная удача, а он ею не воспользовался.
– Я по-прежнему ничего не понимаю. Да, описание этого человека совпадает с тем, что вы сказали об участнике трагедии. Но зачем ему возвращаться в дом? Преступники так не поступают.
– Кольцо, дружище, кольцо, вот зачем он вернулся. Если он не идет к нам в руки, у нас остается эта наживка – кольцо. Я доберусь до этого человека, доктор… ставлю два к одному, что доберусь. Мне надо вас поблагодарить. Если бы не вы, я бы туда не собрался и не видать бы нам этого прекраснейшего из этюдов – этюда в багровых тонах. Почему бы не прибегнуть для такого случая к языку искусства? Жизнь – клубок бесцветных нитей, но вот в него вплелась алая нить убийства, и наша задача – распутать клубок, найти эту нить и вытянуть ее всю, до последнего дюйма. А теперь к ланчу и затем к Норман-Неруде. Смычком она владеет бесподобно. Помните в ее исполнении ту пьеску Шопена: «Тра-ла-ла-лира-лира-лэй»?
Откинувшись на спинку сиденья, сыщик-любитель разливался, как жаворонок, а я размышлял о многогранности человеческого разума.
Глава V
По нашему объявлению приходит посетитель
Утренние приключения оказались непосильны для моего подорванного здоровья, и днем меня одолела усталость. Когда Холмс ушел на концерт, я прилег на диван, чтобы часик-другой поспать. Но это мне не удалось: мозг мой был взбудоражен, его осаждали причудливые фантазии и предположения. Стоило закрыть глаза, и передо мной возникала перекошенная павианья физиономия мертвеца. От нее веяло такой жутью, что я не испытывал ничего, кроме благодарности, к человеку, отправившему ее обладателя на тот свет. Столь явственное отражение самых злостных пороков встретилось мне единственный раз в жизни – на лице Еноха Дж. Дреббера из Кливленда. Это не мешало мне осознавать, что правосудие должно свершиться и в глазах закона порочность жертвы не оправдывает убийцу.
Чем больше я думал, тем более странной казалась мне гипотеза моего компаньона – что покойный был отравлен. Помня, как Холмс обнюхивал губы жертвы, я не сомневался, что эта идея возникла у него неспроста. Опять же, какова могла быть причина смерти, если на теле не было ни ран, ни следов удушения? С другой стороны, эта лужа крови на полу – чья она? Никаких следов борьбы, нет и оружия, которым Дреббер мог бы ранить своего противника. Я чувствовал, что, пока на эти вопросы не найдется ответа, мы с Холмсом не сможем уснуть спокойно. Помня, как хладнокровно и уверенно он держался, я предполагал, что у него уже родилась гипотеза, объясняющая все факты, но вот в чем она состоит – я не представлял себе даже отдаленно.
Вернулся Холмс очень поздно – такую задержку нельзя было объяснить одним лишь концертом. Когда он появился, обед ждал его на столе.
– Было просто великолепно, – сказал он, садясь. – Помните, что говорит о музыке Дарвин? По его мнению, способность исполнять и ценить музыку появилась у человека раньше, чем речь. Может быть, поэтому музыка так тонко на нас влияет. Она возвращает наши души в те туманные века, когда человечество только вышло из колыбели.
– Широкая идея, – заметил я.
– Если идея толкует такое широкое понятие, как природа, она и должна быть широкой, – ответил Холмс. – Но что с вами? На вас лица нет. Это дело с Брикстон-роуд плохо на вас повлияло.
– Признаться, так оно и есть. Афганский опыт должен бы меня закалить. В Майванде я видел разрубленные в куски тела своих товарищей – и то не терял самообладания.
– Понимаю. Перед нами тайна, которая подстегивает воображение; где нет воображения – там и ужасу неоткуда взяться. Вы просматривали вечерние газеты?
– Нет.
– Наше дело там изложено довольно толково. Не упомянут факт, что, когда труп поднимали, на пол упало женское обручальное кольцо. И это совсем не плохо.
– Почему?
– Поглядите на это объявление. Я, не теряя времени, отправил его во все газеты.
Холмс через стол кинул мне газету, и я просмотрел отмеченное им место. Это было первое объявление в колонке «Найдено». Оно гласило: «Этим утром на Брикстон-роуд, на проезжей части между таверной „Белый олень“ и Холланд-Гроув, найдено золотое обручальное кольцо простого рисунка. Обращаться сегодня, с восьми до девяти часов вечера, к доктору Ватсону, дом 221Б по Бейкер-стрит».
– Не взыщите, что воспользовался вашим именем, – сказал Холмс. – Если бы я указал свое, кто-нибудь из этих олухов прознал бы и захотел вмешаться.
– Ничего страшного. Но вдруг кто-то явится, а кольца у меня нет.
– Вот оно. – Холмс протянул мне кольцо. – Это вполне сойдет. Почти неотличимо.
– И кто, по-вашему, откликнется на объявление?
– Как – кто? Известная личность, румяная, в коричневом пальто и ботинках с квадратными носами. Если не явится сам, то пришлет сообщника.
– Неужели не побоится?
– Ничуть. Если я правильно разобрался в деле, а все указывает на то, что так и есть, этот человек рискнет чем угодно ради кольца. Как я понимаю, он выронил кольцо, когда склонился над телом Дреббера, но тогда ничего не заметил. На улице он обнаружил потерю и поспешил назад, но там уже была полиция, потому что он по глупости не загасил свечу. Попав у калитки на глаза полиции, он мог бы навлечь на себя подозрения; пришлось притвориться пьяным. А теперь поставьте себя на место этого человека. Он обдумывает случившееся, и ему, конечно, приходит в голову, что он мог обронить кольцо не в доме, а позднее, на дороге. Что он делает? В волнении ждет вечерних газет: вдруг там объявление. И разумеется, оно там есть. Он ликует. С чего ему опасаться ловушки? Он уверен, что находку не свяжут с убийством. Он придет. Непременно придет. Готовы свидеться с ним через час?
– И тогда?
– Тогда вмешаюсь я. У вас есть оружие?
– Старый армейский револьвер и несколько патронов.
– Лучше почистить его и зарядить. Наш будущий гость – человек отчаянный. Я собираюсь застать его врасплох, и все же надо быть готовым ко всему.
Удалившись в спальню, я исполнил совет Холмса. Когда я вернулся с пистолетом в руке, со стола было убрано, а Холмс принялся за свое излюбленное занятие: пиликанье на скрипке.
– Сюжет вырисовывается, – сказал он, – только что из Америки пришел ответ на телеграмму. Мое мнение об этом деле оказалось правильным.
– А в чем оно заключается? – нетерпеливо осведомился я.
– Скрипке не помешают новые струны, – заметил Холмс. – Положите револьвер в карман. Когда этот малый придет, говорите с ним как обычно. Остальное предоставьте мне. Не смотрите на него слишком пристально, а то напугаете.
– Уже восемь, – доложил я, взглянув на часы.
– Да. Он, вероятно, будет с минуты на минуту. Приоткройте немножко дверь. Ага, достаточно. Ключ вставьте изнутри. Спасибо! Вчера купил в ларьке прелюбопытную книгу: «De Jure inter Gentes»[6], латынь, Льеж, Нидерланды, тысяча шестьсот сорок второй год. Когда этот коричневый томик вышел из печати, голова Карла еще сидела на плечах.
– Кто издатель?
– Некий Филипп де Круа. На форзаце сильно выцветшая чернильная надпись: «Ex libris Guliolmi Whyte»[7]. Хотел бы я знать, кто этот Уильям Уайт. Наверно, какой-то деятельный юрист семнадцатого века. В почерке есть что-то юридическое. Но вот, похоже, и тот, кого мы ждем.
Раздался трезвон колокольчика. Шерлок Холмс неторопливо встал и пододвинул свое кресло к двери. Из прихожей донеслись шаги лакея и лязг дверного замка.
– Здесь живет доктор Ватсон? – спросил отчетливый, но довольно грубый голос.
Что ответил лакей, мы не слышали, но дверь закрылась, и кто-то стал подниматься по лестнице – неуверенно, шаркающей походкой. Мой компаньон прислушался, и брови его удивленно приподнялись. Посетитель медленно приблизился и робко постучал.
– Войдите! – крикнул я.
Вместо грубого мужчины, которого мы ждали, в нашу квартиру проковыляла древняя морщинистая старуха. Яркий свет, казалось, ее ошеломил, она сделала реверанс и замерла, мигая мутными глазками. Ее тонкие дрожащие пальцы судорожно рылись в кармане. На лице моего компаньона выразилось такое безутешное горе, что я с трудом удержался от смеха.
Вынув вечернюю газету, карга указала на объявление:
– Я к вам по этому объявлению, добрые джентльмены. – Старуха снова присела. – Про золотое обручальное кольцо с Брикстон-роуд. Это моей дочки Салли колечко, они с мужем только год как поженились, а муж ее – стюард пароходной компании «Юнион», ну, я и подумать боюсь, что он скажет, когда воротится из плавания, а кольцо пропало, ведь с ним и трезвым-то трудно сладить, а уж как выпьет… С вашего позволения, она прошлым вечером в цирк пошла и…
– Это ее кольцо? – спросил я.
– Слава тебе, Господи! – воскликнула старуха. – Вот уж Салли-то обрадуется. Оно самое.
– А где вы живете? – Я взял в руки карандаш.
– Хаундсдитч, Данкан-стрит, тринадцать. Отсюда немаленький конец.
– Путь от любого цирка до Хаундсдитча не проходит через Брикстон-роуд, – бросил Шерлок Холмс.
Старуха повернула голову и вгляделась в Холмса маленькими воспаленными глазками.
– Джентльмен спросил, где я живу. А Салли живет в Пэкеме, дом три по Мейфилд-стрит.
– А ваше имя?..
– Мое Сойер, а ее Деннис, по мужу, Тому Деннису, на службе он молодец молодцом, в пароходстве им не нахвалятся, а как сойдет на берег, тут начинается: по бабам да по кабакам…
– Вот ваше кольцо, миссис Сойер, – прервал я старуху, когда мой компаньон подал знак. – Я удостоверился, что оно принадлежит вашей дочери, и рад вернуть его законной владелице.
Рассыпаясь в благодарностях и благословениях, старая карга сунула кольцо в карман и зашаркала вниз по лестнице. Шерлок Холмс тут же вскочил на ноги и рванулся к себе. Не прошло и минуты, как он появился, закутанный в ольстер и шарф.
– Я за ней, – пояснил он поспешно. – Наверняка она сообщница и приведет к преступнику. Дождитесь меня.
Как только входная дверь захлопнулась за посетительницей, Холмс сбежал вниз. Я видел в окно, как она ковыляла по той стороне улицы, а за ней, в нескольких шагах, держался преследователь. «Или теория Холмса неверна, – подумал я про себя, – или сейчас он доберется до самой сути загадки». Холмс мог и не просить, чтобы я его дождался: я все равно не сумел бы заснуть, не узнав результата приключения.
Вышел Холмс незадолго до девяти. Я не имел понятия, когда он вернется, но сидел и сидел, пыхая трубкой и листая «Vie de Bohème»[8] Анри Мюрже. Пробило десять, послышались шаги служанки – она просеменила в постель. В одиннадцать мою дверь миновала, более размеренной поступью, квартирная хозяйка – наступил и ее час отхода ко сну. И только около полуночи звякнул ключ в американском замке. Стоило Холмсу войти, и я сразу понял, что ему не посчастливилось. На лице его боролись смех и досада, и наконец он расхохотался:
– Только бы о моем приключении не прознал Скотленд-Ярд. Прежде я столько над ними потешался, что тут они бы меня в покое не оставили. Я-то смеюсь, потому что знаю: в конечном счете моя возьмет.
– А что случилось-то? – спросил я.
– История не делает мне чести, но ладно. Старуха прошла немного и вдруг начала хромать, будто натерла ногу. Остановилась, подозвала пролетку – та как раз проезжала мимо. Я подобрался ближе, чтобы узнать адрес, но спешить не стоило: она завопила так, что слышно было и на другой стороне улицы: «В Хаундсдитч, к дому тринадцать по Данкан-стрит». Ага, похоже на правду, подумал я, убедился, что старуха села в экипаж, и пристроился сзади. Этим искусством должен в совершенстве владеть каждый сыщик. Итак, мы отъехали и не останавливались до самого места назначения. Я заранее соскочил и не спеша, прогулочным шагом двинулся по тротуару. Карета остановилась. Кучер спрыгнул на землю, открыл дверцу и застыл в ожидании. Никого. Когда я поравнялся с каретой, кучер яростно обшаривал ее пустое нутро и ругался отборными словами. Пассажирка исчезла бесследно, и, боюсь, плату за проезд он получит не скоро. Справившись про дом тринадцать, я узнал, что владеет им респектабельный обойщик по фамилии Кесуик и ни о каких Сойерах и Деннисах тут слыхом не слыхивали.
– Неужели, – изумился я, – эта дряхлая старушка, которая едва на ногах держалась, на ходу выпрыгнула из кэба, да так, что ни вы, ни кучер не заметили?
– Дряхлая старушка? Черта с два! – раздраженно бросил Холмс. – Сами мы старые бабы – попались на такой трюк. Это наверняка молодой мужчина, ловкий и подвижный, и к тому же несравненный актер. Маскарад просто неподражаемый. Конечно же, он заметил слежку и воспользовался этим приемом, чтобы от меня избавиться. Выходит, тот, кого мы ищем, не так одинок, как я полагал: у него есть друзья, готовые в его интересах пойти на риск. Смотрю, доктор, у вас усталый вид. Послушайте меня, ступайте спать.
Я действительно притомился и потому последовал его совету. Холмс остался сидеть у тлеющего камина. До самой поздней ночи я слышал протяжные причитания его скрипки и знал: он все еще размышляет над странной загадкой, которую взялся разрешить.
Глава VI
Тобайас Грегсон показывает, на что способен
Днем газеты на все лады обсуждали «Брикстонскую тайну», как они окрестили это дело. Во всех появились подробные отчеты, а в некоторых еще и передовицы на эту тему. У меня в альбоме сохранилось множество вырезок и выписок. Перескажу вкратце некоторые.
«Дейли телеграф» отмечала, что в истории преступлений едва ли найдется дело более странное. Немецкая фамилия жертвы, отсутствие явного мотива, зловещая надпись на стене – все указывает, что в этой истории замешаны политические беженцы или революционеры. В Америке немало социалистических организаций; покойный наверняка нарушил неписаные законы одной из них, и сотоварищи его выследили. Упомянув мимоходом Vehmgericht[9], аква-тофана, карбонариев, маркизу де Бренвилье, теорию Дарвина, учение Мальтуса и убийства на Ратклиффской дороге, автор заключал статью предостережением властям и призывом внимательней надзирать за иностранцами в Англии.
«Стандард» указывала, что подобные беззакония случаются преимущественно при либеральной администрации. Причина их в брожении умов, которое ведет к неподчинению любому начальству. Покойный, американский джентльмен, прожил в столице несколько недель. Остановился он в пансионе мадам де Шарпантье, Торки-Террас, Камберуэлл. В поездке его сопровождал личный секретарь, мистер Джозеф Стэнджерсон. Во вторник, четвертого числа сего месяца они простились с квартирохозяйкой и отбыли на вокзал Юстон, чтобы, по их словам, сесть на ливерпульский экспресс. Впоследствии их видели на платформе. Больше о них ничего известно не было вплоть до той минуты, когда тело мистера Дреббера обнаружили в пустом доме на Брикстон-роуд, за много миль от Юстона. Как он туда попал и как встретил свою участь – на эти вопросы по-прежнему нет ответа. О местопребывании Стэнджерсона ничего не известно. Нас обнадеживает тот факт, что в расследовании участвуют и мистер Лестрейд, и мистер Грегсон из Скотленд-Ярда. Можно не сомневаться, что известные сыщики быстро прольют свет на это дело.
По мнению «Дейли ньюс», преступление, несомненно, было политическим. Деспотизм континентальных властей, их ненависть к либерализму привели к тому, что на наши берега устремилось множество эмигрантов, которые сделались бы образцовыми гражданами, если бы не память о перенесенных гонениях. В их среде принят строгий кодекс чести, нарушение которого карается смертью. Следует приложить все усилия, чтобы отыскать секретаря, Стэнджерсона, и выяснить у него подробности о привычках покойного. Следствие значительно продвинулось благодаря энергии и проницательности мистера Грегсона из Скотленд-Ярда, который узнал адрес пансиона, где тот проживал.
Мы с Шерлоком Холмсом просмотрели все эти статьи за завтраком, и, похоже, они очень позабавили моего компаньона.
– Я ведь говорил: как бы ни обернулось дело, Лестрейд с Грегсоном останутся в выигрыше.
– Это зависит от результата.
– Да бог с вами, ни в малейшей степени. Если преступника поймают, это будет благодаря их усилиям, если он ускользнет – несмотря на их усилия. Если орел – они выиграли, если решка – я проиграл. Что бы они ни делали, в почитателях недостатка не будет. «Un sot trouve toujours un plus sot qui l’admire»[10].
– Боже, что это? – воскликнул я: в прихожей и на лестнице послышался топот множества ног, который сопровождался протестующими возгласами нашей квартирной хозяйки.
– Сыскная полиция, отделение с Бейкер-стрит, – торжественно объявил мой компаньон, и в комнату влетело полдюжины уличных мальчишек, самых что ни на есть замурзанных и оборванных.
– Смир-рна! – скомандовал Холмс, и шестеро грязных оборванцев выстроились в шеренгу и застыли неприглядными истуканчиками. – Впредь пусть один Уиггинс приходит с отчетом, остальные ждут на улице. Ну, Уиггинс, нашли?
– Не-а, сэр, – ответил один из мальчишек.
– Я не очень и рассчитывал. Продолжайте, пока не найдете. Вот ваша плата. – Холмс раздал всем по шиллингу. – А теперь ступайте и в следующий раз приносите лучшие новости.
Холмс махнул рукой, и мальчишки проворно, как крысы, припустили по лестнице. Тут же с улицы донеслись их пронзительные голоса.
– От каждого из этих плутов толку больше, чем от дюжины полицейских, – заметил Холмс. – Стоит людям хотя бы завидеть полицейского, и они умолкают. А эти юнцы повсюду проникнут и все услышат. К тому же схватывают все на лету. Организовать их только – и порядок.
– Они у вас работают по Брикстонскому делу?
– Да, мне хочется кое-что выяснить. Всего лишь вопрос времени. О, сейчас мы услышим новости в преизбытке. Там шагает Грегсон, и на лице большими буквами написано блаженство. Направляется, конечно же, к нам. Ага, остановился. Вот он!
Колокольчик яростно зазвонил, секунду спустя светловолосый детектив взлетел по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки, и ворвался в гостиную.
– Дорогой друг, поздравьте меня! – вскричал он, тряся безответную ладонь Холмса. – Теперь все ясно, я раскрыл это дело.
На выразительном лице моего компаньона мелькнула тень тревоги.
– Вы хотите сказать, что вышли на след? – спросил он.
– Какой там след! Нет, сэр, преступник у нас под замком.
– И его зовут?..
– Артур Шарпантье, младший лейтенант военно-морского флота ее величества, – гордо выкрикнул Грегсон, потирая свои пухлые руки и выпячивая грудь.
Шерлок Холмс облегченно вздохнул и улыбнулся:
– Садитесь и берите сигару. Мы жаждем услышать, как вам это удалось. Не желаете ли виски с содовой?
– Ничего против не имею. Последние день-два провел в ужасном напряжении и теперь совершенно измотан. Само собой, я не про физическое напряжение, а про умственное. Вы меня поймете, мистер Шерлок Холмс, у нас ведь у обоих рабочий инструмент – мозг.
– Вы делаете мне слишком много чести, – без тени улыбки откликнулся Холмс. – Позвольте послушать, как вы пришли к столь приятному результату.
Сыщик расположился в кресле и с самодовольным видом затянулся сигарой. Во внезапном порыве веселья он хлопнул себя по ляжке.
– Самое смешное, – воскликнул он, – этот дурень Лестрейд, который так о себе мнит, пустился по ложному следу. Он погнался за секретарем Стэнджерсоном, а тот неповинен, как нерожденное дитя. Не сомневаюсь, Лестрейд уже отловил секретаря.
Эта мысль представилась Грегсону такой забавной, что он расхохотался и даже закашлялся.
– И как вы напали на след?
– Сейчас обо всем расскажу. Конечно, доктор Ватсон, это строго между нами. Первая трудность состояла в том, чтобы разыскать американские корни этой истории. Кто-то привык ждать, пока поступят отклики на объявление или явятся свидетели, которые жаждут поделиться сведениями. Но Тобайас Грегсон работает по-другому. Помните, рядом с мертвецом лежала шляпа?
– Да, – кивнул Холмс, – «Джон Андервуд и сыновья», дом сто двадцать девять по Камберуэлл-роуд.
Грегсон был обескуражен.
– Я и не думал, что вы это заметили. Вы там побывали?
– Нет.
– Ха! – с облегчением выдохнул Грегсон. – Надо хвататься за любой шанс, сколь бы мелким он ни казался.
– Ничто не мелко для великого ума, – изрек Холмс.
– Так вот, я отправился к Андервуду и спросил, продавал ли он шляпу такого вида и размера. Он просмотрел свои книги и быстро нашел запись: шляпу отправили мистеру Дребберу, проживавшему в пансионе Шарпантье на Торки-Террас. Таким образом я добыл адрес.
– Умно – очень даже умно! – пробормотал Шерлок Холмс.
– Затем я посетил мадам Шарпантье, – продолжал сыщик. – Она была бледна и очень расстроена. Увидел я и ее дочь – девицу редкостной красоты, между прочим. Когда я с ней говорил, глаза у нее были красные и губы дрожали. Я это не упустил из виду и почуял неладное. Вы сами знаете, мистер Шерлок Холмс, – когда нападешь на верный след, тебя бьет нервная дрожь. «Вы слышали о таинственной смерти вашего съемщика, мистера Еноха Дж. Дреббера из Кливленда?» – спросил я.
Мать только кивнула. Она не могла выдавить из себя ни слова. Дочь расплакалась. Я утвердился в подозрении: этим людям что-то известно.
«В котором часу мистер Дреббер вышел из вашего дома, чтобы сесть на поезд?» – спрашиваю я.
«В восемь. – Женщина сглотнула, чтобы скрыть волнение. – Его секретарь, мистер Стэнджерсон, сказал, что есть два поезда – в четверть десятого и в одиннадцать. Мистер Дреббер собирался на первый».
«И после этого вы его не видели?»
Когда я задал этот вопрос, женщина изменилась в лице. Она так побледнела, что страшно было смотреть. Не сразу она смогла произнести единственное слово – «да», причем тоном хриплым и неестественным.
После недолгого молчания в разговор вступила дочь. Голос ее был спокоен и отчетлив.
«Что толку кривить душой, мама, – сказала она. – Будем откровенны с джентльменом. Мы видели мистера Дреббера еще раз».
«Да помилует тебя Господь! – воскликнула мадам Шарпантье. Она вскинула руки и упала в кресло. – Ты погубила своего брата».
«Артур хотел бы, чтобы мы сказали правду», – твердо ответила девушка.
«Расскажите мне лучше все с начала до конца, – сказал я. – Полуправда хуже лжи. Кроме того, вы не знаете, сколько нам уже известно».
«Пусть это останется на твоей совести, Элис! – воскликнула мать и обратилась ко мне: – Сэр, я все вам расскажу. Только не думайте, будто я волнуюсь за сына, потому что он может быть замешан в этой ужасной истории. Он ни в чем не повинен. Я боялась одного – что все вы сочтете его поведение подозрительным. Но поверьте, для этого нет никаких оснований. Его благородная натура, профессия, вся его жизнь говорит против этого».
«Самое лучшее для вас – без утайки выложить все факты, – ответил я. – Не сомневайтесь, если ваш сын невиновен, с ним не случится ничего плохого».
«Тебе, Элис, наверное, лучше уйти, – сказала мать, и дочь вышла за порог. – Ну вот, сэр, я не хотела вам рассказывать, но бедная девочка заговорила, и теперь мне некуда деться. Раз я решила признаться, то не выпущу ни одной подробности».
«Это самое мудрое», – заверил я.
«Мистер Дреббер прожил у нас почти три недели. Он со своим секретарем, мистером Стэнджерсоном, путешествовал по континенту. На их сундуках я заметила наклейку „Копенгаген“, которая показала, где они останавливались в последний раз. Стэнджерсон был человек тихий и сдержанный, но его наниматель, как ни печально, сильно от него отличался: такие развязные, грубые манеры. В вечер своего приезда он к тому же был пьян, да и впоследствии его после полудня редко видели трезвым. В обращении со служанками он позволял себе омерзительную бесцеремонность. Но хуже всего то, что вскоре он перешел на тот же тон с моей дочерью, Элис. Не однажды она слышала от него слова, которые, по счастью, не способна понять, – Элис слишком для этого невинна. Как-то Дреббер просто-напросто ее облапил – даже собственный секретарь был вынужден указать ему, как недопустимы такие выходки».
«Но почему вы это терпели? – спросил я. – Вы же не обязаны держать постояльцев, которые вам не нравятся».
Этот резонный вопрос заставил миссис Шарпантье покраснеть.
«Жалею, что не указала ему на дверь сразу в день приезда, – вздохнула она. – Но искушение было слишком сильно. Они платили за каждого по фунту в день – четырнадцать фунтов в неделю, а ведь сейчас совсем не сезон. Я вдова, устройство моего мальчика в военный флот стоило немалых денег. Я не решилась отказаться от платы. Меня одолела жадность. Но на последней выходке мое терпение кончилось, и я предупредила Дреббера, что он должен уехать. Поэтому он и покинул мой пансион».
«А дальше?»
«Когда он отъехал, я вздохнула с облегчением. Мой сын сейчас в увольнении, но я ему ничего не рассказывала: он человек горячий и без памяти любит сестру. Когда за постояльцами закрылась дверь, у меня с души упал камень. Увы, не прошло и часа, как зазвонил колокольчик; это вернулся мистер Дреббер. Он был взвинчен и к тому же сильно пьян. Вломившись в комнату, где сидели мы с дочерью, он забормотал что-то неубедительное насчет опоздания на поезд. Потом, не стесняясь моим присутствием, предложил Элис с ним бежать. „Ты совершеннолетняя, – сказал он, – и по закону никто не вправе тебя удерживать. Денег у меня как грязи. Не слушай старую курицу, собирайся. Заживешь как принцесса“. Бедная Элис так перепугалась, что отпрыгнула в сторону, но он поймал ее за запястье и потащил к двери. Я вскрикнула, и тут в комнату вошел мой сын Артур. Что случилось дальше, я не знаю. Слышала ругань и шум потасовки. Я не решалась поднять голову, так было страшно. Когда я наконец открыла глаза, Артур стоял в дверях с тростью в руке и смеялся. „Думаю, этот малый нас больше не побеспокоит, – сказал он. – Пойду-ка прослежу, что он будет делать дальше“. С этими словами Артур взял шляпу и вышел на улицу. А на следующее утро до нас дошла весть о загадочной гибели мистера Дреббера».
Делая это признание, миссис Шарпантье то и дело вздыхала и смолкала. Временами ее речь звучала так тихо, что я с трудом ее разбирал. Однако я не забывал делать стенографические записи, так что возможность ошибки исключена.
– Увлекательная повесть. – Шерлок Холмс зевнул. – Что было дальше?
– Когда миссис Шарпантье умолкла, – продолжал детектив, – я понял, что все дело зависит от одного-единственного обстоятельства. Уставив на нее строгий взгляд (как я убедился, на женщин это всегда действует), я спросил, в котором часу вернулся ее сын.
«Не знаю», – ответила она.
«Как – не знаете?»
«Не знаю. У него свой ключ, он сам открыл дверь».
«Когда вы уже были в постели?»
«Да».
«А когда вы легли?»
«Около одиннадцати».
«Получается, ваш сын отсутствовал не меньше двух часов?»
«Да».
«Может, все четыре или пять?»
«Может».
«Чем он занимался все это время?»
«Не знаю», – отвечала миссис Шарпантье, смертельно побледнев.
После этого, конечно, раздумывать не приходилось. Я выяснил, где находится лейтенант Шарпантье, и, прихватив с собой двоих полицейских, взял его под стражу. Когда я тронул его за плечо и предупредил, чтобы он не сопротивлялся, он преспокойно ответил: «Наверно, вы подозреваете, что я виновен в смерти этого мерзавца Дреббера». Мы ему об этом не говорили, так что его заявление выглядит очень подозрительно.
– Очень, – кивнул Холмс.
– При нем была та же тяжелая трость, с которой, по словам его матери, он пустился вслед за Дреббером. Дубовая, здоровенная.
– И какова ваша гипотеза?
– Гипотеза такая: он преследует Дреббера до Брикстон-роуд. Там происходит новая драка, в ходе которой Дреббер получает удар тростью, скажем, в надчревье – смертельный, но не оставивший отметины. В ненастную погоду на улице было пусто, и Шарпантье затащил тело жертвы в пустой дом. Что до свечи, лужи крови, надписи на стене и кольца – все это уловки, чтобы сбить с толку полицию.
– Отличная работа! – ободрил инспектора Холмс. – Ей-богу, Грегсон, вы растете на глазах. Из вас еще может что-нибудь выйти.
– Льщу себя надеждой, что справился довольно удачно, – с гордостью ответил сыщик. – Молодой человек добровольно показал, что шел за Дреббером, пока тот его не заметил и не взял кэб. На обратном пути Шарпантье встретил старого сослуживца и долгое время с ним прохаживался. На вопрос, где живет этот сослуживец, не дал удовлетворительного ответа. По-моему, концы с концами прекрасно сходятся. Меня разбирает смех, когда думаю, как Лестрейд пустился по ложному следу. Боюсь, не сладится у него. Э, да вот и он собственной персоной!
Это действительно был Лестрейд. Пока мы беседовали, он поднялся по лестнице и теперь возник на пороге. Обычно бойкого и щеголеватого инспектора было не узнать. Глаза тревожно бегают, одежда несвежая, в беспорядке. Очевидно, он явился, чтобы проконсультироваться у Шерлока Холмса, но при виде сослуживца смутился и расстроился. Стоя посреди комнаты, он мял в руках шляпу и не решался заговорить.
– Какой необычный случай, – произнес он наконец, – просто непостижимый.
– Вы так думаете, мистер Лестрейд? – торжествующе воскликнул Грегсон. – Я предвидел, что вы придете к такому заключению. Удалось вам найти секретаря – мистера Джозефа Стэнджерсона?
– Секретарь, мистер Джозеф Стэнджерсон, – возгласил Лестрейд, – убит этим утром, около шести, в частной гостинице «Халлидейз».
Глава VII
Свет во тьме
Известие, принесенное Лестрейдом, поразило нас всех как громом. Грегсон вскочил с кресла, опрокинув виски. Я молча уставился на Шерлока Холмса, который плотно сжал губы и нахмурил брови.
– И Стэнджерсон! – пробормотал он. – Сюжет вырисовывается.
– Куда уж сложнее, – проворчал Лестрейд, садясь в кресло. – Похоже, я попал на военный совет.
– А вы… вы уверены, что тут нет ошибки? – выдавил из себя Грегсон.
– Я только что был в его номере, – отозвался Лестрейд. – Я первый обнаружил тело.
– Мы как раз выслушивали соображения Грегсона, – проговорил Холмс. – А теперь, если вы не против, хотели бы узнать, что вы видели и что делали?
– Я не против. – Лестрейд устроился поудобнее. – Признаюсь откровенно: я думал, Стэнджерсон замешан в убийстве Дреббера. Потом оказалось, что я был совершенно не прав. Но тогда, вбив себе в голову эту мысль, я пустился по следу секретаря. Вечером третьего числа, примерно в половине девятого, их обоих видели на вокзале Юстон. В два часа ночи Дреббера обнаружили на Брикстон-роуд. Мне нужно было выяснить, чем занимался Стэнджерсон между половиной девятого и временем преступления и что с ним случилось потом. Я отправил в Ливерпуль телеграмму с его описанием и предупредил тамошнюю полицию, чтобы следили за американскими судами. Потом стал обходить все гостиницы и меблированные комнаты вблизи Юстона. Видите ли, я считал, что, если Дреббер и его компаньон почему-то расстались, Стэнджерсону проще всего было приютиться на ночь где-нибудь поблизости, чтобы утром явиться на вокзал.
– Скорее всего, они заранее договорились о месте встречи, – заметил Холмс.
– Так оно и оказалось. Весь вчерашний вечер я наводил справки, и совершенно безуспешно. С утра пораньше я это продолжил, и к восьми очередь дошла до частной гостиницы «Халлидейз» на Литтл-Джордж-стрит. Мне сразу подтвердили, что мистер Стэнджерсон у них остановился.
«Наверно, вы тот самый джентльмен, которого он ожидает? – сказали мне. – Он ждет вас уже два дня».
«Где он?» – спросил я.
«Наверху, спит. Велел разбудить его в девять».
«Пойду за ним наверх», – сказал я.
Я рассчитывал, что при моем внезапном появлении Стэнджерсон с перепугу что-нибудь сболтнет. Коридорный взялся проводить меня в номер; располагается он на третьем этаже, в конце коротенького коридора. Указав мне нужную дверь, коридорный повернул было назад к лестнице, но тут я увидел такое, что, несмотря на двадцатилетний опыт службы, почувствовал себя дурно. Из-под двери змеился красный ручеек крови и растекался лужей у противоположного плинтуса. Я вскрикнул, коридорный обернулся. При виде крови он едва не потерял сознание. Дверь была заперта изнутри, но мы, наддав плечами, вышибли ее. Окно стояло открытым, и рядом с ним лежал, свернувшись калачиком, человек в ночной рубашке. Он был мертвехонек, причем смерть наступила не только что: труп успел остыть и окоченеть. Когда мы его перевернули, коридорный сразу узнал джентльмена, который под именем Джозефа Стэнджерсона снял этот номер. Причиной смерти стала глубокая рана в левом боку, наверняка достигшая сердца. А теперь самое странное: что, как вы думаете, обнаружилось на стене над убитым?
Шерлок Холмс еще не успел ответить, а у меня уже побежал по коже мороз.
– Слово RACHE, написанное кровью, – сказал Холмс.
– Оно, – благоговейно подтвердил Лестрейд, и на короткое время все замолчали.
Деяния неведомого преступника были столь методичны, а мотивы столь непостижимы, что от этого становилось еще страшнее. На поле битвы я сохранял самообладание, но теперь меня бросило в дрожь.
– Убийцу видели, – продолжал Лестрейд. – По дорожке, что ведет от конюшни на задах гостиницы, как раз проходил разносчик молока, который направлялся в магазин. Он заметил, что лестница, которая там обычно валяется, приставлена к одному из окон третьего этажа – открытому окну. Пройдя мимо, мальчик оглянулся и увидел, что по лестнице кто-то спускается. Мужчина не прятался, вел себя спокойно, и молочник подумал, что это плотник или столяр делал в гостинице какие-то починки. Он не особенно заинтересовался незнакомцем, только отметил про себя, что тот рановато взялся за работу. В памяти сохранилось только, что тот был высокого роста, с румяным лицом, одет в длинное коричневое пальто. Он, похоже, не сразу покинул место преступления: в раковине, где он вымыл руки, вода была окрашена кровью, запятнана и простыня, о которую он вытер нож.
Услышав описание внешности убийцы, в точности повторявшее слова Холмса, я взглянул на своего компаньона. На его лице не выразилось ни удовлетворения, ни торжества.
– Вы нашли в комнате улики, способные указать на убийцу? – спросил он.
– Ничего. В кармане у Стэнджерсона был кошелек Дреббера, но это вроде бы обычное дело: всеми расчетами занимался секретарь. В кошельке оставалось восемьдесят фунтов с мелочью, ничто не пропало. Каковы бы ни были мотивы этих поразительных преступлений, корысть к ним не относится. Бумаг, записок в карманах не нашлось, за исключением единственной телеграммы, отправленной месяц назад из Кливленда, которая гласит: «Дж. Х. в Европе». Отправитель указан не был.
– Больше не обнаружили ничего? – спросил Холмс.
– Ничего сколько-нибудь существенного. На кровати лежал роман, который покойный читал перед сном, на стуле рядом – трубка. Еще – стакан воды на столе и коробочка для притираний на подоконнике; в ней лежали две пилюли.
С радостным возгласом Шерлок Холмс вскочил с кресла:
– Последнее звено! Дело раскрыто.
Сыщики изумленно уставились на него.
– В моих руках теперь все нити запутанного клубка, – уверенно поведал он. – Конечно, кое-какие детали остается уточнить, но все основные факты от той минуты, когда Дреббер со Стэнджерсоном расстались на вокзале, и до того, как вы обнаружили тело секретаря, мне известны так точно, как если бы я сам был свидетелем. И я вам это докажу. Можете вы принести сюда эти пилюли?
– Они у меня с собой. – Лестрейд вынул белую коробочку. – Я прихватил их, и кошелек, и телеграмму, чтобы поместить в хранилище в полицейском участке. Собственно, это случайность, я мог бы их и не взять, поскольку, надо признаться, не придаю им ни малейшего значения.
– Давайте их сюда. Как на ваш взгляд, доктор, – Холмс повернулся ко мне, – обычные ли это пилюли?
Определенно нет. Они были жемчужно-серые, круглые, почти прозрачные, если рассматривать их против света.
– Судя по тому, что пилюли невесомые и почти прозрачные, их, вероятно, растворяют в воде, – заметил я.
– Именно, – кивнул Холмс. – А теперь не будете ли вы так добры сходить вниз и принести бедняжку-терьера, который совсем плох? Квартирная хозяйка вчера просила избавить его от страданий.
Я отправился вниз и вернулся с терьером на руках. Его прерывистое дыхание и остекленевшие глаза говорили, что конец близок. Мордочка пса была вся седая: он давно уже пережил обычный собачий век. Я опустил его на подушку, лежавшую на каминном коврике.
– Сейчас я разрежу пополам одну из этих пилюль. – Холмс вынул перочинный нож. – Половину вернем в коробку, она нам еще пригодится. Другую половину я опускаю в этот бокал, там на дне чайная ложка воды. Как видите, наш друг доктор был прав: пилюля мгновенно растворилась.
– Это, может быть, очень занимательный опыт, – вмешался Лестрейд обиженным тоном человека, который подозревает, что над ним смеются, – только мне непонятно, как он связан со смертью мистера Джозефа Стэнджерсона.
– Терпение, друг мой, терпение! Со временем вы убедитесь, что связан очень даже тесно. Теперь я добавляю немного молока, чтобы микстура стала вкуснее, и даю ее псу, который, как мы видим, охотно ее пьет.
Не переставая говорить, Холмс вылил содержимое бокала в блюдце, поставил его перед терьером, и тот вылакал все до капли. Наблюдая за Холмсом, мы настроились на серьезный лад и примолкли, внимательно следя за собакой и ожидая чего-то ошеломительного. Однако ничего не происходило. Пес все так же лежал врастяжку на подушке и тяжело дышал, однако питье, очевидно, никак на него не подействовало.
Холмс вынул часы, минута шла за минутой, результата не было. Лицо моего компаньона горестно и разочарованно вытягивалось. Он кусал губу, барабанил пальцами по столу и вообще не скрывал своего нетерпения. Он так расстраивался, что я искренне его жалел, меж тем как двое сыщиков презрительно усмехались, явно упиваясь происходящим.
– Это не может быть совпадением! – Холмс вскочил наконец на ноги и стал метаться по комнате. – Никак не может! Те самые пилюли, о которых мне подумалось в связи со смертью Дреббера, найдены после гибели Стэнджерсона. И все же они безвредны. Что бы это значило? Выходит, вся цепь рассуждений была ошибочной. Нет, невозможно! Но злосчастному псу ничего не делается. А, понял! Понял!
С возгласом ликования Холмс кинулся к коробочке, рассек пополам вторую пилюлю, растворил ее в воде, добавил молока и дал терьеру. Едва несчастный пес коснулся питья языком, как тело его задергалось и, словно пораженное молнией, безжизненно застыло.
Шерлок Холмс вздохнул полной грудью и вытер со лба пот.
– Нужно больше верить себе, – сказал он. – Пора уже усвоить: если кажется, будто факт противоречит длинной цепи рассуждений, неизменно выясняется, что его можно толковать по-другому. Из двух пилюль, лежавших в коробочке, одна содержала в себе самый смертоносный яд, вторая же была совершенно безвредной. Мне следовало догадаться об этом еще прежде, чем я увидел эту коробочку.
Последнее заявление так меня ошеломило, что я чуть не усомнился в здравости рассудка моего друга. Однако же пес был мертв, и это доказывало правоту Холмса. Туман у меня в голове стал постепенно рассеиваться, и я начал смутно прозревать истину.
– Все это кажется вам странным, – продолжал Холмс, – потому что вы в самом начале расследования не оценили важность единственной значимой нити, которая была у вас в руках. Мне же посчастливилось сразу за нее ухватиться, и то, что происходило потом, только подтверждало мои первоначальные предположения и служило их логическим развитием. Поэтому факты, которые, с вашей точки зрения, все больше затемняли дело, для меня только проясняли его и помогали утвердиться в своих выводах. Странное дело – не значит сложное. Самые банальные преступления могут быть самыми сложными для следствия, потому что в них нет ничего нового, нет особенностей, за которые можно зацепиться. Наше убийство оказалось бы крепким орешком, если бы тело жертвы попросту нашли на дороге, без всякой загадочности и сенсационности. Странные детали, вместо того чтобы запутать дело, наоборот, упростили его.
Мистер Грегсон, который выслушивал эту речь с немалым нетерпением, больше не смог сдерживаться.
– Послушайте, мистер Шерлок Холмс, – сказал он, – мы все охотно признаем, что вы умный человек и у вас свои методы работы. Но теперь требуется нечто большее, чем теории и поучения. Надо хватать преступника. Я сделал что мог, и похоже, совершил ошибку. Молодой Шарпантье явно не замешан во втором убийстве. Лестрейд охотился за другим подозреваемым, Стэнджерсоном, но теперь оказалось, что и он не прав. Вы же кидаете намеки направо и налево и как будто знаете больше нас, но пришло время спросить напрямую: что вам точно известно об этом деле? Можете вы назвать имя преступника?
– Не могу не согласиться с Грегсоном, сэр, – вмешался Лестрейд. – Мы оба сделали что могли – и оба потерпели неудачу. С той минуты, когда я вошел в эту комнату, вы не раз утверждали, будто собрали все доказательства. Думаю, сейчас самое время ими поделиться.
– Если откладывать арест преступника и дальше, – заметил я, – как бы он не совершил какое-нибудь новое злодеяние.
Под нашим давлением Шерлок Холмс выказал признаки нерешительности. Он по-прежнему ходил из угла в угол. Голова его была опущена, брови насуплены – так он выглядел, когда его одолевали раздумья.
– Убийств больше не будет. – Холмс наконец застыл на месте и повернулся к нам. – Этого можете не опасаться. Вы спрашивали, известно ли мне имя душегуба. Да, известно. Но узнать, кто преступник, не самое главное, важнее его поймать. Думаю, очень скоро мне это удастся. Я принял собственные меры и надеюсь, что они не подведут, но дело предстоит непростое: наш противник – человек неглупый и отчаянный, притом, как мне пришлось убедиться, имеет сообщника, не уступающего в сообразительности. Пока этот человек не знает, что кто-то получил ключ к разгадке, у нас есть шанс к нему подобраться, но стоит ему что-то заподозрить, и он тут же поменяет имя, а потом ищи его среди четырех миллионов обитателей огромного города. Не примите за обиду, но я должен сказать, что полиции эти двое не по зубам, – потому-то я и не просил вас о содействии. Если я потерплю неудачу, вся вина, естественно, будет на мне, но я к этому готов. А пока что обещаю: как только я смогу открыться вам, не ставя под удар мои планы, я это непременно сделаю.
Грегсон и Лестрейд едва ли были удовлетворены этим заверением, равно как и нелестным намеком касательно полиции. Первый залился краской до самых корней своих соломенно-желтых волос, глазки второго заблестели от любопытства и обиды. Но, прежде чем кто-либо из них успел заговорить, раздался стук в дверь и на пороге возник, во всей своей ничтожности и неприглядности, юный Уиггинс, представитель уличных мальчишек.
– Пожалуйста, сэр. – Уиггинс тронул вихор у себя на лбу. – Кэб под дверью, ждет.
– Молодчина, – любезно ответил Холмс. – Почему бы Скотленд-Ярду не взять на вооружение эту модель? – Он вынул из ящика комода пару наручников. – Смотрите, как здорово работает пружина. Защелкивает в доли секунды.
– Старая тоже годится, – отозвался Лестрейд. – Найти бы только, на кого их надеть.
– Очень хорошо, – улыбнулся Холмс. – Попрошу-ка я кэбмена помочь мне с сундуками. Пожалуйста, Уиггинс, пригласите его подняться.
Меня удивило, что Холмс вроде бы собрался куда-то уехать, меж тем как я об этом ничего не знал. В гостиной стоял небольшой чемодан, Холмс подтянул его к себе и стал стягивать ремнями. Он не оторвался от этого занятия и когда вошел кэбмен.
– Прошу, помогите мне с пряжкой, – не оборачиваясь, произнес Холмс.
Детина с хмурым, недовольным видом приблизился и протянул руки к чемодану. В тот же миг раздался щелчок, лязг металла, и Шерлок Холмс вскочил на ноги.
– Джентльмены! – воскликнул он, сверкая глазами. – Позвольте представить вам мистера Джефферсона Хоупа, убийцу Еноха Дреббера и Джозефа Стэнджерсона.
Дальнейшее разыгралось молниеносно – я даже не понял, что происходит. Мне живо вспоминаются торжество в чертах Холмса, звонкие ноты его голоса и злобное недоумение, с каким кэбмен рассматривал сверкающие наручники, словно бы по волшебству сомкнувшиеся на его запястьях. На краткий миг все застыли, как скульптурная группа. Затем с бессвязным яростным ревом пленник высвободился из рук Холмса и метнулся к окну. Он разбил раму и стекло, но выпрыгнуть не успел: Грегсон, Лестрейд и Холмс бросились на него, как свора шотландских борзых. Его втащили обратно в комнату, завязалась отчаянная потасовка. Мощный и свирепый, пленник раз за разом сбрасывал с себя нас четверых. Он был силен, как эпилептик в конвульсиях. Лицо и руки были в ужасных порезах от разбитого стекла, но потеря крови не лишила его энергии. Наконец Лестрейду удалось схватить его за шейный платок, и лишь тогда, полузадушенный, он понял, что сопротивляться бесполезно. Мы успокоились только после того, как связали ему не только руки, но и ноги. И наконец, устало отдуваясь, встали.
– У нас есть его кэб, – сказал Шерлок Холмс. – На нем можно доставить арестованного в Скотленд-Ярд. Ну вот, джентльмены, – продолжил он с приятной улыбкой, – наша маленькая загадка разгадана. Теперь вы вольны задавать мне любые вопросы, не опасаясь, что я откажусь ответить.
Часть II
Страна святых
Глава I
На великой солончаковой равнине
В центре великого Североамериканского континента лежит засушливая безотрадная пустыня, долгие годы служившая преградой на пути цивилизации. От Сьерра-Невады до Небраски, от реки Йеллоустон на севере до Колорадо на юге простирается область запустения и одиночества. Лик природы в этих мрачных краях отнюдь не однообразен. Могучие, увенчанные снегами вершины сменяются тенистыми, мрачными долинами. По ступенчатым каньонам мчат стремительные реки; бескрайние равнины зимой одеваются снегом, а летом – серой солончаковой пылью. Но есть во всех этих ландшафтах нечто общее: лежащий повсюду отпечаток бесприютности и тоски.
Никто из людей не населяет эту землю отчаянья. Лишь изредка ее пересечет отряд пауни или черноногих, направляясь к новым охотничьим угодьям, однако и храбрейшие из них радуются, когда, оставив позади ужасные равнины, завидят вновь свои привычные прерии. Мелькнет в кустарнике койот, захлопают в воздухе тяжелые крылья грифа, проковыляет по темным ущельям неуклюжий гризли, разыскивая среди скал свое скудное пропитание. Иных обитателей здесь не встречается.
Нет в мире другого столь мрачного пейзажа, как тот, что виден с северных склонов Сьерра-Бланко. Вдали, насколько хватает глаз, простирается плоская равнина, пятна солончаков перемежаются зарослями карликового чаппараля. Горизонт замыкает длинная цепь гор, зубчатые вершины местами заснежены. На всем этом обширном пространстве полностью отсутствует жизнь – нет даже малейших ее признаков. Не пролетит в стальной синеве небес птица, не проскользнет по тускло-серой земле тень, а главное, все тонет в непроницаемой тишине. Вслушивайся сколько угодно – ни шелеста, ни шороха по всей бескрайней пустыне; одно безмолвие, полное и гнетущее.
Выше было сказано, что признаков жизни здесь нет совсем. Но это не так. С высот Сьерра-Бланко можно различить тропу, которая вьется по пустыне и теряется в дальней дали. Ее проложили колеса и истоптали ноги множества искателей приключений. Там и сям белеют под солнцем яркие пятна, хорошо заметные на тусклом фоне соляной корки. Подойдите и посмотрите, что это! Это кости: одни крупные, другие короче и тоньше. Первые остались от волов, вторые – от людей. На протяжении пятнадцати сотен миль этот страшный караванный путь прослеживается по останкам тех, кто пал на его обочинах.
Четвертого мая тысяча восемьсот сорок седьмого года все это разглядывал со склона одинокий путник. По виду его можно было бы принять за самого гения этих мест или же их демона. Сторонний наблюдатель не смог бы определить, четыре ему десятка или все шесть. Худое, изможденное лицо его было плотно обтянуто смуглой, сухой, как пергамент, кожей; в длинных каштановых волосах и бороде пятнами проступала седина; глубоко сидящие глаза горели неестественным огнем; меж тем рука, сжимавшая винтовку, состояла словно бы из одних костей. Чтобы не упасть, путник опирался на свое оружие, однако высокий рост и мощный костяк свидетельствовали о природной силе и выносливости. Притом на лице его выпирали кости, одежда свисала мешком с иссохшего тела – именно поэтому он выглядел дряхлым стариком. Путник умирал – умирал от голода и жажды.
С трудом тащился он по ущелью, а затем забрался чуть выше, на склон, в бесплодной надежде заметить где-нибудь воду. И что же перед ним открылось? Огромная солончаковая равнина и отдаленный пояс суровых гор, без признаков растительности, которая бы указала на наличие влаги. Ни проблеска надежды во всем безбрежном ландшафте. Путник безумным взглядом окинул север, восток, запад – и понял: тут его странствиям наступит конец, этот бесплодный склон станет его могилой. «Сейчас или двадцать лет спустя на пуховой постели – какая разница», – пробормотал он, опускаясь на землю в тени большого валуна.
Прежде чем сесть, он положил рядом бесполезную винтовку и спустил с правого плеча большой узел, завернутый в серую шаль. Судя по тому, как ударилась о землю эта ноша, она была не по силам изможденному путнику. И тут же из серого свертка вырвался жалобный всхлип, наружу высунулись испуганное личико с яркими карими глазами и грязные, в ямочках, кулачки.
– Ой, мне же больно! – пожаловался детский голос.
– Прости, – ответил мужчина, – прости, я нечаянно.
Развернув серую шаль, он извлек из нее хорошенькую девочку лет пяти. Нарядные туфельки, розовое платье с льняным передничком – на всем этом лежал отпечаток материнской заботы. У девочки был бледный, болезненный вид, но руки и ноги не исхудали: лишения, перенесенные спутником, ее почти не коснулись.
– Болит? – спросил он с тревогой: девочка все еще потирала золотистые кудряшки на затылке.
– Поцелуй – пройдет, – серьезно ответила она, показывая больное место. – Мама всегда так делает. Где мама?
– Ушла. Наверно, скоро ты с ней увидишься.
– Ушла? Ну вот, и до свиданья не сказала, а раньше всегда говорила, когда соберется к тетушке на чай. А ведь уже три дня прошло. Ужасно пить хочется, правда? Попить здесь нечего? А поесть?
– Нечего, милая. Потерпи немного, а потом все уладится. Положи опять головку мне на грудь, и ты маленько поправишься. Трудно разговаривать, когда губы задубели, но, наверное, лучше будет, если ты узнаешь, как обстоят наши дела. Что это у тебя?
– Красивые штучки! – похвасталась девочка и показала два блестящих кусочка слюды. – Когда вернемся домой, я подарю их братцу Бобу.
– Скоро у тебя будут штучки еще красивей, – заверил ее мужчина. – Только погоди немножко. Но я хотел тебе сказать… Помнишь, мы были у реки, а потом свернули в сторону?
– Да.
– Ну вот, мы думали тогда скоро выйти к другой реке. Но что-то нас подвело, то ли компас, то ли карта, не знаю. К реке мы не вышли. Вода кончилась. Осталась только самая капелька, для маленьких… и… и…
– Тебе было нечем умываться. – Девочка подняла взгляд на перепачканное лицо своего спутника.
– И нечего пить. Мистер Бендер умер первым, потом Индеец Пит, миссис Макгрегор, Джонни Хоунз, а за ними, милая, твоя мама.
– Мамочка тоже померла. – Девочка уткнула лицо в передник и горько зарыдала.
– Да, все умерли, кроме нас с тобой. И я подумал, не найдется ли воды в той стороне, взвалил тебя на плечо, и мы пошагали. Но похоже, нам и здесь не посчастливилось. И надежды у нас, почитай, совсем не осталось!
– Это значит, мы тоже помрем? – Девочка перестала рыдать и подняла залитое слезами лицо.
– Да, милая, вроде того.
– Что же ты раньше молчал? – Девочка радостно рассмеялась. – Только напугал меня зря. Ведь когда мы умрем, мы снова увидим маму.
– Ты точно увидишь, милая.
– И ты тоже. Я ей расскажу, какой ты хороший. Наверно, она встретит нас у врат небесных с большим кувшином воды и гречневыми блинчиками, горячими и зажаренными с двух сторон, как любили мы с Бобом. А долго еще ждать?
– Не знаю… не очень.
Мужчина не отрывал взгляда от северного горизонта. На голубом небосклоне появились три точки и, приближаясь, стали стремительно расти. Скоро они обернулись тремя большими коричневыми птицами, покружили над головами путников и уселись сверху, на скалы. Это были грифы, местные падальщики, чей прилет означает близкую смерть.
– Петушки и курочки, – обрадовалась девочка зловещим птицам и хлопнула в ладоши, чтобы их спугнуть. – Скажи, эти места создал Бог?
– Ну да, конечно, – заверил ее спутник, ошарашенный неожиданным вопросом.
– И Иллинойс Он создал, и Миссури, – продолжила девочка. – Я думала, эти места создал кто-то другой. Тут ведь не так хорошо получилось: совсем забыли про воду и деревья.
– Как ты думаешь, не пора ли помолиться? – робко предложил мужчина.
– На ночь еще рано.
– Не важно. Немного рано, но наверняка Он не обидится. Прочитай те молитвы, которые читала на ночь в фургоне, пока мы ехали по равнинам.
– А почему ты сам не хочешь? – удивилась девочка.
– Я забыл молитвы. Ни разу не молился с тех пор, как дорос до половины этого ружья. Но пожалуй, это никогда не поздно. Ты читай, а я буду стоять рядом и повторять за тобой.
– Тогда тебе надо встать на колени, и мне тоже. – Девочка разложила на земле шаль. – Сложи руки вот так, и сразу станет вроде как лучше.
За этим странным зрелищем наблюдать было некому, кроме грифов. На узкой шали, рядышком, преклонили колени двое путников – малое дитя и отчаянный, закаленный искатель приключений. Пухлое личико девочки и костлявое лицо мужчины обратились к безоблачным небесам, творя трогательную молитву Верховному Судии, перед Которым готовились предстать; два голоса – один тоненький и звонкий, другой низкий и хриплый – вознесли единую мольбу о милосердии и прощении. Умолкнув, оба снова уселись в тени валуна, и девочка заснула на широкой груди своего защитника. Сначала он стерег ее сон, но веление Природы оказалось необоримым. Три дня и три ночи путник отказывал себе в отдыхе. Веки его все ниже опускались на усталые глаза, голова склонялась на грудь, наконец седая борода мужчины смешалась с золотистыми локонами его спутницы и оба забылись глубоким сном без сновидений.
Если бы путник не спал еще полчаса, он мог бы наблюдать странную картину. Далеко-далеко, на том конце солончаковой равнины, возник маленький пыльный фонтанчик, вначале едва заметный, почти неотличимый от дымки на горизонте. Он ширился, рос и превратился в четко очерченное облако, которое все увеличивалось. Стало понятно, что эту пыль могло поднять только множество ступающих ног. В краю более плодородном наблюдатель предположил бы, что это надвигается одно из больших стад бизонов, которые пасутся в прериях. Но здесь, в засушливой местности, такая возможность исключалась. Пыльный водоворот близился к скале, где нашли себе приют двое отверженных; вот сделались видны крытые брезентом фургоны, вот показались в дымке вооруженные всадники: видение преобразилось в караван, направлявшийся на Запад. Но каков он был, этот караван! Когда голова его достигла гор, хвост еще не показался на горизонте. По необъятной равнине тянулся беспорядочный строй фургонов, повозок, конных и пеших людей. Тащились нагруженные тяжелой ношей женщины, ребятишки шагали рядом с фургонами или выглядывали из-под белых навесов. Странники не походили на обычную партию иммигрантов – скорее на кочевое племя, вынужденное по какой-то причине искать себе новое пристанище. Воздух наполнился шумом и грохотом: звенели бесчисленные голоса, скрипели колеса, ржали лошади. Но и этого оказалось недостаточно, чтобы пробудить двух усталых путников на склоне.
Во главе колонны ехали два-три десятка мужчин с суровыми, каменными лицами, в темной домотканой одежде, вооруженных винтовками. У подножия утеса они остановились и стали держать совет.
– Источники правее, братья, – проговорил один, седой, чисто выбритый, с жестким ртом.
– Направо от Сьерра-Бланко… так мы дойдем до Рио-Гранде, – отозвался другой.
– О воде не беспокойтесь! – воскликнул третий. – Тот, кто смог иссечь воду из скалы, не оставит свой избранный народ.
– Аминь! Аминь! – откликнулись все его сотоварищи.
Странники собирались продолжить путь, но тут один из самых молодых и зорких вскрикнул и указал вверх, на зубчатый утес. На его вершине трепетал под ветром розовый лоскут, очень заметный на фоне серого камня. Всадники осадили лошадей и взяли на изготовку ружья; к авангарду галопом поскакало подкрепление. «Индейцы», – слышалось отовсюду.
– Краснокожих не может быть много, – сказал пожилой мужчина, похожий на предводителя. – Пауни мы миновали, другие племена живут по ту сторону больших гор.
– Пойду-ка я вперед и разведаю. А, брат Стэнджерсон? – спросил кто-то.
– И я! И я! – подхватила дюжина голосов.
– Оставьте лошадей, мы будем ждать здесь, – ответил старейшина.
Юноши проворно спешились, привязали лошадей и стали карабкаться по крутому склону к предмету, их заинтересовавшему. Продвигались они быстро и бесшумно, с уверенностью и сноровкой опытных разведчиков. Оставшиеся внизу видели, как они перебирались с камня на камень и достигли вершины, где фоном им служило небо. Впереди шел юноша, первым подавший сигнал тревоги. Внезапно он, словно в удивлении, всплеснул руками. Когда подошли остальные, они удивились не меньше.
На плоской верхушке голого холма стоял в одиночестве гигантский валун. На него опирался, полулежа, высокий мужчина с длинной бородой и крупными, но крайне истощенными чертами. Судя по его спокойному лицу и ровному дыханию, он спал глубоким сном. Смуглую жилистую шею спящего обнимала пухлыми белыми руками маленькая девочка; ее золотоволосая головка прижималась к плюшевой блузе, облекавшей его грудь. Розовые губы были приоткрыты, за ними виднелся белоснежный ряд зубов; на детских чертах играла задорная улыбка. Толстенькие белые ножки в белых носках и нарядных туфлях с сияющими пряжками являли странный контраст с исхудавшими конечностями спутника девочки. На скальном карнизе над этой необычной парой торжественно восседали трое грифов. При виде пришельцев они издали хриплый крик разочарования и недовольно снялись с места.
Крики падальщиков разбудили спящих, и те стали изумленно оглядываться. Мужчина, пошатываясь, поднялся на ноги и глянул на равнину, где прежде не было ни души, а теперь тянулась бесконечная череда людей и животных. На его лице выразилось недоверие, он провел костлявой рукой по глазам.
– Вот так, значит, и бредят, – пробормотал он.
Девочка стояла рядом, держась за полу его одежды, и молча обводила всех вопросительным детским взглядом.
Спасителям не потребовалось много времени, чтобы убедить двоих отверженных в своей реальности. Один из них усадил девочку себе на плечо, двое других, подхватив под руки ее тощего спутника, довели его до фургонов.
– Меня зовут Джон Феррьер, – рассказал путник. – Мы с малышкой – единственные, кто уцелел из всего отряда. Нас было двадцать один человек. Остальные умерли от голода и жажды по пути с юга.
– Это ваш ребенок? – спросил кто-то.
– Наверно, теперь она моя дочка, раз уж я ее спас, – заявил Феррьер с вызовом. – Я никому ее не отдам. С сегодняшнего дня ее зовут Люси Феррьер. А вы кто такие? – Он с любопытством оглядел своих крепких загорелых спасителей. – Похоже, вас здесь без счета.
– Без малого десять тысяч, – сообщил один из молодых людей. – Мы гонимые чада Господни… избранники ангела Мерония.
– Впервые о нем слышу. Выходит, избранников у него целая толпа.
– Не надо кощунствовать, – сурово отозвался другой. – Мы веруем в Священное Писание, начертанное египетскими знаками на золотых пластинах, которые были вручены святому Джозефу Смиту в Пальмире. Идем из города Нову в штате Иллинойс, где в прежнее время основали свой храм. Мы ищем убежища от насильников и безбожников, пусть даже в самом сердце пустыни.
Название Нову, очевидно, о чем-то напомнило Джону Феррьеру.
– Понятно, – сказал он, – вы мормоны.
– Мормоны, – в один голос подтвердили спасители.
– И куда вы держите путь?
– Не знаем. Нас ведет длань Господня, претворенная в нашего Пророка. Ты должен предстать перед ним. Он скажет, что с тобой делать.
У подножия холма их окружила толпа пилигримов: бледных смиренных женщин, крепких веселых детей и настороженно глядящих мужчин. Многие, видя, как мала девочка и как изможден мужчина, выражали возгласами удивление и сочувствие. Однако группа, сопровождавшая двоих путников, не останавливалась. Вместе с большой толпой мормонов они добрались до фургона, который явно выделялся среди прочих величиной и нарядным, вычурным убранством. Везли его шесть лошадей, меж тем как в другие было впряжено две – самое большее четыре. Рядом с кучером сидел человек не старше тридцати лет, однако благодаря крупной голове и решительному выражению лица похожий на предводителя. Он читал книгу в коричневом переплете, но при виде толпы отложил ее и внимательно выслушал рассказ о происшествии. Затем он торжественным тоном обратился к двоим отверженным:
– Если вы поедете с нами, то как сторонники нашего вероучения. Мы не потерпим волков в своем стаде. Пусть лучше ваши кости останутся белеть в этой пустыне, чем в нашем плоде заведется гнильца, которая в конце концов его погубит. Согласны вы присоединиться к нам на этих условиях?
– Да уж верно, меня любые условия устроят, – заявил Джон Феррьер с таким жаром, что даже степенные старейшины не удержались от улыбки. И только с лица предводителя не сошло подчеркнуто суровое выражение.
– Займись им, брат Стэнджерсон, – произнес он. – Дай ему еды и питья, и ребенку тоже. Поручаю тебе также обучить их нашей святой вере. Но хватит медлить. Вперед, вперед, Сион нас ждет!
– Сион нас ждет! – закричала толпа мормонов, и возглас, подхватываемый все новыми устами, бежал вдоль нескончаемого каравана, пока глухие отголоски не затихли в отдалении. Защелкали хлысты, заскрипели колеса, фургоны стронулись с места, процессия возобновила свой извилистый путь. Старейшина, которому доверили заботу о найденных, отвел их к своему фургону, где уже была приготовлена еда.
– Вы останетесь здесь, – сказал он. – Пройдет несколько дней, и ваши силы восстановятся. Тем временем не забывайте, что отныне и вовеки вы наши единоверцы. Это сказал Бригам Янг, его же устами вещает Джозеф Смит, сиречь глас Божий.
Глава II
Цветок Юты
Было бы неуместно описывать здесь трудности и лишения, перенесенные мормонскими переселенцами, прежде чем они достигли желанной гавани. В странствии от берегов Миссисипи к западным склонам Скалистых гор они проявили упорство, подобное которому едва ли знает история. Дикие люди и дикие звери, голод, жажда, изнурительные труды, болезни – все препятствия, которые природа ставила на их пути, они одолели со свойственной англосаксам стойкостью. Однако долгий путь и ужасные приключения оставили след в сердцах даже самых выносливых из мормонов. Все они как один пали на колени и обратили к небу идущую из глубин души мольбу, когда внизу показалась обширная, залитая солнцем долина Юты и предводитель объявил, что это и есть земля обетованная – отныне и навсегда эти нетронутые угодья принадлежат им.
Янг незамедлительно доказал, что является не только решительным вождем, но и умелым управителем. Были подготовлены карты с чертежами будущего города. Окрестная земля была нарезана на фермы и распределена в соответствии с рангом владельца. Торговцев приставили к торговле, ремесленников – к их ремеслам. Как по волшебству, из земли выросли улицы и площади. В сельской местности рыли канавы, насаждали живые изгороди, расчищали и засевали поля, и следующим летом повсюду зазолотились хлеба. Все процветало в этой необычной колонии. Но прежде всего рос и расширялся большой храм, воздвигнутый в центре города. С первых лучей зари и до глубоких сумерек стучали кувалды и скрежетали пилы: переселенцы трудились над святилищем Того, Кто провел их невредимыми через множество опасностей.
Двое отверженных, Джон Феррьер и названая дочь, разделившая его судьбу, сопровождали мормонов до самого конца их великого паломничества. Малютка Люси Феррьер неплохо себя чувствовала в фургоне старейшины Стэнджерсона, где ютились также три жены мормона и его сын, своевольный и нахальный мальчишка двенадцати лет. Горе из-за смерти матери, как бывает с детьми, быстро забылось, Люси сделалась любимицей женщин и привыкла к новой жизни в крытом брезентом доме на колесах. Феррьер, когда восстановил силы, показал себя полезным проводником и неутомимым охотником. Он в краткий срок заслужил уважение своих новых товарищей, и к концу странствия ему, с всеобщего согласия, выделили такой же большой и плодородный участок земли, как всем остальным поселенцам, за исключением самого Янга, а также четырех главных старейшин: Стэнджерсона, Кемболла, Джонстона и Дреббера.
На ферме Джон Феррьер построил основательный бревенчатый дом, который в последующие годы, за счет многочисленных пристроек, превратился в просторную виллу. Феррьер был человеком практического склада, толковым и к тому же с умелыми руками. Здоровье у него было железное, и он с утра до вечера трудился, культивируя и обрабатывая свою пашню. По этой причине его ферма и все хозяйство вовсю процветали. За три года он обогнал соседей, за шесть сделался зажиточным человеком, за девять – богачом, а к исходу двенадцатого года во всем Солт-Лейк-Сити не нашлось бы полудюжины ему равных. От великого внутреннего моря и до отдаленных Уосатчских гор не было имени известней, чем Джон Феррьер.
Лишь одно настораживало товарищей по вере. Как его ни убеждали и ни уговаривали, он не соглашался устроить свою семейную жизнь по образцу, принятому соседями. Он не приводил никаких причин, лишь упрямо и неколебимо держался своих принципов. Одни обвиняли его в безразличии к своей новой религии, другие ссылались на жадность и нежелание нести расходы. Третьи поминали какую-то юношескую любовную историю и светловолосую девушку, которая зачахла от тоски на берегу Атлантики. Как бы то ни было, Феррьер оставался строгим приверженцем безбрачия. Во всех остальных отношениях он подчинялся религиозным догматам молодой колонии и приобрел репутацию человека набожного и добропорядочного.
Люси Феррьер росла в бревенчатом доме приемного отца и помогала ему во всем. Материнскую заботу и опеку ей заменили свежий горный воздух и бальзамический аромат сосновой смолы. С каждым годом она крепла и вытягивалась, щеки наливались румянцем, шаг приобретал упругость. Многим из тех, кто проезжал большой дорогой, примыкающей к ферме Феррьера, приходили на память давно забытые мечты, когда они замечали гибкую фигурку Люси на пшеничном поле; многие вздыхали, увидев девушку на отцовом мустанге, с которым она управлялась легко и грациозно, как подобает истинной обитательнице Запада. Бутон превратился в цветок; в тот год, когда отец превзошел богатством всех местных фермеров, дочь сделалась самой красивой девушкой всего тихоокеанского побережья.
Отец, однако, не был первым, кто обнаружил, что его дочь больше не ребенок. Отцы редко замечают первыми. Таинственная перемена происходит скрытно и постепенно, и ее нельзя привязать к определенной дате. Сама девочка не понимает до тех пор, пока тон чьего-то голоса или касание руки не заставит ее сердце затрепетать; тогда она, испытывая одновременно гордость и страх, отдает себе отчет в том, что в ней пробудилось нечто новое и большее. Не многие забывают этот день и не держат в памяти незначительный случай, возвестивший зарю новой жизни. В случае Люси Феррьер эпизод сам по себе был немаловажным, не говоря уже о том, как он повлиял на судьбу и самой девушки, и многих других людей.
Стояло теплое июньское утро, и «святые последних дней» хлопотали, как пчелы в улье, который выбрали своей эмблемой. Работа кипела в полях и на улицах. По пыльным дорогам бесконечной чередой шли тяжело нагруженные мулы. Все они направлялись на запад: в Калифорнии началась золотая лихорадка, а главный сухопутный маршрут туда проходил через Город Избранных. С окрестных пастбищ тянулись отары овец и стада волов; совершали нескончаемое путешествие, одинаково изнурявшее людей и лошадей, обозы усталых переселенцев. Среди этого пестрого скопления лавировала с ловкостью опытного всадника Люси Феррьер – прекрасное лицо пылало от быстрого движения, длинные каштановые волосы развевались на ветру. Отец отправил ее в город с поручением, и она, со свойственным юности бесстрашием, летела по привычке сломя голову, думая только о том, как лучше справиться со своей задачей. Запыленные искатели приключений провожали ее изумленными взглядами, и даже бесстрастные индейцы, с поклажей из шкурок, забывали о своем привычном стоицизме, восхищаясь красотой бледнолицей девы.
У окраины города Люси обнаружила, что дорогу перекрыло большое воловье стадо, которое гнали полдюжины пастухов – по виду настоящих дикарей. В нетерпении она направила лошадь в просвет, но стадо немедля сомкнулось, и Люси очутилась в потоке длиннорогих волов с налитыми кровью глазами. Обращаться со скотиной было делом привычным, поэтому Люси не испугалась, а принялась лавировать, чтобы побыстрей выбраться наружу. К несчастью, одно из животных, случайно или умышленно, задело рогом бок мустанга, и лошадь пришла в бешенство. С хрипом ярости она поднялась на дыбы и заметалась; чтобы справиться с ней, потребовалось бы все искусство опытного наездника. Это грозило бедой. При каждом прыжке лошадь снова натыкалась на рога и оттого еще больше бесилась. Девушка могла лишь держаться в седле: малейшая оплошность означала бы страшную смерть под копытами неповоротливых испуганных животных. К таким переделкам Люси не привыкла, голова у нее закружилась, руки, державшие поводья, ослабели. Задыхаясь в облаке пыли и пара от разгоряченных волов, она едва не сдалась, но кто-то поблизости заверил ее ласковым голосом, что все будет хорошо. Тут же чья-то жилистая смуглая рука схватила испуганную лошадь под уздцы и провела сквозь стадо на обочину.
– Надеюсь, мисс, вы не пострадали? – почтительно осведомился спаситель.
Люси взглянула на его смуглое энергичное лицо и нервно усмехнулась.
– Едва не умерла со страху, – наивно призналась она. – Кто бы мог подумать, что Пончо так испугается каких-то коров.
– Слава богу, что вы удержались в седле, – серьезно проговорил собеседник. Это был высокий, деревенского вида молодой человек на мощной чалой лошади. Грубая одежда его напоминала охотничью, на плече висела длинная винтовка. – Бьюсь об заклад, вы дочка Джона Феррьера, – продолжал он. – Я видел, как вы выезжали из его дома. Спросите его при встрече, помнит ли он Джефферсона Хоупа из Сент-Луиса. Если он тот самый Феррьер, то наши отцы были очень дружны.
– Не лучше ли вам самому зайти и спросить его? – робко предложила Люси.
Молодому человеку это предложение явно понравилось, глаза его заблестели от удовольствия.
– Так я и сделаю. Правда, мы два месяца провели в горах и не совсем подготовлены к светским визитам. Пусть уж сделает на это скидку.
– Ему есть за что вас благодарить, и мне тоже. Он меня очень любит. Если бы коровы меня затоптали, он бы этого не пережил.
– Я тоже.
– Вы? Вам-то должно быть все равно. Мы ведь даже не знакомы.
От этих слов на лицо юного охотника набежала такая тень, что Люси Феррьер рассмеялась.
– Ну-ну, я ничего такого не хотела сказать, – заверила она. – Зато теперь мы знакомы. Вы непременно должны к нам зайти. Ну, мне пора, а то отец решит, что мне ничего нельзя поручить. До свиданья!
– До свиданья.
Приподняв свое широкое сомбреро, Хоуп склонился над ручкой Люси. Она развернула мустанга, хлестнула его и умчалась по дороге в облаке пыли.
Молодой Джефферсон Хоуп в задумчивом молчании продолжил путь вместе со своими спутниками. Недавно они побывали в горах Невады, где искали серебро, а теперь возвращались в Солт-Лейк-Сити – собрать денег для разработки найденных жил. Он, как и прочие, с головой ушел в эти планы, но после внезапного происшествия его мысли устремились в совсем иное русло. Встреча с прекрасной юной девушкой, непринужденной, как свежий, бодрящий ветерок сьерры, глубоко взволновала его порывистое, необузданное сердце. Когда Люси скрылась из виду, юноша понял, что в его жизни наступил перелом, что никакое серебро и никакие другие интересы не вытеснят эту новую всепоглощающую страсть. Любовь, вспыхнувшая в его душе, не имела ничего общего с внезапным юношеским капризом; Джефферсон Хоуп был человеком с сильной волей и властным характером, а чувства его походили на пожар. Он привык к успеху во всех начинаниях – и он поклялся сделать все, на что способны человеческие силы и человеческое упорство.
В тот же вечер он посетил Джона Феррьера и с тех пор являлся так часто, что стал на ферме своим человеком. В последние двенадцать лет Джон безвылазно сидел у себя в долине и занимался только работой, так что известия из внешнего мира до него не доходили. Джефферсон Хоуп знакомил его с новостями, причем преподносил их так, чтобы было интересно и Люси. Он был калифорнийским пионером, мог рассказать много необычных историй о том, как во времена бесшабашной погони за удачей люди делали и теряли состояние. Он побывал и скаутом, и траппером, искателем серебра и владельцем ранчо. Где намечались приключения, там непременно оказывался Джефферсон Хоуп. Очень скоро он сделался любимцем старого фермера, который неустанно славил его достоинства. Люси в таких случаях молчала, но румянец на ее щеках и радостный блеск глаз ясно свидетельствовали, что ее сердце больше ей не принадлежит. Почтенный отец Люси, возможно, этого не замечал, но от человека, добившегося ее благосклонности, эти признаки не укрылись.
Однажды летним вечером Джефферсон Хоуп подъехал галопом к воротам фермы. Люси, стоявшая в дверях, пошла его встретить. Закинув уздечку на забор, он пошел по дорожке.
– Мне надо уехать, Люси, – сказал Хоуп, взяв девушку за руки и нежно глядя ей в глаза. – В этот раз я не приглашаю тебя с собой, но когда вернусь, ты будешь готова?
– А когда ты вернешься? – спросила Люси, краснея и улыбаясь.
– Самое большее через пару месяцев. Вернусь и посватаю тебя, милая. И никто нам не помешает.
– А что отец?
– Он уже согласился, при условии, что дела с рудником пойдут на лад. С этой стороны я ничего не опасаюсь.
– Ну хорошо, если вы с отцом все уже устроили, говорить больше не о чем, – прошептала Люси, прижимаясь щекой к широкой груди Хоупа.
– Слава богу! – Он наклонился и поцеловал ее. – Тогда все слажено. Чем дольше я медлю с отъездом, тем тяжелее будет расстаться. Товарищи ждут меня у каньона. До свиданья, мое сокровище, до свиданья. Через два месяца увидимся.
Хоуп отстранил от себя Люси, вскочил на лошадь и бешеным галопом унесся прочь. Он не оглядывался, словно боялся утратить решимость, если посмотрит на ту, с кем расстается. Люси стояла у ворот и провожала его взглядом, пока он не скрылся вдали. Потом она пошла в дом. И не было в Юте девушки счастливей ее.
Глава III
Джон Феррьер разговаривает с пророком
Минуло три недели с того дня, когда Джефферсон Хоуп с товарищами покинул Солт-Лейк-Сити. У Джона Феррьера сжималось сердце при мысли о том, что скоро молодой человек вернется и уведет с собой его приемное дитя. Однако счастливое, сияющее лицо Люси утешало его лучше, чем любые доводы. В глубине души он всегда был твердо убежден, что ни в коем случае не позволит дочери выйти за мормона. Браки, принятые в их общине, он считал не браком, а стыдом и позором. Что бы Феррьер ни думал о прочих доктринах мормонов, в этом вопросе он был непоколебим. Однако ему приходилось держать язык за зубами: в ту пору человек, высказавший неортодоксальное суждение, подвергался в Земле Святых серьезной опасности.
Да, опасности настолько серьезной, что даже праведные из праведных не осмеливались обнародовать свои мнения по религиозным вопросам – из боязни, что их слова как-нибудь перетолкуют и кара не заставит себя ждать. Прежние жертвы преследования в свой черед сделались преследователями, причем самыми жестокими и безжалостными. Ни инквизиция Севильи, ни фемический суд Германии, ни тайные общества Италии не сравнятся со страшным механизмом, мрачная тень которого накрыла штат Юта.
Организация эта была незрима и окутана тайной, благодаря чему внушала еще больший трепет. Она представлялась всеведущей и всемогущей, хотя никто не видел ее и не слышал. Человек, не поддавшийся диктату Церкви, просто исчезал, и можно было только гадать, что с ним сталось. Зря дожидались дома жена и дети – отец не возвращался, чтобы поведать, как обошлось с ним таинственное судилище. Поспешное слово, опрометчивый шаг карались смертью, однако никто не знал ответа на вопрос, что за грозная сила держит людей в своей власти. Неудивительно поэтому, что все тряслись от страха и даже в сердце пустыни не решались хотя бы шепотом поделиться угнетавшими их сомнениями.
Вначале эта непонятная и грозная сила угрожала только бунтарям, которые, приняв веру мормонов, впоследствии высказывали намерение от нее отречься или пересмотреть ее доктрины. Вскоре, однако, круг преследуемых расширился. Общине не хватало взрослых женщин, а без достаточного их количества доктрина полигамии лишается практического смысла. По штату поползли странные слухи об убитых иммигрантах, о расстрелянных стоянках в тех местах, где никогда не видели индейцев. В гаремах старейшин появлялись новые женщины, из глаз которых текли слезы, а с лиц не сходил смертельный ужас. Странники, застигнутые в горах темнотой, замечали какие-то шайки, участники которых, вооруженные и замаскированные, передвигались скрытно и бесшумно. Рассказы и слухи обретали плоть и форму, подкреплялись все новыми сведениями и наконец вылились в конкретное имя. На ранчо, затерянных в западной глуши, слова «Колено Даново» и «Ангелы мщения» звучат зловеще даже и в наши дни.
Узнав подробней о сообществе, известном своими страшными деяниями, все стали бояться его еще больше. Состав этого свирепого братства не знал никто. Имена тех, кто под покровом религии лил кровь и творил беззакония, держались в строжайшей тайне. Тот самый друг, которому ты высказал свои сомнения относительно Пророка и его миссии, мог оказаться в числе тех, кто явится ночью с огнем и мечом, дабы свершить жуткое воздаяние. Ни один человек поэтому не доверял соседу и не высказывал вслух своих самых сокровенных мыслей.
Однажды утром Джон Феррьер собрался было на пшеничное поле, но тут послышался щелчок задвижки и на тропинке, ведущей к дому, показался плотный рыжеватый мужчина средних лет. Сердце Феррьера упало: он узнал не кого иного, как самого Бригама Янга. Весь дрожа – ибо этот визит не сулил ничего доброго, – Феррьер побежал к двери, чтобы приветствовать главу мормонов. Тот, однако, ответил холодно и с суровым выражением лица проследовал за хозяином в гостиную.