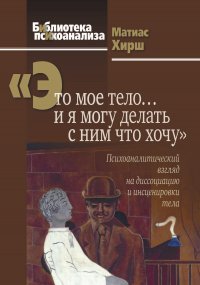
Читать онлайн «Это мое тело… и я могу делать с ним что хочу». Психоаналитический взгляд на диссоциацию и инсценировки тела бесплатно
- Все книги автора: Матиас Хирш
Дух строит себе тело.
Фридрих Шиллер. «Валленштейн»
От научного редактора
Матиас Хирш – немецкий психоаналитик, автор множества статей и 12 книг, большая часть которых посвящена пониманию взаимоотношений тела и психики. Я с удовольствием читала и редактировала книгу Матиаса Хирша, душевно щедрого человека и прекрасного психоаналитика, первым откликнувшегося на потребность психоаналитических терапевтов в создании особого тренинга для работы с психосоматическими пациентами.
Широта научных интересов и умение видеть самые глубокие слои психического функционирования позволяют доктору Хиршу находить решения сложных психологических проблем, стоящих перед пациентами, использующими свое тело для облегчения психических страданий. Книга Матиаса Хирша «Это мое тело… и я могу делать с ним что хочу» представляет собой клинико-теоретическое исследование нормативных и патологических отношений психики и тела.
Опираясь на классические психоаналитические труды, используя современные психоаналитические концепции и огромный собственный клинический опыт, доктор Хирш развивает концепцию о триангулирующей функции тела и телесной диссоциации. В книге рассматриваются патологические формы обращения с телом, такие как самоповреждающее поведение, трихотилломания, нарушение пищевого поведения и др. Также предложена собственная концепция возникновения психосоматического страдания. Обсуждая частные формы нарушения психосоматических отношений, доктор Хирш уделяет большое внимание различным аспектам и смыслам этих форм как в норме, так и при искажениях психосоматического функционирования.
Книга написана хорошим языком, легко читается и может быть полезна психоаналитикам, психоаналитическим и психодинамическим психотерапевтам, клиническим психологам, философам, антропологам, педагогам и врачам различных специальностей.
Ирина КоростелеваПсихоаналитический психотерапевт, действительный член Общества психоаналитической психотерапии, канд. психол. наук, заведующая кафедрой психосоматики и нейропсихоанализа в Институте междисциплинарной медицины (Москва)
Предисловие к русскому изданию
Выход в свет книги признанного специалиста, врача-психиатра, психоаналитика, супервизора Психосоматической клиники Матиаса Хирша – автора более сотни статей и более десятка монографий – является важным вкладом в непрекращающиеся поиски путей продвижения психоаналитического видения мира в область, из которой психоанализ вышел, но которая большую часть времени развивалась (и продолжает развиваться) независимо, сохраняя досадный дуализм и непреодолимую пропасть между телом и психикой. Пропасть, которой нет… Широкий круг проявлений телесности рассматривается автором через призму психоаналитической методологии и эвристически значимых концепций. В результате психологи и врачи получают в распоряжение инструментарий, позволяющий им лучше понимать пациента и кооперировать усилия, помогая ему. Врачи и медицинские работники, диагностируя и сопровождая пациента в лечении, получают возможность учитывать вклад его отношений с врачом в динамику состояния пациента. Также появляется возможность использовать при лечении информацию об истории формирования отношения пациента к болезни и собственному телу, вклад истории окружения пациента на протяжении всей его жизни и т. д. С другой стороны, психолог может пожелать освоить «язык» органов, различных аспектов метаболизма и прочих телесных отправлений, который для соматического пациента может быть удобным и привычным в большей мере, чем обычная человеческая речь.
Структура и содержание книги отражают основные пункты психоаналитического понимания отношений человека с собственным телом в социальном и внутриличностном аспектах. В духе диссоциативных концепций автор по отдельности рассматривает ряд органных и функциональных систем. Манипуляции с телом (автор называет их инсценировками) описываются с точки зрения объектных отношений. Социальный и личностный уровни телесных проявлений рассматриваются в рамках концепций самоидентификации, сепарации, автономии и зависимости. Книга отражает современное состояние психоаналитического клинического исследования и теоретических построений, в том числе исследования периодов младенчества и раннего детства, перипетий привязанностей, интерсубъективности и т. д.
Актуальность данного издания определяется не только широким охватом основных психоаналитических концепций, но и выраженной прикладной – прежде всего социальной – направленностью книги. Социальность и патология – Сцилла и Харибда современной жизни, в которой люди ищут место своим телам. И даже если каким-то чудом такое место удается найти, пребывание в нем, как правило, не сулит ни спокойствия, ни комфорта. Социализация патологии и патологизация социальности, десакрализация традиционных ритуалов и релятивизм фундаментальных смыслов и ценностей приводит к тому, что тело и инсценировки с ним оказываются не только средством самоидентификации и сепарации (символизируя боль отделения), но также выражением неразрешимого напряжения между стремлением к автономии и желанием зависимости.
Книга может быть рекомендована в качестве учебного пособия для студентов и специалистов в клинической психологии, психотерапии, психологическом консультировании и психоанализе.
Андрей БабинВрач-психиатр, ректор Открытого медико-психологического университета, руководитель Центра психотерапии и психологического сопровождения доктора Бабина
Предисловие
Интерес к психоаналитическому исследованию смысла тела неуклонно растет примерно последние 20 лет, и это отражает, насколько в современном обществе важно само тело и возможность воздействия на него. Воздействие это происходит, с одной стороны, в широком социальном контексте – стоит вспомнить о популярности фитнеса и «эстетической медицины», а с другой – на патологическом уровне. Самоповреждение и расстройства пищевого поведения стали распространенными клиническими картинами среди подростков (преимущественно девочек), а подростковый возраст сегодня доходит до пятого десятка. Однако люди всегда меняли свои тела и манипулировали ими как в повседневной жизни, так и в особых случаях – во время обрядов инициации. Кажется, что тело относится к «Я» человека, но в то же время оно рассматривается как часть внешнего мира. Человек изменяет его подобно тому, как он постоянно перерабатывает окружающую среду, в конструктивном или же деструктивном смысле. Человек может использовать собственное тело как объект: это название книги, которую я выпустил в 1989 году. В ней мы с коллегами поработали над психоаналитической психологией тела так основательно, что книга актуальна и сегодня. Тем не менее наука продолжает развиваться, и поэтому в настоящую книгу были включены новые результаты исследований младенцев, исследования привязанности и концепции современного психоанализа, понимаемого как наука об отношениях. Я постарался сделать книгу максимально понятной и проиллюстрировать теоретические идеи многочисленными клиническими примерами. Тем не менее я не отказался от зачастую сложных описаний тонких психологических отношений, особенно в том, что касается защитного процесса диссоциации. К сожалению, тема тела почти неисчерпаема, и я не мог подробно остановиться на некоторых темах, таких как сексуальность (для чего потребуется отдельная книга) или тело как объект искусства. Хотелось бы также посвятить отдельную главу значению крови. Надеюсь, однако, что в моей книге достаточно размышлений на эти темы.
Я хотел бы поблагодарить пациентов, которые в самом начале лечения любезно разрешили мне использовать наблюдения за их психодинамикой для публикации, не зная, произойдет ли это когда-нибудь. И я в очередной раз благодарю Бьянку Грюгер за неустанную энергию, с которой она набирала новые варианты моей рукописи на компьютере.
Матиас Хирш
Эвендль-Хютте, Хинтеррейте (Альгой)
Диссоциация тела
В нашем сознании тело двойственно. С одной стороны, оно остается частью «Я», т. е. того, что мы переживаем как целостное «Я», и его психической репрезентации. С другой, оно выступает объектом внешнего мира, как будто оно не относится к «Я» и живет собственной жизнью. По большей части оно не воспринимается осознанно, переживается как постоянный молчаливый спутник, но тем или иным образом тело дает о себе знать, становясь заметным. Например, когда оно болит или зудит и привлекает к себе значительное внимание (Szasz, 1957), мы – с удивлением – воспринимаем его как отдельный от «Я» объект. Это происходит и тогда, когда функции тела существенно нарушены, когда болезнь становится более или менее серьезной и однозначно напоминает о конце жизни. Когда тело болеет, оно причиняет ущерб всему «Я», когда оно приближается к смерти, оно неизбежно забирает «Я» с собой. Конечно, есть и приятные состояния тела, которые привлекают к себе внимание: глубокое расслабление, вкусная еда, всем известное наслаждение горячей ванной или душем, которое выливается в громкое пение. Кроме того, исчезновение боли, которая давно стала привычной, обращает на себя внимание, будто часы, которые внезапно остановились, хотя их мерное тиканье всегда проходило незамеченным. Нам хорошо известна оппозиция плоти (Leib) и тела (Körper)[1]. Плоть – это «Я», тело – то, чем «Я» обладает.
В немецком языке есть отчетливая разница между словами Leib и Körper. Первым мы являемся, вторым обладаем. Первое – субъект. Мы живем как плоть, но тело противоположно плоти, поскольку остается объектом (Kchenhoff, 1987, S. 289).
Эта оппозиция непостоянна и не очень строга, скорее, нам нужно исходить из «постоянных колебаний между обладанием телом и существованием в качестве плоти» (Blankenburg, 1983, S. 206). Экзистенциально ориентированный психиатр Бланкенбург воспринимает «плоть как партнера» и говорит о теле как об «объекте вещественного мира» (там же, S. 207).
Плоть и исходящие от нее многообразные ощущения, жалобы и т. д. становятся «ближним», и эта формулировка заставляет задуматься о «близости» физических ощущений, дискомфорта, боли и совсем иной «близости» реального ближнего (партнера или члена семьи). <…> Но плоть может стать «партнером» и совсем другим – и при этом здоровым – образом. Партнером, которого мы уважаем как самостоятельную единицу, которому есть что сказать, которому нельзя отказывать в праве голоса не только, когда речь идет о глобальных планах на жизнь, но и во время принятия конкретных сиюминутных решений, и при этом не становясь его рабом. Плоть принимается всерьез как возможный собеседник, у которого есть личное мнение насчет наших мыслей, желаний, чувств, страхов, планов, событий в нашей жизни и который выражает его напряжением, зажимами или расслаблением в определенных мышцах, ощущением тепла и холода, покраснением и бледностью, ощущением усталости, смущенными движениями или же релаксацией, размягчением, ощущением свежести и др. (там же, S. 208).
Здесь плоть воспринимается как нечто одновременно противоположное «Я» и относящееся к нему. Ницше, напротив, всячески ратует за единство «Я», или души, и плоти[2].
«Я – плоть и душа», – так говорит ребенок. И почему не говорить, как дети?
Но пробудившийся, знающий говорит: я – плоть, лишь она, и ничто больше. А душа – только слово для чего-то во плоти. Плоть – это большой разум, множество с единым сознанием, война и мир, стадо и пастырь. <…> За твоими мыслями и чувствами, брат мой, стоит более могущественный повелитель, неизвестный мудрец, который зовется «Я». В твоей плоти живет он, он и есть твоя плоть[3] (Nietzsche, 1891/1989, S. 28 и далее).
В то время как ребенок еще предполагает разделение души и плоти, Ницше видит в последней единство духа, души и тела. Шекспир понимает этот вопрос несколько иначе и вкладывает в уста интригана-неудачника Яго, который полагает, что все человеческое можно подавить с помощью разума, такие слова: «Наше тело – сад, а воля в нем – садовник» (акт 1, сцена 3). Яго думает, что с телом можно совладать так же, как он манипулирует человеческими отношениями, а Ницше имеет в виду нечто прямо противоположное.
Осцилляция – очень подходящее понятие для постоянного изменения единства «Я» и тела, души и плоти, с одной стороны, и, с другой стороны – их разделенности, в которой тело воспринимается как объект внешнего мира или же плоть видится партнером и посредником между «Я» и социальным окружением. Возможность расщепления или диссоциации тела и «Я», т. е. «я-тела» и «я-целого», своего рода отношений между ними, рассматривается не только психологией и психоанализом, но и издавна художественной литературой. В романе «Имаго» Карл Шпиттелер (Carl Spitteler, 1906) представил отношения героя со своим телом как дружеские.
Дома, когда он растянул все свои члены на постели, ему снова стало легче. «На здоровье!» – пожелало ему тело. «Спасибо, Конрад», – ответил он дружелюбно. Он по-товарищески назвал тело Конрадом за то, что все кончилось хорошо.
В переписке с К. Г. Юнгом 3. Фрейд (Freud, 1974, S. 274) жалуется на свои недомогания и, намекая на Шпиттелера, также называет свое тело Конрадом: «К счастью, я вернул Конраду его нормальное пищеварение особой заботой в Гамбурге и Берлине». Судя по всему, путешествия неблагоприятно сказывались на нормальном пищеварении Фрейда. А из Рима он пишет о посещении Сицилии: «Первая неделя на острове была высшим наслаждением. Следующая за ней вследствие постоянных сирокко стала тяжелым испытанием для бедного Конрада» (там же, S. 390). Здесь видно, что Фрейд обращает внимание на тело, когда оно доставляет или испытывает неприятности.
В прекрасном стихотворении Роберт Гернхардт (1987) перечисляет целый спектр взаимодействий со своим телом-спутником, которое воспринимается как упрямый партнер-антагонист.
Семь раз мое тело
- Мое тело – вещь без защиты,
- хорошо, у него есть я.
- Со мной оно в меру упитанно,
- Укутано в гору тряпья.
- Телу со мной привольно,
- хлеб даю ему и вино.
- Но вечно оно недовольно,
- и в конце плюется оно.
- Мое тело мне непослушно,
- у нас с ним полный раздрай.
- Я к искусству неравнодушен,
- ему тел чужих подавай.
- Тело творит помои,
- ногти, волосы, кал и пот.
- Я стригу его, я его мою,
- ноги, голову, спину, живот.
- Мое тело совсем сумасбродно,
- оно жадность, похоть и лень.
- Постоянно приходит в негодность,
- я чиню его изо дня в день.
- Тело мне «спасибо» не скажет
- и порой причиняет мне боль.
- Для него по горам я лажу,
- Окунаюсь в морскую соль.
- Мое тело асоциально.
- Не для него болтовня.
- Я жизнь для него проживаю,
- Оно убивает меня.
В интервью газете Süddeutsche Zeitung 30 октября 2008 года известный молодой пианист Ланг Ланг говорит о своих пальцах, столь значимых для него, как о партнерах и друзьях.
«У меня нет любимых пальцев».
Пианист Ланг Ланг о своих десяти лучших друзьях
Ваши пальцы начинают двигаться сами по себе, когда вы слышите пианино в записи?
Всегда! И наоборот, если бы я сейчас застучал пальцами по этому журнальному столику, будто я за пианино, я бы тут же услышал звук пианино в голове.
Какой у вас любимый палец?
Нет такого. Любой профессиональный музыкант должен стремиться к тому, чтобы развить соразмерные возможности у всех пальцев. Три первых всегда самые сильные. Безымянные пальцы и мизинцы – более слабые братья, которых нужно тренировать. <…>
Ваши пальцы могут исполнять сложные вещи самостоятельно, без контроля со стороны мозга?
В принципе вполне возможно думать о чем-то другом во время музицирования, но это очень опасно. Потому что произведение, исполненное будто в коме, ничего не стоит. Каждую ноту нужно исполнять сознательно.
Это возможно даже при высоком темпе исполнения?
И здесь тоже нужно использовать мозг, иначе человек становится машиной. Пианист должен пробуждать каждую ноту к жизни, а при высоком темпе нужно особенно быстро мыслить. Очень редко со мной случается такое, что мозг не поспевает за пальцами и они продолжают играть самостоятельно. Эти парни словно бойцы на наружном посту: обычно они только исполняют приказы, но в особых ситуациях могут действовать и независимо.
Подобно тому как Ланг Ланг называет свои пальцы братьями, существуют свидетельства аналогичных дружеских отношений с различными частями тела: венский психоаналитик Виктор Тауск (Tausk, 1919), который принадлежал к фрейдовскому Психологическому обществу по средам, уже обнаружил повседневные феномены расщепления, например, когда мужчина называет свой пенис милым другом в случае, если доволен им. В «Случае Портного» Филип Рот (1967) ярко передает амбивалентность своего героя в отношении сексуального контакта со спящей девушкой, из-за которой он вступает в диалог со своим пенисом.
«Дружок, – урчит мой член, – сейчас я тебе перечислю, чего она ждет: во-первых, она ждет, что ты возьмешь в руки ее маленькие, твердые сиськи шиксы». – «Правда?» – «Она ждет, что ты засунешь пальцы в ее маленькую дырку шиксы и будешь сновать там, пока она не упадет без сил». – «О боже, без сил!» <…> Но как можно вступать в аргументированный спор со стояком?
Подобным же образом актриса Скарлетт Йоханссон отстраненно говорит о части своего тела: «Я люблю свои груди. Я называю их моими девочками». Süddeutsche Zeitung (10 мая 2006) шутит на эту тему: «Она хочет нам этим сказать, что часто и охотно упоминает их в интервью: „Прекрасно, если многочисленные интеллектуалы ценят мою актерскую работу, остальных же я покоряю своей грудью“». Уже Франциск Ассизский говорил о теле как о брате, а болезни называл сестрами (Le Goff, Truong, 2003, S. 124). Можно предположить, что такие названия означают дистанцирование от собственного тела, когда человек психологически приписывает ему самостоятельную жизнь, не соглашаясь с определенными его состояниями или же, напротив, выражая особую удовлетворенность ими.
Как уже было сказано, это повседневные переживания и наблюдения, над которыми можно иронизировать. Но в художественной литературе нередко описываются состояния, которые приближаются к границе патологии или даже переступают ее. Так, герой Томаса Бернхарда (1986) воспринимает один из своих органов, а именно сердце, как нечто отдельное:
Но каждый раз, когда я ездил в Вольфсегг в последние годы, я так возбуждался и, похоже, так перенагружал свое сердце, что ему это в крайней степени вредило. После посещений Вольфсегга я все время наведывался к своему римскому врачу, и он постановил, что я перенагружал свое сердце одним только пребыванием в Вольфсегге, пребыванием в Австрии, как я уточняю. Все эти пребывания в Австрии, в Вольфсегге в последние годы крайне вредили моему сердцу, доводили его до предела возможностей. Но я никогда и не принимал свое сердце во внимание, думаю, поэтому все так далеко зашло с моим сердцем, ведь я никогда не принимал его во внимание, с самого детства, людей моего склада сердце просто не выдерживает, оно рано делается больным, ослабленным, ведь с самого детства с ним плохо обращались, я с самого раннего детства плохо с ним обращался, перенагружал его, думаю, покоя ему не давал. Мое сердце так никогда и не познало заслуженного покоя, думаю, и теперь оно разрушено. Но вместо того, чтобы беречь его, в Риме с помощью подчиненного ему ритма я еду вреднейшим для него образом в Вольфсегг и снова страшно его возбуждаю.
В романе Иэна Макьюэна (2001, S. 54) «Искупление» героиня также чувствует свое тело отдельно, более того, ощущает его как вещь, машину:
Брайони подняла руку, согнула пальцы и удивилась, как это часто бывало, что эта вещь, эта хватательная машина, этот паук из плоти на окончании руки принадлежал ей и полностью подчинялся ее командованию. Или это нечто все же жило своей жизнью? Она согнула пальцы и разогнула их. Загадка была в моменте, предшествующем движению, в том решающем моменте между оцепенением и изменением, когда ее намерение приходило в действие. Подобно волне, которая разбивается. Если бы она осталась на гребне волны, думала Брайони, возможно, она могла бы разгадать собственную загадку, могла бы узнать ту часть себя, которая на самом деле ее определяла. Она приблизила указательный палец к лицу и уставилась на него, приказала ему двинуться. Он остался неподвижным, но ведь и она только играла, говорила это не всерьез, и приказывать пальцу двинуться, хотеть его согнуть было совсем не тем же самым, что пошевелить им на самом деле. Когда она его действительно согнула, казалось, что процесс начинается в самих пальцах, а не в каком-то из отделов мозга. Когда палец знал, что ему надо пошевелиться, а когда она знала, что хочет пошевелить пальцем? Перехитрить саму себя было невозможно. Тут было только «или – или», никаких стыковок и зарубок, ведь она знала, что за гладким, равномерным материалом скрывалось истинное «Я» – может быть, душа? – которое решало прекратить самообман и отдать решающий приказ.
Я исследовал связь травматизации и диссоциации тела на примере двух автобиографических рассказов Артура Гольдшмидта – «Обособление» (1991) и «Безразличие» (1996) (Hirsch, 2002b). Гольдшмидт родился в ассимилированной еврейской семье в Гамбурге. Он пережил преследование со стороны нацистов, поскольку в 12 лет его сначала отправили в Италию, а потом в детский дом во французских Альпах. В этом приюте он пережил множество ужасных травмирующих событий, инициированных как воспитателями-садистами, так и старшими товарищами. Он представляет себя сиротой (каким он фактически и был на тот момент, потому что обоих родителей убили), объектом, лишенным личности:
Сироты были словно рабы, их поднимали за волосы, он был одним из них. <…> Видимый со всех сторон, он был вещью (Goldschmidt, 1991, S. 109).
Перед лицом приближающихся к их местоположению немецких солдат мальчик защищается от страха, соскальзывая в чувство деперсонализации:
Страха у него не было. Ноги стали ему слишком коротки, как будто он шел на культях, он точно чувствовал силуэт своего тела, то, как он двигался вперед, прорезая воздух, он шел, будто кто-то другой делал это за него (там же, S. 172).
Он будто остался бестелесным. Он забыл собственное тело (Goldschmidt, 1996, S. 138).
Он стоял там с этим телом, которое принадлежало ему и должно было идти с ним всю дорогу, которое он должен был терпеть всю дорогу как неразличного спутника (там же, S. 168).
В рассказе «Освобождение» (2007) Гольдшмидт тоже описывает деперсонализированное, диссоциированное тело.
…и <он> почувствовал при этом все тело, которое на нем было надето, которое шло вместе с ним (S. 30).
К тому же нас засовывают в случайных людей, которыми мы с тем же успехом могли и не быть… (S. 33).
Точно так же он хотел бы вырваться из себя, быть изгнанным, чтобы остался только этот скачущий отбойный молоток со скрещенными руками и при галстуке, или снова вылететь в воздух из самогаубицы <Гольдшмидт подразумевает мастурбацию> (S. 94).
Это было так, словно он сам подвел себя к козлу <с помощью которого осуществлялось наказание розгами>, как если бы он сам связал себя по рукам, был своим хозяином и господином, своей защитой и защитником (S. 146).
В последнем предложении можно различить функцию диссоциации: воспитанник не становится жертвой неизбежной экзекуции, но сам выступает агентом в отношении своего тела. По крайне мере, таким образом можно воздействовать на боль самостоятельно, избегая тяжелейшего чувства беспомощности.
Часто такого рода расщепления встречаются в терапевтической практике. Цилли Кристиансен, пациентка с расстройством пищевого поведения, однажды сказала: «Я купила пакет яблок, чтобы сделать своему телу что-то хорошее. Вообще-то я не люблю яблоки». Таким же образом думает один из героев Цяня Чжуншу, своеобразный философ.
Он вздохнул: «Насколько лучше было бы обойтись вообще без тела и быть чистым духом. Мое тело мне совершенно безразлично, и я балую его только затем, чтобы оно надо мной не подшутило…» (Qian, 1946/2008, S. 135 и далее).
Возможно, склонность к ментальному расщеплению частей «Я», не только тела – черта современности. Сегодня можно часто услышать, например, в терапии: «Тогда я заметил, что я разозлился», – вместо целостного: «Я разозлился». Или же: «Я не знаю, как мне справиться с горем…». Перед нами тот, кто скорбит или мог бы скорбеть гораздо сильнее, и другой, который должен справиться с последствиями горя. В Süddeutsche Zeitung я обнаружил среди некрологов рекламу агентства ритуальных услуг:
Правильно встретить горе
Несчастный случай:
Почти всегда близкие не готовы к этому. Они шокированы, и эти переживания нередко выливаются в тяжелую депрессию. Многие думают, что горе нужно скрывать.
Но:
Эксперты рекомендуют плакать и делать записи всем, кто не может справиться с болью.
Тот, кто позволяет умершим «жить» после погребения, тот сохраняет их в своей памяти и может открыто говорить о них, легче справляется со скорбью.
В этих повседневных примерах можно увидеть отчетливую цель таких психологических мер защиты (с психоаналитической точки зрения, диссоциация – механизм защиты) или стоящее за ними – бессознательное – намерение. В случае, когда ожидаемый аффект слишком неприятен или, вероятно, даже невыносим, его держат в узде посредством расщепления на страдающую и наблюдающую (или даже действующую) части «Я». Это похоже на взрослого, который наблюдает за ребенком как бы со стороны безразлично, не разделяя его переживаний. Без диссоциации нельзя было бы вынести боль или сильный страх.
Функции отщепленного тела
Тело встает на место жертвы насилия. Тело как контейнер
Жертвы травматизации совершенно беспомощны, они – мячики для игры и вещи для агрессора, который может творить все что угодно (в том числе и с ними), поскольку у него есть власть. Основная цель диссоциации тела как следствия травмы – создать в своем теле «не-Я», чтобы иметь объект, над которым жертва, в свою очередь, обретает власть, с которым она может обращаться по своему усмотрению в грандиозной идентификации с агрессором, подражании ему (ср.: Hirsch, 1996). Жертва становится властным агрессором, диссоциированное тело – жертвой. Артур Гольдшмидт (2007) выражает эту мысль даже дважды: «С телом можно делать что угодно…» (S. 187); «С телом можно было, напротив, делать что угодно» (S. 204). То же говорят и упрямые девочки-подростки о своем самоповреждающем поведении: «Это мое тело, и я могу делать с ним что хочу!». Это типичное высказывание и дало название книге. Или же они говорят: «Это мои руки, я делаю с ними что пожелаю и когда пожелаю!» – как это выразила пациентка Подволла (Podvoll, 1969, S. 220). Многие отцы-насильники и агрессивные матери тоже говорят: «Это мой ребенок, и я могу делать с ним что захочу!». Беате-Теа была жертвой такого отца[4].
Представление Шенгольда (Shengold, 1979) о вертикальном расщеплении частей «Я», обособлении как попытке совладать с травмой (аналогия с теориями диссоциации Жане уже упоминалась) хорошо применима к диссоциации «Я» и тела. В литературе тело обозначалось и как контейнер (Meltzer, 1986; Bovensiepen, 2002; Pollak, 2009), и как «не-контейнер» (Gutwinski-Jeggle, 1995). По этой модели тело становится сосудом, который вбирает в себя травматическое насилие, место, в котором травматический интроект вновь становится материальным, так сказать, экстернализируется в тело. Но если подумать о модели контейнера в категориях отношений, то оно обретает функции объекта. Оно словно тело того ребенка, ставшего когда-то жертвой насилия или агрессии, которое освобождает остальные части «Я» от идентичности жертвы. Такое понимание встречалось у Плассмана (Plassmann, 1989) в связи с искусственно вызванными заболеваниями. Подобно тому как пациентка искусственно вызывает болезни, есть матери, которые вполне сознательно вызывают у своих детей искусственные, зачастую опасные для жизни болезни: это замещающий синдром Мюнхгаузена, в динамике которого мать регулярно лжет (выступая Мюнхгаузеном), т. е. нуждается в ребенке и его заболевании настолько, что боится раскрытия истинной причины его болезни. В абьюзивных семьях ребенок (или дети) зачастую становится тем, кому адресовано содержащееся в семье насилие, его своеобразным контейнером. Динамику девочек-подростков, склонных к самоповреждению, можно понять именно так: девочка производит обмен ролями «преступник – жертва», делая жертвой свое тело. Теперь она агрессор, а не жертва, она не беспомощна и не должна подчиняться, она может принимать решения и обретает власть, которой у нее нет в других ситуациях.
Тело как суррогат матери
Это происходит с каждым маленьким ребенком (по меньшей мере, в нашей культуре), который начинает воспринимать себя отдельно от матери и должен прийти к болезненному пониманию того, что утратил свое всевластие, которым иллюзорно обладал в слиянии с матерью, пока еще верил, что по собственной воле организует и контролирует материнское окружение. Разочарованный ввиду своей прогрессирующей способности к реалистичному восприятию и ментализации, ребенок создает у себя в фантазии суррогатный объект, над которым у него есть власть, который он может использовать как спутника, как утешение, в конце концов, как суррогат матери. Винникотт (Winnicott, 1971) совершил гениальное открытие, выяснив значение знаменитого плюшевого мишки. Конечно, это может быть и другой объект – куколка или одеяло, в любом случае объект этот мягкий, но это не сама вещь, а, скорее, фантазия, которая в ней воплощается. Винникотт расширил эту идею и перенес ее на область игры вообще, а оттуда – на креативную деятельность человека вплоть до религии – все эти создания можно понимать как переходные объекты, которые помогают человеку выживать психологически. Переходный объект маленького ребенка помогает ему заснуть. Когда ему уже нельзя лежать рядом с матерью, чтобы безопасно совершить тяжелый переход от бодрствования ко сну, тогда по меньшей мере переходный объект должен выполнить эту функцию – для многих детей заснуть без медвежонка немыслимо.
Более или менее патологическим образом собственное тело тоже может использоваться как переходный объект. Например, кто-то перед сном задумчиво трогает контур своего тела вновь и вновь, будто проверяя, целое ли оно, а потом спокойно засыпает.
Одного пациента, исполнившего свою детскую мечту стать капитаном (чтобы управлять огромным материнским кораблем), в детстве сильно бил отец. Он рассказал, что перед тем, как заснуть, он не укрывался в нетопленой комнате. Так он мог чувствовать, как мерзнет тело, и одновременно продолжал дело отца и наказывал себя сам. Уже Карл Филипп Моритц (Moritz, 1785/1972, S. 29) видел связь между самоповреждением, деперсонализацией и заботой о себе.
Сама мысль о собственном разрушении была ему не только приятна, она даже вызывала сладострастное ощущение, когда по вечерам он прежде, чем заснуть, живо воображал себе распад собственного тела.
Есть и другое измерение: тело берет на себя функцию объекта не только агрессии, когда посредством самоповреждения и истощения при анорексии оно становится идеализированным материнским спутником. В соответствующих главах я к этому вернусь. Собственное тело как объект в рамках психоаналитической травматологии занимает меня уже давно (Hirsch, 1989a, 1998a, 2002a). У многих пациентов, страдающих болями, можно наблюдать, что посредством боли тело становится ощутимым, оно существует, присутствует и таким образом становится своего рода спутником и, соответственно, особенно при длительной терапии, пациенток можно уличить в том, что они совсем не хотят избавляться от своей боли, мечтают сохранить ее, чтобы не остаться без нее в одиночестве (Hirsch, 1989c). И даже в случае семейного насилия, будь то насилие сексуальное, физическое или же (эмоциональное) пренебрежение: все было бы слишком просто, если бы агрессор был представлен в психике ребенка, а затем и взрослого пациента исключительно негативно. Ребенок бы не выжил, если бы отец и мать были исключительно врагами и насильниками – всегда есть и положительные черты. А посредством идеализации и идентификации с агрессором образ неудовлетворительных родителей становится более приемлемым. Ни один из детей, которые подвергаются насильственному обращению, не может отказаться от родителей, он не хотел бы добровольно покинуть семью (если не принимать во внимание экстремальные случаи, но в таких семьях ребенка можно обозначить как суицидального, ему уже безразличны как связи с родителями, так и связи с жизнью). Социальный работник, который желает ребенку добра и хочет забрать его из абьюзивной семьи, получит от ребенка своего рода подножку. Так же и пациентка держится за свое болящее или кровоточащее тело, потому что иначе она якобы окажется совсем одна. Кроме того, в восклицании «Это мое тело!» содержится бунтарский триумф, позитивный момент власти, ведь некоторые девочки выставляют свои вызванные самоповреждением шрамы напоказ с гордостью, словно амулет (Paar, DKPM-Frhjahrstagung, 1992), но чаще всего девочки эти шрамы все же скрывают. В любом случае анорексички гордятся тем, что создали в своем, уже стоящим на краю могилы теле антимать, не-мать, диаметральную противоположность матери с ее презираемым жирным телом.
Тело как переходный объект
Даже собственное тело может использоваться как переходный объект: это известно с тех пор, как Джон Кафка (1969) опубликовал работу «Тело как переходный объект: психоаналитическое исследование самоповреждающего поведения пациента». Пациентка Кафки сравнивала кровь с «одеялом безопасности», мягким «одеяльцем», которое используется подобно плюшевому мишке. Пациентка говорит: «Пока у нас есть кровь, мы в определенном смысле носим это потенциальное „одеяло безопасности“ с собой, оно дает тепло, словно защитная оболочка» (S. 209). Одна пациентка выразила материнскую функцию собственного тела следующим образом: она рассказала, что страстно хочет танцевать, причем в одиночестве. Тогда она могла бы переживать счастливые эмоции, связанные с телом, чувствовать себя будто мать, которая держит на руках младенца. В этом состоянии она отделена от тела, которое танцует в одиночестве: «Я могу передать себя ему, тогда я исполню желание симбиоза с самой собой». Она закрывает глаза, ей больше никто не нужен. Ощущение всемогущества и независимости, триумфа описывает Кернберг (Kernberg, 1975, S. 149): «У многих пациентов с тенденциями к самоповреждению, которые пытаются освободить себя от напряжений любого рода посредством причиняемой себе боли (тем, что режут себя, обжигают кожу и т. д.), можно наблюдать искреннее желание к саморазрушению и огромную гордость за обретенную посредством него власть, своеобразное ощущение всевластия и гордости за то, что не нужно прибегать к помощи других, чтобы достичь удовлетворения». К идее замещения матери переходным объектом я добавил еще кое-что (Hirsch, 1989b, S. 18): «Переходный объект должен обеспечить не только утешение перед лицом одиночества и объединения с хорошей матерью, он служит и защитой от „плохой“ преследующей матери. Если эта защита создана самостоятельно, возникает прекрасное чувство – ты не подчиняешься никому, что, кстати, выражается в форме отказа от отношений с внешними объектами, особенно терапевтами. Эти внешние материнские объекты, которые хотят и при этом не могут помочь, должны чувствовать свою беспомощность, соответствующую всему масштабу всемогущества пациента». Этот – мазохистский – триумф над материнским объектом, наряду с самоповреждающим поведением, имеет место при анорексическом расстройстве, как мы увидим ниже, где истощенное тело становится самостоятельно созданной анти матерью, триумфальным антагонистом реальной матери, тело которой ни в коем случае не должно стать образцом для растущей девушки. А при булимии пища становится (переходным) объектом, над которым у «Я» есть абсолютная власть.
Использование тела для установки границ
Третья функция тела, которое подвергают дурному обращению, – это установка границ. Причиняющее боль, поврежденное тело служит тому, чтобы отстранить от тела объекты, переживаемые как интрузивные (например, партнера, собственных детей, других близких). Так, болезненная и мокнущая экзема держит партнера на расстоянии. В то же время впечатляющее, быстро успокаивающее действие самоповреждающего поведения, которое мы уже упомянули выше, объясняется тем, что болезненная, кровоточащая поверхность тела становится ощутимой и таким образом образует границу «я-тела», суррогат границы «Я», искусственную границу тела, которая должна, словно протез, защищать границу «Я» от опасности дезинтеграции. Она как «вторая кожа» (Bick, 1968), искусственно созданный корсет, который предотвращает вызывающую страх дезинтеграцию «Я». Эстер Бик, которая исходит из понятия недифференцированного психосоматического «Я», считает, что части психики не отделены от частей тела, а должны удерживаться вместе с помощью кожи как внешней границы. Анзьё ссылается на Бик.
Внутренняя функция удержания частей «Я» вместе является следствием интроекции внешнего объекта, который может держать части тела. Этот контейнированный объект обычно переживается младенцем при грудном вскармливании двойственным образом: как переживание материнской груди во рту и в то же время как ощущение собственной кожи, которая удерживается кожей матери, держащей его тело, ее тепла, ее голоса, ее знакомого запаха. Контейнированный объект переживается конкретно, как кожа. Если контейнированная функция интроецирована, ребенок может обрести представление о внутреннем «Я» и разделенности «Я» и объекта – каждый в своей коже. Если функция холдинга исполняется матерью неадекватно <…>, ребенок не интроецирует ее и вместо нормальной интроекции возникает длительная патологическая проективная идентификация, которая ведет к нарушениям идентичности. Состояния неинтеграции сохраняются (Anzieu, 1985, S. 250).
Тройственная функция диссоциированного тела, или «я-тела», тела как части «Я», как внешнего объекта и как органа-границы также отмечается Анзьё (там же, S. 127) в связи с теорией границ «Я» Пауля Федерна. Терапевтические интервенции нацелены на то, чтобы усиливать границы «Я», исправлять ложные реальности и «правильно использовать тестирование реальности». Этот вид терапии в конце концов должен придать «ясность в отношении тройственного статуса тела пациента: как части „я“, как части внешнего мира и как границы между „я“ и миром».
Диссоциация тела в ситуации травмы (перитравматическая диссоциация)
Хотя диссоциация «Я» и тела повсеместна и повседневна, ее патологические формы возникают в результате тяжелых травматизаций. Диссоциация служит защитой от всепоглощающего страха уничтожения. Она возникает и в ситуации травмы как непосредственная реакция на актуальное травматическое событие, и позднее, в аналогичных травме ситуациях, когда возникает похожий страх уничтожения, от которого требуется защититься. Целые области психики отделяются от «Я» и становятся управляемыми, так как за расщеплением следует их отрицание и отвержение: это касается таких областей, как память, аффекты, символизация. Так же и телесное «Я» отделяется от психического или целостного «Я». Иными словами, часть приносится в жертву, чтобы спасти целое. Идею расщепления тела можно найти уже в конце XIX века у Жане: «Теория диссоциации Жане <…> утверждает, что как соматоформные, так и психические составляющие опыта, реакций и функций могут быть закодированы в подсистемах психики, чтобы избежать интеграции в целостную личность» (Nijenhuis, 2004, S. 97). Это защитная функция диссоциации как расщепления. С другой стороны, диссоциация может описывать некое состояние, а именно не слишком удачную попытку справиться с травматическим опытом или его эквивалентом в дальнейшем, в ситуациях, запускающих диссоциацию. В этом случае речь идет об измененных состояниях сознания, таких как амнезия или транс, вплоть до расщепления частей личности, и в это частично вовлекается тело. Например, переживания деперсонализации нередко являются переживанием деформации тела или его частей.
Беате-Теа Тидерманн увидела по телевизору фильм, где речь шла о сексуальном насилии. Если бы она знала об этом заранее, она бы не стала смотреть фильм, но насилие там было представлено так деликатно, что она досмотрела фильм до конца. Насилие – это ее тема, она даже не знает, как это объяснить… После фильма она чувствовала себя нехорошо и переживала странные состояния, ее тело изменилось, стало бесформенным в одном месте и скукожилось в другом. Тогда же возникло чувство, что голову защемило. Когда она ощутила, куда выросло тело в ее представлении, у нее возникло чувство, что оно действительно там, хотя она знала, что его там нет. Мне вспоминается картина, как я говорю ей: «Чувство деформации тела представляется мне так, будто амеба скручивается, отодвигает свое одноклеточное тело, чтобы избежать опасности, захвата». Тогда пациентка говорит: «Сейчас я думаю о ситуации три года назад, т. е. тогда я была уже взрослой. Это было во время приема у отца, который посадил меня к себе на колени на террасе так, что моя грудь оказалась у него в руках, а когда другой гость это заметил, отец сказал: „Я имею права подержать за грудь собственную дочь…“ Тогда я совершенно отключилась, не могла ничего сказать и позволила делать это со мной, а если бы меня тогда спросили, правильно ли это, я бы ничего не возразила против его действий». Только часть ее, которую она называет «другая», терроризирует, протестует, не позволяет себя подавлять, обращает на себя внимание, причиняет ей боль и парализует, так что она не может ходить на работу. Эта часть не оставляет ее в покое. Пациентка рассказывает о диссоциативных реакциях как в самой ситуации насилия, так и в реакции на актуальные события, которые сталкивают ее с темой насилия.
К этим состояниям диссоциации, при которых отщепляется тело, относятся также конверсия, ранее известная как истерия, и формы соматизации. Непросто собрать все эти разнообразные психические состояния и телесные реакции, т. е. диссоциативные переживания тела, в нозологическую общность. Сегодня царит убеждение, что объединяет их этиология, т. е. травматизация. Хофманн с соавт. (Hoffmann et al., 2004, S. 127) поднимают вопрос о том, существуют ли диссоциативные нарушения, истерическая конверсия и соматизация параллельно в смысле ко-морбидностии их возникновения или же (с чем я склонен согласиться) сегодня стоит «расширить список расстройств, примыкающих к диссоциации (симптомы конверсии, диссоциативные симптомы вплоть до диссоциативного расстройства личности) <…> за счет общего генезиса в смысле этиологии травмы, и включить в этот ряд и другие расстройства. Речь здесь идет <…> в первую очередь о посттравматических стрессовых расстройствах, комплексном посттравматическом стрессовом расстройстве, пограничном расстройстве личности и расстройстве соматизации. Различные картины расстройств <…> составляют здесь своего рода феноменологически дифферентный континуум различных нозологических субъединиц, объединяемых общей этиологией, хотя масштаб травматической составляющей в любом случае варьируется».
Исследователи видят «иерархию, которая простирается от диссоциации как нарушения функций сознания через конверсию (нарушения функции сознания и телесных функций) до соматизации как расстройства исключительно телесных функций» (там же, S. 126). Кохут (Kohut, 1971) различает горизонтальное и вертикальное расщепление: эта оппозиция маркирует разницу между более динамическим пониманием вытеснения у Фрейда (так сказать, сверху вниз) и пониманием диссоциации у Жане, который представлял различные разделы личности скорее дескриптивно (ср.: Hoffmann et al., 2004, S. 114 и далее). Шенгольд (Shengold, 1979) использовал понятие вертикального расщепления при травматизации: он говорит о компартментации как попытке совладать с травмой. Отщепленное «я-тело» я бы понимал как один из таких разделов, как субсистему, в которую смещается травма, чтобы сохранить психическое «Я» и выжить.
Особенно впечатляют рассказы о диссоциативных телесных феноменах, которые возникают при травматизации. Жертвы «в определенной мере покидают свои тела» и «наблюдают нарушение телесной целостности будто со стороны» (Dulz, Lanzoni, 1996, S. 20). Об этом пишет Джулиана Сгрена, которая провела четыре недели в плену в Ираке в 2005 году.
Парить между жизнью и смертью. Надежда сменяется отчаянием, иллюзия – разочарованием. 24 часа в сутки наедине со своими мыслями, я иногда боюсь сойти с ума. Все, что окружает меня в плену, реальное и вымышленное, я интерпретирую как послание жизни или смерти. Я классифицирую каждый звук, анализирую каждое событие, каждый взгляд. А когда мои мысли заигрывают со смертью, у меня порой возникает чувство, что я действительно расстаюсь с жизнью: я вдруг перестаю чувствовать свое тело, как будто оно отделилось от духа, я начинаю смотреть на себя со стороны. Но в этом чувстве нет ничего трансцендентального, оно больше похоже на стратегию защиты: возможно, мне это нужно, чтобы исторгнуть смерть, или же это попытка сбежать из темной комнаты, в которой заключено мое тело. Спустя несколько минут это чувство изменяется, оно становится еще неприятнее. Когда я вздрагиваю, я чувствую ледяной холод в ступнях и по кусочкам снова начинаю чувствовать тело. В эти моменты я нахожу это даже успокаивающим, когда я, укутанная в гору одеял, начинаю потеть: я жива (Sgrena, 2005, цит. по: Süddeutsche Zeitung 02.02.2006).
То же мы встречаем и в рассказе о жертве швейцарской системы воспитания, в которой дети овеществлялись, царившей вплоть до 1970-х годов.
Кэти четыре года, когда она оказывается в приемной семье. Ее опекун – толстый крестьянин, который в первую же ночь бьет Кэти по голове, потому что она плачет. Приемная мать отводит глаза. «Здесь, – Катарина Клодель кладет свои мягкие пальцы на картины на стене, показывает на окно, за которым Кэти били, год за годом, – из окна я видела церковный шпиль, и, когда удары были слишком сильными, я думала, что моя голова висит там, на шпиле» («Овеществление и вытеснение» / Verdingt und Verdrngt, Süddeutsche Zeitung 19.10.2009).
Другой пример приводит Варис Дирие[5] (1998, S. 70), описывая обрезание, которое ей пришлось пережить в пятилетнем (!) возрасте.
Мои ноги тем временем совершенно онемели, но боль в паху была такой жуткой, что я хотела только умереть. И вдруг я почувствовала, что вознеслась над землей, оставила свои муки позади и смотрела на эту сцену сверху, видела, как эта женщина латала мое тело, пока моя мать держала меня, извивающуюся. В тот момент я чувствовала только совершенное умиротворение – ни заботы, ни страха.
В литературе о травмирующем воздействии сексуального насилия есть целый ряд описания отключения (tuning out), аффектов и диссоциации тела во время нападения (ср.: Hirsch, 1987, S. 105). Переживания жертвы описываются так: «Я не могу это выносить… это безумие… а я такая маленькая… могу только позволить этому происходить… Крушение… Разрушение слабого» (Eist, Mandel, 1968, S. 230). Жертва сбегает в состояние отключки, в котором уже нельзя доверять своим чувствам. Похожим наблюдением делился уже Ференци (1933, S. 518): «Одолевающая сила авторитета взрослого делает ребенка немым, отбирает у него чувства». Писательница Хербьерг Вассму (Wassmo, 1981, S. 138) описывает защитный механизм жертвы следующим образом:
Единственная помощь <…> состояла в том, что у нее появилось время очнуться, защититься, сделаться бесчувственной перед тем, что ей предстояло, и отделиться от тела в кровати, как от старой одежды.
Пациентки из моей практики часто рассказывают об этом отключении чувств: они либо оставались «пассивными и неподвижными», либо становились «твердыми, как доска». Одна пациентка говорила: «Когда страдание стало слишком сильным, я забавным образом почувствовала себя спокойной и пустой». Экардт-Хенн (Eckardt-Henn, 2004, S. 288) рассказывает похожее: «Молодая девушка <…> долго описывала своего отца, который с шестилетнего возраста принуждал ее к оральному сексу, как любящего и заботливого мужчину. „Он был таким нежным <…>, а когда он стал таким отвратительным <…> и во мне была эта мерзкая штука <…>, тогда появились эти состояния, и я могла как птичка вылетать из себя. Моя голова была отделена, и то, что происходило, происходило не со мной. Мне казалось прекрасным, что он был так нежен, и все было в порядке“».
Когда психический аппарат переполнен страхом, необходимы масштабные и искажающие душевную жизнь операции, чтобы ребенок был в состоянии продолжать думать и чувствовать. Во время остро травмирующих событий человек может лишиться сил или отрезать чувства. При повторяющихся травмах этот механизм становится хроническим. Происходящее так ужасно, что его нельзя почувствовать и зафиксировать – человек предпочитает масштабную изоляцию чувств на фоне смятения и отрицания (Shengold, 1979, S. 538).
Наблюдения такого рода появились давно: у же Ференци (Ferenczi, 1933, S. 519) говорит о состоянии «травматического сна», в котором акт нападения перестает существовать «как жесткая внешняя реальность». В результате во время травмирующей ситуации и впоследствии, в качестве привычки, рождается «механически послушное существо», которого мы знаем из творчества Патрика Зюскинда. Шенгольд (Shengold, 1979, S. 538) обозначает это состояние как «гипнотическое состояние жизни – смерти», жизни «понарошку». Как это понимал уже Ференци, смысл таких экстремальных мер очевиден: без них насилие породило бы всепоглощающие, разрушительные чувства страха, гнева, уничтожения и покинутости, которые заполонили бы и разрушили бы «Я». Если не получается отключиться, возникают реакции, описанные Вассмо (Wassmo, 1981, S. 152 и далее): «Однажды вечером дверь так внезапно заскрипела, что у нее уже не было времени покинуть тело и уплыть в мыслях за окно. Торе пришлось воспринимать все, что с ней происходило. Тогда она начала хныкать, стонать и изгибаться. Она не смогла лежать неподвижно, чтобы этим вечером все опять быстро закончилось. Она не могла совладать с собой». Это беспокойство и самооборона смутили насильника и пробудили в нем агрессию, так что вместо привычных посягательств он перешел к изнасилованию. «Мягким, мягким было сопротивление, оно просило о пощаде и поддавалось. Потом все прорвалось. Тора чувствовала это вне себя, не знала, где это началось и закончилось, это не было связано с ее подлинным „Я“. <…> Она поняла, что это была отвратительная реальность. <…> Она осталась лежать в согнутом положении и хватала ртом воздух, пока не смогла наконец снова дышать. Она лежала на краю кровати, разделенная надвое. Нижняя половина была другим человеком».
Двухэтапная защита: диссоциация как защита от эквивалента травмы и отщепление тела как защита от состояния диссоциации
Я хотел бы ввести понятие двухэтапной защиты, последовательные фазы которой не так легко различить, потому что термин диссоциация используется для обоих. Мы узнали о диссоциации в качестве защитного процесса, спасения или попытки спастись от разрушительных последствий самого травматического воздействия. Впоследствии травмированные люди очень чувствительны к, в общем, безвредным стимулам, которые, однако, приобретают огромное значение из-за некоторой связи с первоначальной травматизацией. Аарон Аппельфельд (Appelfeld, 1999/2005) приписывает эту уязвимость памяти тела (можно назвать ее процедуральной, или травматической, памятью).
Из военных лет у меня осталось всего несколько воспоминаний, как будто это длилось вовсе не шесть лет. <…> Вот и все о том, что принято называть сознанием. Но руки, ноги, спина и колени знают больше, чем память. Если бы я мог что-то создать из них, картины заполонили бы меня (S. 8 и далее).
Все, что произошло в то время, было запечатлено в клетках моего тела. Не в памяти (S. 95).
Память, похоже, имеет длинные корни в теле. Иногда запаха гнилой соломы или птичьего крика достаточно, чтобы забросить меня вглубь себя (S. 57).
Уже Ференци (Ferenczi, 1921, S. 211) говорил о памяти тела, которая постулирует «„систему памяти эго“, перед которой стоит задача регистрировать собственные телесные и соответствующие психические процессы». В дальнейшем он обозначает систему, которую я называю памятью «Я», как память тела, которая регистрирует и хранит психические и физические события из истории «Я». Кроме того, он говорит о воспоминаниях, связанных с болью (S. 214), и называет это «системой памяти „Я“» и «системой памяти органов» (см.: Hirsch, 2002c).
Опять же, как и в травмирующей ситуации, возникает панический страх, от которого, в свою очередь, нужно защититься: через диссоциацию, психическое дистанцирование, отключение, через «травматический транс». Однако это диссоциативное состояние может стать настолько угрожающим и невыносимым, что от него тоже нужно будет защититься. И это происходит через расщепление аффектов или, в первую очередь, самого «я-тела» (путаницу вносит то, что здесь также говорится о диссоциации «я-тела»). Представьте себе пациентку-подростка, травмированную в детстве и испытывающую связанный с травмой невыносимый диффузный страх, из-за которого реальность грозится ускользнуть от нее и который на самом деле является страхом разрушения «Я», дезинтеграции и кошмарной пустоты. Это состояние соответствует первоначальной травмирующей ситуации и борьба с ним ведется теми же средствами: расщеплением частей «Я», т. е. диссоциацией как механизмом защиты. Но если итоговое состояние снова невыносимо, вторая фаза защиты вступает в силу: при отщеплении тела создается «другой», которого можно использовать для облегчения страданий «Я». Это расщепление позволяет воздействовать на тело, что может привести к большому облегчению. Таким образом, двухфазную защиту можно охарактеризовать следующим образом: диссоциативное состояние (отключение, травматический транс) отгоняет чрезмерный страх перед психотической дезинтеграцией, а если диссоциативное состояние, в свою очередь, невыносимо, то посредством расщепления «я-тела» от него можно защититься агированием в отношении тела. (Это мнение разделяет Эккардт-Хенн, личное сообщение, 2006.) Подросток теперь мысленно отделяет свое тело и использует его как внешний объект; акт самоповреждения действует как внутривенная инъекция психотропного препарата (Sachsse, 1994) против невыносимых состояний напряжения. Искусственно вызванные заболевания и приступы патологического пищевого поведения обладают столь же успокаивающим, стабилизирующим эффектом. Другие патологические явления также основаны на расщеплении «я-тела» или репрезентаций частей тела или органов. Я бы причислил к таким проявлениям ипохондрию, дисморфофобию, фиксированные расстройства питания, такие как подростковая анорексия, психосоматические заболевания и расстройства соматизации.
Пожертвовать частью, чтобы спасти целое
Ференци (Ferenczi, 1921, S. 216) понял смысл расщепления репрезентативных частей уже на раннем этапе развития психоанализа. Он сравнивает саморазрушительные телесные привычки, такие как склонность к расцарапыванию кожи и самоповреждению, с «автотомией» некоторых более примитивных животных (см. также: Hirsch, 2002b), которые жертвуют частью тела, чтобы спасти все тело. Ференци уже тогда рассматривал феномен расщепления «я-тела» (там же, S. 221). Он описывает состояние каталепсии, «при котором даже собственное тело воспринимается как нечто чуждое „Я“, как элемент внешнего мира, судьба которого совершенно безразлична обладателю тела». Конечно, в качестве примера «низших животных» сразу приходит в голову ящерица, которая жертвует своим хвостом в поисках безопасности. Для нее это несложно, ведь хвост снова отрастает. В «Детском анализе со взрослыми» Ференци описывает пациента, который «<просыпается…> от травматической комы с нечувствительностью и трупоподобной бледностью одной руки. Нетрудно было обнаружить смещение всех страданий, даже умирания, на одну часть тела. Трупная бледность руки стала репрезентацией всего страдающего человека и окончанием его борьбы в бесчувственности и умирании (Ferenczi, 1931, S. 506 и далее).
Принцип принесения в жертву части для спасения целого Куттер (Kutter, 1980) впоследствии применил к психосоматике. Он говорит о «репрезентациях ампутированной части тела» и пишет: «Части репрезентаций тела приравниваются к объекту, подобно жертве для спасения себя» (Kutter, 1981, S. 55). Пациент Куттера говорит: «Я предложил родителям сожрать мою печень. Вот как я спас себя» (там же). В письмах Франца Кафки к его невесте Милене (см.: Gutwinski-Jeggle, 1997) есть отрывок, в котором описывается именно это расщепление. Кафка пишет в апреле 1920 года: «Объяснение, которое я в моем случае дал болезни, подходит <…> ко многим другим случаям. Мозг больше не мог выносить беспокойство и боль, возложенные на него. Он сказал: „Я сдаюсь. Если есть кто-то здесь, кто еще заботится о сохранении целого, тогда он может освободить меня от моего бремени, и тогда можно еще продержаться“. Добровольцем выступило легкое, ему особо нечего было терять. Эти переговоры между мозгом и легким, которые происходили без моего ведома, возможно, были ужасными» (Kafka: Briefe an Milena, 1994, S. 7). Мы знаем, что Кафка страдал от туберкулеза и в итоге пал жертвой этой болезни.
В не слишком известном фильме «Тень и туман» Вуди Аллена 1992 года друзья в борделе рассуждают о своем отчаянном социальном положении, и один из героев говорит: «Так много раз мой мозг велел мне прекратить это все, ведь это не имеет смысла! Но моя кровь каждый день говорит мне: „Живи, живи!“».
Точно так же пациентка со злокачественной опухолью пыталась сделать все возможное, чтобы помочь своему организму выздороветь. Она занималась релаксацией, придерживалась здоровой диеты и узнала от своего целителя, что нужно «визуализировать» органы: она говорила с печенью, в которой уже росли существенные метастазы, гладила живот в области печени и говорила: «Ну, мы должны справиться…». Она даже беседовала со своей иммунной системой, извиняясь, что не обращалась с ней хорошо и нагрузила ее чрезмерной работой в прошлом, что не уделяла достаточно внимания тому, чтобы избежать стресса.
Яркий пример, описанный в прессе в мае 2003 года, может проиллюстрировать принцип жертвоприношения части тела во спасение целого.
Альпинист спас себе жизнь, ампутировав руку карманным ножом
Солт-Лейк-Сити. Чтобы спастись, американский альпинист принял самое сложное решение в своей жизни: Аарон Рулстон в отчаянии отрезал себе руку карманным ножом, после того как провел пять дней, придавленный валуном. Туристы нашли 27-летнего альпиниста в четверг в Национальном парке Каньонленд, штат Юта, с культей руки до локтя. «Этот парень – редкий герой», – сообщил в пятницу агентству AFP в Солт-Лейк-Сити сержант полиции Митч Ветере: «У него была воля к жизни, которой нет у других людей. Это невероятно». По словам Ветере, в субботу Рулстон отправился в поход в Голубой Каньон, где его придавил отвалившийся кусок скалы. Через пять дней молодой человек ампутировал себе руку перочинным ножом, соскочил с 21-метровой скалы и прошел еще восемь километров, пока не встретил туристов. Затем они предупредили шерифа и его коллег, которые уже прочесывали Национальный парк в поисках пропавшего без вести. После того как нашли брошенную машину Рулстона, его объявили в розыск. «Он был в сознании и полностью спокоен, хотя мы могли видеть ужасную травму, которую он себе причинил», – сказал шериф. Рулстон сам наложил себе повязку. «Единственным, что он попросил у нас, была вода». Она кончилась у него за два дня до его отчаянного освобождения. Храбрец из Аспена впоследствии сам сел на спасательный вертолет, который отвез его в больницу в Гранд-Джанкшн, штат Колорадо, на границе с Ютой. Спасатели попытались высвободить его отрезанную руку из-под валуна в пятницу» (AFP).
Дифференциация «Я», «я-тела» и внешних объектов в раннем детстве
За последние годы ни одна психоаналитическая концепция не подвергалась такому пересмотру, как первичный нарциссизм. Фрейд предполагал, что на начальном этапе развития новорожденный полностью сосредоточен на себе и своем теле и не вступает в контакт с объектами внешнего мира. Сегодня мы знаем, что новорожденный постоянно находится в контакте с окружающей средой, имеет ярко выраженную восприимчивость и различает объекты по запаху, окраске голоса или, например, сердечному ритму. Разумеется, возникает вопрос, насколько «компетентный младенец» (Dornes, 1993) способен создавать психологические репрезентации идей и значений взаимодействия, которые выходят за рамки узнавания и распознавания стимулов и реакций на них. Тем не менее Стерн (Stern, 1985) делает вывод из наблюдений младенческих взаимодействий с «ядром „Я“» и описывает так называемые RIG, интернализированные представления обобщенных взаимодействий. Но Цельниг и Бухгольц (Zellnig, Buchholz, 1990, S. 828) отмечают, что сам Стерн (Stern, 1983) предпочитал использовать термин «схема» для этих примитивных представлений, в то время как «скорее абстрактные, поддерживаемые символом внутренние репрезентации» появляются только к концу второго года жизни.
Если и есть противоречия между психоаналитическими концепциями развития и исследованиями новорожденных, их вполне можно разрешить предположением о развивающихся вплоть до высокого символического уровня представлениях о себе, в том числе о «я-теле» и о внешних объектах. Проще говоря, развитие «я-тела» означает, что концепция тела возникает на более высоком символическом уровне. Происходит дифференциация источников, например, телесных стимулов, дифференциация внешнего и внутреннего, собственного тела, неодушевленных предметов и живых объектов. Уже давно есть идеи об этой поступательной эволюции символических качеств телесных репрезентаций. Дери (Deri, 1978) предполагает, что первый уровень – протосимволический (например, сосание большого пальца), второй уровень соответствует переходному объекту и, наконец, за ним следует зрелый лингвистически-ментальный символ. Развивающаяся символическая деятельность сопровождается десоматизацией аффектов (Schur, 1955), т. е. первоначально невидимые психофизические ощущения дифференцируются в реакциях и восприятии тела и, с другой стороны, аффективных реакциях, которые принимают психический характер.
Режим аутистического касания
Можно сказать, что концепцию первичного нарциссизма сегодня сменила идея «режима аутистического касания». Хотя Огден (Ogden, 1989, S. 35) подчеркивает различие между простым физическим рефлексом и режимом аутистического касания, в котором телесные ритмы, движения, контакт с кожей, даже речь воспринимаются и каким-то образом интернализируются, он также указывает досимволический характер этого процесса (там же, S. 32). Младенец не способен к рефлексии и не образует «объект», т. е. представление об объекте. Тустин (Tustin, 1986) конструирует «адгезивное уравнение»: собственное тело приравнивается к объекту для защиты от экзистенциальных страхов растворения «Я», тело объекта – это собственное тело, которое таким образом обеспечивает безопасность. Эти идеи основаны на концепции «второй кожи», разработанной Эстер Бик (Bick, 1968, 1986). Под ней понимается конкретная фантазия о стабильной поверхности тела, призванной бороться с чувством растворения тела или его границ. Соответствующие меры включают как психосоматические реакции кожи (экземы), так и вредные привычки, такие как расцарапывание, накручивание и вырывание волос («трихотилломания»), привычка грызть ногти и «перионохомания», ритмические движения, напевание и т. д. (Мы уже знакомы с такими привычками в связи с созданием суррогата границы «Я» посредством искусственной границы тела.)[6]
Джойс Макдугалл (McDougall, 1989, S. 152) акцентирует внимание на континууме границ «Я», тела и материнского объекта, в том числе в переносе, и цитирует свою пациентку, реагирующую кожным заболеванием: «Когда я от вас далеко, по крайней мере, я знаю, что у меня есть кожа. Она говорит со мной и дает мне уверенность, что я живу в ней». Другими словами, ее страдающее тело имело функцию чужеродного переходного объекта. Ее воспаленная кожа давала ей ощущение, что она жива, что ее части удерживаются вместе, и в то же время содержала память о внешнем объекте (аналитик и их «общая кожа», которая давала ей безопасность).
Очевидно, что концепция аутистического касания очень важна для формирования границ «я-тела», а затем и психических границ «Я», в тесном взаимодействии тел матери и ребенка. Огден (Ogden, 1989, S. 51) говорит о «специфическом способе приписывания смысла опыту». Это касается «формирования досимволических связей», а также «образования ограниченных поверхностей». Необработанные сенсорные данные упорядочиваются формированием досимволических связей между сенсорными впечатлениями. Эти впечатления приводят к образованию ограниченных поверхностей» (там же). «Объектные отношения <переживаются> в режиме аутистического касания в форме сенсорных поверхностей, возникающих в результате взаимодействия индивида с его объектами и посредством сенсорных преобразований, которые происходят в процессе этих взаимодействий» (там же, S. 53). В то время как у Малера (Mahler, Pine, Bergman, 1975) реальный, действующий объект играет второстепенную роль, по крайней мере, в раннем младенчестве, Огден придает большое значение рассмотрению действующего объекта, с которым должен осуществляться поверхностный контакт, даже если зрелой символической репрезентации объекта еще нет. Речь идет о «создании форм чувственного опыта, который „лечит“ или „делает приемлемым“ осознание обособленности» (Ogden, 1989, S. 54). Если на этой стадии первичного материнства (Winnicott, 1956) окружающая среда достаточно хороша, отсутствие объекта не должно стать катастрофической угрозой, но может стать стимулом для развития мышления и деятельности. Но если окружающая среда неадекватна, возникает прикрепляющаяся, адгезивная идентификация (по Мельтцеру), которая представляет собой чрезвычайную меру, чтобы не свалиться в необозримую пустоту, «безымянный ужас». Этот термин, введенный Бионом (Bion, 1962b, S. 116), содержит подавляющий страх перед пустотой, но «безымянный» означает отсутствие символизации, которая в противном случае помогла бы преодолеть и сделать переносимым отсутствие объекта. Огден, скорее, говорит о «бесформенном ужасе» (Ogden, 1989, S. 40). Ужас соответствует «безумию младенца», как это сформулировал Винникотт (Winnicott, 1971, S. 113). Цилли Кристиансен, пациентка, купившая пакет яблок, назвала это «большим серым[7] животным».
Если мы согласимся с тем, что физический контакт – неотъемлемое условие для формирования границ и способности к символизации, то мы используем контакт с телом и поверхностью тела, кожей как точку контакта между матерью и ребенком, как метафору для формирования границ «Я». Напротив, у пациентов с серьезными нарушениями, которые были травмированы эмоциональным дефицитом, могут возникнуть конкретные идеи, например, что кожа проницаема, как сито. Пациент Огдена (Ogden, 1989, S. 40), шизофренический подросток, боялся принять душ (там же, S. 60 и далее), как будто тело могло слиться с водой: потеря его собственного запаха тела означала для него потерю себя. Каждое принуждение представляет собой «конструкцию фиксированного сенсорного контейнирования опыта <…> для сенсорного заполнения дыр в ощущении себя <…>, ведь пациент боится <…>, что через них <…> может вытечь реальное содержимое тела» (там же, S. 69). Одна пациентка Бокановского (Bokanowski, 2005, S. 22) развила в ходе анализа страх «опустошения в присутствии аналитика». Иногда у нее даже был «галлюцинаторный» «страх, что через руки вытечет вся кровь». Эти страхи, кажется, возникают все чаще.
При нарушениях на уровне аутистического касания мы снова и снова слышим от пациентов о разрушительных переживаниях, будто они протекают, распадаются или растворяются, и они переживают это так, как если бы на поверхности кожи были дыра или дыры, представляющие опасность смертельного распада (Klwer, 2005, S. 208).
Я сам (Hirsch, 2004c, S. 120) однажды имел возможность наблюдать за пятилетним ребенком, который поранился и в стрессовой ситуации несчастного случая развил этот страх «вытекания».
Ребенок едет на велосипеде по склону во время семейного отдыха, не может выдержать скорость и падает. Отец мчится к нему, ребенок ужасно кричит, у него «дыра в теле» (на колене ссадина). Отец берет ребенка на руки и держит его крепко, тем самым формируя символическую границу тела. Он подтверждает страх, но добавляет, что содержимое тела не может выбежать так быстро, и одновременно успокаивает ребенка сообщением, что дома они тут же наклеят пластырь. Двойное воздействия принятия и эмпатии, а также исправление нереалистичных аффектов собственным успокаивающим аффектом позволяют ребенку провести границу между внутренней тревожностью и внешней реальностью, дают понять, что страх потерять содержимое тела оправдан как фантазия, но не основан на реальности. Ни фраза «Перестань так думать!», ни одинаково сильный страх со стороны отца не помогли бы ребенку на этом этапе.
Я выбрал этот пример с тем, чтобы проиллюстрировать, как опекун воспринимает и признает беспокойство маленького ребенка, а также обеспечивает физический контакт, чтобы удовлетворить потребность в границах, но подавляющая сила страха смягчается благодаря взаимодействию, которое отвечает на страх метафорически, играючи устраняя его предполагаемую причину.
«Протопсихика»
Даже сегодня, несмотря на выводы исследователей младенчества, можно предположить, что в развитии «Я» и «я-тела» изначально господствует состояние психофизической необособленности. Тут можно натолкнуться на очень старые идеи. Уже в 1919 году Ференци в очередной раз раньше других говорит о «протопсихике», т. е. психофизическом единстве, и понимает истерическую конверсию как регрессивное обращение к изначальному жестовому языку, «знаковой магии» в качестве первоначальной символики тела. Как это часто бывает, Ференци не цитируют, когда аналитики последующих поколений используют его идеи. Анна Фрейд (Freud А., 1978, S. 2912) считает, что «в самые ранние годы существует единство между телом и духом». Бион (Bion, 1961, цит. по: Gutwinski-Jeggle, 1997, S. 142) рассуждает о «протоментальной системе <…>, в которой соматическое и ментальное <…> не дифференцированы». Гаддини исходит из идеи психофизического функционального континуума (Böhme-Bloem, 2002). Представитель школы Маргарет Малер Эрнест Кафка (Kafka, 1971) говорит о «гипотетическом недифференцированном состоянии», о «неразделенной психосоме». В дальнейшем важно развить отдельные структуры из этого неразделенного состояния. Младенец приобретает первое представление о себе как о теле, открывая различие тактильных ощущений в контакте собственного тела с другими предметами. Таким образом, в начале формирования «Я» присутствует и опыт границ, а именно опыт границ собственного тела, и открытие первого внешнего объекта в собственном теле, которое принадлежит как «Я», так и внешнему миру. Фрейд (Freud, 1923b, S. 253) сформулировал эту идею в «Я и Оно»: «Прежде всего, „Я“ является физическим». «Прежде всего» подразумевается хронологически, первая концепция «Я» возникает благодаря телу, представлению о «я-теле».
Собственное тело, и особенно его поверхность, – это место, из которого могут исходить одновременно внешние и внутренние переживания. Оно рассматривается как сторонний объект, но дает осязанию двойственные ощущения, одно из которых можно приравнять к внутреннему восприятию. В психофизиологии достаточно много обсуждалось, как собственное тело выделяется из мира восприятия. Боль также, похоже, играет определенную роль, а то, как болезненные расстройства дают новое знание об органах, можно считать образцом того, как вообще возникает идея собственного тела (там же).
Младенец, так сказать, с удивлением обнаруживает, что имеет значение, касается ли он предмета и замечает ощущение на руке или же касается части собственного тела, вызывая двойное тактильное ощущение как в касающейся, так и в затронутой касанием части тела. Это различие, вероятно, будет первым шагом к способности различать внешние объекты и себя (сначала тело). Еще до Фрейда Виктор Тауск (Tausk, 1919, S. 20) говорил о «стадии развития, на которой собственное тело было предметом поиска объекта». «Это должно быть время, когда ребенок открывает собственное тело по кусочкам как внешний мир, хватая свои руки и ноги как посторонние предметы. В это время все „происходит“ только от собственного тела, его психика <мы бы скорее сказали „Я“> является объектом стимуляции, которая очень часто осуществляется собственным телом, а также посторонними предметами».
В своей знаменитой и важной работе «О развитии аппарата влияния при шизофрении» Тауск объясняет бредовые представления многих пациентов о том, что на их мысли и чувства влияет внешний аппарат проекцией частей тела вовне. Это не имеет никакого отношения к психоаналитической инстинктивной психологии, как подчеркивает Анзьё (Anzieu, 1974, S. 134), речь идет не о генитальной и прегенитальной сексуальности, а о «диссоциации образа тела у субъекта». Таким образом, Тауск был настоящим первооткрывателем феномена диссоциации тела, потому что пациенты отделяли части своей телесной репрезентации, чтобы иметь возможность проецировать их. «Проекция собственного тела восходит к стадии развития, в которой собственное тело было предметом поиска объекта» (там же). Позднее Лихтенберг (Lichtenberg, 1983, S. 116) снова взял на вооружение формулировку Фрейда о первом самовосприятии во время прикосновения одной части тела к другой. Этому процессу приписывается интегративная функцию: действия тела «расширяют область представлений о себе, усиливая тот образ восприятия, когда одна часть „Я“ получает статус „объекта“, а другая в ситуации умеренно высокого эмоционального напряжения сохраняет статус „агента“». Интеграция этих двух аспектов самого себя (возбужденного и ласкового, ощущающего и действующего, так сказать, преступника и жертвы) в единое целое способствует опыту самосознания как «„места“, „контейнера“, в котором есть и „Я“ как объект, и действующее „Я“». Таким образом, деятельность собственного тела должна, как правило, брать на себя функции, которые раньше принадлежали материнской части диады «мать – дитя», и я думаю, что саморазрушительное отыгрывание на уровне тела происходит именно на фоне этого процесса, переросшего в патологию и содержащего деструктивный гнев. Даже в случаях самоповреждения «Я» делится на действующую и пассивную часть, сносящую такое обращение. Однако оно приводит не к интеграции, не к расширению «представлений о себе» – происходящее между «преступником и жертвой» служит лишь разрядке чрезмерного напряжения.
Дифференциация «Я» и объекта
При оптимальном развитии младенца в ребенка дифференциация репрезентаций себя и тела не означает длительного расщепления, но, на мой взгляд, способствует интеграции в общее понятие «Я», в котором телесное и психическое «Я» разделяются, но остаются связанными. Благодаря этой интеграции тело становится своего рода ненавязчивым компаньоном (см.: Hirsch, 1989a), присутствие которого считается само собой разумеющимся. «„Я“ основано на „я-теле“, но только тогда, когда все идет хорошо, личность младенца начинает связываться с телом и физическими функциями, а кожа становится ограничивающей мембраной. Чтобы описать этот процесс, я использовал термин персонализация, потому что сущность «деперсонализации», по-видимому, означает потерю твердого союза между „я“ и телом» (Winnicott, 1962, S. 76 и далее).
Если образование границ тела нарушается в неадекватной материнской среде, то дифференциация между «Я», телом и внешним объектом не происходит или же происходит не до конца. Физические ощущения, такие как боль и «душевная боль», аффективные реакции, такие как беспокойство, боль сепарации, горе или гнев, недостаточно дифференцированы и не воспринимаются как обладающие отчетливым внутренним или внешним происхождением, исходящие от тела или же от материнского объекта. Результатом является постоянная потенциальная диссоциация «Я» и «я-тела», подобно заранее определенной точке разлома, которая может быть регрессивно использована в целях защиты и которая снова и снова используется в стрессовых ситуациях. Винникотт (Winnicott, 1966, S. 514) также говорит: «Расщепление психики и сомы является регрессивным <sic!> феноменом, в котором архаичные атавизмы используются при построении защитной организации. Напротив, тенденция к психосоматической интеграции является частью движения вперед в развитии». Уже Шильдер (Schilder, 1935) признал, что образование «я-тела» зависит от «достаточно хорошей» (Винникотт) материнской среды. Оно требует интуитивной поддержки со стороны материнской фигуры, которая адекватно удовлетворяет потребности ребенка и реагирует на его физические состояния извне. Макдугалл (McDougall, 1989) говорит о необходимости диалога с матерью, чтобы границы тела и особенно функцию отверстий в теле можно было символизировать. Травматические нарушения во время формирования границ тела можно рассматривать как пренебрежение регулированием невыносимых состояний напряженности извне или как чрезмерную травматическую стимуляцию, т. е. неадекватное воздействие на организм и его функции, которые не отвечают потребностям ребенка. Если сначала мать «обладает» телом ребенка, как выразился Гризер (Grieser, 2008, S. 126), т. е. мать может сказать: «Тело ребенка – мое!», – то впоследствии, в восприятии и матери, и ребенка перед ней встает задача постепенно дать телу ребенка свободу или же все более и более предоставлять его «Я» самого ребенка (Kutter, 2001, S. 153). В результате возникает то, что Куттер называет триангуляцией матери, «Я» и тела.
Психосоматическая триангуляция достигается при создании ограниченной репрезентации тела, которое находится в сбалансированном отношении с представлением о себе как объекте (Grieser, 2008, S. 128).
Корни психического в теле
Сегодня, похоже, возрождается идея о том, что психика, т. е. ментальное, уходит корнями в тело. В своих попытках объединить теорию привязанности и психоаналитическое мышление Фонаги и Таргет (Fonagy, Target, 2007) указывают на недавние попытки найти нейрофизиологические данные, свидетельствующие о том, что связи между мозгом и телом формируют психику и сознание, связи, «которые все чаще понимаются как „воплощенные“, возникающие из обслуживания физических потребностей в конкретный момент, в конкретном месте и социальном контексте. Эта идея также во многом лежала в основе психоаналитического мышления, которое исторически подтвердило укорененность символической мысли в сенсорном, эмоциональном и проигранном опыте взаимодействия с объектами» (S. 411). Аналогичным образом в этой работе происхождение внутренних рабочих моделей, или репрезентаций, видится в ранних сенсорно-моторных и эмоциональных переживаниях в связи с фигурой опекуна. Язык и символическое мышление могут быть «воплощены» филогенетически и онтогенетически, т. е. обоснованы в теле, они развиваются на основе жестов и действий и, таким образом, базируются на опыте раннего физического взаимодействия с первичным объектом. Группа финских психиатров и педиатров (Lehtonen et al., 2006) вслед за Фрейдом, для которого «я-тело» является организационной базой структурной теории, которую он определил как психическую проекцию поверхности тела, исходит из гипотезы, что ощущения на поверхности тела, возникающие вследствие ухода за ребенком, обеспечивают младенца сенсорно-аффективной стимуляцией, которая начинает проекцию сенсорных процессов в психику <!>. Результатом является «первобытный соматический аффект удовлетворения» (S. 1335). Если эти прорастающие переживания регулярно повторяются, они, вероятно, играют роль в организации примитивного протосимволического психического опыта.
Все перечисленные авторы говорят о переходе от позитивного физического опыта взаимодействия с опекуном к первоначальным ментальным представлениям и репрезентациям. Однако эти новые идеи восходят к давней традиции представления о важности адекватной материнской среды. Эрнест Кафка (Kafka, 1971, S. 233) суммирует связь между образованием «я-тела» и дифференциацией аффектов, а также развитием символизации: «Тело постепенно становится сознательным, оно отделено от диффузного психического опыта. За этим следует осознание более дифференцированных мыслей и чувств, отличных от конкретного физического опыта. Наконец, появляются мысли и способность различать типы психического опыта отдельно от физического опыта». Эта формулировка, которой уже почти 40 лет, по-прежнему актуальна. Так, теория отражения аффектов Фонаги с соавт. (Fonagy et al., 2002) «предполагает, что младенец изначально замечает только диффузные внутренние сигналы тела», которые он учится группировать и дифференцировать «через родительские реакции» (Dornes, 2004, S. 179), т. е. через осмысленный, символизирующий ответ материнской среды.
Это описывает то, что сегодня понимается как «достаточно хорошая материнская среда», т. е. достаточно успешная взаимосвязь между ребенком и опекуном, которая удовлетворяет основную потребность ребенка в том, чтобы заново обнаружить свои намерения в психике объекта. Согласно Фонаги и Таргету (Fonagy, Target, 2000, S. 965), «ребенок постепенно осознает, что у него есть чувства и мысли, и медленно развивает способность их различать, особенно благодаря опыту родителей, которые реагируют на его внутренние переживания <…>. Важно то, как они обычно реагируют на эмоциональные выражения ребенка, и то, как они выражают сами себя, направляют внимание ребенка на его внутренние переживания, формируют их, придают им значение и позволяют ребенку все лучше регулировать и переносить их. Первичные репрезентации опыта организуются во вторичных презентациях этих психических и физических состояний. <…> Опыт аффектов – это бутон, из которого расцветает ментализация аффектов, но все зависит от того, есть ли у ребенка хотя бы одна стабильная и надежная связь с объектом».
Первая символизация в контейнировании
Что касается ранней травматизации посредством эмоциональной депривации, то связь между идеей родителей о том, «какой умственный опыт получает ребенок», очень важна в качестве «основы для устойчивого чувства собственного „Я“» (там же). Эта идея может быть обнаружена уже в концепции контейнирования Биона (Bion, 1962а), но здесь она расширена предположением, что таким образом происходит первая символизация. Мать не только интерпретирует физические выражения ребенка, но и возвращает ему применимую версию того, что он сообщил (уже у Винникотта – Winnicott, 1967).
Если такая функция зеркала отсутствует или искажена, это может привести к психической организации, в которой внутренние переживания плохо представлены, поэтому приходится искать другие формы для сохранения психического опыта. К ним относятся, например, саморазрушительное или агрессивное поведение (Fonagy, Target, 2000, S. 965 и далее).
Центральная идея Фонаги, с которой он выходит за пределы концепции Биона, состоит в том, что первая символизация у младенца происходит в ходе приемлемого контейнирования матерью, и это интернализируется как хороший объектный опыт.
«Отказ этой функции приводит к отчаянному поиску альтернативных путей к контейнированию мыслей и сильных чувств». Ребенок принимает «психику других с этим <sic!> искаженным, неполным или негативным образом ребенка в свое чувство идентичности. Этот образ становится зачатком потенциально преследующего объекта, который пребывает в „Я“, но остается чуждым и неассимилируемым. Возникает отчаянное желание сепарации в надежде обрести автономную идентичность или независимое существование. <…> Парадоксальным образом <…> возникающее впоследствии стремление к сепарации приводит к слиянию, <…> потому что объект является частью структуры „Я“» (Fonagy, Target, 1995, S. 294).
Преследующий внутренний объект можно также обозначить как травматический интроект, который после своего отщепления проецируется на тело.
«Когда объекты не представлены должным образом как мыслящие и чувствующие существа, тогда они могут в известной степени контролироваться посредством телесного опыта, формирующего дистанцию или же близость». Решением дилеммы становится самоповреждение, «освобождение „Я“ от других через разрушение других внутри „Я“» (там же, S. 296).
Поэтому можно предположить, что развивающаяся символизация «Я» и объекта (ментализация), а также собственного тела и его границ (включая отверстия в теле, как подчеркивает Макдугалл) делает терпимым отсутствие доступного ребенку материнского объекта. Но это также означает (и это очень важный момент для более позднего отыгрывания на уровне тела), что не только более или менее зрелое символическое воображение может заменить или исправить отсутствующий или травмированный материнский объект, но и то, что в первоначальной символической деятельности физические ощущения, по крайней мере, временно представляют собой своего рода материнскую заботу. «Кинестетические, висцеральные, визуальные и акустические стимулы в „галлюцинаторном“ исполнении желаний могут вызвать глобальное воспоминание о материнском удовлетворении и помочь перенести краткое отсутствие матери», – формулирует Капфхаммер (Kapf hammer, 1985, S. 204), опираясь на известную и важную работу Сьюзан Айзекс «Природа и функция фантазии» (Isaacs, 1948). Таким образом, ощущения тела помогают создать воображаемое присутствие матери. Помимо функции коммуникации плач младенца должен также создавать эффект физического присутствия и ограничивать возможное переполнение страхом аннигиляции, как я обнаружил еще у нескольких авторов (von Lüpke, 1983; Kögler, 1991; Haesler, 1991; Anzieu, 1985). Ребенок уже как бы не один, когда он может чувствовать свое кричащее тело. Для меня основная идея понимания деструктивного отыгрывания на уровне тела заключается в том, что поврежденное, болезненное, зудящее или кровоточащее, даже сексуально возбужденное тело снабжает ощущениями, которые должны создавать иллюзию присутствия материнского объекта.
Амбивалентность матери
Уязвимой фазой развития, в которой видят корни пограничного расстройства, является так называемая фаза «повторного сближения», в ходе которой также происходит развитие более зрелых языковых форм символизации. В это время эмпатическая материнская внимательность становится особенно важна. Каплан (Kaplan, 1987, S. 42, цит. по: Baumgart, 1991, S. 791) отмечает в дискуссии по поводу книги Штерна (Stern, 1985): «Важно, что баланс и гармония между стремлением к индивидуации и стремлением к зависимости формирует интеграцию личности в ранние годы детства». Материнское окружение тех, кто в последующем становится пациентками с соматическими симптомами, не в состоянии помочь ребенку найти такое равновесие.
По моему мнению, это определенное противоречивое отношение и соответствующее ему поведение реальной материнской фигуры прежде всего может приводить к физическим реакциям, как это неоднократно описывает Макдугалл (1989) в отношении психосоматических реакций, и как это, по моему впечатлению, обнаруживается у пациентов с симптомами самоповреждения (Hirsch, 1989a, 1989b). Телесная симптоматика в этом широком смысле видится мне амбивалентной и амбитендентной в отношении такого материнского объекта, она содержит желание удержать его и в то же время отвергнуть, это я воспринимаю как «двойственность» такой симптоматики. Соматический симптом отображает как раннюю диаду, так и защиту от нее, как создание суррогатного объекта, так и чувство триумфа благодаря отделению и автаркии, при помощи которых отвергается материнский объект. При расстройствах пищевого поведения, особенно булимии, также обнаруживается «двойственная» симптоматика в действиях, направленных на слияние (приступы обжорства) и абсолютное отвержение, даже умерщвление материнского объекта.
«Двойственность» матери
«Двойственность» вновь обнаруживается и в определенной манере поведения матерей, описываемой пациентками. Фонаги и Таргет (Fonagy, Target, 1995, S. 292) приводят пример пациентки с симптомами самоповреждения, которая родилась на свет физически неполноценной: «Ее деформация и ее опыт взаимодействия с соблазняющей, но отвергающей матерью стали, вероятно, причиной глубокой неуверенности в собственной ценности». Эта мать также «двойственна», она одновременно соблазняет и отталкивает. Такие образы не новы – уже давно обнаружен тип «психосоматизирующих матерей». Мелитта Шперлинг (Sperling, 1949) выявила следующее поведение у многих матерей психосоматически больных детей (астма, язвенный колит, аллергии и т. д.): матери ограничивали попытки независимости ребенка и отвергали их в этом отношении, но обращались к ребенку, когда тот слушался их или заболевал. Таким образом, Шперлинг воспринимала психосоматические симптомы как выражение подчинения бессознательному желанию матери и одновременного бунта против него. Психоаналитик Закен (на которого ссылается Тейлор – Taylor, 1987, S. 240) так резко изображает типичную «психосоматическую мать», что больше нечего добавить: «Доминирующая, чрезмерно вовлеченная и навязчивая, чрезмерно требовательная, цепляющаяся и удушающая, для поддержания симбиотической привязанности такая мать открыто или латентно отвергает ребенка, когда он проявляет инициативу, отличную от своей собственной, и препятствует любому поведению или эмоциональному выражению ребенка, которое предполагает даже минимальное стремление к автономии».
Приведу здесь краткий пример с пациенткой из моей практики, у которой развились симптомы самоповреждения кожи, психогенный болевой синдром, равно как и деструктивные действия в форме промискуитета.
Моя мать использовала любую возможность, чтобы до меня дотронуться, поцеловать меня, все время неприятно навязчиво следила за моим телом. По утрам она использовала мое сонное состояние, чтобы заполучить телесный контакт, а я всегда была такой заспанной с утра, что не могла уклониться от этого. У моей матери всегда было странное любопытство в отношении моего тела. Может быть, поэтому в возрасте 15–16 лет у меня случались эти боли в животе, возникавшие из-за ощущения, что кто-то слишком ко мне приближается. Когда я болела, она прямо набрасывалась на меня, а я достаточно часто болела». Я заметил, что это было, собственно, поводом оставаться здоровой, чтобы не давать матери слишком приближаться. «Да, но моя мать становилась также очень милой, по-настоящему по-матерински любящей, спокойной; в остальное время она была холодной и жесткой и постоянно придиралась ко мне».
Мать реагировала противоречиво: она могла быть враждебно отвергающей, интрузивной, но в то же время заботливой, и эта амбитендентность соответствует амбивалентному, негативному и зависимому отношению пациентки к матери, что было предметом долгой работы по прояснению. На мой взгляд, соматический симптом стал неудачным выходом из фиксированной амбивалентности в отношении материнского объекта, потому что возникла иллюзия того, что не нужен никакой материнский объект. Именно при помощи тела устанавливается бунтарски-агрессивная граница в отношении объекта, с другой стороны, при помощи проигрывания на телесном уровне суррогатным образом создается симбиоз между телом и «Я».
Такие матери обращаются с детьми в диссоциации от проявлений чувств, подобно тому как позже пациенты обходятся со своим телом. Заксе (Sachsse, 1987) описывает безличное, «вещественное» в отношениях матери и ребенка, что напоминает значение «предметного объекта» в патогенезе сексуальных перверсий (Khan, 1964). «Двойственность» такой матери объясняет Пао (Pao, 1969), который описывает мать подростка, страдавшего симптомами самоповреждения, она гордилась тем, что могла накормить младенца грудью без того, чтобы вступать с ним в дальнейший контакт. Я сам наблюдал две подобные сцены: однажды мать положила своего ребенка на стол, не прерывая грудного вскармливания, потому что звонил телефон, и, пока она разговаривала, другой рукой она делала заметки. В другой раз мать сидела на стуле, положив ноги на другой стул, чтобы колени оставались согнутыми. Младенец лежал на ее бедрах, мать дала ему бутылочку, не поддерживала с ним никакого зрительного контакта, но оживленно говорила с людьми, которые пришли в гости. Кафка (Kafka, 1971) детально описывает поведение матерей, которые чрезмерно стимулировали детей физически, а позже также сексуально, в то же время отказывая им в адекватном удовлетворении их собственных телесных потребностей. В особенности это проявлялось в жестком режиме кормления и категорическом запрете в определенное время опорожнять мочевой пузырь и кишечник. При этом такие матери терзали детей посадкой на горшок, когда считали это своевременным. Мы видим смесь из отсутствия эмпатии к потребностям ребенка и безразличной к ним реализации своих представлений или, скорее, потребностей самой материнской фигуры, отчасти также потребностей физических.
Волосы
Все объекты, представляющие собой материализацию фантазийного, самопроизвольно созданного переходного объекта маленького ребенка, – мягкие, будь то куколка, одеяльце или, конечно, плюшевый мишка и другие мягкие игрушки. Плюшевый мишка покрыт волосами, его мягкая шерстка, похоже, придает особое значение и без того мягкому переходному объекту. Переходный объект образуется на относительно высокой символической ступени. При этом волосы могут представлять более непосредственную связь с матерью на достаточно конкретном уровне предшественников переходного объекта (Gaddini, Gaddini, 1970; ср. дискуссию в: Hirsch, 1989b: «Собственное тело как переходный объект» / Der eigene Körper als Übergangsobjekt), промежуточного объекта или объекта-моста (Buxbaum, 1960; Kestenberg, 1971). Раньше принято было отрезать локон возлюбленного, уезжающего в путешествие или на войну, чтобы поддерживать с ним символически-конкретную связь. Из волос делали браслеты и цепочки для часов, они служили «доказательством любви и воспоминанием <…>; ремешок для часов имел большее значение, чем сами часы» (Jeggle, 1986, S. 52). Этот фетишизм в отношении волос превращал их в сексуальный объект, который, как это всегда бывает при перверсиях, одновременно замещал/ изображал желанный и вызывающий страх материнский объект и позволял контролировать его. Так же и мех, и шерсть являют собой покрытую волосами кожу: «В мазохистской фантазии мех (ср.: «Венера в мехах» Захер-Мазоха) порождает представление о возвращении к чувственному, бархатистому и ароматному (ничто не пахнет так сильно, как новый мех) тактильному контакту, возвращение к ощущению, когда два тела льнут друг к другу, что приносит вторичное удовольствие при генитальном сексуальном контакте.
Бичующая Венера Захер-Мазоха была – как в жизни, так и в романе – обнаженной под мехами. Это подтверждает первичную функцию покрытой мехом кожи как связующего объекта, до того как она указывает на сексуальный объект. <…> Маленький Северин очарован одетой в меха Венерой, или Вандой, и видит в своей фантазии собственную мать, укутанную в кожу, что означает одновременно объединение и сепарацию (Anzieu, 1985, S. 63).
Анзье также неустанно указывает на ведущую роль влечения к единению, первичной потребности в установлении связи. К ней примыкает сексуальное влечение, при котором, возможно, в ход идут те же самые объекты: будто развивающаяся сексуальность запрыгивает в уходящий поезд влечения к единению.
Парень молодой пациентки довольно сильно избил ее во время приступа ревности по ничтожному поводу. Для нее это означает, что они окончательно расстаются. На следующую ночь ей снится сон: она заперта в подводной лодке и не может выбраться. Вокруг много людей, часть из них – «существа», которые уже мертвы, но еще двигаются. Других людей от этих существ отличить сложно. Там есть и преследователи, которые превращают людей в существ. Она входит в большую, светлую комнату с окнами, одно из которых открыто, и видит, что лодка прибыла в порт. За этим следует драка одного из преследователей с чернокожим (это сцена из фильма, который она смотрела: там темнокожий защищает преследуемых женщин), она взобралась на дерущихся и пролезла через окно. Она долго падает, вдруг преследователь хватает ее за волосы, но не может ее удержать, потому что у него отвалилась рука. Она с презрением бросает руку, очень легкую, будто картонную, назад. Но снаружи снова существа, которые узнают ее. Они говорят ей: «Я уже жертва». Это она тоже принимает, и ее оставляют в покое. Тогда она приходит в дом: то ли лечебницу, то ли купальню. Там ей предлагают халаты – один розовый и один сиреневый. От последнего она отказывается.
Беатрикс Лааге находит сон странным: у нее не было чувств или мыслей о нем. Она говорит, что не страдает от расставания. Ей, скорее, кажется, что сейчас отличное время начать что-то новое. Я говорю ей, что волосы во сне – это последнее, что связывает ее с ее парнем. Если она действительно хочет уйти, рука, которая удерживает ее во сне, бессильна. Это напоминает, как многие подростки стригут волосы в знак освобождения, и отцы слепнут от гнева при виде этого, так что готовы даже ударить ребенка, как ее парень. Тогда она говорит, что ее матери не разрешали стричься «под мальчика». Ей нужно было прийти с длинными волосами на первое причастие, но на следующий день она их обстригла. Поэтому пациентка ребенком все время ходила с волосами не длиннее спички: на этом настаивала мать, утверждая, что это очень практично. Беатрикс поклялась, что отпустит волосы, когда ей исполнится 13. Сейчас у нее волосы до попы, как она того и хотела в детстве. Динамика очень простая: мать раздражают длинные волосы, потому что в детстве она не могла осуществить свое желание постричься. Потом она заставляет дочь носить короткую стрижку, т. е. делает с ней то же самое, отчего сама страдала, с противоположным знаком. Дочери не должно быть лучше, чем ей самой в детстве, может быть, она вообще должна быть мальчиком (с короткими волосами). Отец матери, напротив, хочет длинных волос, хочет ее женственности, в латентно-инцестуальном ключе. И он приходит в бешенство от своевольного поступка дочери, когда та стрижется: стрижка является символом сепарации, а то, что дочь делает это по собственной воле, только подтверждает этот факт. Отцу больше нечего сказать.
Часть тела ребенка символизирует часть тела матери (Buxbaum, 1960, S. 258). Кестенберг пишет: «Питание и продукты жизнедеятельности тела, связанные с желанием „органа“, по всей видимости, относятся к телу младенца и телу матери. <…> Чтобы восстановить этот мост между собой и матерью, человек оживляет их и обращается с ними как с промежуточными объектами» (Kestenberg, 1971, S. 83).
Подобно тому как кожа матери и кожа ребенка образуют тесный физический контакт, можно представить, что и связь при помощи волос становится столь же значимой, но при этом обеспечивает большую дистанцию и, соответственно, большие возможности для контроля и регуляции.
У детей разного возраста можно наблюдать моменты регрессии, когда они накручивают волосы на пальцы или сматывают их снова и снова (при этом они, возможно, держат во рту большой палец), и эта привычка может сохраняться вплоть до зрелого возраста. Границу между такими безобидными привычками и все более патологическими проявлениями легко переступить.
Ребенок уже в возрасте нескольких месяцев начинает выдергивать ниточки из своей пеленки, которые он собирает и потом гладит. Реже он съедает их, что может привести даже к телесным расстройствам (Winnicott, 1971, S. 13).
Впечатляющий пример на границе с патологией приводит Шур. Из этого примера становится ясна связь между матерью, ее волосами, волосами ребенка и сосанием пальца.
Я наблюдал развитие такого нарушения поведения у годовалого ребенка в момент зарождения. Он становился все более одержим волосами своей матери. Сначала ей постоянно приходилось давать ему своей волосок, прежде чем уложить его в постель. Он держал этот волосок во рту, и это заменяло ему привычку сосать палец. Позднее это поведение дополнилось и в конце концов заменилось тем, что он вырывал свои волосы и клал их в рот (Schur, 1955, S. 109).
Навязчивое вырывание собственных волос называется трихотилломанией. Если же волосы проглатываются, следует говорить о трихотиллофагии. Этот феномен можно назвать своего рода заботой о себе, как ее понимают депривированные дети. Как и другие формы самоповреждающего поведения, вырывание волос имеет двойную функцию: оно образует связь с материнским объектом, поскольку волосы объединяют, как и боль, но при этом обеспечивают некоторую независимость, ведь их уже не надо получать от матери, которая стала сплошным разочарованием. Проглатывание волос – пример инкорпорации положительного материнско го объекта и связи с ним. Дети, у которых возникает этот симптом, так сказать, питаются сами собой, поскольку дают себе что-то от своего тела, что хотели бы отнять у матери – как в экстремальном случае с младенцами, страдающими мерицизмом, которые пережевывают содержимое желудка, которое только что срыгнули, и опять глотают его в иллюзии, будто себя кормят.
«Мертвый Брюгге»
Некоторые персонажи мифологии и литературы, которые выбрали волосы в качестве объекта, похоже, используют их как связующий объект между матерью и ребенком.
Начиная с Блейка, Бодлера и английских прерафаэлитов девичьи волосы обретают в поэзии и изобразительном искусстве модерна переменчивое значение. Героини декаданса: Иродиада Малларме, Саломея Оскара Уайльда, Мелизанда Метерлинка – превращают волосы в настоящий фетиш. В живописи этот мотив тоже многозначен. Он может означать путы чувственности, как у Мунка, или ниспадающий волнами витальный орнамент, ключевую для искусства модерна форму (Metken, 1966, S. 95).
Наиболее четко волосы представляют связь с любимым человеком, символ неразрешенных любовных отношений с ним и знак патологической реакции горевания в повести Жоржа Роденбаха «Мертвый Брюгге» (он лег в основу оперы Эриха Вольфганга Корнгольда «Мертвый город»). Гюг Виан совсем ушел в себя после смерти возлюбленной за пять лет до начала действия романа.
Затем молодая женщина умерла, накануне тридцатого года, пролежав в постели только несколько недель, вскоре уже распростертая на этом ложе последнего дня, врезавшемся навсегда у него в память: он видел поблекшую и белую, как освещавшая ее свеча, свою жену, которую он обожал, когда она была так прекрасна, с ее цветом лица, как у цветка, с ее широкими и черными зрачками, точно окруженными перламутром, темный цвет которых служил контрастом к ее длинным и волнистым волосам оттенка янтаря, покрывавшим, если она их распускала, всю спину. У Мадонн старых мастеров встречаются такие золотые волосы, спускающиеся нежными волнами.
Наклонившись над ее телом, Гюг отрезал этот сноп волос, заплетенный в длинную косу во время последних дней болезни. Не есть ли это сострадание смерти? Она разрушает все, но оставляет без изменения волосы. Глаза, губы, – все меняется и исчезает. Волосы даже не теряют своего цвета. Только в них люди переживают себя! Теперь, через пять лет, сохраненные волосы умершей жены совсем не побледнели, несмотря на горечь стольких слез, пролитых над ними. <…> Но больше всего Гюг старался сохранить и сберечь портреты бедной умершей жены, портреты, снятые в различное время, повсюду разбросанные, на камине, маленьких столиках, на стенах, и в особенности какая-нибудь случайность с ними могла бы разбить ему его душу! Он дорожил этими длинными волосами, которые он не пожелал запереть в ящик комода или в какую-нибудь темную шкатулку – что равнялось бы заключению их в гробницу! – а предпочел, видя, что они остаются живыми, неизменного золотого оттенка, оставить их распущенными и видимыми, точно это была бессмертная частица ее любви! Чтобы постоянно созерцать эти волосы, точно продолжавшие ее существование в этой всегда одинаковой комнате, он поместил их на безмолвном отныне пианино, просто распущенными, точно прерванную косу, разбитую цепь, канат, уцелевший от кораблекрушения! <…> Ему, как и всем безмолвным окружающим предметам, казалось, что с этими волосами связано их существование и что они являются душою жилища[8].
Волосы, как pars pro toto, обозначают связь с любимой женщиной, утрату которой герой не смог отгоревать, но связь эта уже разорвана («точно прерванную косу, разбитую цепь»), но в то же время это «канат, уцелевший от кораблекрушения». Косы связывают не способного пережить горе с предметами, которые напоминают ему об утраченной возлюбленной, и с ней самой. Во время очередной одинокой прогулки Гюг встречает женщину, которая удивительным (или бредовым) образом кажется ему точной копией умершей.
Да! На этот раз он хорошо рассмотрел ее. Этот цвет лица, точно на пастели, эти глаза с широкими и темными зрачками были одинаковы! По мере того как он шел за ней, он заметил, что ее волосы, видневшиеся на затылке под черною шляпою и вуалеткою, отличались сходным золотым отливом цвета янтаря и кокона, волнистого, желтого оттенка. Одно маленькое несоответствие между ночными глазами и пламенным полднем волос!
И далее: «Надо было следовать за ней, подойти, смотреть на нее, упиться ее снова найденными глазами, осветить свою жизнь этими напоминающими факел волосами».
Волосы из света – этот мотив встречается в другом произведении эпохи модерна, «Пелеасе и Мелизанде» Метерлинка. Гюг сближается с незнакомой женщиной, Жанной, и обеспечивает ей жилище, где они могут встречаться.
Иногда он распускал ее волосы, рассыпал по плечам, медленно собирал и наматывал их, точно желая заплести. Жанна ничего не понимала в этих неестественных приемах Гюга, в его немом поклонении. Она помнила его непонятную грусть в начале их отношений, когда она сказала ему, что ее волосы – крашеные, и как он волновался всегда с тех пор, следя за тем, чтобы они оставались одинакового оттенка… Я не хочу больше красить волосы, – сказала она однажды. Он был совершенно потрясен, убеждал ее сохранить волосы этого золотого оттенка, который он так любил. И, говоря это, он взял их, ласкал рукою, опуская в них пальцы, как скупой в снова найденное богатство. И он бормотал бессвязные слова: «Не меняй ничего… Такою я полюбил тебя! Ах! ты не знаешь, ты никогда не узнаешь, что я ощущаю, дотрагиваясь до твоих волос…»
В то время как волосы умершей еще «жили» в начале романа, по мере развития отношений с Жанной они постепенно превращаются в мертвый объект.
Каждое утро он созерцал хрустальную шкатулку, где можно было видеть покоившиеся волосы умершей жены. Он едва поднимал крышку. Он не осмелился бы взять их или обвить ими руку. Эти волосы были священны! Они принадлежали умершей, избегли могилы, чтобы уснуть лучшим сном в этом стеклянном гробу. Но они тоже умерли, так как принадлежали умершему лицу, и никогда не надо было притрагиваться к ним. Довольно было смотреть на них, знать, что они неизменны, и быть уверенным, что они всегда налицо, так как от них, может быть, зависела жизнь дома.
Хотя Гюг предается воспоминаниям об умершей, после этого он все же отправляется к ее живой преемнице.
Затем он отправлялся к Жанне, точно это была последняя остановка его культа, к Жанне, владевшей живыми волосами умершей, к Жанне – самому сходному ее портрету.
Волосы умершей продолжают изменяться, и даже ее портреты теперь смотрят на него с упреком.
Волосы продолжали покоиться в стеклянном ящике, почти заброшенные, и пыль покрывала их своим серым пеплом.
Сначала они были «живыми», потом безжизненными, но невредимыми, а теперь покрылись пылью: если это признак процесса горевания, тогда это должно позволить обратиться к новому любимом у объект у, Жанне. Но она в то же врем я остается лишь суррогатным объектом, в любом случае Гюг сохраняет амбивалентность.
Дело шло не об умершей: очарование Жанны мало-помалу околдовало его, и он боялся потерять ее. Не только ее лицо, но ее тело, ее жгучая внешность привлекали его ночью, хотя он видел только ее тень, скользившую по складкам занавесок… Да! Он любил ее саму, так как ревновал ее до боли…
Ревность – это реакция на потерю контроля, которым обладает трагический герой над объектом своей любви. Чем больше это вещественный объект – в перверсивном смысле, как волосы умершей, так и волосы живой преемницы, и она сама, пока он ее содержит и может ей распоряжаться, тем больше возможности контроля и власти, ведь нет ничего сложнее, чем быть захваченным и, с другой стороны, покинутым объектом своей любви. Но Жанне тем временем надоело быть таким объектом и суррогатом другой женщины, не восприниматься как индивидуум, поэтому она отворачивается от него и обращается к другим мужчинам. Несмотря на свою ревность, Гюг принимает Жанну у себя, но принимает очень близко к сердцу тот факт, что она показывает свои волосы на публике.
Затем она подошла к окну, показывая свои бросающиеся в глаза волосы, оттенка меди. Толпа, наполнявшая улицу, смотрела, интересуясь этой непохожей на других женщиной в кричащем наряде.
Жанна бесстыдно рассматривает вещи умершей и ее портрет.
«Вот портрет, похожий на меня…» И она взяла в руки портрет. <…> Гюг подошел, взял у нее из рук портрет, оскорбленный прикосновением ее пальцев к памяти умершей. Он сам прикасался к нему с дрожью, как к святыням культа, точно священник к мощам или к чаше. Его горе стало для него религией.
Жанна, которая давно поняла, что не является собой, не дает сбить себя с толку.
Она увидела на пианино драгоценный стеклянный ящик, подняла крышку, вынула с удивлением и любопытством длинные волосы, распустила их, растрепала по воздуху.
Гюг побагровел. Это была провокация! У него было ощущение кощунства. <…> А весь этот культ реликвии, после стольких слез, смывавших хрусталь каждый день, должен был привести к тому, чтобы стать предметом забавы женщины, которая срамит его…
Жанна превращает все в макабрическую игру, размахивает перед ним волосами, дразнит его, Гюг хватает их, она уклоняется, оборачивает волосы вокруг своей шеи и обороняется, когда он пытается их схватить.
Страшный, свирепый, он дернул, сжал вокруг шеи волосы, которые натянулись и были теперь тверды, точно веревка.
Он душит Жанну.
Обе женщины сливались в одну. Похожие в жизни, они еще больше напоминали друг дружку в смерти, придавшей им одинаковую бледность, так что их нельзя было различить, точно это было единственное любимое лицо. Тело Жанны являлось только призраком прежней умершей, видимым здесь для него одного.
Теперь мертвая может умереть, и чувство вины за то, что в процессе горевания Гюг оставит ее в прошлом, замещается реальной виной. Но результатом становится не освобождение для новой жизни, но разрушение своей собственной.
«Пестрая шкурка»
Роденбах, очевидно, позаимствовал мотив волос из сказки «Пестрая шкурка»: там тоже есть мертвая девушка с несравненно чарующими золотыми волосами.
Давно, очень давно жил да был на свете король, а у того короля была жена с золотыми волосами, и была она так прекрасна, что подобную ей красавицу на всей земле не сыскать было.
Случилось ей как-то заболеть, и когда она почувствовала, что скоро умрет, то позвала короля к своей постели и сказала ему: «Если ты после моей смерти вновь пожелаешь жениться, не бери за себя замуж женщину, которая не будет так же прекрасна, как я, и чтобы волосы были у нее такие же золотистые, как у меня. Ты мне это должен твердо обещать!».
Когда король дал ей это обещание, она закрыла глаза и умерла[9].
Но во всем королевстве нет другой женщины, которая была бы благословлена такими же золотыми волосами, кроме дочери короля, точной копии умершей. Король не может пережить разлуку с умершей, и единственной связью служат не только волосы дочери, но и она сама, так похожая на умершую, так что приходится согласиться на инцест. Ребенка нужно принести в жертву. Девочка бежит и скрывается под шубкой из разных шкур. После ряда препятствий она уже не может скрывать свои волосы под мехом, и завоевывает нового короля, который ее добивается, своими унаследованными от матери волосами.
Король ухватился за плащ и сорвал его. При этом ее золотистые волосы рассыпались по плечам, и она явилась пред ним во всей красе своей и уже не могла от него укрыться.
И когда она смыла с лица своего сажу и копоть, то стала такою красавицей, что во всем свете другой такой и не сыскать! Король тут и сказал ей: «Ты моя дорогая невеста, и мы никогда более с тобою не расстанемся».
В то время как расставание с умершей возлюбленной у Роденбаха требует принесения в жертву суррогатного объекта – процесс горевания идет не так, и освобожденный не может найти пути к новой свободе – героиня «Пестрой шкурки» избегает инцестуального функционирования, на который имплицитно согласилась и мать, ведь она знала, что никто не похож на нее так, как дочь. Но здесь после некоторых перипетий дочь находит подходящего спутника жизни и начинает новый самостоятельный этап жизни. В сказке нет ни слова о том, что не только король потерял жену, но и дочь потеряла мать, как будто дети не умеют или не должны горевать. Очевидно, мягкий, пушистый суррогатный материнский объект – меховая шубка (ср.: «Венера в мехах») – помогает преодолеть утрату и становится лишним, когда она находит подходящего мужчину, т. е. обретает собственную идентичность как женщина, что и демонстрируют ее открывшиеся миру волосы.
«Рапунцель»
Другая сказка братьев Гримм о волосах, «Рапунцель», начинается с описания бездетной пары. Когда жена спустя долгое время все же беременеет, у нее просыпается неуемный аппетит в отношении полевого салата[10] в саду соседки-колдуньи. Мужу приходится воровать салат, иначе беременная, по собственному утверждению, не выживет. Колдунья обнаруживает вора, угрожает ему и требует новорожденного ребенка в обмен на салат. Девочку называют Рапунцель, и она живет у колдуньи 12 лет, т. е. до начала полового созревания, потом ее запирают в башне без дверей, и, когда колдунья хочет навестить Рапунцель, она требует, чтобы девочка спустила вниз свои золотые волосы, по которым забирается наверх. Сын короля слышит пение Рапунцель, видит, как попасть к ней, и взбирается наверх сам. Рапунцель удивлена тем, что видит мужчину вместо своей приемной матери, но быстро соглашается бежать с ним. Для этого ему нужно приносить при каждом визите шелковые нити, чтобы Рапунцель могла соткать лестницу. Но из-за наивной непредусмотрительности Рапунцель выдает мачехе существование принца (она спрашивает, почему колдунья гораздо тяжелее юноши, когда та взбирается наверх). Колдунья приходит в ярость, хватает прекрасные волосы Рапунцель, оборачивает их пару раз вокруг левой руки, хватает ножницы в правую и – чик-чик, прекрасные косы лежат на земле. И она так бессердечна, что отправляет бедную Рапунцель в пустыню, где та живет в горе и нужде.
Вечером принц приходит снова, колдунья сбрасывает вниз отрезанные косы и встречает его ледяным взором. Он падает в терновник, шипы ослепляют его, и, слепой, он скитается по свету. Однажды он узнает Рапунцель по ее пению, слезы, которые падают из ее глаз во время объятий, исцеляют его глаза, и он снова может видеть. Хэппи-энд: «Он привел ее в свое королевство, где их встретили с радостью, и они жили долго и счастливо».
Неуемная страсть к полевому салату, из-за которой родители теряют долгожданного ребенка сразу после его рождения, как обычно, символизирует амбивалентность, связанную с желанием завести детей. В сказке традиционно расщепляются хороший и плохой материнские объекты, но при более пристальном рассмотрении однозначность стирается: родная мать беспрекословно отдает ребенка, злая колдунья воспитывает девочку первые 12 лет с относительной любовью, ведь из ребенка в итоге «что-то выходит». Но потом она не может расстаться с девушкой, делает все, чтобы предотвратить сепарацию и индивидуацию, изолируя Рапунцель в своего рода тюрьме. Бросающиеся в глаза золотые волосы, т. е. ценные как золото, становятся исключительной связью между девушкой и этой препятствующей развитию матерью. Но вскоре связь образуется с триангулирующим, освобождающим, соответствующим возрасту экзогамным партнером, конечно же, принцем. Поскольку растущий ребенок не вполне подчиняется воле матери, она резко разрывает эти тесные отношения и отправляет обоих молодых людей, которые хотят узаконить свои отношения, на погибель. Долгий путь выживания в пустыне символизируют развитие и индивидуацию подростков, которые обретают себя и награждаются за это хэппи-эндом.
«Пелеас и Мелизанда»
В этой сказке волосы символизируют связь, а их отрезание – сепарацию. Метерлинк, очевидно, вдохновлялся ей в работе над драмой «Пелеас и Мелизанда». Голо встречает на охоте девушку, которая сидит у ручья и робко сообщает, что нуждается в помощи. Остается неясным, от кого ее надо спасать, но, очевидно, неизвестный дал ей корону, которая теперь лежит на дне ручья, но она совсем не хочет заполучить ее назад. Голо потерял жену, он уже не так молод, Мелизанда по-детски наивно сообщает: «Ах, у вас уже седые волосы!.. <…> И борода седая…»[11].
Лесное создание не дает Голо покоя, он добивается ее. Неприкаянная Мелизанда соглашается, но брак страдает от нехватки ее любви. Неудивительно, что она чувствует влечение к Пелеасу, сводному брату Голо, значительно моложе его, а он все сильнее откликается на ее сердечную склонность. Как корона в начале повествования, которую дал Мелизанде некий «он» (очевидно, мужчина, который ее добивался и от которого она бежала), кольцо, которое дал Мелизанде Голо, во время свидания влюбленных падает на дно старого колодца. Это «слепой источник», его вода раньше делала слепых зрячими, но это, очевидно, больше не так, потому что любовники слепо идут на погибель (вспомним ослепшего принца в «Рапунцель»…). Уже до этого Мелизанда сравнивает свои руки с волосами, и то и другое в определенном смысле служит органом контакта.
Пелеас. Осторожней, не упадите!.. Я буду держать вас за руку…
Мелизанда. Нет, нет, я хочу погрузить в воду обе руки… Мои руки словно больны сегодня…
Пелеас. О! О! Осторожней, осторожней, Мелизанда!.. Мелизанда!.. О! Ваши волосы!..
Мелизанда (выпрямляясь). Я не достаю, я не достаю до воды.
Пелеас. Ваши волосы в воде…
Мелизанда. Да, да, они длиннее моих рук… Они длиннее меня…
Как и волосы, ее кольцо, к тому же обручальное, может символизировать связь, и Мелизанда делает все, чтобы избавиться от этого символа брачной связи в присутствии любимого (ср. клинический пример госпожи Вейсвейлер ниже). Затем Пелеас должен на долгое время покинуть замок, Мелизанда расчесывает волосы, сидя у окна в башне замка, и поет (Рапунцель была заперта в башне и пела). Пелеас приближается к ней, чтобы попрощаться, и снова рука и волосы служат органами для контакта. (Как обезьянка вцепляется пальцами в шерсть матери, ср.: «Драйв прикрепления».)
Пелеас. Я, я, я!.. Что ты делаешь у окна, распевая, как нездешняя птичка?
Мелизанда. Я убираю волосы на ночь…
Пелеас. Так это твои волосы на стене?.. А я думал, что это лучи света…
Мелизанда. Я открыла окно – ночь была так хороша!..
Пелеас. Все небо в звездах. Никогда я не видал столько звезд, как сегодня… Но луна еще стоит над морем… Выйди из темноты, Мелизанда, наклонись ко мне: мне хочется видеть твои распущенные волосы.
Мелизанда высовывается в окно.
О Мелизанда!.. О, ты прекрасна!.. Как ты прекрасна!.. Наклонись! Наклонись!.. Дай мне приблизиться к тебе…
Мелизанда. Я не могу наклониться ниже… Я наклоняюсь, сколько могу…
Пелеас. Я не могу подняться выше… Протяни мне руку… Дай мне прикоснуться к ней перед разлукой… Я уезжаю завтра…
Мелизанда. Нет, нет, нет…
Пелеас. Да, да, я уезжаю, я уеду завтра… Протяни мне свою руку, протяни свою маленькую руку к моим губам.
Мелизанда. Я не протяну тебе руки, если ты уезжаешь…
Пелеас. Протяни, протяни…
Рука, волосы, молоко! Пелеас может только жадно просить «Дай, дай!».
Мелизанда. Ты не уедешь?.. Мне в темноте видна роза…
Пелеас. Где?.. Мне видны только ветви ивы, которые свисают через стену…
Мелизанда. Ниже, ниже, в саду, там, в темной зелени.
Пелеас. Это не роза… Я сейчас посмотрю, что это такое, но сначала протяни мне свою руку, сначала – руку…
Мелизанда. Вот она, вот она… Я не могу наклониться ниже…
Пелеас. Губы мои не достают до твоей руки…
Мелизанда. Я не могу наклониться ниже… Я сейчас упаду… О! О! Мои волосы падают с башни!..
Когда она наклоняется, ее волосы накрывают Пелеаса.
Пелеас. О! О! Что это такое? Твои волосы, твои волосы опрокинулись на меня!.. Все твои волосы, Мелизанда, все твои волосы хлынули с башни!.. Я держу их в руках, я прикасаюсь к ним губами… Я их прижимаю к груди, я обвиваю их вокруг шеи… Я не выпущу их из рук до утра…
Мелизанда. Нет, пусти меня! Пусти меня!.. А то я упаду!..
Пелеас. Нет, нет, нет!.. Я ни у кого не видал таких волос, как у тебя, Мелизанда! Смотри, смотри, они спускаются с такой высоты и достают до моего сердца… Они теплы и нежны, словно падают с неба!.. Я уже не вижу неба сквозь твои волосы. Дивное сияние твоих волос скрывает от меня сияние неба… Смотри, смотри же, я не могу удержать их!.. Их влечет, их влечет к ветвям ивы!.. Они вырываются у меня из рук… Они трепещут, они зыблются, они дрожат у меня в руках, как золотые птицы… Они меня любят, они меня любят в тысячу раз больше, чем ты!..
Мелизанда. Пусти меня, пусти меня!.. Сюда могут прийти…
Пелеас. Нет, нет, нет, я не пущу тебя!.. Сегодня ты моя пленница, на всю ночь, на всю ночь!..
Мелизанда. Пелеас! Пелеас!
Пелеас. Нет, ты не вырвешься… Целуя твои волосы, я целую тебя всю, и меня уже не жжет их пламя… Чувствуешь ли ты мои поцелуи?.. Они поднимаются к тебе по тысяче золотых колечек… И пусть каждое из них донесет до тебя тысячу поцелуев и затаит в себе столько же, чтобы целовать тебя, когда меня не будет здесь… Ты видишь, ты видишь, я могу разжать руки… Ты видишь, мои руки свободны, а ты не можешь освободиться от меня…
Из башни вылетают голуби и кружатся над ними во мраке.
Мелизанда. Что это такое, Пелеас?.. Что летает вокруг меня?
Пелеас. Это голуби вылетели из башни… Я испугал их; они улетают…
Мелизанда. Это мои голуби, Пелеас… Расстанемся, пусти меня, а то они не вернутся…
Пелеас. Почему они не вернутся?..
Мелизанда. Они потеряются во мраке… Пусти меня, дай мне поднять голову… Я слышу шаги… Пусти меня!.. Это Голо!.. Мне кажется, это Голо!.. Он слышал нас…
Пелеас. Постой!.. Постой!.. Твои волосы запутались в ветвях… Постой, постой!.. О, как темно!..
Картину, которую рисует здесь Метерлинк, можно понимать только как метафору экстатического, оргазмического единения любящих посредством волос, и в этом образе заключается не только желание взаимного растворения, но и амбивалентность ввиду опасности этого стремления. И когда дело доходит до последствий их запретной любви, волосы вновь играют роль: неистовый от ревности Голо, похоже, понимает символику волос. Он призывает Мелизанду к ответу, она хочет бежать.
Голо. Не пытайтесь бежать!.. Сюда!.. Дайте руку!.. Ага! Ваши руки слишком горячи. Ступайте прочь! Ваше тело мне ненавистно!.. Сюда!.. Теперь уже поздно бежать! (Хватает Мелизанду за волосы.) Вы последуете за мной на коленях!.. На колени!.. На колени передо мной!.. А! А! Наконец-то ваши длинные волосы на что-нибудь пригодились!.. Направо, а потом налево! Налево, а потом направо!.. Вверх! Вверх!.. Вперед! Назад! До земли! До земли!.. Видите, видите: я уже смеюсь, как старик…
Перед последней встречей любовников Пелеас размышляет.
Пелеас. Это последний вечер… последний вечер… Все должно кончиться… Я играл, как ребенок, вокруг того, о чем и сам не подозревал… Я играл во сне вокруг ловушек судьбы…
Он играет, как во сне, с извивами волос возлюбленной. Все кончается так, как должно кончиться: Голо обнаруживает любовников и убивает их обоих в приступе безграничной ревности.
Сексуальность и власть
Волосы символизируют не только связь матери и ребенка (младенца), они обозначают и две другие области: сексуальность и власть. В мусульманской культуре волосы женщины принято скрывать так же, как среди христианских монахинь, помолвленных с Иисусом Христом, отказавшихся от мирских, в том числе сексуальных радостей. Волосы женщин, которые вступали в сексуальные отношения с мужчинами со стороны врага, стригли в знак публичного позора. Волнистые и, очевидно, особенно светлые волосы соблазнительны, как мы видим в описанных выше произведениях. Еще один пример – это история Лорелеи, которая расчесывает свои – опять-таки золотые – волосы, сидя на вершине скалы, и обрекает моряков на погибель. Я думаю, мифологическую идею сексуальной силы волос легко понять, если представить себе последовательность привязанности и сексуальности – за первичной, несексуальной привязанностью к матери позднее следует сексуальная привязанность к объекту любви, и всякие отношения между людьми, в том числе сексуальные, содержат в себе потребность в привязанности, опыт привязанности и тоску по привязанности из досексуального периода (в «Лорелее» Генриха Гейне есть такие слова: «Давно не дает покою / Мне сказка старых времен»[12], – и здесь можно предположить древние довербальные времена младенчества).
В этой области волосы по своему двойственному значению подобны женской груди. Она тоже означает досексуальные близкие отношения матери и ребенка (хотя психоанализ приписал ранней привязанности сексуальный характер в концепции оральной сексуальности, оральной фазы). Позднее женская грудь обрела характер объекта сексуального влечения мужчины. Кстати, женская грудь – орган, который отсутствует у мужчины, т. е. влечение можно понимать и так, что его удовлетворение и реализация обеспечивают полноту нарциссического мужского «Я» в фантазии.
Значение волос как символа власти не так легко обосновать. Ветхозаветный Самсон, «избранник Божий», обладал сверхчеловеческой силой, пока ему не остригли волосы. Самсона легко победили, когда женщина, дочь его врагов, узнала его тайну и выдала ее противникам: нужно остричь его голову – и сила утратится.
Длинные, нестриженые волосы служили у германцев признаком свободного человека. Рабы и слуги стригли волосы в знак того, что находятся во власти вышестоящего. Этот способ обозначения зависимости и сегодня находит отражение в тонзуре монахов и католических священников. У франков члены королевской семьи могли никогда не стричься, волосы принцев оставались «невредимыми» (ungeschoren[13]; можно предположить, что второе значение слова восходит к страху за неприкосновенность волос). Королевские волосы спускались на плечи и были больше, чем украшением: они служили выражением королевской власти, потенции (Jeggle, 1986, S. 54).
И наоборот: стрижка волос была знаком подчинения власть предержащему. Военнопленные, жертвы политических преследований, заключенные, а также низшие чины в армии переживают на собственном теле, как манифестируется власть.
Драйв прикрепления
Вернемся к отношениям в раннем детстве. Контакт кожи матери с кожей ребенка не нуждается в посреднике. Волосы как место контакта при этом нуждаются в руке, которая их схватит, чтобы установить этот контакт. Мы наблюдали это в пугающе декадентской сцене из «Пелеаса и Мелизанды»: тела не могут приблизиться друг к другу, но волосы и руки сплетаются. К этому образу подходит концепция драйва прикрепления, разработанная Имре Херманном (Hermann, 1936), венгерским психоаналитиком: Херманн берет за основу теорию привязанностей Боулби, которая десятилетиями не имела доступа к психоанализу, где главенствовала теория драйвов, и предполагает в ее рамках такое несексуальное «влечение». Это обозначение также кажется мне компромиссом в отношении фрейдовской теории драйвов. Но в гораздо большей степени это потребность в привязанности, которая с подачи Лихтенберга (Lichtenberg, 1988) также причисляется к мотивационным системам и выходит далеко за пределы дихотомии сексуального и агрессивного влечения. Согласно фрейдовскому представлению, влечение – доходящее до предела напряжение драйва и его разрядка, согласно концепции потребности в привязанности и потребности к прикреплению, по Херманну, – длительный процесс отношений, лишенных кульминации, несексуальных и неагрессивных. Дери (Deri, 1978) указывает на то, что среди психоаналитиков Винникотт был тем, кто понимал главенство обусловленных влечениями соматических напряжений (например, голода) у младенца не с точки зрения разрядки драйва, а в гораздо большей мере как галлюцинаторную власть над миром и как ее конкретное выражение, удавшиеся отношения «мать – дитя». Я провел границу между сутью мастурбации маленького ребенка и мастурбации подростка или взрослого (Hirsch, 1989d). Мастурбация маленького ребенка кажется мне в меньшей степени выражением сексуального желания, которое направлено на достижение кульминации и последующей резкой разрядки, чем способом обеспечить длительное состояние возбуждения и ощущения существования тела и его границ. Поэтому я отношу раннюю мастурбацию, несмотря на ее сексуальный характер, к физической деятельности, которая успокаивает ребенка в состояниях напряжения и одиночества, а их нельзя понимать как эквиваленты первичной сексуальности на базе драйвов. Поэтому я выступаю против непродуманного обозначения всех детских «вредных привычек», т. е. аутоагрессивной деятельности, направленной на тело как на объект, в качестве «аутоэротических» эквивалентов мастурбации, согласно (раннему) психоанализу.
Херманн рассматривает привычку сосать палец.
Как сам палец в случае привычки его сосать, так и то, за что хватается ребенок в стремлении прикрепиться, идентифицируется с матерью. «Покинутый» матерью ребенок фантазирует, что он одновременно ребенок и мать в состоянии скрепления (Hermann, 1936, S. 70).
Херманн напрямую возводит влечение к прикреплению к соответствующему поведению детенышей приматов, которые цепляются пальцами за шерсть матери. Таким образом он вводит новое измерение кожи: она уже не орган восприятия ребенка, а адресат потребности в контакте, т. е. кожа матери становится целью ищущей руки детеныша. Рука, пальцы и, как я хотел бы добавить, ногти представляют составляющую ребенка, а кожа (мех, волосы как нечто прилегающее к коже) – составляющую матери в их взаимоотношениях.
Здесь последует история пациентки, которая постоянно отыгрывала «прикрепление» к «меху» и, кроме того, испытывала трудности с кольцом, связывавшим ее с партнером, которого она давно и сознательно оставила.
Генриетта Вейсвейлер
Госпожа Вейсвейлер изначально пришла в терапию из-за проблем с партнером, спросила о возможности терапии пары, но в ходе диагностических интервью рассталась с партнером и начала аналитическую психотерапию из-за проблем в отношениях, сопровождающих ее всю жизнь. Однажды она начала сессию так. Она хотела рассказать кое о чем странном: у нее есть привычка заталкивать волосы под ногти, так чтобы кончики ее довольно плотных волос попадали под ногтевую пластину. Кожа под ногтями из-за этого становится очень чувствительной и когда она прижимает кончик пальца к ногтю, она испытывает приятную боль. Боль – это именно то, чего она добивается. При этом она производит неестественное движение большим пальцем левой руки, чтобы волосы попали под ноготь этого пальца. Сейчас у нее воспалилось сухожильное влагалище, из-за чего она почти не может действовать рукой, движения становятся слишком болезненными. Она делает это со времен школы, в основном в одиночестве, но непроизвольно также во время совещаний, когда ее мысли отвлекаются. Началось это в возрасте 10 или 11 лет, но в последнее время из-за расставания с партнером привычка обострилась. У нее есть и другая привычка: она ковыряет пальцами кожу вокруг пупка. Это не причиняет боли, вызывает только приятное чувство, но привычка очень навязчива. Я говорю, что это похоже на двух человек, которые имеют дело друг с другом. Да, она уже подумала, что игра с пупком заменяет мастурбацию. Она часто пыталась «научиться мастурбировать», но почему-то с ней это не работает, ей обязательно нужен другой человек, мужчина. У нее есть подозрение, что кто-то мог жестко вмешаться, когда она пробовала делать это ребенком. Она может вспомнить, что когда она ребенком чувствовала сильный позыв помочиться, она держала руки внизу живота, и взрослые сурово запрещали ей это делать. Я рассказываю ей сцену, которую однажды наблюдал, когда мать, госпожа Куадбек, хотела принести на сеанс терапии своего семимесячного ребенка, который плохо засыпал по ночам. Мать говорила и говорила, ребенок лежал у нее на руках, совершенно спокойный, радостно улыбающийся и играл с ниспадающими волосами матери, наматывал их на руку, хватал, тянул и отпускал. (Конечно, ребенку терапия была не нужна, в большей степени она была нужна матери, которая ее и начала. 17 лет спустя «ребенок» снова пришел ко мне и прошел успешную полуторагодовую подростковую терапию.) Я добавляю к этому, что ребенок выстраивает при помощи волос полуреальную, полусимволическую связь с матерью и что многие девушки задумчиво накручивают свои волосы на палец, кроме того, если они при этом в одиночестве, кладут в рот большой палец другой руки и мечтательно смотрят вдаль. Госпожа Вейсвейлер признается, что она тоже делала это в возрасте 17 или 18 лет. И тогда она, поскольку уже ознакомилась с соответствующей психоаналитической литературой и пришла к идее мастурбации, для которой необходимы как бы два человека и которая замещает отношения с возлюбленным, говорит: «Если человек с помощью собственного тела создает себе партнера, то в этом случае он получает то, чего недополучил от матери».
Сейчас она понимает свой симптом как желание отношений. Своего давно повзрослевшего сына она до сих пор естественным образом обнимает, но не может представить, как обнимает свою мать. Физические контакты в ее семье были крайне ограниченны. Родители никогда не прикасались друг к другу, по крайней мере, на глазах у других, между отцом и пациенткой не было никакого телесного контакта – это было просто табу. Конечно, у нее нет конкретных воспоминаний о самом раннем детстве, но она представляет себе отсутствие контакта, нехватка которого вызвала агрессию и потребность испытывать боль. Но потом возникает позитивный образ матери. Когда госпожа Вейсвейлер родилась, она была совсем маленькой, ее вес при рождении был таким низким, по рассказам матери, что ее нужно было положить в инкубатор. Но мать взяла новорожденную домой. Однажды она спросила тетю, что происходило в ее дошкольном возрасте, о котором у нее не было никаких воспоминаний. Тетя рассказала, что родители часто ездили с ней к бабушке и дедушке, у которых вся семья чувствовала себя очень хорошо, а дети могли резвиться на свежем воздухе. Тогда ей приходит в голову другая история: она тогда была совсем маленькой, ей нужно было спать днем, и она это ненавидела, никогда не засыпала, а однажды она выпуталась из пеленок и измазала всю стену какашками. В другой раз она встала (опять же не могла уснуть) и забралась на подоконник. Окно было открыто, она смотрела на улицу, квартира была на четвертом этаже. Мать вошла в комнату и закричала от ужаса. По меньшей мере, дважды она отбивалась от матери: один раз ее привели назад чужие люди, другой раз – полиция. В детстве у нее не было сладостей, но она с удовольствием облизывала соленые бульонные кубики или просто соль. Госпожа Вейсвейлер понимает, что мать была неправа, отправляя ее спать днем, бездумно оставляя окно открытым, отказывая ребенку в контакте, так что девочка могла просто убежать. Ее сестра обращается со своими детьми похожим образом, «бездумно». Поэтому ей в детстве приходилось заполнять эту пустоту чем-то собственным, будь то размазывание какашек, побеги, игра с пупком или с волосами и ногтями. Она возвращается к своим привычкам. Это имеет мало отношения к настоящему, к тому, есть ли у нее сейчас партнер или нет, получает ли она нежность или сексуальный контакт – привычка остается. Я интересуюсь, меняется ли интенсивность в зависимости от положения дел. Да, она говорит, что бывали времена, когда она была одна и меньше нуждалась в этом. Я рассказываю ей историю пациентки, которая с шестилетнего возраста, когда мать обругала ее за привычку грызть ногти перед другими людьми, когда они были в гостях, перестала грызть ногти, но стала обдирать и откусывать кожу вокруг ногтей, и эта привычка остается у нее до сих пор. Этот устойчивый симптом исчез внезапно и полностью, когда у нее родился первый ребенок. Госпожа Вейсвейлер может это понять: «Когда у меня на руках был ребенок, у меня не было свободной руки…» У нее больше физического контакта с ее ребенком, чем у родителей с ней. Я предполагаю, что, возможно, она смогла восполнить нехватку, получить от своего ребенка то, в чем отказывали ей родители. Теперь она думает о том, чтобы пройти курс гончарного дела, потому что там есть контакт между руками и материалом. Я соглашаюсь, что это конструктивный, творческий контакт с глиной, с материнской землей («материал» и «мать»). «Да, я же не могу сделать себе партнера из глины», – замечает она с иронией.
В начале другой сессии у нее появляется обычный ритуал, совершенно бессознательный. Она понятия не имеет, что этим компульсивным действием она предотвращает опасности анализа, выстраивает оборону против них (согласно Огдену (Ogden, 1989), даже маленькие ритуальные привычки представляют собой аутистически-успокаивающую защиту). Она всегда приходит на две минуты позже, но идет в туалет, проходит уже четыре минуты, потом она снимает сапоги – пять минут… «Я хочу поговорить о своем физическом состоянии». – «Есть особый повод?» – «Нет, но мы должны говорить обо всем, о человеке в целом». Она страдает от слабой соединительной ткани, у нее такие же вены, как у отца, она унаследовала от него камни в почках, но в остальном она редко болеет. Первый раз она попала в больницу во время рождения сына, во второй – из-за странного случая: она была еще студенткой, была замужем, сын был маленьким, но при этом у нее был мужчина, который жил далеко за городом. Ее знакомый работал на фирму, откуда можно было бесплатно звонить, и она часто пользовалась этой возможностью, чтобы говорить со своим другом, потому что телефонные разговоры тогда стоили довольно дорого. Однажды она совсем забыла о времени, было поздно, и двери фирмы уже давно заперли. Ей пришлось лезть через забор, наверху которого были стальные заострения, и она зацепилась за одно из них обручальным кольцом и повисла на нем, когда спрыгивала. Как впоследствии сказал врач, безымянный палец был «освежеван». Друзья привезли ее в больницу, палец смогли спасти, и с тех пор она уже 20 лет не носит кольца. Тогда она корила себя и говорила, что ей нужно держать руки подальше от отношений. Когда она ребенком однажды наблюдала мать за шитьем, та случайно прострочила швейной машинкой палец, в другой раз она ездила к своему парню и, пока рубила дрова, отрубила себе кончик пальца… Бывают фазы, когда она говорит себе, что ей нужно держать пальцы при себе, она сама не знает точно, что это значит. Возможно, несчастный случай был наказанием за отношения. Но это не имеет большого смысла. Я еще раз спрашиваю ее о значении, и она тут же говорит: «Но я тогда была очень влюблена…» И все же она нелегально говорила по телефону и завела отношения не с отцом своего ребенка. Ее сознательные моральные установки как студентки левых взглядов были противоположными, но в ней были живы и установки матери. Та упрекала дочь за любовника, когда та еще была официально замужем – католическая мораль. Обручальное кольцо, конечно, служило связью с мужем, хотя она давно его бросила. Но оно обозначало и связь с моральными установками матери. Мать постоянно подчеркивала, как тяжело иметь троих детей. Нужно стирать за ними в тазу, тогда не было стиральной машины, ради детей пришлось бросить работу: госпожа Вейсвейлер была старшей дочерью, т. е. виновной в том, что мать стала матерью, она отобрала у матери свободу и карьеру. Но похоже, что пациентка всю жизнь сражалась с чувством вины за собственное существование (я называю это базовым чувством вины – Hirsch, 1997): она всегда была проблемным ребенком, для своей семьи она была слишком живой, в то время как другие дети были и остались флегматичными. Она всегда бунтовала и «высовывалась» (размазывание какашек и побеги). Несчастный случай, с одной стороны, означал наказание за стремление к свободе, к выходу из брака, отделению от матери (или ее установок) и т. д. С другой стороны, из-за несчастного случая она с болью освободилась от этих привязанностей.
Приведенная ниже заметка из газеты о реальных событиях отлично подходит к истории госпожи Вейсвейлер.
Взломщик оторвал себе палец при побеге
Вечером вторника взломщик оторвал себе палец во время побега. 35-летний мужчина вломился в сигнальную будку Музея техники на улице Треббинер в Кройцберге. Когда сработала сигнализация, он выпрыгнул из окна с высоты пяти метров. Двое охранников преградили ему дорогу. Тогда он взобрался на трехметровый забор и повис на нем, зацепившись за забор кольцом на среднем пальце правой руки. Палец оторвало. «Взлом того не стоил», – сказал он, когда вернулся на место преступления и обратился за врачебной помощью. Врачи не смогли пришить палец (Tagesspiegel, 7 juni 2007).
Перионихомания
В качестве примера патологии драйва прикрепления Херманн приводит симптом, который он описывает как «привычку обдирать кожу вокруг ногтей», а я обозначал как «перионихоманию» и «перионихофагию». Речь идет о форме самоповреждения кожи посредством «расцарапывания, расковыривания» ложа ногтя и кожи вокруг ногтей («пери-»), часто совмещенного с откусыванием и проглатыванием кусочков кожи. Поскольку привычка грызть ногти называется онихофагией, я присоединил к этому слово «кожа» («пери-») – так и сложился термин. Если привычка ограничивается расцарапыванием кожи без откусывания и проглатывания, я говорю о перионихомании – термины отсылают к трихотиллофагии и трихотилломании соответственно. «Расцарапывание ложа ногтя» стоит в одном ряду с многочисленными подобными регрессивными привычками, такими как покачивание всем телом, привычка нюхать свою кожу, определенные положения тела, например, постоянное трение стоп друг о друга или привычка просовывать руку между бедер, скрежетание зубами, различные формы повреждения кожи или привычки грызть предметы (карандаш), а также кусание губ[14] и слизистой оболочки щеки, взаимодействие с ноздрями, слуховым проходом и анусом. Родственными феноменами можно назвать навязчивое сдирание корочки с заживающих ран, частично связанное с проглатыванием корочки (это невротическая экскориация кожи, т. е. форма самоповреждения), а также расцарапывание очагов поражения экземы и то, что дерматологи называют экскориированными акне, т. е. выдавливание прыщей. Эти формы самоповреждения кожи часто начинаются со случайных небольших повреждений или царапин, от которых исходит некая магическая притягательная сила, как будто они выступ, за который можно уцепиться, или крюк на глади отвесной скалы. Или же у человека возникает ощущение, что избавление от недостатков кожи означает освобождение от дурного, опасного объекта – части тела, от которой нужно избавиться как от струпа на заживающей ране (который на самом деле «хороший» и как раз служит выздоровлению). Все это в большей или меньшей мере самоповреждающее поведение кажется средством преодолеть невыносимые, в крайнем случае доходящие до психоза напряжение и страх пустоты, поскольку она представляет собой, как я думаю, присутствие воображаемого материнского объекта в собственном теле.
Собственно привычка при перионихомании состоит в навязчивом соскабливании, разрывании и расковыривании кожи вокруг ногтей, а также отодвигании и отрывании кутикулы, из-за чего возникают кровотечения, воспаления, смещение ногтевого ложа и глубокие канавки на ногтях вследствие нарушения их роста. Действия со стороны одного ногтя на кожу другого пальца часто связаны с кусанием частей кожи, на которых есть шрамы или выступы, откусыванием, жеванием и проглатыванием кусочков кожи. Часто используются такие инструменты, как пилочки и ножницы. Клиническое наблюдение позволяет сделать заключение о глубинной связи привычек сосать палец, грызть ногти и перионихофагии. Кафка (Kafka, 1969, S. 209) рассказывает о пациентке, которой в детстве строго запрещали сосать палец. У пациентки были аутоканнибалистичные фантазии, и иногда она ела «небольшие <…> кусочки кожи и плоти со своих пальцев». Пациент из моей практики рассказывал, что, когда ему было 8 лет, ему было ужасно неловко, если мать упрекала его за привычку грызть ногти, когда приходили гости (своего рода терапия отвращения, которая использует стыд в своих целях). Он сразу же прекратил это делать, но стал ковырять и кусать кожу вокруг ногтей, и привычка осталась с ним вплоть до зрелого возраста. Эта непреодолимая привычка исчезла, когда пациент стал отцом.
Когда Розали Янц была крайне истощена анорексией, она кусала кожу вокруг почти всех ногтей до крови. Когда вес начал расти, она стала кусать ее меньше, а когда достигла «нормального веса», т. е. того, который был до анорексии, проблема с пальцами исчезла.
Георг Бюхнер спрашивает в «Смерти Дантона»: «Как долго человечество будет жрать свои члены в извечном голоде?».
При перионихомании действуют два враждебно настроенных друг к другу партнера – кожа и ногти, а перионихофагия – расширение симптома: зубы перенимают роль врага, глотание обозначает инкорпорацию части тела, которая должна ощущаться как «хорошая» (иначе зачем нужно что-то добавлять к «Я» посредством инкорпорации?). В конце концов все успокаивающие привычки, связанные с телом, от якобы рефлекторного сосания пальца до использования типичного переходного объекта, а также соответствующие патологические привычки в зрелом возрасте, призваны преодолеть выход из первоначальной диады «мать – дитя» на более или менее символическом уровне. Как волосы при трихотилломании, кусочки кожи можно понимать как связующие объекты. Дери (Deri, 1978, S. 54) описывает «аутоэротическую деятельность», к которой относится и описанное симптоматическое поведение как «редуцированный переходный объект». Есть множество примеров более или менее символического замещения отношений «мать – дитя» посредством сосания пальца, привычки грызть ногти и перионихомании. Херманн (Hermann, 1936, S. 70) рассказывает о трехлетней девочке, которая не переставала сосать палец, несмотря на все усилия, и объясняла это тем, что «не может спать одна». Восьмилетняя дочь пациентки из моей практики отвечала на пожелание матери, чтобы ребенок меньше смотрел телевизор (телевизор как орально-регрессивный феномен): «Ну, ладно, тогда я буду грызть ногти!».
20-летняя пациентка Антье Ингерфельд впервые в жизни завела «настоящего парня». Днем и ночью она вместе с ним, у них налажен физический и сексуальный контакт, она «счастлива». Ее больше не мучит вздутие живота, ее ногти снова растут, потому что она их не обкусывает, она похудела, ее нынешний вес идеален, как ей кажется. Удачные любовные отношения делают соматические проблемы излишними. В другом примере трехлетней девочке все время приходилось следить за своим трехлетним братом, т. е. брать на себя функцию матери, против чего она бунтовала, но у нее не было шансов снять с себя эту обязанность. Позже, будучи пациенткой, она рассказывала, что буквально приучила брата грызть ногти – хотела занять его, чтобы он мог быть предоставлен сам себе.
Согласно изначальной идее драйва прикрепления, по Херманну, с одной стороны, рука и пальцы и, с другой стороны, кожа и шерсть используются как средство образования связи. Для понимания перионихомании мне кажется важным следующий аспект: ноготь одного пальца и кожа другого вступают друг с другом в ощутимый посредством боли контакт, обе стороны выстраивают отношения «мать – дитя» и служат репрезентацией недостаточных или отсутствующих объектных отношений, дефицитный характер которых содержится в деструктивности симптома. Боль и саднящая кожа – знаки агрессии, а посредством кусания и проглатывания содержащаяся в симптоме агрессия расширяется в орально-каннибалистическом ключе (перионихофагия). Особенно когда речь идет о привычке грызть ногти, многие исследователи указывают на содержащуюся в симптоме агрессию: рот и ноготь сражаются как два враждебных друг другу объекта (Schmideberg, 1935). Когда речь идет об обкусывании ногтей, ноготь опять же становится объектом раскусывания. Кусание – это агрессия, направленная против собственного тела, и при этом разрушается потенциально агрессивный орган, коготь, как будто в бой вступают два хищных зверя. Человек «кусает ногти, которые хотят вцепиться и разодрать» (Solomon, 1955, S. 393).
Женская грудь
Когда молодая киноактриса Скарлетт Йоханссон говорит: «Мне нравятся мои груди, я называю их моими девочками», – ей можно позавидовать, ведь это значит, что у нее не будет особых проблем с ее телом, женственностью и, в конечном счете, с ней самой. Совсем другое дело, когда вы беседуете с обычными молодыми людьми: «Почти ни одна из молодых женщин, которых мы обследовали, не воспринимала свою грудь с радостью, куда чаще встречались отрицание и неприятие физических изменений. Такие негативные переживания особенно ярко проявляются у тех, кто сообщает о себе, что были похожи на мальчика до пубертата и чувствовали себя соответствующе… Но и у остальных негативные чувства преобладают. „О черт, что это, я такого не хочу“, – говорит 16-летняя Катрин А. о своих чувствах. „Мне как-то не хотелось этого, не хотелось, мне казалось отвратительным все это бултыхание впереди“, – рассказывает 15-летняя Франка Дуден» (Flaake, 2001, S. 109 и далее). Карин Флааке изучила 20 девочек-подростков, которые ходили в гимназию или общую среднюю школу. «То, что моя грудь выросла, тоже казалось мне не очень красивым, мне хотелось это скрыть», – сказала 13-летняя Яна Имрот. «Потребность скрыть грудь <…> может выражать желание защитить себя от неоднозначных или сексуальных взглядов со стороны окружающих – матери, отца, мальчиков и мужчин» (там же, S. 111). Развитие груди – это, безусловно, заметный признак взросления. Такое изменение тела большинство девочек, исследованных Флааке, сначала воспринимают отрицательно. С другой стороны, они являются объектами желания и, по крайней мере, позитивно воспринимаются наблюдателями, и это внушает надежду на то, что подростки или женщины однажды смогут воспринимать их так же.
Растущая грудь, таким образом, указывает на отделение от детства и развитие девочки в женщину, и, согласно принципу дисморфофобии, она слишком часто становится местом проекции конфликтов, страхов и других проблем, которые возникают у девочки в связи с ее новой, в том числе сексуальной, идентичностью женщины. Возможно, из-за ее относительной видимости «грудь в нашей культуре является одним из центральных символов женской сексуальности» (Flaake, 2001, S. 109). Флааке (S. 248) цитирует Фриггу Хауг (Haug, 1988, S. 90): «Женская грудь не бывает невинной, ее сексуализация совпадает с ее возникновением». Для Фригги Хауг «сексуализация „невинных“ частей тела происходит главным образом <…> через установление значения, связывание знаков в реферальную систему» (там же). «Но грудь никогда не бывает „невинной“, поскольку она напоминает ранний эротически-чувственный контакт с матерью при грудном вскармливании» (Flaake, 2001, S. 248). Грудь не «невинна» не только из-за придания ей смысла, но и поскольку эротически-чувственный контакт матери и ребенка может вполне конкретно воздействовать на сексуальное возбуждение при кормлении. Можно только надеяться, что молодая мать не переживает это возбуждение ребенка как опасное, а может наслаждаться этим «эротически-чувственным контактом». Каким может быть эволюционно-биологический смысл того, что раздражение сосков (у мужчин, кстати, тоже) вызывает сексуальное возбуждение? Следует ли напоминать кормящей матери, что она отнюдь не только мать, но и сексуальное существо, нужно ли ей возбудиться, чтобы снова иметь сексуальную жизнь и, возможно, снова забеременеть? Так ли это задумано природой (эволюцией)? С другой стороны, говорят, что грудное вскармливание, как правило, предотвращает повторные беременности гормонально или психологически, поскольку молодая мать может чувствовать себя всецело погруженной в заботы о ребенке, а для мужчины больше нет места.
Одна пациентка рассказывает, что ее первый ребенок, дочь, родилась у нее во время учебы. Она была в эйфории по этому поводу. После родов у нее практически не было сексуального контакта с супругом. Когда два года спустя гинеколог сообщил ей, что она беременна, она первым делом подумала: «От кого?». Затем родился сын. В то время когда она кормила его грудью, она могла бы убить своего мужа, если бы тот захотел приблизиться к ней. У нее было ощущение, что ее тело принадлежит ее ребенку! Замечательное чувство, когда молоко подступает к груди, молочные протоки заметно расширяются, и молоко течет словно само по себе! Все так и осталось, она продолжала отвергать мужа. Еще одна пациентка проходила комбинированную одиночную и групповую психотерапию, забеременела во время терапии и после рождения принесла свою дочь в группу. Она всегда находилась в хорошем контакте с младенцем, брала девочку на руки, когда та беспокоилась, и, конечно, кормила ее. После рождения ее второго ребенка, Джонатана, она вернулась к краткосрочной терапии, потому что не всегда могла держать свою агрессию против дочери под контролем. Она также приносила своего мальчика на каждую сессию, когда тому было около десяти месяцев. Это был очень милый, дружелюбный ребенок, но иногда ему не нравилось, что, когда мама говорит о себе, она недостаточно заботится о нем. Тогда тоже считалось само собой разумеющимся кормить ребенка на сессии. В эти моменты Джонатан торжествующе смотрел на меня, терапевта его матери, с соском во рту, а левой рукой он держался за полную грудь. Он пьет, мать говорит, это ему снова не нравится, он кусает грудь, чтобы снова привлечь внимание. Он управляет телом матери как своей собственностью. «Тут мужчине уже нет места», – говорю я в связи со своими контрпереносными чувствами, будто меня отвергли. При этом пациентка не возражает, чтобы ее муж подходил и гладил ее, чтобы она получала поглаживания. «Да, вы не возражаете, когда он вам что-то дает, ведь вы так много должны отдавать маленькому мужчине, но ваш супруг ничего не получает», – говорю я.
Связь и сексуальность объединяются в образе и реальности груди. Так же как в значении материнских волос, сексуальное сливается с первоначальным драйвом к образованию связи. «У меня теперь есть грудь» указывает на новую идентичность девочка-подросток, «Я хочу женскую грудь» – сексуально-тоскливый взгляд мужчины на женскую грудь, конечно, содержит в себе ностальгию о потерянном рае единства матери и младенца. Мужской взгляд на грудь может восприниматься как посягающий и угрожающий. То, как подростки переживают физические изменения, во многом зависит от того, что это означает для важных опекунов (семьи), и того, как они реагируют на эти изменения. Мать может выразить стыдливо-пренебрежительную ревность из собственной зависти (к молодости), отец – из подавленного страха инцеста. С другой стороны, полные желания взгляды также могут означать оценку зарождающейся женской идентичности.
18-летняя девушка сообщает, что ее первоначальное негативное отношение к груди изменились с ее интересом к мальчикам: «Я не заметила, как выросла моя грудь <…>, в какой-то момент я стояла перед зеркалом и подумала: „Боже, она уже такая большая“. Я была просто в шоке. Как-то я стояла там и не могла в это поверить. Сначала меня это раздражало. Мне почему-то не нравилось, что она там под майкой и ее видно <…>, но постепенно я начала думать, что это красиво. Ну, когда я начала водиться с мальчиками, я стала думать, что это красиво <…>, а раньше мне это не нравилось» (Flaake, 2001, S. 112).
Одна беременная пациентка незадолго до рождения ребенка сообщает, что ее родители хотели бы, чтобы она была мальчиком (она отказывается узнавать пол ребенка до рождения). Долгое время она пыталась подчиниться им, но в конце концов поняла, что стала успешной как девочка. С другой стороны, она определенно не хотела, чтобы ее любили за грудь или другие формы, она носит глубокое декольте, когда это имеет смысл, но не хотела бы, чтобы все к этому сводилось: «тело и разум» должны цениться наравне.
Однако взгляд на женскую грудь не лишен проблематики, своего рода дилеммы. Мужчина (или женщина, почему бы и нет, как потенциальный соперник?) должен видеть ее и в то же время не видеть. Закон разрешает нам ездить с непокрытой грудью в Нью-Йоркском метро, но тот, кто хоть на секунду задержит на ней взгляд, может угодить в тюрьму. Когда женщины действительно начали публично демонстрировать свою грудь без ограничений? (Хотя молочные железы повсеместно называют грудью, это неправильно, ведь грудь[15], подобно морскому заливу, – это углубление между молочными железами. И то и другое вместе называют «бюст»). Из-за того, что начиная, по крайней мере, с эпохи Возрождения (это можно считать по многочисленным портретам женщин и Богоматери), демонстрация декольте стала социально приемлемой, и с тех пор у окружающих появилась возможность рассматривать грудь. При этом сами молочные железы оголились, только когда закончился процесс социальной пропаганды законного брака. Иначе говоря, рассматривание ложбинки между грудями скорее разрешено, чем рассматривание самих молочных желез. Если эта ложбинка женственна, как любое углубление, то ее комбинация с возвышением, мужским элементом, превращает грудь в фетишистский объект, мужской и женский одновременно, как и обувь-фетиш, которая сочетает в себе фаллическую форму и женское углубление. Так можно объяснить магнетизм женской груди для полных желания мужских взглядов. Грудь только угадывается в зависимости от формы лифа, но декольте должно обязательно привлекать внимание и, конечно же, побуждать к сексуальному акту как конечной цели. Однако смотреть на нее прямо запрещает порядочность и такт, и это все еще так. Симона де Бовуар знала о двойной игре женщин и дилемме для мужчин.
В своей гордости за то, что она вызывает интерес и восхищение мужчин, она возмущена тем, что ее, в свою очередь, захватывают в плен. <…> Взгляды мужчин льстят ей и причиняют ей боль одновременно. Глаза всегда проникают слишком глубоко (de Beauvoir, 1989, S. 334, цит. по: Flaake, 2001, S. 248).
Проблема становится еще острее сегодня, когда появляются футболки с текстом: текст следует прочитать, и он привлекает дополнительное внимание к женской груди.
Наблюдатель не воспринимается как читатель мелкой надписи, он – тот, кто пялится на грудь. Оправдываться бесполезно. Слова не помогут. Остается только молча отвести глаза. Проблема: снова и снова глаз задерживается на надписи, совпадающей со всхолмиями груди, пока все вокруг не заметят это, в том числе окружающие. <…> В этом проблема: текст на футболке располагается точно по груди, лучше я этого не могу выразить. Любой, кто начинает читать, попал в ловушку. Его поймали. Неловко быть тем, кто пялится. Действительно ли женщины этого хотят? Боюсь, что да. <…> О да, я видел футболку, где было написано: «Над грудью у меня еще есть голова». Эта надпись пока понравилась мне больше всего. Я внимательно перечитал предложение несколько раз (Hordych, 2004).
Хотелось бы вспомнить и то, с какими трудностями перед обнаженной грудью на пляже сталкивает своего героя Паломара Итало Кальвино (Calvino, 1983, S. 14 и далее).
Голая грудь
Паломар прогуливается по побережью. <…> Вот лежа загорает молодая женщина с открытой грудью. Скромный Паломар спешит перевести свой взгляд к морскому горизонту. Он знает – в подобных случаях, заметив незнакомца, женщины часто спешат прикрыться, но не видит в этом ничего хорошего: и потому, что смущена купальщица, спокойно загоравшая, и потому, что проходящий чувствует: он помешал, и потому, что в скрытой форме подтверждается запрет на наготу; к тому же половинчатое соблюдение условностей ведет к распространению неуверенности, непоследовательности в поведении, вместо свободы и непринужденности.
Вот почему, едва завидев бронзовое с розовым облачко нагого торса, он скорее поворачивает голову так, чтобы взгляд его повис в пространстве, гарантируя почтительное соблюдение невидимой границы, окружающей любого индивида.
«Однако, – рассуждает он, шагая дальше и, как только горизонт пустеет, вновь давая глазу волю, – действуя подобным образом, я лишь подчеркиваю свой отказ смотреть и в результате закрепляю условность, в соответствии с которой обнажение груди считается недопустимым; иначе говоря, я мысленно подвешиваю меж собой и грудью – молодой и привлекательной, как я сумел заметить краем глаза, – воображаемый бюстгальтер. В общем отведенный взгляд показывает, что я думаю об этой женской наготе, она меня заботит, и, по сути дела, это тоже проявление бестактности и ретроградства».
По пути обратно Паломар глядит перед собою так, чтобы взгляд его с одним и тем же беспристрастием касался и пены волн, и лодок на песке, и постланной махровой простыни, и полнолуния незагорелой кожи с буроватым ореолом в окружении соска, и очертаний берега, сереющих в мареве на фоне неба.
«Ну вот, – довольно отмечает он, шагая дальше, – грудь стала как бы частью окружающей природы, а мой взгляд – не более докучливым, чем взгляды чаек и мерланов».
«Но справедливо ль это? – размышляет он затем. – Не низвожу ль я человеческую личность до уровня вещей, не отношусь ли к отличительной особенности женщин просто как к предмету? Не закрепляю ли я давнюю традицию мужского превосходства, породившую со временем привычную пренебрежительность?»
Он поворачивается, идет назад. Скользя по пляжу непредубежденным, объективным взглядом, он, как только в поле зрения оказывается нагая грудь, заставляет взгляд свой очевидным образом прерваться, отклониться, чуть ли не вильнуть. Наткнувшись на тугую кожу, взгляд его отскакивает, будто отмечая изменение консистенции картины и ее особенную значимость, зависнув на мгновение, описывает в воздухе кривую, повторяющую выпуклость груди – уклончиво и в то же время покровительственно, – и невозмутимо двигается дальше.
«Наверное, теперь моя позиция ясна, – решает Паломар, – и недоразумения исключены. Но вот не будет ли такой парящий взгляд в конце концов расценен как высокомерие, недооценка сущности груди, ее значения, в определенном смысле оттеснение ее на задний план, куда-то на периферию, как не стоящей особого внимания? И грудь из-за меня опять оказывается в тени, как долгие столетия, когда все были одержимы манией стыдливости, считали чувственность грехом…»
Подобное истолкование не соответствует благим намерениям Паломара: он хотя и представляет зрелое поколение, привыкшее ассоциировать грудь женщины с интимной близостью, однако же приветствует такую перемену нравов – и поскольку видит в ней свидетельство распространения в обществе более широких взглядов и потому, что данная картина, в частности, ему приятна. Такую бескорыстную поддержку и хотел бы выразить он взглядом.
Повернувшись, он решительно шагает снова к загорающей особе. На сей раз взгляд его, порхая по пейзажу, задержится с почтением ненадолго на ее груди и тут же поспешит вовлечь ее в порыв расположения и благодарности, которые он ощущает ко всему – к солнцу, небесам, корявым соснам, дюнам, к песку и скалам, к водорослям, облакам, к миру, обращающемуся вокруг вот этих шпилей в ореоле света.
Что, конечно, совершенно успокоит одинокую купальщицу и исключит возможность всяких недоразумений. Но она, увидев Паломара, вскакивает, прикрывается и, фыркнув, поспешает прочь, с досадой поводя плечами, словно подверглась домогательствам сатира.
«Мертвый груз традиции безнравственного поведения мешает по достоинству оценивать и просвещеннейшие побуждения», – горько заключает Паломар[16].
Психосоматика
Больное тело «действует» на «службе матери»
Моя пациентка Цилли Кристиансен с расстройством пищевого поведения, с которой мы уже сталкивались (она купила пакет яблок, чтобы сделать своему телу что-то хорошее), видит в своем теле врага. Оно «производит» прыщи, или же снова у него грибок. У нее возникает чувство, что ее тело такое же толстое, как тело матери. Она воспринимает свое тело как предателя: «Вероятно, оно не принадлежит мне, оно на службе матери!». – «Тогда ваша мать всегда с вами», – говорю я. Она возражает: «Если бы симптом ограничивался одной частью тела, я бы ее отрезала, чтобы показать, кто тут сильнее!». Она не думает о том, чтобы сделать что-то для своего тела. Она не ухаживает за ним, едва двигается, неправильно питается, не бросает курить: «Я не позволю ему это заполучить!». Пакет яблок действует при этом как примиряющий дар.
Беатус Клаассен, молодой человек чуть старше 20, страдает от тяжелой формы язвенного колита. С начала заболевания его мать звонит регулярно, каждое воскресенье. Ее первый вопрос всегда касается его самочувствия. Он говорит мне: «Кишечник служит зацепкой для разговора с матерью!» Таким образом больной кишечник обеспечивает связь с матерью.
В ходе анализа Вероники Арндт идеализированный образ ее отца сменяется все более негативным. Ей снится сон о человеке, который подвергается уголовному преследованию за преступление. Его находят в доме пациентки с ужасно изуродованным лицом. Человек во сне ужасен, но на самом деле он не такой уж плохой. Она испытывает к нему смешанные чувства. Она держит своего мужа на расстоянии, не может выносить близость с ним, сексуальный контакт сейчас совсем невозможен. И вот перед каникулами в терапии у нее снова возникает вагинальный грибок, спустя несколько месяцев после прошлого проявления болезни. Она просыпается ночью перед сессией с сильным зудом и сразу же думает: «Теперь пять недель не будет твоего Хирша, но у тебя есть хотя бы такая защита от мужа». Я отвечаю: «Да, у вас есть связь со мной, вы сразу же думаете обо мне, и симптом – это связь со мной. В то же время он служит границей, защищающей от человека, который может оказаться слишком близко к вам», т. е. терапия должна иметь функцию триангуляции. Чуть позже она говорит: «Я не хочу горевать из-за каникул. Я хотела бы, чтобы случилось что-то из ряда вон выходящее и вы не смогли бы уехать». – «Что это может быть?» – «Мне в голову приходит только болезнь…» Болезнь держит мужа на расстоянии, но если бы я заболел, я не мог бы оставить ее. Болезнь разделяет и объединяет одновременно.
Подросток берет в руки бритву и атакует свое тело, свою поверхность. Истерика выражается посредством тела, но при самоповреждении само тело «действует» (Ференци) или «думает», как это выразили Бион (цит. по: Meltzer, 1984, S. 79) и Макдугалл (McDougall, 1978, S. 336). Гаддини (Gaddini, 1982) описывал это так, будто у тела есть фантазии, «протофантазии». Посредством своего поведения тело превращает и «Я», и само себя в жертву. Истерический симптом все еще полон символики, которую можно разгадать, поставить в осмысленный контекст. В то же время симптоматика его достаточно подвижна и может исчезнуть, если удается проследить ее значение. Но происхождение и смысл психосоматических реакций предельно скрыты от нас: здесь тело действует из глубин досимволического бессознательного. Вслед за Ференци (Ferenczi, 1919, S. 138) это можно представить как «протопсихику», неразделенную психосоматическую матрицу. Но нераздельны не только тело и психика: мать (с ее телом) также принадлежит к этому триединству («одно тело на двоих» – McDougall, 1987). Эту научную фантазию о триединстве можно назвать и «психосоматической триангуляцией» (Куттер, цит. по: Grieser, 2008): мать, ребенок и его тело. Насколько должно хватать силы воображения, чтобы обосновать загадочные связи между ранней материнской заботой и присутствием и физическим здоровьем, с одной стороны, и, наоборот, связь между дефицитом материнской заботы и обусловленными им общей болезненностью или хроническими симптомами, связанными с определенными органами. Как установить связь между определенной формой недостаточной заботы в раннем детстве (если ребенка мало держали на руках, ему не хватало физического контакта, возникали проблемы с кормлением и воспитанием гигиенических привычек, или же сыграли свою роль сексуальные страхи того, кто заботится о ребенке) и позднейшими симптомами, связанными с определенными органами: головокружением, кожными заболеваниями, нарушениями пищеварения, сексуальными расстройствами? Самоповреждение и конверсионный невроз, в особенности психогенный болевой синдром, можно понимать хотя бы отчасти как модель психосоматического явления. В таком случае мать, собственное «Я» и тело могут замещать друг друга, тело может становиться материнским объектом (его суррогатом), тело или отдельный орган могут демонстрировать нехватку чего-либо или повреждение, но в то же время и быть попыткой исправить это. «Части тела <становятся> заместителями недоступного, отказывающего объекта и в высшей степени аффективно оккупируются» (Kutter, 1981, S. 55). Сюда можно добавить избыточно стимулирующий, травмирующий объект. Эта оккупация своего рода деструктивным либидо разрушает или повреждает орган – представление о жертвоприношении части во спасение целого близко к этому. Области тела, которые Куттер (Kutter, 1980, S. 139) обозначил как «ампутированные части репрезентации тела», приносятся в жертву, чтобы спасти собственное «Я». Аналогичным образом Плассман (Plassmann, 1993) описывает «мертвые зоны тела» при искусственно вызванных заболеваниях, которые содержат (и связывают) патологические фантазии о «я-теле» и проекцию отрицательных репрезентаций частей («я-объектов» и тела). Такого рода концепции деформированных областей тела, которые связывают негативный объектный опыт и проявляются в форме болезни, можно свести к концепции конверсии Феликса Дойча (Deutsch, 1959). Дойч предположил, что ранняя функция символизации, с помощью которой переживается утрата объекта как утрата части себя, т. е. «я-тела» в самом раннем возрасте, восстанавливается посредством «ретроекции», возвращения в тело, но ценой повреждения части тела, которая является репрезентацией утраченного объекта. Поврежденный орган таким образом работает как пломба, которая заполняет дыру в «Я», как это наглядно описал Моргенталер в отношении сексуальных извращений (Morgenthaler, 1974), и обретает функцию замещения объекта.
Триангулирующая функция тела
Другая мысль Куттера (Kutter, 1980, 1981), скорее, отражает функцию защиты симбиотического объекта, т. е. негативную сторону амбивалентной потребности в объекте и страха перед ним: у больного тела есть функция триангуляции. Оно образует границу, барьер между угрожающим материнским объектом, воспринимаемым как вторгающийся. И дискуссия о том, можно ли рассматривать (больное) тело или его части как переходный объект, как «одеяло» или «плюшевого мишку», указывает на функцию дистанцирования, потому что в конечном счете переходный объект можно понимать в качестве первого триангулирующего объекта между материнским объектом и «Я» ребенка.
В контексте отщепления островков тела при психосоматическом заболевании, которые образуют мнимую автономию, неадресованность внешним объектам, можно рассуждать скорее о внутренних органах. О коже мы думаем скорее, когда речь идет о связи с объектом и защите от него. Не в последнюю очередь самоповреждающее поведение нацелено на кожу и отверстия тела. Анзьё (Anzieu, 1985) говорит о коже как о двойной мембране с функцией ограничения тела и одновременно установки контакта с внешним объектом.
Больное тело и функция замещения объекта
То, что больное тело, которое становится ощутимым и неприятным образом обнаруживает свое наличие посредством боли и нарушения функционирования, может встать на место объекта, совершенно очевидно, поскольку психосоматические симптомы часто появляются на фоне сепарации, т. е. утраты объекта. Фюрстенау с соавт. (Frstenau et al., 1964) обозначили оккупированное сердце сердечного невротика как замещение материнского объекта, словно неприятно дающий о себе знать орган заполняет лакуну и, как я бы добавил, проецирует на орган негативные эмоции, например страх и агрессию, вызванные утратой. Человек не может испытать эти эмоции и выражает их посредством нарушения работы сердца. Я описал психогенную боль как суррогат матери (Hirsch, 1989c). То, что боль может представить связь с объектами, проистекает уже из идеи Энгеля (Engel, 1959), согласно которой боль рождается из следов воспоминаний, памяти о травмах, нанесенных родительскими объектами в детстве. Боль, словно реминисценция (мысль, которую можно найти уже у Фрейда в «Очерках об истерии» – Freud, 1895) травмы и тесная связь с преступником, содержит и деструктивную агрессию травматичной ситуации из прошлого, и функцию защиты от угрожающей близости в смысле «Не прикасайся ко мне!».
Больное тело и функция установки границ
Функция замещения объекта, присущая психосоматическому симптому, не приводит к удовлетворительному равновесию между потребностью в объекте и страхе перед ним и не может решить базовый конфликт автономии и зависимости. Поскольку, как мы видели, границы «Я» и тела устанавливаются достаточно четко только в случае, когда опыт отношений с матерью достаточно хорош, травматичный опыт приводит к тому, что соответствующие эмоции, такие как агрессия, страх и боль, встраиваются в единое «я-тело». При синдромах самоповреждения искусственно созданная агированием граница «Я» и тела должна заместить границы «Я», которые отсутствуют или находятся под угрозой. При психосоматической же реакции, которую производит само тело, речь идет об отщепленных областях тела, которые связывают негативное, чтобы защитить целостное собственное «Я» в его стабильных границах.
Иногда психосоматическому проявлению придается смысл или, если сказать скромнее, возникает чувство, что симптом понятен и объясним.
Пациентка Анна Фильхабер, дочь выжившего в нацистском концлагере, страдала от проблем с позвоночником наряду с другими психосоматическими болезнями. Ее жизнь и особенно ее партнерские отношения были хаотичными. После длительного периода безработицы она нашла новую работу в качестве водителя школьного автобуса. Конечно, она боялась (и я тоже), что это будет тяжелым бременем для ее позвоночника и усилит боли в спине. Но к ее (и моему) удивлению, обнаружилось, что она смогла выполнять свою новую работу без боли, свободно и ловко. Только в выходные, которые она часто проводила вяло с новым партнером в своей квартире, возникала боль, когда, по ее словам, «одеяло падало ей на голову». Итак, здесь мы отчетливо видим контраст между автономией, представленной радостью вождения, в которой боль улетучивается, и слишком сильной близостью внешнего объекта, представленного партнером, который держится на расстоянии посредством психосоматики.