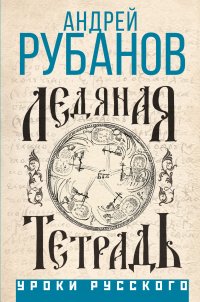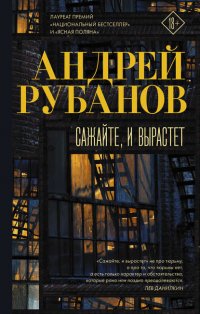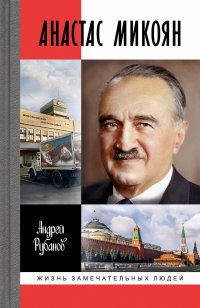Читать онлайн Человек из красного дерева бесплатно
- Все книги автора: Андрей Рубанов
© Рубанов А.В.
© Бондаренко А.Л., оформление
© ООО “Издательство АСТ”
Часть первая
1
В начале весны, в последний день масленичной недели, в нашем городе произошло ограбление и убийство.
Трагически кончил жизнь известный, уважаемый человек, историк – искусствовед Пётр Георгиевич Ворошилов, 65-летний обладатель коллекции старых икон и других редкостей, имеющих отношение к религии.
Одинокий житель благополучного района, хозяин собственного большого дома.
Крепкий, без признаков стариковской дряблости, в прошлом – перспективный московский учёный, кандидат наук. Затем – конец карьеры, переезд из Москвы сюда, на родину, в город Павлово – и вот: смерть.
Поздним вечером преступник разбил окно, влез в дом и похитил редкий предмет: часть деревянной статуи, голову женщины.
Деревянная голова хранилась в особой стеклянной витрине, которую злоумышленник также разбил.
На шум из спальни выбежал хозяин дома.
Что произошло дальше – никто не знал. Петра Ворошилова нашли мёртвым возле разбитой витрины.
На пульте дежурного по городу был отмечен звонок: Ворошилов успел сообщить о вторжении то ли непосредственно перед встречей с похитителем, то ли сразу после неё.
Следов насилия на теле не отыскали; по официальному заключению, несчастный умер от обширного инфаркта.
Таким образом, юридически случай не попадал под определение убийства – но городская молва постановила по-другому.
Учёного искусствоведа ограбили и убили – так решили люди.
Многие в городе интересовались этим происшествием. И я тоже.
Ворошилов был местный, н а ш е н с к и й. В своё время он считался небольшим столичным светилом, несильно, но полезно согревающим издалека свою малую родину. Искусствовед Ворошилов много лет разнообразно помогал городскому краеведческому музею. Он был одним из тех, кто добился сохранения исторической части городской набережной: ходил по инстанциям, по высоким кабинетам. Известно было, что Ворошилов персонально помог нескольким молодым людям, выходцам из нашего захолустья, действительно талантливым ребятам, поступить в лучшие московские университеты.
Однако широкая публика почти ничего не знала про Ворошилова.
Он выглядел просто как благополучный пожилой дядька, владелец кирпичного коттеджа. Он походил на чиновника средне-высокого уровня, ушедшего на заслуженный отдых, или на полковника в отставке.
Сверкнув в столице, сделав судьбу – человек вернулся домой, изнурённый житейскими бурями, – чтобы, может быть, прожить ещё одну жизнь.
Но не прожил.
Делом об ограблении занялся самый опытный следователь городской полиции Вострин, а в помощь ему дали оперативника Застырова, также – мастера в своём деле.
Что касается меня – я оказался замешан случайно.
Меня зовут Антип Ильин.
Я простой человек, деревянных дел мастер, столяр-краснодеревщик, и меня вовлекли в расследование гибели историка Ворошилова по причине профессиональной принадлежности.
Мне, как и другим жителям города, было важно, чтобы преступника нашли и наказали.
Никому не нравится, когда рядом происходит грабёж, наглый и беззаконный поступок; если сегодня вломились к соседу – завтра могут вломиться к тебе.
Я знал погибшего Петра Ворошилова, но не близко. Видел несколько раз – на городском рынке, в кинотеатре, на набережной.
Два года назад Ворошилов прочитал в нашей городской библиотеке лекцию о древнерусском храмовом искусстве, и так вышло, что я посетил ту лекцию, и она произвела на меня большое впечатление. Ворошилов показался мне талантливым специалистом, говорил интересно, видно было, что он увлечён, любит свой предмет всерьёз; его глаза горели. Послушать лекцию собралось немного желающих, в основном – пенсионеры из рядом стоящих домов, но зато приехало местное городское телевидение и показало сюжет про Ворошилова в вечерних новостях.
Тогда, два года назад, после лекции, я отыскал профиль Ворошилова в популярной социальной сети Newernet. Ворошилов редко обновлял информацию на своей странице, никаких записей не оставлял, только ссылки на свои статьи и редкие фотографии; среди них я увидел фотопортрет дочери Ворошилова.
Из любопытства я отыскал профиль дочери.
Её звали Гера, полное имя – Георгия, двадцать восемь лет, из Москвы; художник.
Я заинтересовался ею.
Гера Ворошилова активно пользовалась социальными сетями, публиковала фотографии своих работ: галлюциногенные орнаменты, спирали и концентрические круги, а иногда просто нагромождения пятен; картины показались мне образчиками абстрактного искусства и вызывали чувство тревоги, неразрешённой загадки; лично я не любитель такой живописи, не понимаю её. Насколько я понял, Гере Ворошиловой удавалось продавать свои работы, пусть за небольшие деньги, однако на хлеб и краски хватало.
Геру Ворошилову нельзя было назвать красивой. Уж не знаю, сильно ли она правила свои снимки в фотошопе, прежде чем обнародовать. Чуть широко расставлены глаза, узкие губы и крепкий, почти мужской подбородок с прорезанной продольной ямкой. Слабый плечевой пояс, сами плечи – острые, грудь маленькая, ноги стройные, но отнюдь не модельной длины; худенькая, миниатюрная девушка с умными глазами и приятной улыбкой. Одета всегда концептуально, со вкусом и вызовом, но без перебора.
Ни на одном фото, даже на постановочных профессиональных портретах, я не увидел дорогих украшений, бриллиантов в золотых оправах, и вообще, по многим косвенным признакам видно было, что Гера Ворошилова едва сводит концы с концами.
Богема, она принадлежала к богеме, все её следы в Сети, фотографии, тексты, ссылки – всё указывало на её специальный, особенный образ жизни; например, она работала до утра, а затем спала до полудня.
Помимо фотографий картин и фоторепортажей с вечеринок она вывешивала часто и небольшие тексты, записки. Я внимательно прочитал и обдумал все. Из записок следовало, что сама о себе как о художнике она невысокого мнения. Свои картины она считала декоративным искусством, потребным лишь для украшения жилищ. Картины делала специально большие, в рост человека – такие, чтобы можно было повесить на стену большого кабинета директора банка, или в квартире успешного кинопродюсера.
Я наблюдал за жизнью Геры Ворошиловой два года.
У меня никогда не возникало желания написать ей личное сообщение или раздобыть номер её телефона, чтобы позвонить ей и встретиться. Нет, мне нравилась именно позиция Того, Кто Смотрит Издалека.
Из её публикаций было ясно, что у неё нет ни мужа, ни детей.
Не следует думать, что я её обожал, был на ней как-то зафиксирован, был её воздыхателем. Она просто мне понравилась.
Я разглядел прятавшееся в её глазах лёгкое безумие, понятное всем сильным творческим людям; иногда её взгляд был слегка затуманен; она видела не только обычную, явную реальность, но и другие миры: тонкий мир, доступный медиумам и колдунам, и мир тайный, никому не доступный, но лишь предполагаемый.
И вот – оказалось, что отец Геры Ворошиловой погиб при странных обстоятельствах, и Гера Ворошилова – девушка, за которой я наблюдал издалека, – приезжает из Москвы в наш город хоронить отца.
Конечно же, я захотел её увидеть.
Конечно, я захотел помочь ей раскрыть тайну смерти, и стал участвовать в этом так активно, как только мог себе позволить.
Разумеется, я жалел Геру Ворошилову – на неё обрушился серьёзный удар. С другой стороны, я был уверен, что она легко перенесёт смерть отца. Она была умна, а умные легче переносят горе, и чем умнее человек – тем проще ему пережить тяжёлую потерю.
Предмет, похищенный из дома Ворошилова, – голова женщины – датировался примерно XII веком. Голова принадлежала деревянной фигуре, известной как Параскева Пятница, и считалась ценнейшей, уникальной находкой. Её с удовольствием готовы были принять в дар многие музеи. Но реализовать такую вещь за наличные, каким-либо частным коллекционерам, было невозможно. Таких коллекционеров просто не существовало; Ворошилов, судя по всему, был единственным в своём роде.
То есть преступник не собирался похищать голову с целью продажи.
Кроме деревянной головы, в той же комнате в доме Ворошилова хранилась целая деревянная статуя, предположительно святого Дионисия, – она не заинтересовала вора.
Далее, злодей не тронул висевшие на стенах иконы, также – ценные, редчайшие; как раз иконы можно было сбыть задорого и относительно быстро, но преступник иконы не взял, не коснулся даже: отпечатков не нашли.
Наконец, в спальне покойного стоял дорогой компьютер с большим экраном – злодей не взял и компьютер.
Следователь Вострин и оперативник Застыров допросили местных криминалов, барыг, жульё и бандитов, однако все урки в один голос поклялись мамой, что непричастны. Кому нужна отрубленная деревянная голова? Её ни продать, ни пропить, ни проколоть. Вдобавок, по слухам, украдена не простая голова, а конкретно голова статуи христианской святой, а воры в подавляющем большинстве – люди богобоязненные, без веской причины не будут брать грех на душу.
Следователь Вострин поговорил с настоятелем городского храма Святой Троицы отцом Михаилом: что за голова такая? Мог ли её украсть религиозный фанатик? Может, эта голова – святыня?
Отец Михаил – очень практический мужчина – только засмеялся и махнул рукой. Никакая не святыня, наоборот даже. Православные христиане не ставят в храмах деревянные статуи. Их, статуи, давно запретили, аж триста лет назад. Каноническими являются только двухмерные образа Христа, Богородицы и всех святых чинов. Остатки старинных деревянных изваяний для современной церкви представляют только узкий исторический интерес. Мог ли похитить деревянную голову религиозный безумец? Конечно, мог, безумцы бывают всякие, бывают и те, кто подчиняется бесам всецело. Но лично он, отец Михаил, не знает таких людей в своём приходе, и в случае с похищением головы советует следователю Вострину искать подозреваемого в картотеке городского психиатрического диспансера. Ни один нормальный верующий христианин, сказал отец Михаил, не будет красть и хранить куски старых храмовых статуй, никакого практического применения им нет, и место их – в музее, и больше нигде.
На отпевании и на похоронах я не присутствовал, но забежал на поминальный банкет – и там впервые увидел Геру Ворошилову в реальности.
В дорогом ресторане человек пятьдесят сидело за длинным столом. Я заметил главного по культуре из мэрии, и ещё среди прочих скромно маячил оперативник Застыров: делал свою работу, выглядывал подозреваемых.
На стоянке возле кабака сверкали две дорогие машины с московскими номерами: хоронить искусствоведа Ворошилова приехали его коллеги, двое мужчин и красивая женщина, блондинка без возраста; они, кстати, оплатили и полированный гроб, и поминальный стол с блинами и винегретами.
Но я видел москвичей только издалека.
В обычной ситуации Гера Ворошилова казалась бы привлекательной, но сейчас, в шоковом состоянии, с бледными губами, в чёрном свитере, подчёркивающем худобу, со взглядом непонимающим и беспомощным, она просто сливалась с фоном; вокруг неё скользили приблизительно такие же люди в чёрном, с умеренно-скорбным или просто задумчивым выражением одинаковых лиц, как бы разгладившихся от близкого присутствия смерти.
Зашёл помянуть усопшего и отец Михаил, и произнёс тёплую речь: покойный, как теперь все вдруг узнали, жертвовал на храм и был верным прихожанином, регулярно причащался и исповедовался.
Отец Михаил говорил прочувствованно и выглядел искренне расстроенным.
Ни к отцу Михаилу, ни к дочери покойного я подходить не стал; перемялся в дверях и быстро ушёл.
Мне было важно посмотреть на девушку.
Дух её, несмотря на крайнюю подавленность, был огромен и очень силён, подсвечивал лицо и глаза бледно-оранжевым пламенем, какой бывает от горения самого лучшего и сухого дерева.
Потом всё кончилось. Мертвеца почтили тризной – и разошлись, каждый в свою сторону.
Похитителя деревянной головы и саму голову по горячим следам отыскать не смогли.
Спустя три недели в городе произошло другое шумное событие: пьяный чиновник, глава городского отделения пенсионного фонда, на машине сбил старуху. И про деревянную голову забыли.
В интернете есть описание и фотографии головы. Там она называется “деревянная голова святой Параскевы, часть храмовой статуи, XII век”. Также указано, что артефакт “находится в частной коллекции”.
Если верить интернету, деревянная фигура была вырезана из дубового массива, из нижней, комлевой части ствола – самой прочной.
Это дерево было ничуть не слабей железа.
Тому, кто отрубил дубовую голову, пришлось сильно постараться. Чтобы разъять пополам кусок дуба толщиной в ногу, обычный человек будет махать топором полчаса.
Деревянную фигуру разбили предположительно в начале XVIII века, в царствование Петра Первого, во времена гонений на истуканов. Голову отделили от фигуры и бросили в огонь, но дубовый комель разгорается медленно; кто-то, не согласный с огненной казнью святого образа, выхватил голову из пламени, сберёг, передал другому, тот третьему, – через триста лет она оказалась в руках Петра Ворошилова.
До наших дней голова дошла частично обугленная с левой стороны.
Резчик, живший почти тысячу лет назад, изваял голову с изрядным тщанием и любовью, Параскева выглядела красавицей, но не на современный манер, а в соответствии с каноном начала второго тысячелетия; про тот канон мы почти ничего не знаем, только догадываемся. У Параскевы большие печальные глаза, непреклонно сжатые губы, треугольное лицо, выпуклый лоб, полукруглые брови (безусловно, богатые брови считались в те времена признаком совершенства, породы, здоровья). Волосы упрятаны под покров, позади затылка – вогнутый нимб, составляющий единое целое с головой. Брови и глаза подведены углём, щёки – свеклой. Покров, очевидно, окрашен луковым отваром, его цвет светло-жёлтый, от времени совсем потерявший яркость. Всё же статую за девятьсот лет существования подновляли около сотни раз, и красители глубоко въелись в дерево; Параскева навсегда осталась краснощёкой, с подведёнными глазами.
Вторая часть деревянной скульптуры – собственно тело – считалась утраченной; очевидно, тело разрубили на несколько кусков и сожгли.
На той же интернет-страничке есть упоминание, что голова представляет научную ценность, но какова именно эта ценность, в рублях или, скажем, в евро, – сведений нет.
В интернете каждый сможет без усилий найти подробные материалы о кандидате исторических наук П.Г.Ворошилове, с перечнем его научных работ, на YouTube есть видеозаписи лекций. Пётр Ворошилов разрабатывал тему русских деревянных храмовых статуй, сам организовывал экспедиции в разные части и углы страны, и за тридцать лет научной работы нашёл около трёх десятков деревянных изваяний, подробнейше описал их и исследовал, бо́льшую часть – отреставрировал и передал российским музеям, меньшую часть – продал в США и во Францию, в частные коллекции, с разрешения министерства культуры. Полученные от западных коллекционеров деньги пошли на финансирование текущей деятельности Института истории искусств и оплату расходов научных проектов самого Петра Ворошилова: он продолжал снаряжать этнографические экспедиции, с привлечением студентов старших курсов, каждый раз собирал богатый материал, выступил научным руководителем у многих учеников. При этом сам Ворошилов так и не защитил докторскую диссертацию, – изучив его публикации, можно было сделать вывод, что Ворошилов сначала сделал быструю, восходящую карьеру, но затем совершенно охладел к ней, а свой уникальный научный материал щедро раздал ученикам.
В конце нулевых Ворошилов получил Государственную премию в области истории искусств, прочитал цикл лекций в американских, французских и итальянских университетах, его книгу перевели на несколько языков, и он вот-вот мог бы стать модным русским учёным, критикующим Россию изнутри, и однажды статьи о талантливом историке вышли почти одновременно в “Guardian” и “Frankfurter Allgemeine Zeitung” – но дальше этих статей дело не пошло; Ворошилов не захотел быть европейской знаменитостью, – да его, честно говоря, в таком качестве не особенно и ждали; мода на русских давно прошла в Европе.
Этот человек не зря прожил жизнь. Кафедра Института истории искусств, где работал Пётр Ворошилов, объявила о посмертном издании – в одном томе – всех его трудов.
2
Меня зовут Антип Ильин.
Я живу в деревне Чёрные Столбы, рядом с городом Павлово.
В той же деревне родился Олег Застыров, оперуполномоченный УВД города.
Мы с ним – земляки.
Я помнил его как пацана Олежку с вечно развязанными шнурками, потом – как школьника, хулигана, драчуна и двоечника, курящего с седьмого класса, потом – как участкового милиционера. Из хулиганов часто получаются хорошие участковые милиционеры. Теперь оперуполномоченный Олег Застыров считался грозой павловских преступников. Решительный, с прищуренным злым глазом, с двумя золотыми зубами в нижнем ряду, с боксёрской челюстью, – он и сам походил на бандита.
Распутывая дело о похищении деревянной головы, оперативник Застыров обратился за помощью ко мне.
Ты столяр, краснодеревщик, сказал он, давай консультацию, рассказывай всё, что знаешь, а с меня – три литра нефильтрованного.
В чём ценность деревянной головы, в чём уникальность, действительно ли она такая старая, как утверждают? Застыров хотел знать всё.
Сырым и ветреным мартовским вечером мы устроились пить пиво в спортивном баре на улице Октября, в удобном углу, – и земляк, после второй кружки, под сушёную рыбу, перегнувшись через поцарапанный стол и сверкая золотыми зубами, показал мне большие цветные фотографии украденной деревянной головы. Снимки делал сам покойный Ворошилов. И я, внимательно рассмотрев, сообщил земляку много полезного.
Владелец обходился с головой очень бережно, хранил в музейном контейнере, явно сделанном на заказ, и держал контейнер в тёмном углу, чтобы дерево не выгорало под прямыми солнечными лучами. Владелец явно придавал большое значение голове, любовался ею – иначе спрятал бы в сундук, с глаз долой.
Если держать её всё время в сухом помещении, она будет храниться практически вечно. Если под открытым небом – она тоже продержится долго, десятки лет, но потом понемногу начнёт гнить от сырости.
Фигура была невысокая, примерно метр шестьдесят пять. И очень тяжёлая: одному едва поднять, а перетаскивать – только вдвоём. Соответственно, голова женщины, вырезанная из нижней, прикорневой части дубового ствола, была немного меньше головы среднего человека, и тоже – тяжёлая, килограмма четыре. Но, может, и все восемь. Если этой голове действительно девятьсот лет – так в те времена дубы росли совсем другие, втрое толще нынешних, и плотность их древесины могла быть в два раза выше против современной.
Так или иначе, таскать всё время эту тяжкую голову с собой, в сумке, портфеле или рюкзаке, – неудобно. Её нужно где-то прятать.
Кому могла понадобиться эта голова – бог весть. Сейчас, как и сто лет назад, из дуба и прочего крепкого тяжёлого дерева делают в основном мебель, двери, полы и паркет. Всевозможные декоративные фигуры вырезают, наоборот, из лёгкого, мягкого материала, вроде липы. Но спрос на такие фигуры ограниченный. Любителей, энтузиастов, резчиков по дереву немного. Есть люди, влюблённые в это ремесло, одно из самых древних. Все такие мастера – большие оригиналы, сумасшедшие в хорошем смысле слова; большинство из них религиозны. Резьбой по дереву, кстати, занимаются и многие монахи, чернецы и трудники, в монастырях и окрест монастырей.
Иногда эти мастера для собственного удовольствия вырезают круглые скульптуры. Потом хранят их у себя в домах, в кельях, чаще – дарят музеям. В церквях их ставить нельзя: православная традиция одобряет только иконы, двухмерные, символические изображения, а трёхмерные круглые статуи отвергает как излишне плотские, тварные. Резные фигуры часто используют для украшения иконостаса, но только в декоративных целях.
И тогда, уже примерно на пятой кружке, я дал Застырову совет. А что, если, сказал я, покойный учёный хотел восстановить целостность деревянной фигуры? Что, если Ворошилов собирался изготовить тело и соединить его с имеющейся головой? Что, если он искал умельца, способного вы́резать ему тело деревянной женщины? Не следует ли проверить электронную почту Ворошилова и все его бумаги, на предмет поиска адресов и контактов с профессиональными резчиками по дереву?
Застыров поблагодарил меня, обнял мокрой рукой за шею, пьяными губами поцеловал в щёку; достал телефон и всё записал, а потом долго листал на том же телефоне фотографии, нашёл и протянул мне.
На экранчике я увидел серое морщинистое лицо, стёкшее книзу. Глаза были широко раскрыты и выражали смертный страх.
Он спиной вниз лежал, сказал Застыров, и смотрел в потолок. Я много жмуров видел, но такого – никогда. Учёный реально очень испугался. И испугал его – конкретно вор. Он взял голову и сразу ушёл, тем же путём, а этот – лёг на спину и помер. У него ещё руки были согнуты в локтях, и пальцы скрючены (Застыров показал, как именно скрючены), но это часто бывает: предсмертная судорога.
Мне было неприятно рассматривать фотографию покойника, и я отвернулся.
На шестой кружке Застыров пожаловался: следствие движется со скрипом. Первым делом требовалось найти ответы на два главных вопроса. Во-первых, кто последним видел Ворошилова живым? Во-вторых, кому была выгодна его смерть?
Ответ на первый вопрос нашли быстро. Раз в неделю покойного историка навещала женщина, Екатерина Беляева, также известная как Катя Блонда: представительница известной профессии. Город наш невелик, и про Катю все знали, и про то, что она ходит к историку, – тоже знали. Катя давно перемахнула сорокалетие, обрела большой и разно- образный опыт в своём нелёгком деле, и теперь имела отборную клиентуру, немногочисленную, но надёжную и платёжеспособную. В день совершения грабежа Катя провела с Ворошиловым в его доме два часа. Застыров допросил Катю, но ничего полезного не выяснил. Кате нравился красивый мужественный историк Ворошилов; на допросе Катя рыдала. Деревянную голову и прочие редкости видела, но никогда не интересовалась, а Пётр ничего не рассказывал. Он был сильный, обходительный и щедрый, хоть и не такой богатый, каким его считали в городе, – скорее, наоборот. Жил, по всей видимости, на сбережения. Много работал: говорил, что накопил большой архив и теперь приводит его в порядок. К сожалению, злоупотреблял выпивкой. О том, что Катя навела на его дом грабителя, не могло быть и речи: Катя тщательно берегла свою репутацию, насколько это слово применимо к дамам её ремесла, и вообще, хотела бы, в идеальном случае, сойтись с Ворошиловым всерьёз и выйти за него замуж; а почему нет, он был крепкий, спокойный, одинокий, ему не повредило бы иметь рядом взрослую умную подругу – глядишь, она бы его и от выпивки отучила, и хозяйство привела бы в порядок. Застыров объявил Кате, что “взял её на карандаш”, то есть – улик против неё не нашёл, но и подозрений не снял.
Ответ на второй вопрос – кто был заинтересован в смерти историка – тоже лежал на поверхности. Единственная дочь покойного, Георгия Петровна, весёлая столичная девушка-хипстер, унаследовала двухэтажный кирпичный дом с участком в лучшем, самом чистом и дорогом районе нашего города, на машине – десять минут до центра и набережной. Дом стоит больших денег.
А в доме – коллекция, иконы, чтобы оценить их – потребуется время, но вполне может быть так, что коллекция стоит дороже самого дома.
У девчонки есть мотив, сказал Застыров. Официально она нигде не работает, рисует картины. Ездит на маленькой машинке фиолетовой масти. Имеет задолженность по кварплате и по автомобильным штрафам. Яркая, обаятельная девушка, хоть и не красотка. Не замужем, детей нет. Квартиру ей купил отец. На счету в банке – несколько тысяч рублей. Можно предположить, что нуждается в деньгах.
Ещё любопытный факт, продолжал Застыров. Дом покойного мы опечатали, как положено, но девчонка неожиданно изъявила желание переехать и пожить в нём. Следователь Вострин разрешил. Она уже там, в доме, уже заселилась и вставила стекло взамен разбитого. С чего бы вдруг этой звезде перебираться из Москвы в город Павлово?
И последнее: не далее как вчера Гера Ворошилова сама пришла к Вострину и сказала, что хотела бы принять участие в поимке грабителя, и сообщила некую важную информацию. Говорили вдвоём почти час; после разговора Вострин ничего не поведал своим коллегам и никаких действий не предпринял, хотя ходил задумчивый.
Будем разрабатывать дочь покойного, сказал Застыров. Чутьё подсказывает, что ниточка ведёт в Москву.
Тут я напрягся. И прикусил язык, чтобы Застыров не заметил моего замешательства. Я-то понимал, что Гера Ворошилова не могла замыслить злодейство. Два года я наблюдал за нею – достаточный срок, чтобы узнать, что у человека в голове и в сердце. Нанять киллера для собственного родного папы ради нескольких миллионов рублей мог только очень низкий, очень жадный, а главное – очень ограниченный человек. Дочь искусствоведа Ворошилова вовсе такой не казалась.
Она ни при чём, хотел сказать я, она живёт в своём мире, её интересует только организация своих персональных выставок – художник должен выставляться, иначе какой он художник? Она, эта девушка, далека от мыслей о грабежах со взломом, и про своего отца и его особняк совсем не думала, ни разу за два года про отца не упомянула!
Ничего не сказал, пожал плечами.
Если бы признался, что слежу за Герой Ворошиловой, читаю её посты, разглядываю её фотографии, – Застыров и меня бы взял на карандаш, не посмотрел бы, что земляк и старый товарищ.
Он мог выпить за раз пять или шесть литров пива; после трёх литров становился весел, лез обниматься; после пяти – тяжелел, мрачнел.
В моей деревне все такие: когда пьют – весёлые, когда напиваются – страшные.
Вот моя версия, сказал он. Ворошилов хорошо знал преступника. И они встретились лицом к лицу. Преступник – человек решительный, судя по его действиям – и вовсе безбашенный. Он знал, что в доме есть сигнализация: на заборе висели стикеры охранного агентства. Не испугавшись, он перелез через забор, подтащил к окну перевёрнутую на зиму вверх дном бочку для воды, забрался, вышиб стекло – и пролез в комнату.
Частиц одежды на осколках оконного стекла не нашли.
Когда грабитель уже вторгся в дом – вышел Ворошилов, в пижамных штанах и футболке с надписью “Harvard University”.
Подробность, мало кому известная: в руках искусствовед держал помповое гладкоствольное ружьё, купленное когда-то, в конце девяностых, на законных основаниях. Однако Ворошилов не выстрелил.
Следов драки нет, на теле умершего – никаких повреждений.
То есть обвинить преступника можно только в грабеже, в открытом хищении чужого имущества, согласно действующему кодексу – от шести до двенадцати лет тюрьмы. А вместо убийства злодею – когда поймают его – пришьют только причинение смерти по неосторожности.
Но когда поймают – а его поймают, добавил Застыров, я лично поймаю, – сомневаться не приходится: судья назначит от души, лет десять минимум. Ведь если грабитель забрался в дом, зная, что там есть люди, – значит, был готов к насилию, к пролитию крови.
Вероятнее всего, Ворошилов спал: в его аптечке найдены антидепрессанты и снотворное разных видов. Он проснулся, схватил ружьё и выбежал, когда вор собирался покинуть дом.
Нет, они были знакомы, это ясно.
Преступник мог бы напасть на хозяина и разбить ему череп так же легко, как разбил оконные стёкла, – но не напал.
В свою очередь, хозяин мог застрелить незваного гос- тя – но не поднял оружие.
Они знали друг друга, они о чём-то поговорили; один забрал добычу и ушёл, другой умер от шока, от испуга.
Но учти, земеля, добавил Застыров, я тебе ничего этого не говорил.
Он заплатил за пиво, и мы разошлись в разные стороны: Застыров сел в машину – хоть и пьяный, а точный в движениях; включил музыку и уехал, а я пешим свернул за угол, пересёк улицу и вошёл в здание автовокзала.
Я успевал на последнюю маршрутку.
Мне было хорошо, дух мой – неподвижен, спокоен.
Да, я напоил товарища и выведал у него секреты уголовного дела. Но я и помог тоже, дал совет, высказал соображения. В этой ситуации мы действовали на одной стороне: оба хотели понять, как и где искать преступника.
Это не было обманом и хитростью; нет на мне за это греха.
3
Меня зовут Антип Ильин.
Я взрослый, поживший человек.
Внешность моя – приятная, но не сильно запоминающаяся, глаза тёмно-серые, лицо прямоугольное, нос прямой, ноздри крупные, лоб высокий, надбровные дуги – сильно выраженные, уши – маленькие и прижаты, дёсны довольно слабые, зубы – все до одного целые, средней крупности и отличной белизны, губы – полные и красные, но в меру; волосы – до плеч, ржаного цвета, я их иногда забираю в хвост. Среднего роста, пропорционального сложения, размер одежды – сорок восьмой. Живот впалый. Голос негромкий, низкий. На вид – примерно тридцать пять лет. Ни морщин, ни седины, ни сутулости, никаких физических недостатков никогда не имел. Двигаюсь ловко, подобно спортсмену. Борода и усы не растут. Если одеться модно и причесаться гладко – сойду и за молодого, но незачем.
Грудь немного узкая, и тазовые кости, но и то, и другое крепко, за многие десятилетия привыкло к ходьбе и к разнообразным физическим напряжениям. Спина – сильная, от талии расходится косыми мышцами резко в стороны.
Пониже и левее шеи, поперёк ключицы, тянется длинный шрам – давно получен, ещё при рождении.
У меня хороший крепкий дом, собственноручно собранный из соснового бруса. Маленький одноэтажный дом без затей, без излишеств, комната и кухня – мне одному в самый раз. Узкая кровать, шкаф с одеждой, на столе компьютер, выше – три полки с книгами, в красном углу – образа, лампада горит.
Мою деревню по южному краю огибала речка, когда-то сильная, а теперь напрочь высохшая, только овраг остался. На самой излучине со временем намыло возвышенность, пологий холм, песчаный, не сильно высокий: на нём я и поставил свой дом, наособицу от остальных.
Зато под фундаментом у меня – много метров плотного белого песка: я сделал под домом большой подвал в рост человека; этот замечательный подвал остаётся сухим даже весной.
Чтобы найти мой дом, нужно пройти всю деревню до конца и потом ещё по просёлку через берёзовую рощу.
Ещё месяц назад эта чёрно-белая роща звонко трещала от мороза, а сейчас, в начале апреля, тяжко пахнет набухающими почками.
Хорошо бы радоваться этому благоуханию с кем-нибудь вдвоём, но, к сожалению, я одинок теперь.
Есть друзья, есть родственники – а женщины нет.
Возможно, она появится позже.
Радости семейной жизни, любовь и смех детей, подарки под новогодней ёлкой, горячие объятия в ночной темноте, – всего этого я пока лишён.
Однако взамен меня одарили другими удовольствиями; я не вправе роптать, а наоборот, каждый день возношу Создателю горячие благодарности. Моя долгая жизнь могла бы вовсе не начаться, а начавшись – оборваться в любой миг. Но я цел и невредим.
Я не инвалид, и в плане мужской силы всё у меня хорошо. И связи с женщинами у меня были, иногда – долгими годами. Разные отношения, с разными женщинами. Но единственной, мне подходящей по духу, так и не отыскал.
В сорока километрах от моей деревни находится город Павлово с населением в сто тысяч: раскиданный, малоэтажный, вытянутый с севера на юг вдоль берега реки Игирь, впадающей в Волгу.
Не ищите Павлово на карте. Городов с таким названием в России много.
Город довольно старый, впервые упоминается в летописях времён Василия Тёмного. В более поздние времена известен как одна из неофициальных столиц старообрядчества: тысячи раскольников однажды бежали в наши непроходимые боры, основали общины, колонии, торговые и ремесленные предприятия, дали начало нескольким богатым купеческим фамилиям, – а купцы, как это было принято, подняли в центре города каменные дома, храмы, торговые ряды и уездную больницу. В конце XIX века они же добились строительства железной дороги и перевалочной базы с речных барж – в вагоны, и наоборот; любой непьющий отец семейства мог найти тут работу. Таким образом, город наш трудовой и торговый, мы хоть и не процветаем, но и не загибаемся; впрочем, теперь весь мир так живёт.
Конечно, мы тут все – провинциалы, глупо спорить. Однако же зачем-то и мы нужны. Пусть и дремучие, но не вымираем, уцелеваем, сохранены божьим попущением.
Громадная и важная часть моей жизни связана с Павлово: знаю все его переулки, все тупики, и всех, кто хоть что-то значит, от автослесаря до мэра, и за всеми событиями в родном городе внимательно наблюдаю – из собственной обыкновенной любознательности, которая не даёт мне покоя всю мою жизнь, сколько себя помню.
А за некоторыми событиями – наблюдаю особенно пристально.
4
В стаю в половине седьмого утра.
Внимательно осматриваю себя в большом зеркале.
Подхожу к образам и молюсь. Теперь Великий пост: нельзя не молиться.
Одеваюсь всегда просто: тканевая чёрная куртка с глубокими внутренними карманами (обшлага обмахрились, пора брать новую, такую же), рубаха серая, джинсы – и крепкие ботинки. Для ходьбы по нашим жидким грязищам пригодна только непромокаемая обувь, и притом дешёвая, чтоб не жалеть её.
Были времена – я в это время года ходил в сапогах, и в резиновых, и в кирзовых, и в яловых, но однажды понял, что ходить в сапогах уж совсем неприлично, всё равно что в лаптях; люди смотрят как на дикаря. И с тех пор хожу в ботинках.
Бумажник и телефон – в правый карман, а в левый – старый плеер, дисковый, любимый, привычный. Провода от наушников кидаю на загривок, под воротник.
За брючный ремень, вдоль спины, помещаю своё оружие – шабер, или, по-простому, напильник, с остро отточенным краем; без оружия дом не покидаю.
Тушу резким выдохом лампаду.
Запираю дубовую дверь – сам её делал, не своротишь.
Прохожу березняком до деревни, потом к дороге; четверть часа неспешным шагом; с утра торопиться не люблю.
Выхожу на дорогу: тут ржавый павильончик, крыша в дырах, неприятное место, неухоженное, но приходится терпеть; я стою, жду, один такой.
Маршрутка подъезжает, сажусь, здороваюсь.
После утренней молитвы мне всегда спокойно: мыслей нет, внутренний монолог остановлен.
Весна, апрель, Великий пост: время воздержания и раздумий о смерти.
Пора Великого поста совпадает с голодом, наступающим в народе в конце зимы и в начале весны – когда съедены все припасы, когда мыши разочарованно бегают по пустым полкам погребов.
Сейчас голода нет. В машине сидят, кроме водителя, ещё трое: две женщины и мужик. Все жуют: мужик – шоколадный батончик, женщины – семечки. Почему-то в наших краях семечки популярны. Все лузгают, как в Краснодаре. Хотя подсолнечник у нас не растёт.
Я поздоровался, мне ответили.
Всех попутчиков я знал – день за днём мы двигались одной и той же изъезженной дорогой, из деревни – в город. Маршрутное такси проезжало через Беляево, Косяево и Чёрные Столбы, и везде забирало одного, двух человек, и все мы ехали работать в город. Вечером – примерно тем же составом – возвращались по своим деревням.
Когда-то, тридцать лет назад, здесь курсировал автобус, дребезжащий ПАЗ с дверями-гармошками, всегда неплотно закрытыми, и зимой из этих дверей сквозило немилосердно; автобус набивался битком – и в проходе стояли, и девки молодые сидели на коленях у парней. Но год шёл за годом, наши деревни пустели, народ подвымер, а новый не народился, уехали все.
Сейчас в моих Чёрных Столбах живёт восемь старух и дед, а из рабочего возраста – двое: я и хозяйка сельпо, известная в округе как “Зина-из-магазина”, мы с ней дружим.
Но вместо весёлого, малость облезлого автобуса мимо деревни ходит машина на десять мест, всегда полупустая.
Был ещё Олег Застыров, но он уехал вместе с родителями, и больше не возвращался, осел в городе и жену взял городскую, она заведует магазином обуви.
Летом к нам в Чёрные Столбы наезжают из Павлово, по выходным особенно: с детьми, с собаками, бани топят, шашлыки, музыка, на мотороллерах гоняют, запускают фейерверки даже.
А как похолодает – всё. На полторы улицы – девять пенсионеров, Зина и аз, грешный.
Говорят, что, если б власти протянули в нашу сторону газопровод – деревни восстали бы из уныния, и многие из тех, кто уехал, вернулись бы в свои родовые дома и жили бы круглый год, зимой отапливаясь газом.
Но власти пожалели сил тянуть трубу в наш угол; остались мы без газа. На зиму – купи машину дров, вынь да положь.
По всей стране огромное множество раскидано деревень таких же, как моя, и никто не знает, что делать с этими деревнями. Тянуть трубу к каждой хибаре невозможно. Отправлять “скорую помощь” в каждое отдалённое сельцо, к каждой помирающей бабке, за полсотни вёрст по убитым просёлкам – хлопотно.
Так умирают деревни. К нам уже почтальон даже не приходит: мои бабки ездят за пенсией в город.
Всего пути, от деревни до остановки “Мебельная фабрика”, – тридцать пять километров, по узкой дороге: сначала вроде летим, но на полпути начинается затор, и дальше машина едва ползёт.
Час я добираюсь утром туда, и ещё час вечером назад.
В пути я обычно втыкаю наушники и слушаю свой плеер, иногда читаю, но чаще – просто смотрю в окно, на деревья и холмы: мне уютно в дороге, хорошо. Это человеческое, настоящее чувство: в машине ли, в поезде, а хоть пешком или на лыжах, когда пересекаешь пространство – ты наслаждаешься.
Просторно, свободно у нас.
Холмы красивые, пологие, поросшие сосновым и еловым лесом, но и берёзовые рощи есть, там по весне люди добывают сок и потом на рынке продают трёхлитровыми банками: от всех болезней помогает, и если каждый день пить по два стакана – волосы начинают блестеть. И квас делают на берёзовом соке, и даже гонят веселящий напиток, он так и называется: “берёзовое вино”.
Холмы остаются за спиной, впереди – серое облако; это наш город и его испарения, дымы труб.
И вдруг мимо, навстречу – проезжает маленький автомобиль, нездешнего фиолетового цвета; я вздрагиваю, тяну резиновую ручку, чтоб отодвинуть створку окна, высунуть голову и посмотреть вслед, но окно недостаточно велико, чтобы моя голова пролезла.
Это её, Геры Ворошиловой, автомобиль, микролитражка с небольшими колёсиками. Такого цвета – единственная в городе. Куда поехала московская девушка – непонятно. Я решаю пока об этом не думать.
5
Остановка маршрутки – прямо у проходной. Фабрика называется “Большевик”.
Хозяину фабрики подсказали, что называть свой бизнес лучше каким-нибудь старым словом, восходящим к славной эпохе Советского Союза. Потенциальные клиенты должны думать, что “Большевик” существует сто лет, что фабрика непотопляема; а меж тем она возникла тут, на окраине города, уже в новейшие времена, в нулевые годы, и к большевизму не имеет никакого отношения.
Работающие на фабрике весёлые пролетарии тут же переделали название в “Борщевик”.
Здесь я работаю с первого дня.
Я тут – один из немногих, кто отличает фальцгебель от зензубеля.
На нашей фабрике изготавливают дорогую мебель и паркетную доску из ценных пород дерева, главным образом – из дуба и лиственницы.
Мы делаем столы и кровати, двери, шкафы; всё очень крепко, купил один раз – и на всю жизнь, и ещё детям достанется.
Вообще, мы делаем всё что угодно, из любого дерева, от палисандра до карельской берёзы. Лично я на заказ делаю шахматы и нарды, и сделал их много, но в последние годы заказов нет. Шахматисты теперь сидят перед экранами и играют с машиной.
Основной товар – паркет, конечно. Но и кровати, и двери хорошо идут.
Спрос на нашу мебель небольшой, и предприятие не богатеет. Ходят слухи, хозяин собирается продать бизнес, но не может, из-за долгов. Мэр и его люди тоже против закрытия фабрики: жалко терять сотню рабочих мест с белой зарплатой.
Однако и без работы мы не сидим. Павловский “Большевик” – известная торговая марка, реклама по всей стране.
Столы и кровати наши – действительно хороши; я сам их делаю, руками, и свою работу уважаю, как говорят в нашем цеху.
Охранник на проходной кивает мне и пропускает за высокий забор.
Меня тут все знают. Я старейший работник, мой портрет висит в главном коридоре на доске почёта, в левом верхнем углу, – долго висит, и наполовину уже выгорел, и моя физиономия там обрела жёлто-серый цвет, как у сухой сосны, словно я чем-то болен и вот-вот скончаюсь.
А я ничем никогда не болел.
Невелика фабрика: склад, сушилка, пилорама, сборочный цех, столярный, токарный, а на втором этаже – кабинет хозяина с огромными стёклами на две стороны; через одно стекло хозяин наблюдает за токарями, через другое – за сборщиками; стекло толстое, звуконепроницаемое, чтоб хозяин не оглох, потому что шумно очень.
Зачем хозяину надсматривать за сборщиками – неизвестно; сборщик если крадёт – то по мелочи, десяток шурупов в ботинок затолкает и пошёл. Основное воровство всегда на складе. Там – самые ухватистые ребята, там каждый месяц кого-то с треском увольняют за недостачи и пропажи.
Невелика фабрика – но мне нравится. Вообще такие фабрики большими не бывают, мы всё-таки не чугун льём, а только делаем паркет и кровати.
И, между прочим, на большом производстве я никогда не хотел работать. “Большевик” идеально мне подходит. Семьдесят пролетариев, два десятка инженеров, всех знаешь. От цеха до склада – две минуты спокойным шагом.
В раздевалке – сюрприз: на верхней крышке каждого шкафчика лежат, аккуратно сложенные, новые рабочие комбинезоны, у большинства – синие; мне и другим токарям – ярко-жёлтые. Нам положена особенная одежда, на наших комбинезонах рукава застёгиваются не на пуговицы, а на “липучки”. И, конечно, никаких завязок, ничего свисающего. Любую завязку, край рукава, нитку пуговичную может мгновенно затянуть во вращающуюся пасть станка, – можно без руки остаться.
Травмы бывают, да, и довольно часто. За то время, что я работаю, – считай, у каждого хоть раз я видел кровь. У всех руки в шрамах.
Вдобавок к новенькому комбинезону на крышке моего ящика лежит так называемый “защит-комплект”: респиратор, пластмассовые очки и шумозащитные наушники, и ещё отдельно – две запаянных в пакетик затычки для ушей, нежно-розового поросячьего цвета.
И затычки, и очки, и респиратор обеспечивает фабрика, бесплатно.
Одетый в жёлтое – выхожу из раздевалки в общий коридор, здесь мимо меня проходят такие же рабочие, заступающие в первую смену, они – в ярко-синем; всё напоминает сцену из американского фильма, где события происходят в тюрьме и преступники одеты в разноцветные робы.
Цех мой маленький, три станка. Один не работает.
Двое нас, токарей: Твердоклинов и я.
Твердоклинову сорок лет, он у нас старший по цеху.
Он смотрится очень круто: новый комбинезон, на голове массивные наушники, нос и рот защищает респиратор, выше – пластиковые очки.
Я предпочитаю работать без очков и респиратора.
Мы пожимаем друг другу руки; станок Твердоклинова гудит, объясняться можно только знаками.
Твердоклинов ниже среднего роста, но жилистый, лицо недовольное, голова обычно опущена, взгляд направлен под ноги.
Шумно, шумно.
У Твердоклинова станок с числовым программным управлением, достаточно нажать клавиши на экране – дальше машина сама точит деталь любой конфигурации; но и отходить от станка нельзя – Твердоклинов стоит рядом и контролирует. Он работает быстрее меня, но и дольше отдыхает. Он может выключить станок и уйти шляться по территории, у него кореша есть и на складе, и на пилораме; он подолгу с ними шепчется; скорее всего, примеривается организовать кражу.
Наш материал – дерево ценных пород. Это как если бы на фабрике гранили бриллианты; теоретически нет никакой разницы. И в том, и в другом случае – сырьё дорого стоит. Соблазн украсть велик, противостоять ему способны единицы, самые честные, почти сумасшедшие. Остальные – подавляющее большинство – хоть раз да пытались вытащить доску, или брусок, или хотя бы спилок.
От некоторой древесины и щепки пригодятся. Все знают, что пиво “Будвайзер” варят на буковых щепках. А стружка красного дерева продаётся отдельно, как декоративный материал.
Мы с Твердоклиновым – не друзья меж собой. Коллегами нас тоже нельзя назвать: слишком интеллигентно звучит. Мы – “с одного цеха”. Примерно как однополчане. То есть, ты можешь знать человека только по имени, но, если ему на голову будет падать дубовый брус весом в двести килограммов – ты оттолкнёшь, вытащишь, и спасёшь ему жизнь, и он потом каждый день будет с тобой здороваться, хотя вы друг другу – никто, всего только работники одной фабрики.
Зажимаю заготовку в станке, – это ножка для кровати, сверху будет львиная морда, под ней – шар, и внизу возле пола ещё один шар. Вот эти вот шары я и вытачиваю.
Львиные морды я не делаю, они будут заказаны на стороне – резчику, мастеру на дому. Мастера-надомники берут недорого и делают хорошо.
Можно сколько угодно усмехаться, но крепкая кровать не скрипит, когда вы ложитесь на неё вдвоём, для известного занятия.
Плохая кровать – скрипит, делая соседей и просто посторонних людей невольными свидетелями вашего интимного действа.
А хорошая кровать молчит. Хранит ваше ощущение отъединённости.
Ближе к обеду что-то происходит: за стеклом кабинета хозяина появляются двое незнакомцев, мужчин в костюмах и галстуках; один пузатый, пожилой, второй – моложе и суетливее. Пахан рядом с ними. Все трое – в белых касках.
За стеклом видно, как Пахан жестикулирует, вскидывая подбородок, и показывает пальцами то туда, то сюда, а белые каски вяло кивают. Даже с расстояния в пятнадцать метров мне заметно, что им не очень интересно, они слушают хозяина по обязанности.
Хозяина фабрики зовут Паша Пуханов, Павел Борисович, он местный, павловский уроженец, отец троих детей, 55-летний, тяжко движущийся, багроволицый, похожий на огромный кирпич. В начале девяностых, в молодые лета, он был известен как влиятельный бандит, отсидел три года за нанесение тяжких телесных повреждений, и со времён отсидки к нему намертво приклеилась кликуха, произведённая от фамилии: Пахан. Мы, рабочие, только так его и называем. Неизвестно, как велик был и остаётся его авторитет в криминальных кругах города; неизвестно, когда он получил своё прозвище, в тюрьме или после неё. Так или иначе, отсидка и криминальная молодость ушли в прошлое, а увесистая формула осталась: Пахан сказал, Пахан разрешил, Пахан недоволен.
Они спускаются к нам в цех: Пахан в новом тёмно-синем костюме, хмурый, за ним – пузатый, осанистый, с утомлённым пористым лицом и алкогольными мешками в подглазьях, и третий, помоложе, подвижный, без живота, с телефоном в руке – помощник, референт.
Пахан жестом велит нам вырубить станки, и спустя три минуты наступает относительная тишина.
Твердоклинов сдёргивает респиратор и очки; наушники сдвигает на шею, открыв ярко-красное, мокрое от пота лицо.
– Что, мужики? Какие проблемы? – бодро спрашивает пузатый начальник.
Твердоклинов смотрит на меня беспомощно, и чуть подаётся к пузатому.
– А? – громко спрашивает он. – Чего?
Пузатый удивлён.
– Никаких проблем, – быстро говорю я, пытаясь сгладить неловкость. – Всё нормально. Работаем.
При подобных разговорах – когда высокое руководство снисходит для беседы с народом – работяги почему-то начинают говорить на особом примитивном наречии, состоящем из десятка полуфраз-полумычаний. Это рабское наречие не имеет отношения к рабству, на самом деле работяги презирают начальство. Между пролетарием и хозяином фабрики – непреодолимая пропасть. Если начальник приходит, да вдобавок приводит ещё таких же, важных, – рядовой рабочий пытается отделаться от них самыми простыми словами.
Твердоклинов кивает:
– Нормально! Ничего! Не жалуемся!
В раздевалке можно подслушать разговоры, где звучат слова “геополитика”, “дизайн”, “разница температур” или “экономически нецелесообразно”.
Те же люди, когда предстают перед своими руководителями, специально изображают тёмных морлоков: “ничего”, “нормально”, “зарплату платят вовремя”.
Пузатый одобрительно посмотрел на Пахана.
В возникшей паузе молодой референт просочился сбоку и предложил:
– Игорь Анатольевич… тут бы хорошо сделать снимочек…
Пузатый кивнул и развернулся к нам спиной.
Референт бросился к Твердоклинову.
– Можно вас вот сюда? И наденьте, пожалуйста, всё. Очки, наушники, респиратор.
Твердоклинов сделал, как просили, и встал рядом с пузатым. Референт посмотрел на меня.
– А у вас очков нет?
– Нет, – сказал я.
Референт сделал мягкий жест рукой с зажатым в ней телефоном.
– Тогда можно вас попросить отойти в сторону?
Я отодвинулся – и поймал испепеляющий взгляд Пахана. Он незаметно показал мне огромный кулак.
Наконец, суетливый референт срежиссировал кадр: грузный, но харизматичный, осанистый начальник в белой каске, справа от него – рабочий токарного цеха Твердоклинов в новеньком жёлтом комбинезоне, в маске и очках, выглядящий как человек, собравшийся зайти в ядерный реактор, а на заднем фоне – отливают сталью токарные станки, блестят боками, словно породистые кони.
Дух пузатого начальника был силён, но здесь не присутствовал. Духом своим начальник был на рыбалке: удочка, костёр, бутылочка опущена в холодную воду; тишина первозданная; хорошо.
Я не могу сдержаться и улыбаюсь до ушей.
Обмен рукопожатиями; гости прощаются с пролетариями и сваливают. Ладони у обоих – почти младенческой мягкости, это умиляет, я опять улыбаюсь.
После ухода делегации Твердоклинов не включил свой станок; снял очки и респиратор, уселся на табурет у стены, вытянул ноги.
Наша работа – весь день стоймя стоять, и при всякой возможности мы привыкли давать ногам отдых.
– Видел демона? – спросил меня Твердоклинов.
Я кивнул.
– Новый губернатор области, – сказал Твердоклинов. – Демон конченый, с ним рядом даже стоять страшно.
Твердоклинов произнёс это с ненавистью и одновременно торжественно.
Высокие делегации в белых касках приходят к нам на фабрику часто. И обязательно – в токарный цех: он самый новый, и станки все новые. Визитёры задают одни и те же вопросы. Почти всегда фотографируются. Даже иностранцы бывают. Фабрика считается образцовой. Пахан создал предприятие с нуля, фабрика “Большевик” много лет символизировала нашу местную частную инициативу, была примером успешного бизнеса, каким он должен быть в идеале. Экологически чистое безотходное производство: и опилки идут в дело. Сотня рабочих мест, почти все – высокой квалификации. Фабрика готовит для себя новых специалистов: в городском техникуме есть набор в группу по специальности “деревянное мебельное производство”.
– Губернатор области? – спросил я.
Твердоклинов кивнул.
– Да и хер с ним, – равнодушно сказал я.
– Да, – ответил Твердоклинов. – В принципе, верно. Какая разница? Один демон другого не лучше. Я пойду покурю.
В цеху сигареты были строго запрещены, нарушителей штрафовали.
Меня это не касалось: я никогда не притрагивался к табаку.
6
Твердоклинов вернулся. Вынул телефон и повертел его в руках.
– Надо было селфи сделать, – сказал он, – с губернатором.
– Зачем? – спросил я. – Он же – демон.
– Ну, – сказал Твердоклинов, – допустим, я еду на машине бухой, и меня тормозят менты. А я – бухой. Что я делаю? Я показываю фотку с губернатором и говорю, что я его друг. Меня отпускают. Бухого.
– Не сработает, – сказал я. – Менты не знают в лицо губернатора. Как и мы с тобой. Для всех это просто какой-то серьёзный мужик в галстуке. Ты можешь сфотографироваться с Паханом, вообще с любым солидным мужиком пятидесяти лет, а ментам говорить, что это губернатор. Не поверят менты, нет.
– Верно, – ответил Твердоклинов, подумав. – Не бьётся тема.
– Лучше никогда не фотографироваться ни со знаменитостями, ни с начальством, – сказал я. – Это плохо для твоего духа. Это умаляет его. Кормит твоё тщеславие.
Твердоклинов махнул рукой.
– Не грузи меня этим, – раздражённо сказал он.
Я замолчал. Твердоклинов включил телефон и стал просматривать входящие.
Дух его был неустойчив, сказать прямо – слаб. Твердоклинов во всём сомневался, рассудок его не знал покоя. Последнее время у Твердоклинова развилась глухота, обычное профессиональное заболевание. Это его очень расстроило и озаботило – вплоть до раздумий о смене профессии.
На самом же деле проблемы со здоровьем начались у Твердоклинова вовсе не от производственного шума, а от внутренних сомнений.
Он всё переживал: достаточно ли зарабатывает, вкусна ли его еда, крепка ли выпивка, не прогадал ли он, выбрав свой путь – фабрику и станок?
Можно было предположить, что Твердоклинов, даже уйдя с фабрики, будет и дальше страдать, и не только глухотой, но и другими болезнями, и в конце концов от них умрёт.
Мы с ним мало общались.
В цеху появляется Пахан, теперь – без каски и в расстёгнутом пиджаке, вроде бы довольный, глаза блестят.
Он находит меня взглядом и молча показывает пальцем вверх, на окно кабинета.
Я киваю.
В цеху, когда работают станки, все мы общаемся знаками, и наша жестикуляция бывает не менее выразительна, чем знаменитая итальянская.
Следом за хозяином я поднимаюсь по стальным ступеням и вхожу в контору.
Здесь пахнет коньяком. Контора – мы прозвали её “аквариум” – выглядит фантастично, круто, здесь приятно находиться. Две стены – панорамные окна. На третьей стене – экран едва не в рост человека, на экране – виды с камер наблюдения: склад, сушилка, гараж, циркулярные пилы, въездные ворота – десятки камер, Пахан видит и контролирует всё.
А в центре – круглый стол и кресла.
Сейчас Пахан в кресло не сел – без предисловий толкает меня в плечо, достаточно злобно, как будто предлагает драться.
– Антип, – говорит он с ненавистью, – какого хера ты творишь?
– Извини, – отвечаю я. – Если бы знал – всё надел.
– Это был губернатор области! Они обещают мне кредит! И заказы! А тут – ты, со своими фокусами!
– Извини, – повторяю я. – Случайно вышло. Предупредил бы.
Пахан хмурится.
– С завтрашнего дня, – говорит он, – ты работаешь как все. В полной защите.
– Не могу, – отвечаю я. – Мне же нужно видеть, что я делаю. В очках я ничего не вижу.
– Другие видят.
– Пусть видят. Я не вижу.
– Хорошо, – говорит Пахан, – без очков, но в маске.
– В маске тоже не могу: запаха не чувствую.
Он всё-таки садится в кресло. Я вижу: на самом деле у него отличное настроение. Губернатор сказал ему что-то важное. Денег посулил, поддержку, – что там ещё может наобещать высокий чиновник? Теперь Пахан, довольный успехом, весёлый, хочет по-быстрому решить мою проблему.
Это не первый наш разговор, и не второй.
– Мне понять надо, – продолжает он, – кто ты всё-таки такой. Дурак – или прикидываешься? Ты знаешь, что такое рак лёгких?
– Знаю.
– Антип, – говорит Пахан печально, – чего ты включаешь дебила? Ты всё понимаешь! Ты вдыхаешь летучие вещества! Опилки! Микрочастицы! Они остаются в лёгких, в бронхах! Ты работаешь на вредном производстве, это официальный термин! Сколько можно перетирать одно и то же?
Разогревшись, он переходит на язык своей молодости: околокриминальный жаргон девяностых.
Я молчу.
Всё сказанное – правда. Я действительно ненавижу очки, а уж респиратор, пахнущий ядовитой пластмассой, – особенно.
– Наушники могу носить, – говорю я. – А очки и маску – не могу.
– Договорились, – отрубает Пахан; ему надоел этот спор. – Но я ещё раз предупреждаю: если заболеешь, я платить за тебя не буду. Иначе прогорю до жопы. У меня таких, как ты, немерено. Один без маски работает, другой голую руку в пилу засунул, третьему на ногу ящик упал! Так не пойдёт, – продолжает он резко. – Никому платить не буду! Копейки не дам! Я технику безопасности вам обеспечил. Маски выдал. В медицинский фонд официально отчисляю…
– Павел Борисович, – говорю я. – Рак лёгких – распространённое заболевание, у него десятки видов. Есть виды, которые поражают только некурящих людей. Если я вдыхаю опилки, это вовсе не гарантирует мне болезни. Кочегары вдыхают угольную пыль. Сталевары – горячий пар. Шофёры – угарный газ. Парикмахеры – мелкие волосы. Штукатуры – известь. Мы все дышим ядом. А маски носим для самоуспокоения.
– Иди отсюда, – велит Пахан с отвращением. – Ты охренеть какой умный, а простых вещей от тебя добиться невозможно. Ещё раз говорю: заболеешь – ко мне не обращайся.
– Добро, – говорю я.
– А за выходку, – сухо добавляет он, – ты оштрафован на три тысячи рублей. До свидания.
И дух его умягчается; я знаю, что, когда он останется один – достанет бутылку из нижнего ящика шкафа и махнёт полстакана. Хороший человек.
7
После работы – опять на маршрутку, на этот раз в центр города.
Своё оружие – шабер – переместил из-за спины вперёд, под живот. Всегда так делаю, когда иду в банк. Однажды, десять лет назад, меня пытались ограбить, и даже ножом ткнули. Думали, при мне деньги есть. А не было их – я, наоборот, пришёл тогда пополнить ячейку.
Теперь еду тоже без денег: просто проверить. Привык, приобрёл рефлекс, раз в неделю объезжаю все три наших банка и проверяю деньги в ячейках.
Сейчас ячейки пусты, всё выгреб.
Девушка в белой блузочке улыбается мне и провожает, красивая, по ступеням вниз, в хранилище. Они теперь все улыбаются, их этому специально учат, борьба за клиента, конкуренция.
Я против этой девочки, свежей, словно яблоко, стройной, выгляжу бедняком-деревенщиной, по-английски сказать – реднек: на мне стоптанные ботинки и старые джинсы, и растянутая фуфайка, а сверху куртка без цвета.
Отмыкаю ключиком, выдвигаю плоский ящик. Ещё недавно он был полон доверху, едва закрывался, рядами лежали разноцветные пачки. Сейчас на дне единственная бумажка: сто долларов. Когда всё вынимал – оставил одну специально, согласно примете, “на развод”. Люди верят, что кошелёк (или сейф) нельзя оставлять пустым: хоть мятую десятку, а положи, тогда к ней другие добавятся.
Собственно, ячейка мне больше не нужна, и я думаю: не закрыть ли мне договор с банком, чтоб не платить лишнего за аренду сейфа?
Решаю оставить как есть.
Уж больно приятно сюда приходить, видеть улыбки красивых девушек, сидеть в широком кресле, нога на ногу. Мало ли что, ячейка может вновь пригодиться.
Из банка шагаю на почту.
Тут меня тоже все знают. И женщина в синем пиджаке, к концу дня замотанная, нервная, охотно отгружает мне всю корреспонденцию, предназначенную для деревни Чёрные Столбы.
Два извещения на получение посылок – для деда Козыря и бабки Лабызиной.
Той же бабке – уведомление из пенсионного фонда.
А мне – дали конверт, длинный, с множеством марок. Я тут же вскрыл, развернул и прочитал, жадно скользя глазами: то было официальное уведомление о прибытии моего груза на городскую железнодорожную станцию.
Грузовое отправление я мог получить уже завтра с девяти утра, имея при себе паспорт.
От возбуждения я задрожал, кое-как засунул пенсионные стариковские бумажки в сумку; свой конверт, уже пустой, – смял и выкинул в урну, и пошёл, забыв попрощаться, потом почему-то испугался, что напрасно выбросил конверт от столь важного документа, бегом вернулся на почту, извлёк мятый конверт из урны и тоже пихнул в сумку.
Всё изменилось, мир зацвёл.
Осталось потерпеть всего один день.
Апрельское солнце сверкало на небе, горели стёкла домов и автомобилей, глаза прохожих, золотые кольца на женских пальцах, спицы детских велосипедов.
Картина мира стала неполной, я видел только то, что излучает свет, и то, что его отражает. С этой точки зрения мир выглядел как паутина, переплетение световых лучей и потоков.
Чтобы успокоиться, я решил пройтись пешком, и быстро обнаружил, что ноги сами несут меня по улице Осо- авиахима на окраину, в сторону так называемых “богатых домов”.
В своё время обеспеченные люди и верхние чины городской администрации выгородили в красивом месте большой кусок земли и построили два десятка каменных коттеджей. Впоследствии появились другие обеспеченные и верхние, они продолжили улицу, поставив новые дома в ряд к уже имеющимся. Здесь пахло свежим асфальтом, везде – видеокамеры, а дорожные знаки предупреждали о возможном появлении детей, велосипедистов и животных, и что скорость возможна только самая малая, и что за выброшенный мусор – штраф.
Дети действительно бегали повсюду, катались на роликах и великах. Редкие проезжающие автомобили останавливались и терпеливо ждали, пока очередной сорванец не свернёт в сторону.
Я втайне надеялся, что мимо проедет и Гера Ворошилова на своей маленькой машинке.
Я ведь искал её дом, а какой ещё?
Дом её отца, а теперь её дом.
Прошагал вдоль забора, мимо ворот и калитки; всё заперто, с той стороны ни звука. Но я знал, что она там.
Чтобы не выглядеть подозрительно, я дошёл до конца улицы и купил в магазине пакет семечек.
Почти месяц, как она там живёт.
Я приходил сюда по выходным, всегда во второй половине дня. Она ведь – художник, свободный человек. Ей не нужно, как мне, бежать на фабрику к девяти утра. Она – богема, человек искусства, она спит допоздна, а из дома выходит в середине дня. Потому что ей так или иначе нужно покупать еду, стиральный порошок и всё то, без чего человек не обходится.
И вот – по субботам и воскресеньям я шагал мимо, иногда в три часа дня, иногда в восемь вечера. Но ни разу её не встретил, не видел её машины, не заметил, чтобы были открыты ворота.
Из социальной сети Newernet я скачал на телефон несколько её фотографий; в той, виртуальной, жизни она представала блестящей, молодой и беспредельно дерзкой.
Фотографии нужны мне были не для того, чтоб любоваться; не по любви я искал Геру Ворошилову, а чтоб наверняка узнать, если увижу её изменившейся, с волосами другого цвета или, допустим, в очках.
Иногда сомневался, думал: может, бес меня под локоть толкает искать встречи с этой девушкой?
И сам себе отвечал: нет, я во всём прав. Нет на мне за это греха.
8
Возвращаюсь назад. Та же маршрутка, тот же запах выхлопных газов. От мужиков пахнет водкой. Ещё не доехали до Беляево – пассажиры попросили остановить, для малой нужды. Сразу трое побежали в кусты – все, кроме меня. А оставшиеся две женщины рассмеялись.
От остановки иду пешком. Здесь не город, света нет. Чёрные Столбы – они и есть Чёрные Столбы. Надо достать телефон, включить фонарик и глядеть под ноги.
Вот и мой дом. Он не такой, как те, богатые, в городе. Он гораздо меньше: как раз для одного. И двор меньше, и забор ниже.
Первым делом я включаю свет. У меня его много: во дворе два фонаря, и лампа над крыльцом.
Потом набираю номер, выученный наизусть. На том конце сбрасывают входящий. Я перезваниваю.
Это наша конспирация.
– Здорово, Читарь.
Это мой брат и единомышленник. Читарь – его настоящая фамилия.
– Здорово, – отвечает он.
Голос у него необычный: сухой скрип, как будто трещит сломанная ветка.
Я объявляю Читарю, что контейнер приехал, надо забирать. Нужна машина, и сам он, Читарь, нужен тоже. И чтоб взял пистолет с резиновыми пулями, мало ли что. И полный бак чтобы залил, и машину проверил: мы не должны застрять где-нибудь между Беляево и Косяево с грузом стоимостью в двести тысяч долларов.
Читарь всегда закрыт, разговоры не любит. Мы разъединяемся, я откладываю телефон и иду в подвал.
Его стены выложены частично из камня, частично из кирпича; поверх нашиты доски. В таком виде подвал просуществовал долго. Потом, когда стало можно за деньги купить любой товар, – я купил самый лучший звуконепроницаемый материал и закрыл все стены и потолок.
Я много раз проверял: включал в подвале музыку, на полную громкость, так, что внутри нельзя было находиться, – затем выходил из дома и шагал к ближайшим домам, за сто пятьдесят метров, ложился ухом к земле, и пытался уловить; ничего не расслышал.
В своём подвале я мог делать всё, что заблагорассудится.
Пять на пять метров, посреди – рабочий стол из дубовой доски. Стены приятного коричневого цвета.
На освещении я не экономлю, ставлю самое лучшее. То же касается и вентиляции: в двух противоположных углах две принудительных вытяжки. В моём подвале всегда очень сухо, никогда не бывает плесени.
Над рабочим столом – отдельный светильник.
В ближнем углу на стене – приборы: два на уровне головы, измеряют температуру и влажность, два таких же на уровне пола.
Огнетушители, ящик с песком: ничего я так не боюсь, как пожара. Пожар, безжалостное ревущее пламя – один из моих кошмаров, пожизненных.
Пол – каменный: прямоугольные плиты из гранитной крошки на цементном основании. Все материалы в подвале – негорючие, полки и стеллажи – алюминиевые и стальные, лестница также стальная.
Горючие химикаты, пропитки, лаки и краски стоят в отдельном стальном шкафу.
У дальней стены – верстак, там у меня весь инструментарий.
Над верстаком – планшетный компьютер, подсоединённый к системе видеонаблюдения. Восемь камер, спрятанных в стенах дома, обозревают периметр, забор, калитку, крыльцо, подъездной путь. Система работает от общей электросети, но при необходимости переключается в автономный режим, питаясь от аккумуляторов. Не выходя из подвала, я могу видеть всё, что происходит наверху.
Под лестницей – четыре канистры, бок о бок, в каждой по двадцать литров бензина.
Проникни в мой подвал посторонний человек – я бы отшутился, сказал, что построил бункер на случай ядерной войны. Хохма известная, и всегда в ней есть правда; в нашем народе до сих пор живёт страх всеобщей гибели под ударами нейтронных боеголовок.
Есть ещё малый рабочий стол, и на нём лежит укрытая тряпкой деревянная фигура, чуть больше метра длиной, – но я к ней пока не подхожу и про неё не думаю.
У третьей стены – стальной стеллаж, тоже заваленный инструментом, там у меня лежат старые сточенные напильники. За годы работы руки так привыкли к их рукоятям, что выбрасывать жалко.
На верхней полке этого стеллажа стоит картонная коробка из-под кофеварки “Тефаль”, я снимаю её и открываю, и достаю деревянную голову женщины, святой Параскевы.
Наверное, уже понятно, что я и есть грабитель, похитивший ценную вещь из дома искусствоведа Ворошилова.
Я был тот, кто перелез через забор, вынес топором стекло, вломился в комнату и забрал голову.
На мне – несмываемый грех, смерть человека.
И вечером я долго молюсь, поклоны кладу, стучу лбом об пол.
Это помогает. Дух постепенно смиряется; смирение есть благодать, оно лечит.
Когда умру – на Божьем суде, каков бы он ни был, – я много чего скажу в своё оправдание.
Пётр Ворошилов сам украл эту голову, и ещё много чего украл, что ему никогда не принадлежало.
Он украл иконы XV века, и деревянную голову Параскевы XII века, и ростовую храмовую скульптуру, предположительно святого Дионисия, неизвестно какого века. Он украл ещё несколько дорогостоящих и редких артефактов, и либо их присвоил, либо продал.
Никаких прав на иконы и скульптуры у него никогда не было. А я – имел все права, и по людскому закону, и по божьему, хоть по тёмному языческому, хоть по светлому христианскому.
Смиренный, выключаю свет; полночь уже.
Снова вдруг разволновался. Завтра привезут мою заготовку. Потом работа, недели на две-три, как пойдёт. И я – у цели.
9
Я его не убивал, конечно.
Замысел сложился у меня прошлой осенью.
На дело решил идти зимой: рано темнеет. И ещё: если вдруг будет погоня – по глубокому снегу мне, сильному, проще уйти.
Именно в конце дурной и счастливой масленичной недели. Потом начинался Великий пост. Не могло быть и речи о том, чтоб идти на кражу в Великий пост, в дни печали и напряжённой духовной работы.
Сигнализация меня не беспокоила. Ворошилов включал её, только когда покидал дом.
Я знал, что у него – бессонница, что днём он выпивает полбутылки виски или коньяка, и ложится в девять вечера, принимает снотворное и проваливается в тяжкое фармацевтическое забытьё.
Не ночью – поздним вечером, ближе к полуночи, когда ещё шумно, когда люди ходят и машины носятся, когда одинокий, спокойно шагающий человек с рюкзаком не вызывает подозрения. Когда звон разбитого стекла можно принять за звуки супружеской ссоры или за неинтересное бытовое происшествие.
Надежда была на то, что я быстро войду и быстро выйду, забрав, что нужно, а он будет спать, или проснётся и начнёт вставать, испугавшись, навострив уши, поддёргивая штаны, но пока достанет из шкафа своё бесполезное ружьё, пока зарядит, пока соберётся выйти, – я успею исчезнуть. Он не увидит ничего, только осколки стекла.
Но я замешкался, пытаясь осторожно расколоть контейнер, не повредив саму голову.
И увидел его – а он увидел меня.
Да, он умер на моих глазах, но я к нему не прикасался.
Он никак не мог мне помешать. Я гораздо сильней физически. Подними он ружьё для выстрела – я бы его опередил и выбил оружие. Решись он на драку – я бы уложил его одним ударом.
Нет, он сам ушёл на ту сторону – потому что его позвали, за ним пришли.
Если бы я сосредоточился, я бы увидел, наверное, чёрные тени, забравшие душу Ворошилова в ад.
На нём накопилось много всего.
Судить другого – последнее дело; но, если уж пошёл такой разговор, – я убеждён, что Пётр Ворошилов теперь варится в адском котле.
Достаточно того, что он грубо обманул свою жену при разводе, лишил её крупной суммы денег.
Он выдал уникальную деревянную голову женщины, и статую Дионисия, и многое другое, – за собственные находки, привезённые из дальних экспедиций. На бумаге таких экспедиций было два десятка, на самом деле – всего одна, в далёких восьмидесятых годах.
Голову деревянной женщины Ворошилов забрал хитростью у совершенно конкретного человека из подмосковного посёлка Электроугли.
На находках Ворошилов построил не великую, но прочную карьеру, и не только свою.
Он целую судьбу – собственную – создал, основываясь на краденом, чужом.
И когда он ушёл из науки, когда всё кончилось, – он тоже кончился. Дальше было только уныние и праздность, два тяжких греха разом, многие месяцы, вплоть до смерти. И сердце его – лопнуло не просто так, а потому что отвыкло от работы на полную мощность. Его жизнь отягощалась не стрессами, а исключительно тоской. Имея крепкое сердце, он бы не умер, увидев меня с топором в руке. Он бы убежал, или попытался остановить меня, не физически, но хотя бы уговорами.
Сердце не выдержало, потому что он сам этого хотел. Он умер бы через год или два от алкоголизма.
Он не имел цели, не действовал, он оказался в тупике.
Его дух всегда был силён и велик – но угнетён гордыней, непомерным самолюбием. Ворошилов был сам себе враг. Он хотел славы и денег, признания, он мечтал стать значительным учёным, желательно – международного масштаба, и иметь все полагающиеся призы и преференции. Любил женщин, официальную жену и ещё несколько неофициальных, и всех, одну за другой, безжалостно вышвырнул из своей жизни.
Помню, что в его доме – когда я ввалился в окно – ноздри учуяли скверный запах слежавшихся тряпок, немного смягчённый ароматом дорогого виски. Уже не дом – почти склеп. Его обитатель, внешне крепкий и благополучный, гнил изнутри. В прошлые времена такие люди уходили в монастыри, и там, среди стариков разной степени ветхости, сами становились стариками и умирали в тишине келий.
Ворошилова охотно взяли бы в монастырь – он преподнёс бы в дар свои иконы. Но он не постригся: видимо, не хватило решимости. Из него, наверное, получился бы хороший монах-чернец, суровый и умный. Но нет, историк Ворошилов умер, не состарившись, от разрыва сердца, от приступа ужаса, просто увидев ночью ворвавшегося в его дом чужого человека с топором в руке.
10
Голова Параскевы – очень тяжёлая, это производит впечатление.
Руки готовы взять нечто вроде резинового мячика – и вдруг ощущают вес железного ядра.
Дуб, из которого сделана голова, сильно отличается от современного дуба: он плотнее.
Под головой длинная шея – рубили ниже к плечам. Рубили аккуратно. Я уверен: тот, кто рубил, рассчитывал со временем восстановить фигуру.
Рубил тот, кто не хотел разрушать статую; тот, кого заставили. И он сделал это бережно.
В месте разруба, в нижней стороне шеи, заметно отверстие, можно просунуть карандаш. Это, скорее всего, работа самого Ворошилова. Он просверлил голову инструментом под названием “приростной бурав”, извлёк длинный столбик древесины и посчитал годовые кольца: таков научный способ определения возраста материала.
Изначально фигура была вырезана только ножом и топором, а затем вся выскоблена, ножом опять же. О манере работы мастера можно составить мнение по глазам фигуры – они сделаны грубыми сильными прорезами, а зрачки – наоборот, почти идеально круглые: рука умельца была крепка.
Нет никаких свидетельств, указывающих на чин этого образа. Считается, что это голова Параскевы, но это может быть также и голова Богородицы, или Марии Магдалины, или святой Ольги, или святой Февронии.
Я не могу долго держать голову в руках: духу не нравится, и что-то обжигает мои ладони.
Массив дуба, из которого вырезали фигуру, – старше фигуры лет на триста.
Дуб срубили в древние, языческие времена.
Это дерево не выросло само по себе: люди помогли ему.
Дуб – не сосна и не ель, дуб любит тепло. Изначально дуб не рос в средней полосе России. Дубовые рощи постепенно появились вокруг Рязани, Калуги и Тулы примерно в первой трети первого тысячелетия, когда изменился климат, когда в центре евразийского материка началась великая засуха, принудившая кочевые азиатские народы сняться с мест и уйти на запад.
Славянские племена, жившие по краю Великой степи и Великого леса, вынужденные защищаться от кочевников, рубили крепости, остроги и сторожевые башни, используя самый прочный известный им материал: дуб.
В каждой деревне жили древоделы: семья, две-три семьи, люди со сноровкой, опытом, знаниями, с остро наточенными топорами.
Сосну рубили на строительство жилых домов и хозяйств. Сосны всегда было много. Сосна до сих пор – самый лучший и распространённый строительный материал, дешёвый и удобный. Сосновая смола полезна для здоровья, кто вдыхает её целебный запах – становится спокойным и долго живёт.
Берёза – сорняк, всегда росла везде и ничего не стоила, шла на дрова, береста – на поделки.
Осина – на колья: ствол её самый прямой.
Однако никаких правил не существовало, в разных землях росли разные леса, севернее – сосна, берёза и ель, южнее – дуб и осина. Где-то было принято и топить печи осиной, и складывать бани из осины. В поздние, христианские времена осиновый лемех использовался для покрытия храмовых куполов.
Каждой семье древоделов принадлежала своя дубовая роща – или несколько, в зависимости от величины семьи. Рощи передавались по наследству. За рощами ухаживали. В конце весны прореживали: если два дубка вылезали рядом – один сносили без жалости. Зимой опять приходили: срубали у молодых дубов нижние ветви, чтоб дерево тянулось вверх. Если, несмотря на все усилия, дуб вырастал кривым – его тоже срубали, оставляя солнечный свет для других деревьев, с прямыми ровными стволами.
От жёлудя, от ростка – до сноса, до строительного размера, – дуб растёт самое малое пятьдесят лет. В холодный год даёт менее полуметра роста, но если солнца много, если лето длинное и жаркое – до метра.
Отцы выращивали, сыновья срубали, одновременно следя за тем, как поднимается новая поросль – для внуков.
Все члены семьи – отец и несколько сыновей – знали каждое дерево в своей роще, решали, какое когда срубать.
Как правило, основной заработок имели, говоря по-современному, на оборонных или государственных заказах: когда вождь или князь, властитель тех мест, решал поставить новый острог или детинец. Полсотни дубов надо срубить, чтоб возвести сторожевую башню; полсотни тяжёлых брёвен изготовить и доставить, иногда – за сотни километров.
Но и платили за это хорошо.
Заплатив, князь-вождь приказывал сложить брёвна в ряд под открытым небом, чтоб подсохли. Срубленный зимой дуб должен пролежать минимум год. Главное – не сушить его в тёплом месте, иначе обязательно треснет повдоль.
Дуб сносили вместе с комелем, выкорчёвывали, глубоко обкапывая землю вокруг; это была начальная и самая трудная работа.
Из нижней части, включая комель, вырубали колоду в четыре метра, тяжёлую, как смерть.
Колоду отдавали священнослужителям, волхвам, – те благодарили и выреза́ли из колоды образ бога солнца, или бога грома, или бога плодородия, или какого-нибудь другого бога из множества, – и надёжно вкапывали нового идола в землю, рядом со старыми.
Идол, вытесанный из дуба, стоял вечно.
Поскольку нижняя, самая твёрдая и ценная часть срубленного дерева преподносилась в дар богам – всё остальное, сучья, ветви, кора и листья, становилось священным, получало покровительство надмирных сил.
После отделения колоды вторая часть ствола очищалась от ветвей: выделывалось основное строительное бревно, всегда разное, от пяти до десяти метров, часто и длиннее – в зависимости от кривизны ствола. Дубы редко вырастают идеально прямыми, несмотря на всю заботу.
Но бывали дубы – как свечи, из них и по два бревна получалось.
Ветви и сучья перерабатывали тут же, на месте, выбирая длинные и прямые части: из них вырезали главное оружие тех диких времён – боевые дубины. У каждого мужика дома стояли в углу три-четыре дубины, отполированные, разного веса и длины, – такие, чтоб с одного удара башку снести. Дубины любили, как сейчас любят ножи и винтовки. Прежде чем учиться мечевому бою, молодые воины упражнялись на дубинах.
Уработав весь ствол и все ветви – обычно на это уходило два-три дня, – древоделы шли отдыхать; наступал черёд их жён и дочерей, они делали лёгкую часть работы: снимали со ствола кору. Отваром коры лечили расшатанные зубы, кору накладывали на раны, но бо́льшую часть продавали кожевникам.
Кожи, вымоченные в отваре дубовой коры, становились крепкими, из выдубленных кож изготавливали боевые брони.
Но главной ценностью были сами брёвна. Продав их, древоделы бо́льшую часть вырученных средств тратили на приобретение новых топоров и ножей; чёрное железо стачивалось быстро, особенно если работать с крепким деревом.
Так однажды появилась на свет дубовая статуя, чью голову я держал в руках.
Я был убеждён, что из колоды сначала вы́резали языческого идола. Он стоял на капище лет двести или триста, его грозный лик мазали кровью быков, коней и агнцев, а губы – их жиром. Ладони волхвов полировали грудь идола, спину и чело.
Возможно, то был образ женского божества, Мокоши, и его обвязывали по шее и поясу льном и куделью, подвешивали в дар кольца, серьги, браслеты.
Трудно представить, какую силу накопил идол. Сколько животных и птиц было зарезано у его подножия? Вероятно, приносили в жертву и людей, детей даже.
Сам я не могу знать точно, убивали людей или нет. Я там не был, нюхом не нюхал, пальцем не трогал.
Я чувствую только, что дерево напитано яростными мольбами и смертным ужасом. Кровавая дань уплачивалась регулярно, пока не села в Киеве княгиня Ольга, первая на Руси христианка: при ней истуканы оставались голодными, а некоторых Ольга и вовсе приказала закопать. Сын Ольги, Святослав, великий воин, христианства не понял и не принял, чёрные колоды откопал и возобновил жертвенные подношения. Наконец, сын Святослава, Владимир, приходящийся Ольге внуком, вступил в этот мир язычником, но сам крестился и крестил всю свою землю.
Далее христианство утверждалось на Руси около трёх столетий. Сначала это была вера князей: они за свой счёт ставили храмы и сами же в них молились. Один только Андрей Юрьевич Боголюбский построил десяток каменных храмов. Простой же люд бегал и в церковь, и на капище. И к старым богам, и к новому, триединому. Мало ли что. Какое-то время Русь была территорией двух религий, кое-как уживавшихся друг с другом. Были у нас в истории даже восстания волхвов.
Но постепенно княжьи воины, по наущению христианских иерархов, разгромили и разорили все капища. Истуканов выбросили, утопили в реках, порушили мечами и топорами, сожгли. Но не всех. Нашлись разумные люди, они переделали многих идолов, превратили в христианские святые образа.
Безусловно, это было сделано из практических соображений: чтоб добру не пропадать.
И вот деревянная женщина оказалась в православном храме, и провела там следующие шестьсот лет, пока её снова не решили уничтожить.
Где тело для этой головы – я не знал, хотя искал десятилетиями. Пётр Ворошилов тоже искал; но не нашёл.
11
Читарь приехал рано: ещё лежала на траве тяжёлая ночная роса.
Он остановил машину у калитки и коротко посигналил. Я уже завязывал галстук. Перекрестился на образа – и выбежал.
Мы обнялись; Читарь был твёрдый, как камень.
Я считал его братом и лучшим другом.
Автомобиль Читаря, потрёпанный “Фольксваген Каравелла”, я давно не видел чистым; сейчас он блестел. Поживший минивэн предстал передо мной в своём лучшем, идеальном виде, как идущая к алтарю невеста.
Читарь – тоже: пиджачная пара, ботинки отсвечивают графитом, подбородок вперёд. Серые глаза издалека нашаривают; взгляд тяжёлый, но уравновешен непрерывной тёплой полуулыбкой, всегда благожелательной и как бы царственной.
Дух его, Читаря, – силён и громаден. Теперь, когда мы сидим в кабине, его дух заполняет всё пространство внутри железной коробки, и ворочается, не вмещаясь, так, что стёкла гудят и готовы выскочить.
Мой собственный дух в это время добровольно умаляется, уступая место более сильному собрату.
По рытвинам и грязям наша машина объезжает деревню и вываливается на дорогу – она у нас тут одна на весь район.
Если не приглядываться – шагов с десяти Читаря можно легко принять за миллионера-плейбоя. Или, скорее, за сына миллионера: он выглядит едва на тридцать лет. Широкие спортивные плечи и выпуклая грудь; лицо тёмное, обветренное, с глубоким загаром, как у альпиниста, или у морехода из тропиков. Начинает говорить – открываются зубы: ровные, белые, один к одному, сверкают из темноты коричневого лица, как фарфоровые чётки. Высокий лоб и русые, густые, блестящие волосы.
При такой выигрышной, мужественной внешности Читарь не придумал ничего лучше, как поселиться уединённо в глухом и скучном углу, на дальнем краю области, в деревне Криулино, и почти всё время проводить за книгами или в молитвах.
Это называется “монах в миру”, – так он сам объяснял.
Поскольку в его деревне нет интернета – Читарь регулярно выезжает на своей “Каравелле” в Павлово и часами сидит где-нибудь в кафе или баре, с ноутбуком, подключившись к Сети и опять же – поглощая книги.
Я знаю, сам видел: к нему подсаживались женщины, первыми заводили разговор, улыбались, гладили себя по волосам, заигрывали, – они хотели Читаря физически, он выглядел как романтический маргинал или, наоборот, маргинальный романтик; он походил то ли на Александра Македонского, то ли на Андрея Рублёва.
Я в его, Читаря, жизнь не лез никогда; что он делает с теми многочисленными женщинами – не знаю. Может, именно от них и убежал в деревню Криулино.
– В этих галстуках, – сказал Читарь, – мы с тобой похожи на людей из похоронной конторы. Да. – Он рассмеялся. – Не хватает только катафалка! В таких костюмах и с такими рожами – нам надо ехать на катафалке!
– Так тоже нормально, – сказал я. – Пусть все думают, что мы едем забирать пустой гроб, или, например, крест надгробный.
– В катафалке лучше, – уверенно заявил Читарь. – Их вообще никто никогда не останавливает. Плохая примета – переходить дорогу похоронам. В Америке тридцатых бутлегеры возили виски только на катафалках.
– Хватит, – сказал я. – Катафалки, бутлегеры – что за тема такая? Спасибо, друг. Нашёл, с чем сравнить.
Читарь опять засмеялся и вдавил педаль. Он был большой любитель быстрой езды. Мы обогнали одного, второго и третьего. Нам даже сзади посигналили и моргнули светом: мол, на грубость нарываетесь, ребята. Но Читарь только улыбался и давил тапку.
Дорога, рано утром свободная, сама звала – давай, поддай коняшке под бока, разогрей кровь.
Бог создал человека, способного перемещаться со скоростью пять километров в час. Но Бог захотел, чтоб человек создал технику, дающую возможность разгоняться до таких скоростей, какие не каждый из людей способен даже вообразить.
Читарь зашёл на обгон четвёртого. Двигатель выл, исторгая почти музыкальный набор звуков, выражающих протест. В лоб нам медленно выкатилось нечто громадное, солярой чадящее, – агрегат для ремонта дорожного полотна.
Не стану врать: тут я испугался, упёрся коленями и подошвами, правой рукой ухватил ремень, суетливо задёргал, натягивая поперёк груди.
В долю мгновения Читарь переложил руль и красиво объехал всех, вовремя перестроился.
– Ты боишься, – сказал он, – потому что недостаточно веришь. Надо верить. Если веришь всей душой – тогда ничего не случится.
Я не ответил, просто кивнул.
Читарь никогда не попадал в автомобильные аварии. Даже в мелкие. С ним вообще никогда не происходило ничего плохого. Сам он полагал, что так действует божья благодать, его защищающая; он называет её по-гречески: Невма.
12
Когда доехали, часы на фасаде вокзала показывали половину восьмого.
У складских ворот не было ни души.
– Всё-таки, – сказал Читарь, – мы с тобой деревенщины. Селюки. Приехали за час до начала. Люди ещё зубы чистят, а мы уже под дверью стоим.
– Ничего, – ответил я, – зато мы первые. Вдруг тут очередь будет.
Вокзал был частью главной площади города. В её центре, распирая грудью пространство, стоял огромный идол: прямоугольный гранитный постамент вздымал в небо бронзовую фигуру Ленина. Скульптор изваял вождя трудящихся в зимнем пальто и в шапке-ушанке.
Люди давно уже не поклонялись идолам Ленина – во всяком случае, в массовом порядке; не жертвовали ему горы цветов, не отдавали своё время и внимание. Но вдруг выяснилось, что среди многих тысяч идолов, стоявших по всей стране, разнообразных – Ленин недвижный, Ленин шагающий, Ленин в кепке и без неё, и, наконец, наиболее распространённый: Ленин, подъявший длань и указующий перстом в светлое будущее, – всего в пяти случаях вождь пролетариата имел на голове зимнюю шапку.
Один такой идол стоял в Бийске, второй в Минусинске, ещё два – в Петрозаводске и Рыбинске, а пятый и последний – у нас.
И если в Павлово прибывали редкие туристы, им непременно предъявляли утеплённого Ильича как одну из любопытных редкостей.
Множество их стояло по России, и ещё такое же множество – в соседних странах, бывших союзных республиках, – но там их, как правило, давно уничтожили, свалили, чтобы не напоминали грозными своими ликами о временах СССР.
Борьба с идолами идёт всегда, независимо от того, какое на дворе столетие.
Люди обуздали ядерную энергию, научились отправлять роботов к другим планетам и делать операции на открытом мозге – и при этом регулярно валят старых истуканов и воздвигают новых.
Двадцать лет назад прогрессивная общественность города решила добиться переноса идола с центральной площади ближе к окраине. Но павловские коммунисты, влиятельные и сплочённые в то время, остановили безобразие. С ними объединились историки, краеведы. Влиятельный Пётр Ворошилов организовал письмо из Москвы, из министерства культуры. С тех пор идол стоит неприкосновенный.
Справа от него сверкал новыми стёклами автовокзал, а за спиной автовокзала, если пройти ниже по улице Октября, возвышалась колокольня и маковка павловского храма Святой Троицы; оттуда вот-вот должны были ударить к заутрене.
– Пойдём, пройдёмся, – сказал я Читарю. – В храм заглянем.
Читарь вздрогнул. Его всегдашняя мирная улыбка пропала.
– Пойдём, – повторил я. – Вдвоём не так страшно.
Мы подошли к ограде, когда уже били колокола.
13
За калиткой и на паперти сидели несколько убогих, замотанных в сальные тряпки; увидев нас, они застонали громко, чтоб их было слышно сквозь медный гул, и мы раздали им все мелкие деньги – под звон колоколов нельзя не дать милостыню.
За два шага до дверей остановились и перекрестились. Я покосился на Читаря: он дрожал.
– Пойдёшь? – спросил я тихо.
– Нет, – ответил Читарь. – Не могу. Духа не хватает. А ты?
– Пойду.
– Я тебя тут подожду.
– Конечно, брат. Тебе свечку купить?
– Не надо ничего.
– Как хочешь.
И я шагнул, ещё раз размашисто осенил себя крестом и взялся за ручку.
В дни Великого поста при входе в храм положено класть троекратные земные поклоны – опуститься на колени и ладонями до земли, и лбом тоже. Но давно уже никто, кроме самых рьяных прихожан, не клал такие поклоны при входе, и я тоже не стал.
И потянул на себя дверь, и вошёл, а там – вторая дверь, такая же тяжёлая, и за ней в ноздри ударяет ладан, и слышно пение, но угадать, что́ поют, я не могу, в ушах свист, голова кружится, взгляд едва проницает коричневый полумрак притвора, где несколько женщин вертят в руках только что купленные свечи, я хочу сделать ещё шаг, но ноги не идут, неприятно дрожат колени, и эта дрожь пугает больше всего, вдруг упадёшь тут, от страха завоешь – и назад, ползком, как змея, и тебя примут за одержимого или за сумасшедшего, но всё-таки я делаю этот шаг, хотя дух мой весь сжался, и сам я тоже как бы ссыхаюсь, такой человечек на полусогнутых, опустивший плечи и голову, прижавший руки к груди, похожий на бедного просителя, явившегося к большому начальнику, и ещё один шаг совершаю, и придумываю себе цель: дойти до прилавка и что-нибудь купить, образок или ту же свечу, – но тут же вспоминаю, что денег-то у меня и нет, всё раздал нищим, до копеечки высыпал, – и на этой мысли ломаюсь, воля иссякает, раз денег нет, так и нечего тут больше делать, и я разворачиваюсь, и вот уже ноги не только перестают дрожать, но сами несут меня вон, и я выскакиваю под небо, через обе двери, единым ходом, и бегу мимо ожидающего меня Читаря, не сказав ему ни слова.
Он догоняет меня, когда я уже шагаю назад, к площади.
Хорошо, что колокола умолкли.
– Тебе не надо было этого делать, – говорит Читарь.
– Я почти вошёл. Я буду ещё пробовать. Вдруг получится.
Мы обошли площадь дальним краем, не спеша, – понемногу она заполнялась людьми и автомобилями, – и я успокоился. От пережитого страха остался осадок, да и тот исчез быстро. Время лечит ото всего, любую боль вымывает, в этом его бесценное свойство.
Наоборот – я вспомнил, зачем приехал, и мой дух взмыл. Осталось меньше получаса – и у меня начнётся другая жизнь.
14
Наконец мы оказались за забором, а потом на просторном складе. Нас встретил человек в робе, лохматый и равнодушный, он проверил мой паспорт и накладную; в глубине склада зажужжал погрузчик, оранжевый механизм на маленьких чёрных колёсах; железные лыжи привезли ко мне и поставили на пол деревянный ящик, метр на два.
Лохматый в робе подошёл к ящику с топором в руке, размахнулся и вонзил топор под крышку, собираясь её отодрать, – но я подскочил и отстранил его.
Он пожал плечами и отошёл.
Я вытащил из-за спины шабер и отодрал верхнюю часть. Сначала вонзал железо, потом пальцами стал тянуть, от нетерпения.
Внутри, в деревянных стружках, лежала моя заготовка.
Целое бревно сандалового дерева, диаметр ствола в верхней части – не менее тридцати семи сантиметров.
Мои колени снова задрожали – на этот раз от восторга, теперь я боялся не упасть на пол, а, наоборот, подпрыгнуть к потолку, и понял, для чего мне нужно было то хождение в церковь: чтоб сейчас острее переживать счастье.
Читарь тоже подошёл.
Мы положили ладони на поверхность заготовки и погладили.
– Очень красивая, – сказал Читарь. – Как будто драгоценная.
– Она и есть драгоценная, – сказал я. – Она крепкая, почти как железо. Этот ящик, в принципе, нам не нужен, даже если мы её уроним, на ней не будет никаких царапин.
– Заберём и ящик тоже, – сказал Читарь. – Мне пригодится.
Эх, подумал я, даже он, лучший друг, ничего не понимает; я сделал такое огромное дело, получил, наконец, драгоценный товар, доставленный с противоположного конца планеты, – а он думает про ящик.
Мы не стали тянуть ни минуты. Снова заколотили крышку, теми же гвоздями. На этой крышке произошёл обмен документами: лохматый в робе и ещё один, назвавшийся директором отделения, раскинули свои накладные, я показал свои, мы стали возиться с актами приёмки и передачи, заполняя их от руки и переправляя друг другу. Пока оформляли, Читарь подогнал машину к воротам склада. Погрузчик не смог вдвинуть ящик в задний отсек нашей “Каравеллы”, – пришлось заталкивать вручную, втроём: лохматый помог.
В предвкушении, в сладкой лихорадке я сел в кабину; поехали домой.
Что чувствует профессиональный преступник, мечтавший украсть миллион – и вот укравший его, и готовый его потратить?
Я чувствовал то же самое.
Читарь угадал моё состояние и поздравил меня, и мы пожали друг другу руки.
На выезде из города у обочины стояла полицейская машина, двое инспекторов, уже с утра имевших усталый вид, размахивали жезлами, останавливая машины одну за другой. Я испугался, что сейчас нас тоже тормознут, и проверят груз; документы у меня в идеальном порядке, но, если человек в погонах попросит открыть ящик – придётся тогда объяснять, так, мол, и так, массив сандалового дерева, направляюсь в деревню Чёрные Столбы.
Сандаловое дерево возят по этой дороге, мягко сказать, не каждый день. Инспектор наверняка запомнит и любопытный груз, и меня, – а мне бы этого не хотелось.
Но мы, к счастью, проскочили, нас только проводили глазами.
И какое-то время всё было прекрасно. Начинался солнечный апрельский день, мокрая хвоя на придорожных елях сверкала изумрудом, машина летела по пустой дороге, и на миг мне показалось, что я живу жизнью царя, или даже полубога – несу по сверкающему коридору волшебный ларец, содержащий удивительную драгоценность.
Потом зазвонил мой телефон – и всё кончилось.
Посмотрел на имя входящего, удивился. Показал экранчик Читарю, он поднял брови.
– Ответить? – спросил я.
Читарь кивнул.
Я сбросил звонок, подождал немного и сам перезвонил.
Так действовала, ещё раз повторю, наша конспирация.
– Алло, – сказал я. – Щепа! Сто лет в обед!
Вместо приветствия Щепа грубо спросил:
– Ты где?
– Еду домой, – ответил я.
– Я тоже еду, – громко объявил Щепа. – К тебе еду. Уже полпути просвистел. Будь дома и жди меня! Понял? Это в твоих интересах! Никуда не уходи!
Пока он говорил, на заднем фоне шумело – он, очевидно, сидел за рулём.
Я попытался спросить, что случилось, но уже загудел отбой.
– Останови, – сказал я Читарю.
Он повернул руль, и мы встали у обочины.
– Щепа едет ко мне, – сказал я. – Не знаю, зачем. Говорят, какое-то дело важное.
– Ну и хорошо, – ответил Читарь. – Давно не виделись. Пообщаемся.
– Разумеется, – сказал я. – Но почему он именно сегодня едет? Что за совпадение? Пять лет его не видать, не слыхать, – и вдруг он выскакивает, как прыщ на жопе, с важным делом, не раньше, не позже, а точно в тот самый день, когда я получаю заготовку.
Читарь подумал и кивнул.
– Да, – сказал он. – Странно. Это не зря так совпало, ты прав. Что-то сдвинулось. – Он ещё подумал, нахмурив брови и отвернувшись. – Что-то сдвинулось, – повторил.
Мы молчали.
Поток машин выстроился на встречной полосе: все ехали по делам в город.
– Хочешь, – предложил Читарь, – отвезём её ко мне?
– Не имеет значения, – сказал я. – Он знает, где я живу, он знает, где ты живёшь. Если прятать заготовку, то лучше её прикопать где-нибудь.
Читарь вдруг повернул решительно ключ, завёл мотор; мы поехали.
– Это паранойя, – твёрдо сказал он. – У нас обоих – паранойя. Это ты меня заразил. Ты всего боишься. Что он нам сделает? Он наш брат. Такой же, как мы.
– Не такой, – сказал я. – Не такой.
Но Читарь поддал газу, машина полетела, солнце било в глаза, пахло сырой хвоей, день был прекрасен. Всё верно, подумал я, Щепа ничего нам не сделает. И он, между прочим, давно знает про моё сандаловое дерево, более того – я у него однажды занимал крупную сумму, чтобы вовремя оплатить важный счёт.
Когда открывал свои ворота – огляделся; никого не заметил. Старухи мои, у кого были силы, копались в огородах, очищали делянки от накопившегося зимнего мусора. У кого сил не было – сидели перед телевизорами.
Никто не видел, как в мой двор задом вкатился минивэн.
Вдвоём с Читарем мы сняли ящик и здесь же, во дворе, извлекли заготовку. Она так сияла под солнцем, что я пожалел заносить её в дом. Так и ходил какое-то время вокруг, щурясь и улыбаясь.
Работать с деревом можно и нужно на улице, во дворе. Во-первых, дневной свет. Во-вторых, шумно же: стук, треск, визг. Дом плотника всегда найдёшь по стуку топора. Обычно древоделы не устраивают мастерскую дома, под крышей, а тем более – в подвале. Но я – таюсь ото всех, берегусь, дело моё секретное. И я, вместе с другом, заношу тяжёлое бревно в дом, и далее – вниз, через узкий люк в подвал, по крутой железной лестнице, в три приёма.
На “раз-два-три-взяли” воздвигаем заготовку на стол и помещаем ровно под лампы.
Читарь огляделся, пошёл вдоль стен: давно тут не был. Он, как и я, любопытен до крайности, всё интересное и необычное его возбуждает.
Он долго рассматривает малую фигуру, лежащую на втором верстаке возле стены. Мне кажется – она смотрит на него, они глядят друг другу в глаза.
– Нравится? – спрашиваю я.
– Истинно говорю, ты великий мастер.
Я беру кронциркуль, измеряю ширину плеч малой фигуры, диаметр головы.
– Это модель, – объясняю. – Большая фигура будет такая же, с теми же точно пропорциями.
– Параскева?
Я не ответил.
Он не первый раз спрашивал, а я всегда отмалчивался.
15
Появление Щепы сопровождалось шумом и суетой: сначала он позвонил и объявил, что вот-вот подъедет и что мне следует открыть ему ворота; далее, вкатившись во двор на громадном белоснежном внедорожнике, он оглушительно посигналил, возвещая о своём появлении всю деревню, а возможно, и соседние; наконец, вытек, явно натренированным длинным движением, из машины и встал возле неё, опершись локтем и красиво дымя сигаретой, но музыку не выключил, и она грохотала из салона, пока я сходил с крыльца.
Голубоглазый, сильный мужчина в расцвете лет, с ног до головы модный: легкомысленно зауженные брючки, лёгкое пальто-пыльник, явно сшитое по фигуре, полированные ногти, много золота на шее и запястьях, что придаёт облику некоторый цыганский колорит; очень спортивный, очень на вид здоровый, очень благополучный; гарантированно вызывающий зависть у подавляющего большинства самцов, оказавшихся рядом, – таков был Щепа, мой родной брат, второй, после Читаря.
– А где куры? – спросил он вместо приветствия.
– Сигарету убери, – сказал я.
Щепа ухмыльнулся, но окурок бросил на землю и затушил каблуком.
– Кур нет, – сказал я. – При чём тут куры?
– Ну, – Щепа обвёл рукой двор, – ты же деревенский. Все деревенские заводят кур.
– А, понял, – сказал я. – Ты издеваешься.
Он захохотал.
Я отвык от его высокомерного грубого хохота, и сейчас вздрогнул и опустил глаза – неприятно было смотреть, стыдно. Не за себя – за него.
Он обошёл вокруг “Каравеллы” Читаря, пнул колесо.
– Отличный образец, – провозгласил. – Самодвижущийся примус эпохи первичного разграбления России. Твоя?
– Моя, – ответил Читарь, вышедший на крыльцо.
Увидев его, Щепа помрачнел и стушевался, и сразу стал похож на того, кем и был всегда: на мошенника и проходимца.
– Ты тоже здесь, – произнёс он грубо. – Ну и хорошо. Так ещё лучше.
Читарь сошёл с крыльца – и мы трое обнялись, коротко прижавшись друг к другу, лбами ударившись: братья всё-таки.
Но обнявшись – тут же разошлись, отворотив глаза.
– А чего это вы в костюмы вырядились? – спросил Щепа. – Хороните кого?
– Наоборот, – ответил я.
– Ага, – сказал Щепа. – Понял. Очередной ремонт очередной гнилой деревяшки. Так чего, в дом позовёте? Или здесь говорить будем?
– В доме, – сказал я.
– Подождите, – сказал Читарь, с любопытством оглядывая белый джип. – Что тут за мотор?
– Триста лошадей, – значительно сказал Щепа.
Читарь уважительно поднял брови.
– “Горе сходящим во Египет помощи ради, – процитировал он, – уповающим на лошадей и на колесницы: суть бо много, и конническое множество много зело; и не быша уповающе на святаго Израилева, и Бога не взыскаша”.
Щепа выслушал, кивнул.
– Нет, – ответил, – лучше так: “Явился им конь со страшным всадником, покрытый прекрасным покровом: быстро несясь, он поразил Илиодора передними копытами, а сидевший на нём, казалось, имел золотое всеоружие”.
Я рассмеялся.
– Ага, – сказал. – Знаем мы твоё золотое всеоружие.
Тут, в свою очередь, засмеялся Читарь, а Щепа нахмурился.
– Пошли вы к чёрту оба, – сказал он.
В доме Щепа сразу сел на табурет, вытянул длинные ноги, извлёк новую сигарету.
– Не кури, – попросил я, – по-людски прошу. Тут опилки везде.
– Вот именно, – ответил Щепа и попытался щёлкнуть зажигалкой. – В голове у тебя опилки. Как у Винни-Пуха из того мультфильма…
Но я успел раньше: выхватил из его пальцев зажигалку и сигарету из зубов, швырнул в угол; Щепа вскочил; мы сцепились.
Я был сильнее его, работал на фабрике и каждый день таскал тяжести, а он – нигде не работал.
А главное – духа не было у него, совсем, одни очертания остались.
Я хотел сломать ему руку или хотя бы палец – однако Читарь встрял и разнял нас; Щепу решительно оттолкнул к дальней стене.
– Ну спасибо, братишки, – ядовито проскрежетал Щепа, держась за мизинец, который я ему всё-таки повредил. – Встретили хлебом-солью!
– Просто не кури здесь, – сказал я. – Ещё раз попробуешь – я топор возьму и голову тебе расколю.
– Я нервничаю, – объявил Щепа. – Менты у меня были. Вчера. Тебя искали.
– Меня? – спросил я. – Зачем?
– Не знаю, – сказал Щепа с ненавистью. – Тебе виднее. Но менты серьёзные. Взрослые мужики с пистолетами.
– А почему к тебе пришли?
– Потому что ты у меня был прописан.
– Так я выписался давно.
Щепа задрожал.
– Но отметка осталась! – крикнул он. – Ты у меня двенадцать лет был прописан! Теперь они приходят и про тебя спрашивают. Имя твоё знают, и фамилию.
– Что за менты? – спросил я. – Павловские?
– Нет. Вроде московские. – Щепа гневно подкинулся. – Какая разница? Они мне весь день испортили! У меня – семинар на дому, йони-массаж, клиентка голая сидит, и сам я – тоже… Разгар работы… Выхожу в халате, а тут – двое с удостоверениями! А кто ты такой, а чем занимаешься, а паспорт покажи, а где твой друг Ильин Антип Иосифович? Я говорю: он мне не друг, дальний родственник, был прописан, потом уехал, куда – не знаю, давно его не видел, и видеть не хочу. Сидим на кухне. А клиентка моя из спальни мне сообщение на телефон пишет – ну где ты, я готова уже… Потом один из ментов пошёл в ванную, руки помыть, – а в ванной у меня лежит шлифовальная машина, моя собственная, недавно купил. Японская. Хорошая вещь. Мент выходит, машину выносит и мне подмигивает. Деревом, говорит, увлекаешься? Я тоже, говорит, увлекался в детстве, шкатулки резные делал, маме дарил на 8 Марта… А сам оглядывается, осматривается, не верит мне…
– Погоди, – сказал я. – Ты их фамилии записал?
– Нет.
– Они же показали удостоверения. Мог бы записать.
Щепа снова затрясся весь, лицо прыгнуло.
– Жить меня учишь? Сам подставил, а теперь ещё у тебя претензии?
– Я тебя не подставил.
– Добро! – весело сказал Щепа. – Значит, в следующий раз, когда они придут, – я молчать не буду.
Спор наш прервал Читарь; всё это время он стоял у окна и смотрел на белый джип.
– Дай ключи, – сказал он Щепе.
– Что?
– Ключи от машины дай. Прокатиться хочу. Триста лошадей! Такую мощь никогда не пробовал.
Щепа посмотрел на него с тоской.
– Господи, – сказал он, – вы оба сумасшедшие. Вообще, полностью. Психи клинические. – Он протянул Читарю ключи. – Не улети в овраг.
Читарь ухватил ключи и вышел, блестя глазами.
Возможно, он не расслышал ни одного слова из нашего нервного разговора, пропустил мимо ушей всех ментов с пистолетами, – или расслышал, но не придал никакого значения.
Заревел за окном двигатель белого джипа.
Мы с Щепой остались вдвоём.
Я подумал – и рассказал ему всё: как вломился к Ворошилову, как забрал голову, как он умер, и что я намерен делать дальше. И даже предложил ему спуститься в подвал.
– Ни в коем случае, – ответил Щепа. – Я не хочу ничего видеть, не хочу ничего знать. Вас всё равно поймают. И я тоже попаду под замес. – Он горестно махнул ладонью. – Столько сил потрачено, чтоб от вас сбежать, – а хрен там, не сбежишь. Раньше я вас просто ненавидел – а сейчас даже и ненавидеть устал. Нет такого слова, чтоб объяснить моё к вам отношение.
16
Я не дурак, я действовал очень осторожно.
Я провёл много месяцев в блужданиях по интернету.
Нашёл на острове Цейлон несколько коммерческих предприятий, продающих древесину ценных пород.
У них было всё: эбеновое, сандаловое дерево, заготовки любых размеров.
Килограмм стоил от пяти до тридцати тысяч долларов, цена сильно варьировалась в зависимости от размера заготовки.
Мне было нужно много материала, и необработанного: в идеале – очищенное от коры целое бревно с диаметром ствола не менее сорока сантиметров.
У меня был очень дорогой, редкий, эксклюзивный заказ огромной стоимости.
И я, желая снизить цену, пошёл дальше: изучил карту острова Цейлон и сумел, опять же посредством поиска в Сети, перепрыгнуть через головы торговцев и найти самих лесопильщиков, крестьян, древоделов – тех, кто живёт в цейлонских лесах всю жизнь и знает, где и какое дерево можно срубить и продать.
Ведь если в России всегда были и есть древоделы – то такие же были и есть на Цейлоне.
Теоретически почти все леса острова считались заповедниками и национальными парками. Для вырубки драгоценных деревьев требовалось разрешение властей и контроль с их стороны. Но практически – если в моём лесу, где жили мои деды и отцы, и где я сам живу, выросло дерево, которое можно срубить и дорого продать, – однажды я срублю его и продам, не спрашивая разрешения государства.
И вот со мной на связь вышел некий господин Саванди, подтвердивший, что он готов поставлять дерево ценных пород по цене значительно ниже, чем у перекупщиков.
Я никогда не видел живьём господина Саванди: но мы переписывались и несколько раз общались по телефону.
Да, мне пришлось выучить английский язык. Без английского я никогда бы не провернул всю эту затею. Или пришлось бы нанимать переводчика, чужого человека, и неизбежно посвятить его во все тонкости, раскрыть постороннему секреты.
Господин Саванди выглядел смуглым, носатым парнем без возраста, то ли двадцать лет, то ли сорок, по-английски говорил так же плохо, как и я, поэтому мы отлично поняли друг друга.
Дух господина Саванди я плохо различил; радиоволны сильно искажают картину мира, но дух живого существа можно почувствовать даже на огромном расстоянии.
Дух мужчины с острова Цейлон, просочившийся за тысячи километров, показался мне достаточно сильным, но ко мне совсем равнодушным – как будто я для него был не живым человеком, а придорожным камнем или дождевой каплей.
Сначала я сделал небольшой заказ, заготовку весом в два килограмма, и заплатил за неё три тысячи долларов авансом, и спустя четыре месяца получил посылку: меня не обманули.
Второй заказ я сделал на сумму вдвое большую.
И снова всё прошло гладко, только перед отправкой уже готовой посылки господин Саванди попросил меня доплатить ещё три сотни долларов, в связи с непредвиденными осложнениями.
Я доплатил, конечно. Про себя усмехнулся. Такова была в их народе манера ведения бизнеса. Так у них принято: словчить по мелочи.
Через пять лет я стал лучшим, любимым, постоянным клиентом господина Саванди. Покупал раз в полгода заготовку: в пять килограммов, в десять, в пятнадцать.
Господин Саванди получал от меня огромные суммы. Если у него были дети – наверное, на мои деньги он выучил их в лучших учебных заведениях Шри-Ланки.
За эти годы я приобрёл у господина Саванди полтора десятка заготовок из массива эбенового и сандалового дерева. Оно оказалось гораздо крепче дуба. Самое правильное использование такого редкого, тяжёлого и прочного материала – изготовление мебели. Заготовки я распилил на тонкие досочки и сделал из них сундук со встроенным замком; следует признать без лишней скромности – совершенно замечательный сундук, он украсил бы любой музей в разделе “прикладное народное творчество”. Сундук я потом подарил Пахану на день рождения. Пахан растрогался: подарок его восхитил, и домой он сундук не повёз, а поставил в “аквариуме” на видном месте, вроде образца продукции своего предприятия.
Историки утверждают, что раньше всех поняли ценность твёрдого дерева древние китайцы. В домах китайских императоров вся мебель была изготовлена из сандала. Китайцы научились распиливать драгоценное дерево на тонкие рейки и собирать из них этажерки и ширмы. Сейчас рынок древесины ценных пород не такой большой, сандаловые и эбеновые рощи давно сведены, новые деревья не успевают подняться; столы и шкафы из сандала могут позволить себе только миллионеры.
На седьмой год господин Саванди исчез, передав свой бизнес другому человеку, господину Мадуранге.
Эти двое написали мне множество писем, уверяя, что я могу доверять Мадуранге точно так же, как и его предшественнику.
Ах, как хотел я слетать на остров Цейлон! Увидеть там всё своими глазами, и пожать руку господину Саванди. Но проблемы с паспортом не позволяют мне выезжать за пределы страны: ещё одно неудобство, подаренное при появлении на свет.
С господином Мадурангой мы сделали всего одно дело – и последнее.
Решившись и помолясь, я перевёл на счёт, указанный Мадурангой, весьма значительную сумму, и спустя время получил, наконец, первую из двух действительно нужных мне заготовок: брус длиной сто тридцать сантиметров, толщиной втрое меньше.
Брус весил около ста килограммов, в Москве его задержала таможня. Мне пришлось ехать и вызволять драгоценную собственность. Я дал таможеннику в карман тысячу долларов и забрал свой контейнер.
Из того драгоценного бруса я сделал первую, малую фигуру.
Итак, у меня ушло семь лет, чтоб создать надёжную связь с продавцами цейлонской древесины.
Если бы Саванди и Мадуранга были мошенниками, они бы давно скрылись вместе с моими долларами: никакой мошенник не обладает таким терпением, чтоб ждать семь лет.
Но теперь, когда малая фигура была готова, и пора было приступить к большой – обнажилась вся рискованность моей затеи.
Я собирался купить кусок ствола сандалового дерева, бревно весом едва не в четверть тонны; я должен был отдать целое состояние людям, которых никогда не видел вживую; людям с другого конца света, другой расы и другой веры; людям, которых я знал только по именам, поскольку Саванди и Мадуранга – это мужские имена народа сингалов.
И я передумал в последний момент. Так бывает.
Уже занёс было руку, чтоб достать из потайного места ключ от банковской ячейки. Но Бог остановил меня. Это было глупо: посылать в никуда громадный капитал, накопленный десятилетиями.
Главную заготовку нужно было покупать в другом месте.
Тогда я привёл себя в идеальный порядок, надел костюм и галстук, сел на поезд – и поехал в Москву.
Там я пришёл в офис импортной торговой организации и заключил множество официальных контрактов.
Я нанял их как агентов, они взялись купить для меня, частного лица, кусок ствола сандалового дерева, и доставить покупку на указанный мной адрес.
Опытные юристы обязались проследить за тем, чтобы покупка была сделана на законных основаниях. Сам товар застраховали на крупную сумму. Специальный логист должен был проследить весь путь груза от Дели, Индия, до Москвы. Специальный таможенный брокер – проконтролировать прохождение границы и уплату пошлин.
Это было гораздо, гораздо дороже, чем брать такую же заготовку у деревенских парней Саванди и Мадуранги.
Но толстые контракты с подписями и печатями, уважительные взгляды, серьёзный подход давали мне иллюзию надёжности; мне казалось, что я застраховался от неудачи.
Только одну ошибку я совершил тогда, подмахивая авторучкой в графе “Получатель” и отхлёбывая кофе.
С языка сорвалось, что дело моё – не срочное, спешки никакой нет, главное – чтобы товар был куплен и доехал в целости. Плюс-минус месяц ничего не решают.
А не надо было так говорить.
Они сразу это уловили и потом никуда не торопились. Заготовка ехала три месяца, ещё месяц лежала на таможне.
Всё это время я изнывал от нетерпения.
Общую сумму валюты, потраченной на приобретение заготовки, посчитать трудно: доллары покупались в разные годы по разному курсу. У меня ушли все сбережения примерно за десять лет. Около трети всей суммы внёс Читарь, без его помощи я бы не провернул дело. Кое-что пришлось занять у московского брата Щепы. В общей сложности – около тринадцати миллионов рублей, или чуть больше, для обычного человека, для среднего жителя Павлово – настоящее богатство, за всю жизнь не потратить.
17
Щепа прошёлся по дому; походка – от бедра, стопы чуть вывернуты наружу, как у балетного танцора; огляделся, пнул ножку стула (вся мебель у меня дубовая), снисходительно прокатил палец по клавиатуре старенького компьютера; поглядел в окно (снаружи – сплошной зелёный массив, сосновый лес), долго изучал себя в зеркале, парадно выпятив грудь и подбородок.
– Хорошая хибара, – сказал он. – Только маленькая. Но вообще, брат, скажу тебе откровенно: ты всё не так делаешь. Прячешься в отдалённой избушке – а это бесполезно. Захотят – тебя найдут за полчаса. Просто отследят по телефонному сигналу, это называется “биллинг”. И даже если ты выключишь телефон – у аппарата есть полицейский режим, неотключаемый. Аппарат всё равно будет посылать сигнал, а ты не будешь про это знать. Ты отстал от жизни, – Щепа ухмыльнулся, его дух сгустился и стал зол. – Тебе не нужна нелегальная мастерская в подвале, тебе не надо сидеть в глухомани. Езжай в Москву, в Питер, в любой большой город, оформи свидетельство индивидуального предпринимателя, возьми в аренду помещение, подпиши все бумажки, – и делай, что хочешь, никто тебе слова не скажет, лишь бы налоги платил. В Москве таких как ты – миллион, всем насрать, какие ты фигуры вырезаешь, из какого дерева. Это выйдет гораздо дешевле, чем копать тайный подвал. Перебирайся в город, открой официальную мастерскую по реставрации и наслаждайся преимуществами.
Он сделал короткое движение, как будто хотел потрепать меня по щеке, но на полпути опустил ладонь.
– Во-первых, не учи меня жить, – сказал я. – Во-вторых, не учи меня наслаждаться. В-третьих, в Москве, если я туда перееду, я буду – никто, один из миллиона, как ты сам сказал. А тут, в Павлово, я всех знаю. У мэра есть дом, а в этом доме все двери делал – я. У городского судьи тоже есть дом, судья спит на кровати из лиственницы, кровать сделал – я. В Москве на меня может наехать любой пожарный инспектор, в Москве я буду платить за охрану помещения, в Москве я бу- ду по полдня в день стоять в пробках. А здесь я со всех сторон защищён, у меня друг работает в полиции, я про всех всё знаю, у меня нет врагов, я лучший работник своей фабрики, через меня идут самые сложные заказы, я хорошо зарабатываю. Так что не лезь ко мне с советами. Нравится тебе в Москве – живи в Москве, только не учи меня, что мне делать.
Щепа не ответил. Мы были одного роста, я смог прямо и близко посмотреть в его глаза, увидел замешательство, неуверенность, потерю баланса.
Спустя полчаса Читарь вернулся: белоснежный внедорожник влетел во двор, ревя двигателем и сверкая разно- образными фарами; весь, до крыши, изгвазданный жирной коричневой грязью, лобовое стекло сплошь заляпано, на колёсные диски намотались мокрые, измочаленные стебли.
Читарь открыл дверь, выпрыгнул, сияя.
– Мне понравилось, – сообщил он. – Триста лошадей – это сила. – И махнул рукой Щепе. – Грязищу я отмою, не беспокойся.
– Не надо, – сказал Щепа. – Не отмывай. В Москве считается круто гонять на грязном джипе. Чтобы ты ехал по Кутузовскому, а с тебя отваливались куски глины. Обгоняешь девочек на “Лексусах” – и они видят: вот, человек побывал в реальном мире.
– Значит, ты рад? – спросил Читарь.
– Чему?
– Ты побывал в реальном мире!
– А ты меня на словах не лови, – произнёс Щепа, обидевшись. – Я вам скажу, чему я рад. Я рад, что все мои выводы насчёт вас оказались верные. Вы – два деревенских идиота, и у меня с вами нет ничего общего.
И поддёрнул золотой браслет на левом запястье.
Читарь улыбнулся.
– Ну как же нет, – спросил он, – когда есть? Мы – родня. Куда ты от нас денешься?
– Найду, куда деться! – резко сказал Щепа. – Уж ты не сомневайся. У меня возможностей – в сто раз больше, чем у вас.
– Слушай, – сказал я, – а почему у тебя машина белая? Какой-то странный цвет, легкомысленный.
– Не моя, – ответил Щепа. – Клиентка дала погонять. А сама в Майами уехала. У её мужа восемьсот миллионов долларов, в гараже четырнадцать машин, одной больше, одной меньше, никто не заметит. – Он развязно ухмыльнулся. – Но про это вам ничего знать не надо. Потому что вы мне – не ровня. Вы тут копаетесь в своей грязи, вот и копайтесь. Я к вам приехал по доброте сердца, предупредить о возможных проблемах. До свидания, братушки, рад был вас повидать. А теперь я сваливаю.
– Клиентки ждут? – весело спросил Читарь.
– Да! – нервно ответил Щепа. – И они тоже. Много кто ждёт. А кто ждёт вас?
– Она, – сказал Читарь, кивнув на вход в дом. – Она ждёт. Деревянная женщина с головой из дуба. Святая Параскева. Вот этому твоему красивому джипу – сколько лет? Пять? А голове – тысяча. Твой прекрасный джип десять раз проржавеет насквозь, а деревянная женщина – останется. И ты – понимаешь эту разницу, просто делаешь вид, что не понимаешь. Главное происходит здесь, у нас, в Чёрных Столбах, – а что происходит у тебя, на Кутузовском проспекте? Обмен понтов на деньги?
Щепа отобрал у Читаря ключи.
– Ты мне про понты не говори, – ответил он, – ты ничего про это не знаешь. И, кстати, насчёт денег – вы мне оба должны.
– Отдадим, – сказал я. – Заготовка куплена, дело сделано. Я тебе теперь буду с каждой зарплаты отдавать, частями.
– Не надо, – сказал мне Читарь. – Не волнуйся, братик, завтра я переведу ему всю сумму.
Щепа пошёл к своей машине, спортивно подкидывая и ловя ключи в ладонь.
– Прощайте, – сказал он, – а ты, Антип, подумай насчёт моих слов про Москву.
Сел в машину, задом, медленно, выкатился из ворот; я ждал, что посигналит на прощание, – но нет.
Читарь, впрочем, помахал ему рукой и широко перекрестил воздух.
– Ворота закрывать не надо, – сказал он мне, – я тоже сейчас поеду. У меня работы много. Ты, главное, не расстраивайся, что он тебе грубил. Он всё равно наш, павловский, он от нас никуда не денется. Плохой или хороший, а свой. Мы связаны в тайном мире.
– Мне всё равно, – ответил я. – Лишь бы от него вреда не было.
Мы ещё поговорили про московских ментов; и мне, и Читарю было очевидно, что ниточки ведут к ним от наших, павловских, от следователя Вострина, – и я заверил Читаря, что менты никогда меня не найдут, потому что я нахожусь к ним слишком близко. И вообще, менты сейчас – не главное, надо про них забыть и полностью сосредоточиться на деле; мы потратили больше десяти лет, чтобы добыть материал для деревянного тела, мы с большим риском добыли деревянную голову; осталось соединить одно с другим, и нам ничто не должно мешать. С таким старым и твёрдым материалом я ещё не работал, мне интересно, мне не терпится начать, я сейчас тебя провожу и сразу пойду прикидывать, как это всё будет…
Читарь слушал меня, одобрительно кивал, потом нахмурился и обьявил, что пойдёт в подвал и там уединится с головой Параскевы и заготовкой для её тела, и какое-то время будет н е м о т с т в о в а т ь. И я ответил, что мой дом – его дом, пусть делает, что пожелает, и он ушёл, а я остался во дворе, глядел на глубокие колеи, прорытые в земле сильными колёсами московского джипа, на разъятые ворота, на склонившийся со всех сторон, томящийся сыростью апрельский лес, слушал его гул, потрескивание ветвей, распрямляющихся после зимнего сна, и кукушку, считающую мои года, – она считала так долго, что мне надоело и я про неё забыл, стал размышлять о насущных проблемах, о планах на завтрашний день, и о том, что сегодня я, наконец, абсолютно счастлив, я получил всё, что мне нужно, и сейчас пойду делать то, чего до меня никто никогда не делал, и после меня не сделает.
Часть вторая
1
Теперь мне следовало явиться на фабрику и оформить отпуск по всем правилам.
Я мог бы уладить дело по телефону: просто набрать Пахана и поставить перед фактом. Но и Пахан, и я, – мы считали себя людьми старых правил, то есть, во-первых, любили абсолютный, до донышка, порядок во всём, а во-вторых, соблюдали негласный этикет: подчинённый, ежели чего-то желает от начальства, должен лично предстать пред очи, шапку снять и поклон изобразить. Мне это ничего не стоит, и дух мой не сильно умаляет, – а начальству приятно.
А когда начальству приятно – так и подчинённому хорошо.
Я оделся в выходную одежду, вымыл голову дегтярным шампунем. Затолкал в сумку три литровых бутыли самогона. Чтоб не звенели друг о дружку, каждую завернул в тряпку.
Самогон производила соседка, 70-летняя подвижная старуха Лабызина; я был её постоянный, надёжнейший клиент. На главные праздники – на Новый год, на Пасху, на 23 Февраля и 8 Марта – я брал по пять-семь бутылок; раздаривал.
В новые времена люди стали щепетильны в искусстве вручения и принятия подарков: занесёшь дорогой коньяк – кивнут, занесёшь виски – тоже кивнут, но менее прохладно; подумаешь, коньяк, подумаешь, виски, – неинтересно, формально. Зато если засверкает ёмкость деревенского самогона – настоящего, крепкого, как мужицкий кулак, – улыбаются все, благодарят сердечно.
Если ты рыбак с Дальнего Востока – от тебя в подарок ждут икры, если ты француз – ждут вина, если португалец – портвейна, а если обретаешься в глухой русской деревне – приноси самогон, не ошибёшься.
Приехал на фабрику с утра. Первым делом пошёл к банкомату.
В своё время Пахан добился, чтобы на фабрике поставили банкомат нашего местного областного ЦентрВостокБанка. Стальной ящик отсвечивал оранжевыми углами на первом этаже главного корпуса у входа в столовую.
Я знал, что через этот банк протекает весьма полноводный ручей наличных – деньги самого Пахана, его друзей, его поставщиков и покровителей. Все расчёты фабрика также проводила через ЦентрВостокБанк, все работники имели счета в этом банке.
Я сунул сначала одну карту, потом вторую, потом третью. Пин-код на всех картах у меня один: 1722.
Везде проверил остатки – и везде опечалился: денег оказалось в обрез. Я грустно смотрел на утлые циферки: думал, будет больше.
Мимо меня прошёл Твердоклинов, хлопнул по плечу.
– Куда пропал?
Мы пожали друг другу руки.
– В отпуск ухожу, – сказал я и без лишних пояснений открыл сумку: из недр сверкнули три бутылочных горла.
Твердоклинов посмотрел; на лице его не дрогнул ни единый мускул.
– Это дело, – сурово сказал он. – А Пахан знает?
– Узнает, – сказал я.
В этот момент банкомат загремел и выдал мне пачку сторублёвок; чтобы не смущать меня, Твердоклинов отошёл в сторону, а я пересчитал и сунул в карман.
Деньги были все новенькие, остро пахнущие, купюры слипались и шли одна за другой по номерам; у меня было твёрдое ощущение, что родной областной ЦентрВостокБанк сам печатает эти благоухающие ассигнации.
– После смены проставляюсь, – пообещал я Твердоклинову.
Он показал большой палец и ушёл. Со спины он выглядел угловатым, плохо скоординированным, шёл косолапо, подворачивая ноги ступнями внутрь.
2
Аквариум” Пахана был закрыт. От нечего делать я спустился обратно на первый этаж и пошёл в столовую, взял стакан чёрного чая. В десять часов столовая только разогревалась и начинала пахнуть.
В ушах гудело. Основным моим делом было з а г л у б л е- н и е, сосредоточение на ожидающей меня большой и важной работе.
Ещё раз повторю: мог бы уйти, самогон оставить у секретарши Пахана, а самому ему отправить сообщение: беру отгулы, две недели. И он бы не обиделся.
Но нет – ждал, сидел за шатким столом, помешивал ложечкой в стакане.
От стола пахло пластмассой. Три поварихи зычно перекликались, взгромождая кастрюли на огромную плиту.
Столовая нашей фабрики, в общем, была убыточна, но тут обедал сам Пахан, его заместители, начальник охраны и вся бухгалтерия. В бухгалтерии тоже работали девушки не простые, а из приличных семей, в том числе двоюродная сестра мэра и дочь главы городского филиала ЦентрВостокБанка. В столовой регулярно праздновали дни рождения, юбилеи, поминки по усопшим работникам и членам их семей; если на фабрику приезжали гости, иностранные спецы либо свои чиновники, – здесь накрывали нестыдного качества фуршет.
В провинциальных городах принято, чтобы местные хозяева жизни содержали рестораны: надо же куда-то приглашать гостей. Вот наш Пахан и завёл себе такую забаву, с лицензиями на алкоголь и табак.
Никто не знал, сколько человек кормит столовая.
Никто не знал, сколько человек вмещает фабрика: кроме официально зачисленных в штат были ещё работающие по договорам и по совместительству.
Я знал всех токарей и столяров, всех операторов станков, кладовщиков, бухгалтерию, отдел кадров, службу охраны, – но возле фабричного банкомата регулярно видел незнакомых, хорошо одетых: они сидели в углу столовой, пили кофе, “решали вопросы”, бегали в “аквариум” и обратно, добывали из волшебного оранжевого ящика крупные суммы; многие десятки деятелей разного масштаба и калибра были вовлечены в деятельность фабрики “Большевик”, напрямую либо косвенно.
Все курящие покупали сигареты в столовой. Здесь можно было взять в долг пачку или две. Можно было и поесть в долг. Пахан организовал всё так, чтобы деньги рабочих обращались исключительно внутри периметра. Пойдя ещё дальше, Пахан учредил в городе общежитие, с очень божескими ценами. От общежития к фабрике курсировал бесплатный автобус. Молодые бессемейные пролетарии могли годами не покидать удобной орбиты: и работали, и спали, и ели, не выходя за пределы вселенной, сконструированной Паханом, и даже имели возможность приобрести одежду и обувь с большой скидкой в магазине супруги Пахана. Я и сам покупал там ботинки и штаны.
3
Спустя время снова пошёл наверх – на сей раз удачно. Пахан вернулся в “аквариум” – из-за двери, неплотно прикрытой, доносился его решительный баритон. В маленькой приёмной активно шуршала бумагами секретарша – с ярчайшим макияжем, в брючном костюме приятного оливкового цвета, малость расплывшаяся; звали её Снежана, она приходилась племянницей мэру нашего города и заодно ходила в подругах у жены Пахана; нужный человек; умом не блистала, зато была молода, красива, осторожна и дисциплинированна. Я поздоровался. Секретарша Снежана отличала меня от прочих работяг, благосклонно кивнула и даже улыбнулась, а я – встал у двери, дожидаясь момента постучать и войти.
Пахан говорил по телефону, спорил с кем-то, голосом вроде бы спокойным, но наполненным, слегка скрежещущим; так умеют говорить только бизнесмены.
– Не гони, у меня всё дерево – идеально сухое! Если твой брус винтом пошёл – значит, это не мой брус, ты его где-то ещё взял, не у меня. Ещё раз говорю, мой брус никогда не ведёт. Потому что я этим живу. Давай, пиши претензию, не вопрос. Нет, не буду менять, нет. С каких делов? Мне не жалко, я поменяю, но тогда это будет значить, что я признал свою неправоту. Что я тебе фуфло продал. А я фуфло не продаю. Я тебе скажу, как было. Твои строители приехали, забрали у меня со склада сухой лиственничный брус, сообразили, что товар дорогой, и забодали его налево. А вместо него положили обычный сосновый, да ещё сырой. Надеялись, что никто не заметит. В городе ещё три лесопилки, кроме моей. Где-то они этот бизнес провернули: дорогую лиственницу сгрузили, а беспонтовую сырую сосну положили. Я думаю, было так. Разбирайся со строителями. Давай, звони, я на связи… Конечно… Ага… Обнимаю… Жене привет…
Он замолк; я выждал немного, постучал и открыл дверь.
Пахан выглядел уставшим. Двадцать лет назад, когда я нанялся на фабрику, её директор и владелец двигался резко, говорил веско, много шутил и благоухал дорогими одеколонами, ездил на сверкающем, всегда отполированном автомобиле; теперь он сдавал на глазах, худел, улыбался мало, часто болел похмельем, – старел. И в ворота фабрики заезжал на потёртом старом универсале. Но всё же дух его до сих пор оставался сильным, злым, твёрдым.
Когда я вошёл, Пахан вытаскивал из ящика стола сигареты, – но, увидев меня, закуривать не стал, пачку убрал. В помещениях курить было строго запрещено, Пахан сам демонстративно придерживался запрета; конечно, в собственном кабинете курил, но не на глазах подчинённых.
Он посмотрел с раздражением.
– Почему не в цеху?
– В отпуск ухожу, – сказал я. – С сегодняшнего дня.
Пахан нахмурился.
– А предупредить нельзя было?
– Если бы мог – предупредил.
– Случилось чего?
– Да, – ответил я. – Родственница нашлась. Издалека приехала. Сеструха троюродная, по отцу. Нездорова. Надо поднимать, на ноги ставить… Две недели мне нужно.
– Две недели, – сказал Пахан. – А работать кто будет?
– Твердоклинов справится, – сказал я. – И вообще… Я три года без отпуска, ты забыл?
– Помню, – ответил Пахан. – Я всё про всех помню. Заявление написал?
Я положил на стол заявление: лист бумаги, заранее подготовленный. Пахан ковбойским жестом выхватил из внутреннего кармана авторучку и наложил размашистую резолюцию, на чиновничьем языке это называлось “подмахнул”: не возражаю, подпись и дата.
– Что ещё?
– Вот. – Я поставил на стол бутыль. – Имей в виду: тут градусов шестьдесят.
Пахан взялся сильными пальцами за пластиковую пробку, выдернул, понюхал, улыбнулся и расцвёл.
– Тут все семьдесят!
– На здоровье, – вежливо сказал я, не двигаясь с места.
– Ну? – спросил Пахан. – Договаривай уже.
– Отпускные хочу, – сказал я.
Пахан нахмурился.
– Начинается, – печально сказал он. – Сколько?
Это был, как пишут в художественных романах, “момент истины”: назовёшь слишком большую сумму – откажут; назовёшь маленькую – останешься внакладе.
– Тридцать тысяч.
Пахан скривился, как будто услышал непристойность.
– Невозможно, – сказал он с большим сожалением. – Ты бы заранее предупредил.
– Я не для себя. Я ж сказал, родственницу на ноги поднять…
Он выдвинул ящик стола, вынул пачку пятитысячных, отделил две бумажки.
– На́ десятку. Больше не могу, не проси.
– И то хлеб, – сказал я. – Спасибо, начальник, уважил.
Пахан смотрел, как я складываю купюрки пополам и прячу в дальний карман.
– Странный ты мужик, Антип, – произнёс он. – Не от мира сего. Лично я думаю, что ты опасный псих. Иногда я боюсь к тебе спиной повернуться, – мне кажется, ты меня сразу – хоп – и топором по башке.
– Зачем? – спросил я.
– Что “зачем”?
– Зачем мне тебя топором по башке? Ты меня кормишь, работу даёшь. Ты мне нужен. Я тебя уважаю. Можешь спокойно поворачиваться, хоть спиной, хоть боком. Никогда на тебя руку не подниму.
Пахан посмотрел серьёзно.
– Ну спасибо, – сказал он. – Это приятно слышать. Сколько лет родственнице твоей?
– Много, – ответил я, – пожилая женщина.
– Жаль, – сказал Пахан. – Я грешным делом думал, ты себе невесту завёл.
– Нет, – ответил я, – не завёл, но всё возможно.
4
Из “аквариума” вышел довольный. И деньги получил, и не соврал ни разу. Весёлый, почти счастливый, дыша полной грудью, двинул в раздевалку: нужно было переждать полчаса до конца рабочего дня и забрать вещи.
Открыл свой шкафчик: здесь, кроме рабочей робы и рабочих башмаков, и не слишком чистого полотенца, хранились несколько лоскутов наждачной бумаги, а также книги, молитвослов и “Лествица” – я иногда их читал в обеденный перерыв, пока товарищи резались в домино; на задней крышке шкафчика были приклеены два маленьких, с ладонь, образка – святой Параскевы и Андрея Первозванного.
Ещё – мыльница с мылом, расчёска, пузырёк йода, давно выдохшегося, банка крема для обуви и такая же щётка; всё, что обычно лежит в шкафчике мужика-работяги.
Никого не было в раздевалке – но в любой момент мог зайти кто угодно; из-за стен доносился шум станков и голоса́; пользуясь ненадёжным уединением, я поразмышлял несколько минут, и вдруг понял: не надо мне брать ничего из шкафчика, наоборот – не только ничего не брать, но и оставить всё, что есть.
Я начинал большое дело, и оно требовало моего полного обновления.
И я тогда снял с пояса свой любимый дисковый аудиоплеер, обмотал его проводами наушников и оставил на верхней полке.
Снял с пальца серебряное кольцо.
Снял нательный крест тоже.
Оставить крест было важно: там, куда я шёл, меня ждал другой крест, гораздо более тяжкий.
Подумал: хорошо бы в храм сходить. Хотя бы попытаться.
При себе оставил только паспорт, бумажник и ключи от дома.
5
Потом по фабрике прокатилась вибрация, остановились машины, голоса́ стали грубее и громче, в раздевалку ввалились полсотни разномастных работников, загремели железные дверцы, зашумела вода в душевой, все были возбуждены, многие смеялись; мужики самых разных возрастов, от двадцати лет до шестидесяти, – фабричные люди, работные, добывающие своё пропитание руками, хребтами, жилами.
Раздевалка наша, обширная, делилась на две части: в самом сухом и удобном углу, подальше от входа в душевую, гужевались сливки общества – квалифицированный пролетариат, токарный цех, наладчики станков и лесопильщики, водители грузовиков и погрузчиков; и я среди них.
Дальше была территория людей низшего сорта: грузчиков, уборщиков, подсобников; они держались скромно; меж них много было азиатов, но большинство – наши местные, городские, от молодых неглупых парней до сорокалетних алкоголиков, не до конца опустившихся.
Все знали, что существует ещё одно подразделение работяг, самый низший разряд, – команда гастарбайтеров, таджиков и киргизов, совершенно незаконных; они переодевались на улице, если было во что переодеваться, они делали за гроши самую паршивую работу: пробивали стоки, чистили канализацию, сортировали и вывозили мусор, убирали грязь вдоль заборов.
В своём чистом углу я заявил, что проставляюсь в связи с отпуском, и продемонстрировал две прозрачных литровых бутыли. Многие проявили живейший интерес к содержимому; многие руки протянули стаканы; каждому досталось граммов по семьдесят, никто не ушёл обиженным.
Пьянство на фабрике не поощрялось, формально с утра до конца рабочего дня царил сухой закон. Пойманных нетрезвых нарушителей увольняли без жалости. Но каждый день в 17:00, строго в соответствии с трудовым законодательством, звенел звонок, и рабочая смена, вышедшая в восемь утра, заканчивала деятельность; люди хотели расслабиться.
Тела – тёмные, согнутые, у кого рёбра торчат всем набором, у кого массивно свисает жир, голые спины, гуляющие вдоль шей кадыки, ладони в шрамах, синие колени. Голоса грубые, иногда специально, для авторитета, а кто просто оглох после восьми часов работы на пилораме – и теперь кричит, сам себя едва слышит; много матерной брани впроброс; все оживлены, конец рабочего дня – всегда маленький праздник: одна жизнь кончилась, начинается другая – собственная, вольготная, иди куда желаешь, занимайся чем хочешь.
Собрали закусь на лавке, на обрывках газеты “Павловские новости”, кто чесноком был богат, кто луком, кто солью, кто сухариком.
Сам я – налил себе на донышко и потом чокался со всеми.
Запах мокрых мужских тел, мыла, чеснока, крепкого алкоголя становился тягше; некоторые, едва просохнув и одевшись, в тапочках на босу ногу отправились курить; другие, семейные и серьёзные, переоделись быстро и ушли, спеша на бесплатный фабричный автобус, отъезжавший от проходной ровно в 17:30 и доставлявший самых разумных и бережливых до городского автовокзала.
Раздевалка быстро пустела.
6
Моему приятелю Твердоклинову досталось больше прочих, две порции, в пересчёте на водку – примерно стакан, и Твердоклинов заметно окосел; так и остался после душа голый, только истрёпанное донельзя махровое полотенце вокруг бёдер и старые пластиковые тапочки на огромных ступнях; сидел на лавке, медленно жевал чесночную дольку, глядя в никуда блестящими глазами, и когда я его позвал – не откликнулся; пришлось его растолкать, он очнулся, молча кивнул несколько раз и стал одеваться, резкими движениями, но продолжал глядеть мутными глазами в пустоту, о чём-то трудно размышлять.
Когда вышли из корпуса и зашагали к проходной – от свежего воздуха Твердоклинов опьянел ещё сильнее, стал бормотать себе под нос ругательства и спотыкаться; тут я забеспокоился всерьёз. Вдвоём мы с ним доехали на маршрутке от фабрики до центра города. Внутри тесной кабины запах первача и чеснока, исходящий от Твердоклинова, стал так силён, что даже водитель рассмеялся и покачал головой; от спиртовых паров запотели стёкла; кроме нас, в маршрутке был лишь один пассажир, юный парень в красивой яркой куртке, ему тоже не понравился запах, но он сделал вид, что ничего не происходит; скорее всего, парнишечка этот, старшеклассник, после уроков проводил девушку, свою подругу, живущую где-то на окраине, и теперь возвращался домой в центр; он на нас не смотрел и не доставил беспокойства. Глядя на него, одетого в яркую куртку, я вспомнил Геру Ворошилову, фотографии её картин, таких же ярких.
Доехали наконец; я должен был пересесть на другую маршрутку, из города – до деревни, а Твердоклинов – на свою. Наши пути должны были разойтись, но не разошлись. Я видел, что моего товарища сильно развезло, и чувствовал косвенную вину. Пошатываясь, раздувая ноздри, с багровым лицом, со сжатыми кулаками Твердоклинов уверенно двинул в сторону ближайшего магазина: он явно хотел догнаться.
Я подождал.
Он вернулся, продемонстрировал шкалик водки.
– Будешь?
– Нет.
– Тогда хотя бы постой со мной, – попросил Твердоклинов. – Я ж не демон, один бухать.
Отошли за угол. Твердоклинов опрокинул сразу всю дозу, занюхал рукавом; его взгляд поплыл; зря смешал качественный самогон со скверной сивухой, подумал я, но уже было поздно, мой товарищ ушёл в аут, опёрся о железную стену павильона автобусной остановки, глядел на меня дико, враждебно, как будто впервые видел.
– Демоны, – сообщил он угрюмо, – демоны, понимаешь? Они везде.
– Я тоже демон?
– Нет, – ответил Твердоклинов, и погрозил мне пальцем. – Ты – человек. Трудящий мушчина. Демоны – они же не фраера, чтоб на фабрике деревяшку точить, как мы с тобой. Они любят жить жирно. А ещё лучше – знаменито. Телевизер включи – вот где демоны. Киркурина видел, певца? Демон высшей категории. Или, допустим, этот, как его, Малыхин, ведущий из телевизера… Демон верховный, сто пудов. Демоны – они… Ты не знаешь… Они ж не просто душу дьяволу продают, взамен на ништяки, на мерседесы… Они и тело своё продают, и воздух вокруг себя! И детей своих, и мамку с папкой! И если ты по незнанию закорефанишься с демоном – он и тебя продаст. Можешь поверить, информация точнейшая. Если насчёт кого у тебя сомнения есть – сразу ко мне приходи, у меня глаз намётан. Два стакана на грудь возьму – и сразу вижу насквозь, кто бы ни был. Вчера, допустим, я к своей прихожу… Мы в разводе, но общаемся, а хули делать, дочка же, маленькая… Прихожу, а у бывшей – новый хахаль. В недвижимости работает. Я как только увидел – всё понял. Молчать не стал, сразу ему сказал: демон ты, говорю, вижу до донышка нутро твоё червивое, и на меня не смотри, и не дай бог дотронешься – сразу ушибу. И вот, прикинь, по глазам его вижу – он понял, что я понял…
Твердоклинов закурил сигарету, едва с третьего раза добыл пламя из зажигалки.
– И чем закончился разговор? – спросил я.
– Нормально закончился. Нахер друг друга послали, и разошлись. Боюсь, продаст он её, и дочку тоже продаст. Теперь вот думаю – придётся мне порешить его. Только это между нами.
– Само собой, – сказал я. – Айда домой, братан, время позднее.
– Ты иди, – медленно разрешил Твердоклинов, и выкинул едва раскуренную сигарету. – А я ещё один фанфурик возьму. Потом пойду, этого гондона урою. Подстерегу, и кишки выпущу. Давно всё продумал. Только тихо, понял? Я ничего не говорил, ты ничего не слышал.
– Конечно, – сказал я. – Но лучше давай вместе уйдём. Айда домой, брат. Айда домой.
И подхватил его под локоть, и повлёк.
В автобус или маршрутку я его не повёл, чтоб не позориться самому и не позорить подопечного. Такси вызывать не стал, пожалел денег.
Он был тяжёлый, костистый, то слегка трезвел, и тогда мы шли форсированно, почти бежали, – но периоды твёрдости сменялись периодами слабости, и тогда я волок его на себе.
– Самое главное, – бормотал Твердоклинов, держась за меня, сопя, спотыкаясь, – самое главное – запомни. Их нельзя недооценивать. Они хитрые. Они грамотно под людей косят, не отличишь. Тут глаз нужен. У меня он есть. Ни у кого нет, а у меня есть. Я один раз гляну – сразу вижу, кто ты есть такой и каково твоё нутро. Это мой святой дар, я его в детстве обрёл. Пошёл с пацанами на речку купаться, в омут заплыл – и утонул. Вода холодная, ногу судорогой свело – утонул, короче. А друг мой Димка Федотов меня вытащил и откачал. А я уже, говорят, синий был. А он меня откачал, Димка Федотов. Он меня вверх ногами поднял и тряс, до тех пор, пока вся вода из меня не вылилась. А потом кулаком меня по груди ударил – и я ожил. Димка Федотов, ага. Он был сильно меня старше, в десятом классе учился, а я – в четвёртом. С тех пор я – особенный, открылись мои глаза, всё вижу, чего другие не видят. Но, сука, не всегда, а только после второго стакана. Ты меня прости, я конченый бухарик, я тебя подвёл, нажрался, и ты меня домой тащишь, но это ничего, со всеми бывает. В следующий раз ты нажрёшься – я тебя потащу. Но насчёт демонов – ты должен понять, что это всё – серьёзно. Ты думаешь, что я какой-то идиот, но это не так, я книги читаю, я “Молот ведьм” читал три раза. И я, сука, верующий. Я, бля, воин Христа, понял? Однажды я пойду и начну их всех убивать. Это моя планида, меня на неё сама жизнь направила. Их всё больше, они везде. У них нет ничего святого, ни души, ни совести. Они когда-то были людьми, но потом продались, теперь они – бывшие люди. Они могут хорошие дела делать, другим помогать, деньгами в том числе, но всё это они делают для отвода глаз, чтобы никто не догадался, кто они на самом деле… Распознать сложно… Но я умею. Мои глаза всё видят… Подожди, давай постоим, покурим…
– Уже пришли, – сказал я. – Не кури, от сигарет тебя ещё больше развозит.
– Ладно, – сказал Твердоклинов. – Спасибо тебе. Я щас с матерью живу, у меня такая просьба. Она когда дверь откроет, ты ей скажи… Ну, объясни всё… Что мы твой отпуск отметили… Чуть-чуть перебрали, ну и там… В общем…
– Конечно, – сказал я. – Пойдём.
7
Дверь нам открыла пожилая толстая женщина в халате, бесцветная, некрасивая, похожая на испорченный батон белого хлеба; я набрал было воздуха в грудь, чтобы произнести какие-то нейтрально-вежливые слова, но хозяйка лишь бросила на нас короткий укоризненный взгляд и вразвалку ушла, оставив дверь нараспашку.
Пахло селёдкой и горячими макаронами: мать ждала сына, ужин спроворила.
Я вовлёк Твердоклинова в комнату, опрокинул на громко скрипящий диван и посчитал свою миссию выполненной. Вспомнил, ухватил уже засыпающего пьяненького товарища за плечи и повернул на бок, чтоб товарищ в забытьи не захлебнулся рвотой.
В комнате висело несколько картин, акварелью и маслом, – простеньких и немного унылых пейзажиков с берёзками и речками; вряд ли их автором был сам Твердоклинов, но, возможно, его мать, или давно умерший отец, или другой родственник; об этой семье я почти ничего не знал, а теперь вот увидел: люди здесь тянулись к прекрасному, в меру способностей и возможностей.
Вид этих картин снова напомнил мне о существовании Геры Ворошиловой. Я выкрикнул в пустоту полутёмного, пахнущего селёдкой коридора “до свидания” и ушёл, чувствуя облегчение, а также известную гордость: вот, помог человеку, дотащил до родной милой койки, а мог бы и оставить подле магазина, в одиноком хмельном безумии. Может быть, от того магазина Твердоклинов пошёл бы не к матери – а к бывшей жене и её новому сожителю, и убил бы того сожителя каким-нибудь зверским образом, кухонный нож воткнул бы в живот или сковородкой по затылку наградил. И сел бы в тюрьму надолго. Может быть, сегодня я спас сразу двоих. Но эту гордую мысль я развивать не стал, а просто зашагал прочь.
Многие люди пьют горькую, многие вынашивают планы кровавых злодеяний, – но совсем немногие претворяют эти планы.
Начинался длинный апрельский вечер, дел было по горло.
8
Прошёл две улицы, когда увидел ограду храма – заволновался, но волнение было светлым, несильным. На лёгких ногах вошёл в ограду, положил кресты. В притворе волнение усилилось.
Свечей покупать не стал.
В храме замедлил шаг. Не каждый год удавалось сюда войти: страх был слишком силён, ноги подгибались.
Жар свечей, запах ладана, горячий воздух колеблется. Но главный запах в храме – не благовоний, а старого дерева. Сильнее всего пахнет деревянный резной иконостас. Но к нему я не пошёл, а свернул в сторону, к образу Казанской Божией Матери, приложился лбом, – и тут не выдержал, воспоминания обрушились, словно камнепад.
Помню, как повалили меня.
Дело было ночью, по-тихому. Храм во мраке пребывал.
Потом вытащили во двор. Мела метель, свистел декабрьский немилосердный ветрюган; помню, меж людей спор возник, где меня разломать и сжечь, в ограде храма или за оградой. На сей счёт у приехавшего из Петербурга важного человека указаний не было: его задачей было проследить, чтоб тело было разрублено, а потом сожжено, в ограде или вне её – неважно. Но решили – вне ограды.
Это было давно.
Я затрясся в гибельном мороке, отпрянул от образа; дым ладана душил, угнетал.
Выбежал, едва не расталкивая людей. Однако снаружи быстро успокоился, и даже немного возгордился.
Всё-таки вошёл, сумел, выдержал.
Так понемногу всё изменится: буду пытаться, раз за разом, пока не преодолею страх; сначала полминуты научусь терпеть, потом минуту, потом две – и однажды изменюсь навсегда, и стану обыкновенным, как все, и в любую церкву буду входить, как всякий другой христианин, в трепете сердца и умирении духа.
9
Извне было свежо и шумно, воробьи купались в лужах, из проезжающих машин изливалась удалая музыка. Пахло гниющей, мокрой, холодной землёй. Со стороны вокзала ветер доносил стук железнодорожных колёс. Возле входа в кинотеатр возбуждённые весной подростки хохотали и дымили сигаретками. Я летел широкими шагами, норовя уйти как можно дальше от храма, мечтая если не забыть, то хотя бы отвлечься.
Мир, несовершенный и кривоватый, был хорош тем, что он всё-таки предлагал множество возможностей переключиться, забыться, спастись от самого себя: можно было пойти в кино, в бар, в спорт-бар, в суши-бар, поиграть в бильярд, купить себе новую красивую обувь, сходить в баню, сыграть в лотерею, слетать в Таиланд, засадить грядки эксклюзивной рассадой петрушки и укропа; много способов сочинено, чтобы избавить человека от его главного, невыносимого, леденящего страха – страха остаться наедине с самим собой.
Я шёл, сам не зная, куда.
Через несколько часов я добровольно заточу себя в подвале собственного дома, и проведу там много дней, пока не закончу работу.
Нужно было настроить струны, з а г л у б и т ь с я.
Вдруг я понял, что двигаюсь прямо к дому покойного историка Ворошилова.
Здесь было тихо. Две больших бабы в оранжевых тужурках собирали граблями вытаявший из-под снега мусор. Из-за сплошных двухметровых заборов доносился детский смех.
Прошёл мимо дома номер восемь – здесь хозяин дома заводил свой мотоцикл “Хонда”, готовился к началу тёплого сезона.
Прошёл мимо дома номер шесть – здесь жарили шашлыки и звенели посудой.
Прошёл мимо дома номер четыре – здесь выгуливали собак, и одна из них, в широком ошейнике, подбежала ко мне и сначала хрипло взлаяла, но я присел на корточки, погладил животину, и она утихла, даже лизнула ладонь; потом появилась хозяйка в спортивном костюме, крашеная блондинка, закричала: “Гектор, фу!” – и это “фу” меня оскорбило, как будто речь шла не о человеке, а о дохлой крысе. Я отвернулся и торопливо двинул далее вдоль улицы: к дому номер два, нужному мне. К дому Ворошилова.
Ворота были открыты.
Впервые за два месяца я увидел, что хотел.
Гера Ворошилова только что въехала во двор отцовского дома и теперь выгружала из своей смешной фиолетовой машинки нечто широкое, габаритное, но лёгкое. Холст, понял я. Она купила холст, она собирается писать картину!
Она не увидела меня.
Одета скромно, на голове – бейсбольная кепка с большим козырьком: словно боялась, что её кто-то узна́ет.
Она с усилием извлекла с заднего сиденья раму, примерно метр на полтора, и понесла её в дом, двигаясь несуетливо, спортивно. Я заметил, что двор убран, дорожка подметена. Постоял бы ещё, но решил, что неприлично глазеть на чужую частную территорию, да и опасно, в конце концов.
Человек, мыслящий шаблонами, сказал бы, что я – преступник, которого тянет на место преступления, но это было не так; меня тянуло не на место, а к его обитательнице. Я точно знал, что однажды мы познакомимся и поговорим, и я был готов к такой встрече.
Развернулся, зашагал к вокзалу; пора домой, пора за дело! Уже пробегает по спине и плечам озноб предвкушения. Уже руки чешутся.
Миссия моя ясна, и ничто на свете не помешает мне её выполнить.
Хоть и висят на мне разные грехи, в том числе и смертные, неотмолимые, но дух дышит.
И чтоб до конца очиститься, я достал телефон и позвонил Застырову, и попросил о встрече.
Земляк легко согласился.
– Пивка попьём, – сказал он. – Жди на той же точке.
Той же точкой он называл пивной бар “Овертайм”.
10
Я опасался, что вечером мест не будет, но меня сразу провели к свободному столу. Экраны показывали мордобой, две компании молодёжи наблюдали заинтересованно; я сел спиной к ним и заказал пива.
Когда Застыров прибыл, его уже ждали стартовые три кружки светлого нефильтрованного.
– Дело есть, – сказал я. – Важное. Может тебя коснуться.
Застыров, опрокинув первую кружку, вытер с губ пену.
– Излагай.
– У меня в цеху, – начал я, – работает мужик, фамилия – Твердоклинов. Я его давно знаю. Сегодня мы с ним выпивали. Когда он опьянел – сказал, что собирается зарезать сожителя своей жены. Они в разводе, у бывшей жены – новый любовник. Про этого любовника знаю только одно: он занимается недвижимостью. Твердоклинов его ненавидит. Когда он трезвый – он почти нормальный, но после двух стаканов ему башню сносит на глушняк. Не знаю, что ты будешь делать в этой связи, но предупредить тебя – я обязан.
Застыров посуровел, сделался официальным, вынул записную книжку и авторучку.
– Продиктуй, – велел.
– Твердоклинов Николай Юрьевич, работник фабрики “Большевик”. Проживает с матерью по адресу Вторая Поселковая, дом 19, квартиру не помню, сам найдёшь.
Застыров записал, поднял на меня светлые, злые глаза.
– Ты сказал, что он почти нормальный. Это как понимать?
– Ну, у него тараканы в голове. Он думает, что видит демонов.
– Хорошо, – сказал Застыров. – Ты правильно сделал, что сообщил.
И взялся за вторую кружку.
На экранах один спортсмен наконец повалил другого и стал бить кулаком по голове; наблюдавшая за поединком молодёжь оживилась, раздались азартные возгласы. Я решил, что мой долг исполнен, и стал прикидывать, как уйти быстро и вежливо.
– Посадишь его? – спросил я.
– Незачем, – ответил Застыров. – Посадить всегда успеем. Пока проведём профилактическую беседу. Позвоню участковому, вдвоём с участковым возьмём клиента, отвезём в отделение. Разъясним. Возможно, закошмарим его малёхо… Если не одумается – дальше будем решать по ситуации… Может, закроем, может, нет, – видно будет…
Он допил третью кружку и сделал знак официанту – показал три пальца: официант кивнул и убежал.
Понятно, что старший оперуполномоченный Застыров считался в этом баре почётным клиентом, имел скидки и идеальное обслуживание.
– Я в полиции двадцать пять лет, – сказал он. – С одна тыща девятьсот девяносто пятого. Знаешь, сколько сидело по лагерям в том году? Миллион двести тысяч. А сейчас сидит ровно в два раза меньше: шестьсот тысяч. За всю историю России так мало не сидело никогда. А почему? А потому что профилактика есть. Ты, земеля, верно поступил. Твоё имя нигде не всплывёт. Давай, пей пиво, сегодня всё за мой счёт.
– Не надо мне пива, – сказал я. – Домой тороплюсь.
– Так я тебя отвезу! – Застыров вдруг возбудился. – Ты прав, нечего тут рассиживать в будний день! Сейчас допью – и двинем. Заодно проверю дом.
– Это лишнее, – возразил я. – На маршрутке нормально доберусь. А тебе незачем крюка давать в семьдесят километров. И дом твой в порядке, я мимо него хожу каждый день. Там только надо бы во дворе убрать, после зимы…
– Поедем, – решительно повторил Застыров. – Я сам погляжу, что там во дворе.
Официант принёс три кружки. Застыров одну кружку подхватил, а две других попросил слить в бутылку, чтоб взять с собой.
На светящихся цветных экранах дело подошло к финалу: судья поднял руку окровавленного победителя; окровавленный проигравший шатался, его было жаль. Молодёжь утратила интерес к трансляции; некоторые пошли на выход, покурить.
– А всё равно показатели очень средние, – мрачно сообщил Застыров. – По области мы в числе отстающих. Я по шапке получаю регулярно, и очень больно. Мафию мы давно прижали, там проблем нет. Наркоманию тоже контролируем. Но бытовуха портит всю статистику. Они же как? – они напиваются – и убивают друг дружку. Или пьяный сын свою мать прибьёт, или пьяный муж – жену. Или пьяный дебил берёт кочергу и идёт к соседу выяснять отношения. Или наоборот, жена мужа поленом по голове двинет. Как я могу с этим бороться? Никак. Если человек пьёт – это не моё дело. Каждый третий случай – приезжие азиаты. Они вообще пить не умеют, нажрутся – становятся агрессивными. Низкая сопротивляемость к алкоголю. Что мне делать? Ничего. Бухло продаётся на каждом углу. А если муж жене нос сломал и зубы выбил, если он её ударил утюгом по голове, или чайником, или крышкой от кастрюли – я ему сразу 112-ю, часть вторую. И – закрываю. Как правило, все эти люди – конченые алкаши, и когда я их закрываю, они остаются без бухла, сухими, и у них крыша едет. У многих начинается белая горячка. То есть, когда я их закрываю на изолятор – я делаю доброе дело, я их протрезвляю. Посидит месяц или два – совсем другой человек. На суде плачет, клянётся, умоляет. Жена, которой он нос сломал, ему передачи носит, на свидания ходит, пишет судье официальную бумажку, что не имеет претензий…
Застырову принесли полуторалитровую флягу пива; Застыров возразил: он просил подготовить ему литр, а подготовили полтора. Официант, улыбаясь, объявил, что лишняя порция – бонус. Застыров рассмеялся.
– Коррупция? – спросил он.
– Подарок от заведения, – возразил официант.
– Ладно, – сказал Застыров, и кинул на стол деньги.
Я подхватил рюкзак и встал.
Молодёжь слегка притихла, наблюдая, как мы уходим. Оперативника Олега Застырова все знали. Либо боялись, либо уважали, либо просто шептали вслед: тот самый мент, держит весь город.
11
Мы сели в его машину и поехали; по пути Застыров мощно и с удовольствием отхлёбывал пиво из пластиковой фляги; машина у него была обычная мужская – потёртый внедорожник, внутри пропахший табачным дымом.
Застыров ехал медленно, на дорогу смотрел вполглаза, рулил небрежно, говорил много, сглатывая концы слов и помогая себе взмахами правой руки.
– Чтоб ты знал, земеля: наша деревня скоро расцветёт. Только это между нами. У нас будут делать новую дорогу, военную. Так называемую рокадную. В Беляево стоит военный гарнизон, стрелковый полк. В случае войны, чтоб им выдвинуться на федеральную трассу, – надо проехать через город. Это долго. Дороги в городе узкие, и их мало. В этом году за счёт бюджета решили строить новую дорогу, от Беляево – до трассы, минуя город. Чтобы, значит, этот стрелковый полк, на грузовиках и бэтээрах, вышел на трассу не за три часа, а за один час. Эта же дорога будет и транзитная, – все, кто едут из Москвы за Урал, будут огибать город по этой дороге и снова выходить на федеральную трассу. Но транзитный транспорт нас не колышет, нам главное, что сейчас мы до наших Чёрных Столбов едем полтора часа, а через два года будем добираться за двадцать минут. По проспекту – до рокадной, и по ней – конкретно до дома. На новой трассе будут автозаправки, с кафешками и всеми делами. Это всё – рабочие места. Наша деревня была в застое – а теперь из застоя выйдет. Люди начнут ездить чаще. Я сам буду ездить чаще. А может, и переберусь. В городе мне хорошо, но в деревне – лучше. Тихо, свободно. Детям тоже по кайфу. Жену уговорю. У неё – машина, ей какая разница, откуда ездить. Или будем на два дома жить: зимой в городе, летом – в деревне. Хотя зимой в деревне ещё лучше, чем летом, сам знаешь. И пьётся в деревне по-другому, свежий воздух, сколько ни выпей – с утра голова свежая. И вода лучше тоже. У меня колодец, вода такая мягкая, руки моешь – мыло смыть невозможно. А мы же все из воды состоим, на девяносто восемь процентов. Так учёные говорят. То есть какую воду ты пьёшь – такой ты и есть. Вот так, земеля, только учти – всё сказано только для тебя, не для афиши.
– Понял, – ответил я. – Разумеется.
Потянулись холмы, сосновые леса, я смотрел, любовался, слушал и не слушал.
Застыров остановил машину на обочине, вытащил из-под сиденья синий полицейский проблесковый маяк, воткнул провод, фонарь поставил на американский манер – на торпеду перед лобовым стеклом; засверкало ярко, тревожно; подмигнул мне и вышел – по малой нужде; пиво выхода всегда требует.
Проезжающие мимо рядовые граждане притормаживали, любопытствуя, зачем посреди леса мигает опасная полицейская сирена – но видели только мужика на краю придорожной канавы.
Справив пивную надобность и тщательно застегнув штаны, Застыров вернулся в машину, невероятно довольный – как будто выиграл в лотерею. Выключил маяк, с рёвом двигателя стартанул с обочины, продолжал деловой монолог:
– Хорошо бы, конечно, к нам в Столбы подвести газ. Это да. Это будет победа, сто пудов. Но газа там при нашей жизни не будет, сразу предупреждаю. Я видел областной генплан, по этому плану газификация нашего района в ближайшие пять лет не предусмотрена. А где пять лет, там и десять. Район не считается перспективным. Ничего там у нас нет: четыре деревни и три глухих леса. Трубу можно протянуть только на коммерческой основе, за счёт жителей, а их у нас – три с половиной пенсионера. И если я, например, соберу богатый народ, человек десять, или двадцать, кто заинтересован, у кого дома́ в наших деревнях, – если все мы вложим по миллиону, в рублях, – всё равно не хватит, чтобы протянуть трубу. Там ломовые деньги, неподъёмные. И договориться невозможно. Даже я, со всеми своими ментовскими ксивами, не могу влезть в эту систему. И не хочу. Противно, неохота. Там такие жирдяи, с ними говорить – всё равно что говно жрать. Я дровами буду топить, из принципа. Я всю местную районную мафию знаю, кто дровами занимается, у меня на всех давно дела заведены. Захочу – у меня будут дрова бесплатно пожизненно. Мне газ – пофигу. Я дедов дом никогда не брошу. Годы идут, у меня уже давно яйца седые, а в этот дом тянет. Я знаю, это всё – блажь и дурь. В городе жить удобнее, по-любому. Горячая вода, ванна. Посудомоечная машина. Дворник во дворе снег чистит. Мусор вывозят по графику. “Скорая” приезжает за пять минут. Это бесспорно. Но я всё равно хочу в деревню. Там будет всё моё. Уже план готов. Я баню поставлю, и собак заведу. Южнорусских овчарок. Давно собираюсь. В квартире их держать нельзя, в квартире они с ума сходят. Только на свежем воздухе, в вольере. И ещё летний домик хочу построить во дворе, потому что когда дети вырастут – они будут приезжать большими компаниями, с девчонками. Шашлык-машлык, ну ты понял. Через двадцать лет я буду старый пердун, а они – взрослые люди. Должен же я что-то им оставить, какой-то кусок земли? А не просто четыре стены в железобетонном доме?
Вопросы Застырова показались мне риторическими, я только молча кивал и на всякий случай ухмылялся, потому что Застыров излагал свой монолог в виде анекдота, похохатывая, жестикулируя и сплёвывая в окно обильную алкогольную слюну.
12
До деревни добрались уже по темноте.
В свете фар дома́ выглядели брошенными, опасными, как будто там не жили, а прятались.
В конце улицы я попросил остановить.
– Дальше дороги нет. Буераки. Я тут выйду.
– Как скажешь, – ответил Застыров.
Мне показалось – он ждал, что я приглашу его домой, кофе налью или, может, чего покрепче; показалось, что не хотел он расставаться, а хотел ещё поговорить, – или, точнее, выговориться: у каждого бывают такие дни, когда готов душу распахнуть хоть близкому другу, хоть доброму знакомому, хоть земляку. Человек – существо глубокое, но не бездонное: когда накапливается – надо изливать, чтоб освободить место для чего-то нового.
Я открыл дверь, собираясь выйти во мрак, но тут Застыров крепко ухватил меня за плечо.
– Ты, Антип, что-то задумал. Да?
Я вздрогнул; испугался. Застыров смотрел внимательно.
– Ты ведь со мной встретился не для того, чтоб рассказать про своего дружка-алкоголика. Я же вижу.
– Ничего не задумал, – ответил я. – Просто… ну… В отпуск ухожу…
– Отпуск? – переспросил Застыров. – Отпуск – это святое.
– Вот именно, – сказал я. – Спасибо, что подвёз.
Ушёл.
Пахло берёзовым дымом – кто-то из соседей топил печь, грелся, может, бабка Лабызина, а может, Зина-из-магазина; апрель в нашей деревне мирный, безмятежный, но это последние недели тишины, потом грянет Пасха, а за ней и майские праздники, священные для трёх поколений наших людей, – к моим бабкам, к Зине, к деду Козырю понаедут из города дети и внуки, с собаками, котами и велосипедами; будут убирать участки, перекапывать огороды, затевать барбекю. Вспомнив про них, я подумал, что следует закончить работу срочно, до появления городских визитёров. Лишние глаза и уши не нужны совсем.
Застыров, я знал, сейчас поедет в свой дом. Подсвечивая фонариком, отомкнёт ржавый замок. Побродит, подумает, но ничего, конечно, делать не будет, даже за веник не возьмётся, потому что дел в том доме – невпроворот, и крыша протекает, и полы сгнили кое-где; требовались огромные усилия, чтоб вернуть запустелую, обветшавшую избуху в жилое состояние. А если по-хорошему – дом уже не подлежал восстановлению. Изба не любит стоять пустой; если в избе не живут – изба умирает. Промерзает, гниёт дерево. Жучки точат его. Осы вертят гнёзда на потолке. Птицы селятся под крышей и загаживают всё помётом. Рассыхаются оконные и дверные рамы.
Но ничего этого я Застырову не сказал. Дом – его, жизнь – его, мечты – тоже его; сам разберётся.
У меня был свой дом и своя мечта.
13
Рюкзак отнёс в подвал, разложил инструменты на верстаке. Проверил котёл.
Поднялся наверх, одежду снял, нагим и босым походил по комнате, наслаждаясь тишиной, одиночеством. Изучил себя, голозадого, в зеркале со всех сторон, остался доволен. Обыкновенный молодой мужик, рожа грубоватая, но приличная. Сам никто и звать никак.
Подлил масла в лампаду. Обнаружил, что спички кончаются, отругал себя: заходил ведь в магазин, всё купил, а спички забыл.
– Дубина ты, – сказал себе, – дубина стоеросовая, столько лет протянул, а жить не научился.
Телефон не стал выключать, наоборот, поставил заряжаться – но наверху, в жилой комнате.
Снял со стены досочку с образом Параскевы – новодел, купленный лет десять назад в Сергиевом Посаде. Отнёс образ в подвал, поставил стоймя на полку: пусть будет, в моём деле никакая помощь не помешает.
Вышел из дома, ставни навесил на окна – ставни у меня дубовые, купеческие, тяжёлые, сначала одну створку повесил, потом вторую, потом меж ними – висячий замок. И так на оба окна.
Ставни – это, разумеется, традиция, а не защита. В наше время такие ставни вскрываются за две минуты. При желании можно ломом вывернуть петли с корнем. Но я всё равно повесил ставни и замкнул замки. По крайней мере, дом снаружи будет выглядеть нежилым: хозяин уехал, но скоро вернётся.
Дверь закрыл изнутри на засов. Выключил весь свет и задул лампаду. Поднял рубильник.
Дом, и двор, и окрестности – всё утонуло в подвижном синем мраке, какой бывает в наших краях в середине весны.
К работе приступил около полуночи.
14
В изготовлении круглой фигуры никакого канона нет, каждый умелец режет образ по своему разумению. Известны два основных варианта: Параскева в мафории и Параскева с руками, поднятыми ладонями вверх. Я выбрал за основу первый: он был проще в изготовлении. Мафорий – длинный плащ от плеч до пят – скрывал руки.
Выбор дался мне нелегко: хотелось вы́резать её руки, ладони, пальцы – это могло быть очень красиво, ибо запястья, ладони, пальцы и ногти человека говорят о нём столько же, сколько лицо и глаза. Врачи, целители, ведуны, костоправы первым делом смотрят в лицо и просят показать язык, а вторым делом обязательно изучают руки. Нигде жизненные обстоятельства не отпечатываются так чётко, как на лице и на руках. Это знают живописцы, это знают фотографы и кинооператоры. Однако вырезание ладоней и пальцев заняло бы у меня непозволительно много времени, а я чувствовал, что надо поторапливаться. Весь строй событий, произошедших в последние годы, указывал, что на своём пути я встречу много проблем. И события недавнего прошедшего дня подтверждали мои предчувствия. Зачем потащил пьяного Твердоклинова? Зачем попёрся смотреть на дом Ворошилова? Зачем встречался с опером Застыровым? Мог бы ничего не делать: оставить в раздевалке фабрики литр самогона – и уехать. Ребята сами бы выпили, сами бы разбрелись по домам, сами пошли бы мстить своим бывшим жёнам и их сожителям.
Но нет, я зачем-то встрял во всё, влез везде, поучаствовал, повлиял. Вместо того, чтобы прямо идти своим курсом, отдался хаотическому потоку суеты, и вырвался из него только заполночь.
Иные думают, что если есть у тебя твоё дело, твоя цель, твоё предназначение – то тебе легко, и ты шагаешь по прямой лёгким шагом, ничего вокруг не замечая. И лишь немногие – действительно отягощённые делом и целью – возразят. Никому не легко. Суета подступает со всех сторон. Мир сопротивляется. Великая твёрдость нужна, чтобы проломиться сквозь суету. Оттого люди, имеющие свою цель и своё дело, так часто умирают в раннем возрасте, не сделав и четверти того, для чего были рождены.
С первых часов работа пошла легко. У меня была готова малая фигура, рабочая модель, высотой в сто тридцать сантиметров. Я взял кронциркуль, остро отточенный гвоздь, и перенёс все метки с малой фигуры на заготовку большой, в пропорции один к одному и трём десятым. Все расчёты делал на бумажке в столбик, как давно привык.
К утру полностью разметил заготовку: лежащий на столе брус был густо исчерчен продольными и вертикальными линиями.
Взял долото, молоток и стал снимать слои.
Дерево – очень твёрдое, но и долота мои были сделаны из лучшего металла и заточены идеально.
Обычно я работал электрическим долотом, но первые слои снимал всегда вручную.
Так прошло десять или двенадцать часов. Времени я не ощущал, и оно меня не интересовало. Часов наручных я не носил, в доме часов не держал. Хронометр был в телефоне – но я никогда не обращал на него внимания.
Остановился, только когда интуитивно понял, что пора сделать перерыв.
Плечи, спина, руки сильно отвердели и тряслись, в ушах стоял грохот.
Пока я сделал только самую грубую, черновую работу.
Взял веник и совок, собрал из-под стола стружку.
Включил дополнительную лампу, и придвинул её ближе к заготовке, и сам наклонился, и долго смотрел, как завиваются волокна на дереве; работа идёт легче, когда ты двигаешься вдоль волокон, снимая их так, как они возникли.
Две тысячи лет назад люди делали то же самое: вырубали себе идолов из дубовых колод, из инструментов у них были только топоры и ножи, и то и другое из мягкого чёрного железа; металл быстро тупился, его надо было непрерывно затачивать; само слово “истукан” полностью определяет его природу – это нечто “исту́канное”, изготовленное со стуком.
Включил планшет, посмотрел картинки с видеокамер: вокруг дома – никого.
Поднялся наверх, снял засов, вышел под небо.
Судя по солнцу, был примерно полдень.
Я не устал, конечно. Но хотелось развеять голову.
Взял бумажник с деньгами, закрыл дом, пошёл в деревню. Через лес, не спеша, расслабляя спину и шею, и перепонки в ушах.
15
В деревенской лавке никого не было, полы скрипели, густо пахло рыбой, кислым пивом и лавровым листом. Зина – продавщица, хозяйка, непотопляемая и несгибаемая; джинсы в обтяжку, атлетический стан 50-го размера, блузка в крупном узоре, объёмное, сильно напудренное декольте, пальцы в алом маникюре стучат по кнопкам калькулятора, но не слишком активно: торговля стоит. Я – редкий покупатель. Входная дверь, по случаю тёплого дня, открыта настежь. Зина выдвигается из-за прилавка, она рада меня видеть. У неё круглое лицо и маленькие умные глазки.
Зину я уважал, она казалась мне образцом настоящей русской бабы: независимая, бесстрашная, расчётливая до кончиков ногтей – и всегда весёлая. В славной женской поре: чуть за сорок пять, но всем говорит, что тридцать восемь. Она сменила двух мужей, от каждого родила по дочери. Сильные женщины обычно рожают дочерей, пополняют ряды солдат женской армии. Помимо мужей, Зина сменила неустановленное количество сожителей разного возраста и вероисповедания, в диапазоне от 50-летних пьющих русских до 25-летних непьющих таджиков, но подробностей я не знал и не стремился знать.
Своё предприятие Зина создала лет двадцать назад, ещё будучи молодой и дерзкой. Магазин работал ежедневно с полудня до 16:00, четыре часа. График знали все жители Чёрных Столбов, а также и обитатели соседних деревень. К Зине приезжали из Беляево, из Косяево и даже из Криулино, – кто на велосипеде, кто на лошади. Зина держала низкие цены на муку, на керосин, на крупы, на дрожжи, на хлеб, а водку и пиво предлагала в обширном ассортименте.
Зина улыбнулась мне.
– Антипушка! – руками всплеснула. – Ты куда пропал? Я уж думала, ты съехал.
– Съеду только на погост, – ответил я.
Зина поправила волосы – непроизвольный жест, поправлять было нечего, Зина стриглась коротко, чтоб волосы не скрывали красивую сильную шею. Обильная телом и, по-видимому, весьма сильная физически, Зина была похожа на купчих, героинь полотен художника Кустодиева.
Дух её был совсем невелик, и весь приземлён, но достаточно цепок; в наши дни свой бизнес затевают только очень крепкие и уверенные женщины, а что фантазии у таких женщин нет – другой разговор.
Я купил спички, десяток свечей, четыре энергосберегающих лампочки и бутыль жидкости для розжига дров.
– Заходи почаще, – сказала Зина, – без тебя скучно.
И улыбнулась большим накрашенным ртом, и запах её духов стал сильней и слаще.
У таких женщин всегда есть необъяснимая тяга к сахарно-цветочной парфюмерии. Старомодно, зато надёжно.
После двенадцати часов работы мои руки крупно тряслись. Зина внимательно наблюдала, как я отсчитываю сторублёвки негнущимися пальцами.
– Перебрал вчера?
– Да, – ответил я. – Был повод. Пиво пил, с Олежкой Застыровым. Он, кстати, тебе привет передавал.
– А денег он мне не передавал? – спросила Зина. – Он мне с прошлого года должен.
Я засмеялся, покачал головой и ушёл.
От этой женщины я старался держаться подальше. Правда, получалось не всегда.
Её лавка никогда не процветала, и был период, когда Зина закрыла свой лабаз на огромный замок, в очередной раз сошлась с очередным мужчиной мечты и уехала в город. Три года в наших Чёрных Столбах вообще не было магазина, приходилось мотаться в Павлово за всякой ерундой. Но потом мужчина мечты исчез, оказался переоценённым товаром, Зина вернулась на родину, и её предприятие заработало снова и с удвоенной мощностью, к великому облегчению жителей деревни, включая деда Козыря.
Конечно, за многие годы Зина всё про меня разузнала. По крайней мере, ей так казалось. Одинокий молодой мужик, живущий на отшибе, был ей любопытен. Одно время Зина подозревала, что я – подпольный цеховик, и дома у себя занимаюсь чем-то незаконным: разливаю поддельную водку или, допустим, незамерзающую жидкость для автомобильных омывателей. А земляк Застыров меня крышует. Зина, торговая женщина, везде видела или криминал, или, как минимум, обман и хитрость. В конце концов мне пришлось признаться Зине, что её догадка не лишена оснований, я действительно держу на дому маленькое кустарное производство, делаю на заказ дубовые двери, резные ларцы и шкатулки для хранения мелочей и драгоценностей. Одну такую шкатулку, из орехового дерева, я вы́резал специально для Зины. Шкатулка имела секрет, двойное дно, я показал Зине тайный винт, открывающий сокрытую ёмкость; Зина пришла в восторг. С тех пор меж нами установилось особенное понимание – женщина радостно убедилась, что её догадка верна: я оказался её собратом, человеком с двойным дном, владельцем тайны, таким же, как и она сама.
Человек устроен так, что повсюду ищет себе подобных. Никто не желает быть уникальным. Все ищут свою стаю и норовят к ней прибиться. Богачи идут к богачам, нищие – к нищим, воры – к ворам, хитрецы – к хитрецам, изгои – к изгоям. Таков и я: ищу своих.
А если не нахожу – создаю.
Призна́юсь, была у нас с Зиной своя интимная история, и не одна; впрочем, всё невинно и без последствий; но сегодня я не хотел ничего вспоминать; у меня была цель, я смотрел вперёд.
Помехи есть всегда.
Всегда есть кто-то случайный, сбоку находящийся, – досужий сосед, завистник, стукач, любопытствующий интересант, череззаборный наблюдатель, – для которого чужая жизнь важнее собственной. Всегда есть кто-то, наблюдающий за тобой из-за угла. Он не обязательно плохой, но он обязательно тебе однажды помешает. Я не хотел, чтобы Зина мне мешала. Я дал ей то, что она хотела: дал понять, что имею двойное дно, и таким образом удовлетворил её если не физически, то морально.
Возвращаюсь с пакетом купленной ерунды; цели достиг – освежил голову, отвлёкся. Хорошо пройтись под высоким апрельским небом, по подсыхающим грязям, мимо берёз, выкинувших уже почки. Под деревьями и в кустах ещё лежат последние чёрные снежные плиты, источающие холод. Солнце набирает жар, под его лучами земля дымится, и сам я тоже.
Все люди весной дымятся, как земля, все испаряют накопленную за зиму старую гнилую воду.
16
Хорошо, что я живу на отшибе. Никто ко мне не придёт, никто не будет любопытствовать, никому это не нужно – ни Зине, ни Застырову. Далеко ехать, далеко идти, а главное – незачем. Тупик, укромный угол.
Березняк, потом тропа на всхолм, на берег оврага, заросшего ивами.
На покосившихся столбах протянуто электричество – я единственный потребитель этой линии. По закону, если я исправно плачу за свет, то поставщик обязан обеспечить мне подачу электричества. Но на деле, в реальности, если гнилые столбы начнут падать – мне придётся ставить новые за свой счёт. Энергетическая компания не будет тратиться на двадцать пять столбов ради меня одного.
Но это будет не скоро, столбы хоть и клонятся, но лет пять ещё простоят, а может, и все десять; а за десять лет мало ли что случится.
Мне кажется, даже Создатель не знает, что будет через десять лет.
Однажды он раскрутил этот диск, этот маховик, на определённую, ему нужную, скорость – а потом отошёл в сторону, и теперь маховик крутится без него.
Лично я на его месте сделал бы так же: зачем раскручивать всё время? Надо раскрутить один раз на максимальный ход, а потом бросить, отойти: далее пусть крутится само.
Создатель раскрутил наш диск один раз – и навсегда.
В том, что́ с нами происходит теперь, нет никакого его участия. Диск вращается самостоятельно. Он раскручен так сильно, что инерции хватит на тысячи лет. Сколько других таких же маховиков у Создателя – мы не знаем. Я думаю, много. Мы у него не единственные.
Тропа изгибается вправо и влево; там, где тень, на тропе ещё лежит грязный лёд, но там, где солнце, – всё набухло чёрной тёплой землёй.
Осенью заезжают грибники. Они никогда не ставят свои машины возле моего дома – всегда в стороне, в роще, съехав с просёлка на обочины. За многие годы, пока тут живу, я видел грибников раза четыре, случайно. Они всегда вежливо здороваются со мной и быстро уходят в чащу, я здороваюсь в ответ. Возможно, они думают, что я, проживающий в избе на краю леса, считаю все окрестные места своими владениями; возможно, они боятся меня. Они исчезают в сентябре, от них нет никакого беспокойства.
Примерно раз в год заворачивают экзотические компании, любители путешествий офф-роуд, на очень дорогих “подлифтованных” джипах, на огромных колёсах, на грязевой резине “Гудрич”, – обычно это пожившие краснолицые мужики, бизнесмены с полными карманами. Однажды зашли ко мне, я их чаем напоил, лет восемь назад это было. Грубые люди, но благожелательные. В моём углу им делать нечего: просёлок упирается в овраг, а овраг нельзя переехать даже на танке: крутой, с заболоченным нижним краем, сплошь заросший ивами и орехом, выглядит как тупик, – за дальним берегом простирается непроходимый еловый лес, на сотни километров к востоку и северо-востоку.
В итоге сюда ко мне, кроме упорных грибников и весёлых богатых спортсменов, никто не добирается. Глухое место, конец дороги.
17
Когда дошёл до дома – улыбался; замечательно удачно сходил в магазин: всё купил, с женщиной пошутил-поговорил, воздухом подышал, спину распрямил.
В голых ветвях кричали грачи. Из близкого оврага пахло гнильём, сброженной тиной.
Триста лет назад на месте оврага текла полноводная река, именем Солотча. Лес был в три раза гуще, деревья в три раза толще. Но теперь об этом никто не помнит.
Я посидел немного на лавке во дворе, греясь под жёлтым водопадом весеннего света, ни о чём не думая, расслабленно, мирно. Подумал: а не вытащить ли всё наверх? Зачем хорониться в подвале, если под открытым небом так хорошо, так звеняще свежо, вольно и благодатно?
Решил не рисковать, ничего не менять; ушёл в дом, замкнулся на все замки и снова взял в руки долото.
Я расскажу, как это бывает.
Ты работаешь много часов подряд, увлечённо, не чувствуя ни времени, ни усталости.
Потом понимаешь, что надо сделать перерыв и выползти на белый свет.
Ты выползаешь, и белый свет кажется тебе изумительным.
Но потом, продышавшись, ты идёшь назад, в тот же угол. Начинаешь сомневаться. Твоя работа, лежащая на столе, казалась очень важной, – но после того, как ты вышел во внешний мир, эта работа уже такой не кажется. Ты вдруг видишь, что внешний мир заинтересован в тебе – но кроме тебя, заинтересован и ещё в тысячах таких же, как ты.
Вроде бы час назад ты выбрался, щурясь, из волшебной пещеры, где добывал блистающие сокровища, – а вернулся в душную угрюмую каморку.
Оставленная на столе работа теперь кажется нелепой чудаческой выходкой. Чтобы снова сосредоточиться – нужно себя уговорить, заставить. Сомнения порабощают тебя. То, что ты делаешь здесь, может, и не столь необходимо там, снаружи, в солнечном и сложном внешнем мире. Если ты не окончишь своей работы, если сожжёшь дотла каморку, если сам сгоришь, – кто заметит?
Тут надо себя пересилить – и выбросить из головы весь внешний мир, каков бы он ни был; и снова погрузиться в исполнение задуманного.
Ибо внешний мир состоит из предметов, а каждый предмет, от доски на заборе до электрического провода на косом чёрном столбе, придуман и создан такими же, как ты, одинокими полубезумными чудаками, – у каждого была своя пыльная каморка; в пыльных каморках придуманы и ракеты, летящие в космос, и компьютеры, и лекарства от смертельных болезней. Куда бы ты ни ткнулся, изучая историю появления самолёта, или кинематографа, или атомной бомбы, – всегда попадёшь в каморку, где одинокий чудак заточил себя наедине с верстаком, с чертежом, с рукописью. Всё, что создано, – создано в пыльных каморках чудаками и безумцами.