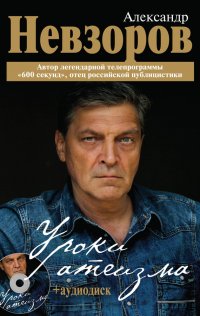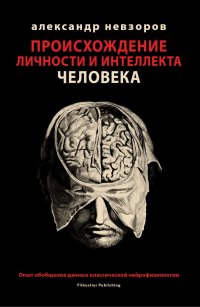
Читать онлайн Происхождение личности и интеллекта человека. Опыт обобщения данных классической нейрофизиологии бесплатно
- Все книги автора: Александр Невзоров
Список латинских слов и выражений
absolute – безусловно
ad infinitum – до бесконечности
ad interim – на данное время
ad oculus – перед глазами
ad verbum – к слову
aegrote videre – больно видеть
alias – иными словами
aliqualiter – в известной степени
anfractus – поворотный пункт
atque – причем
aut totum aut nihil – все или ничего
barbare dictu – грубо говоря
bella latebricola – милое захолустье
bellum omnium contra omnes – война всех против всех
breviter – вкратце
callide – ладно
capitales principales – первоначальный капитал
caput aperire – обнажить голову (снять шляпу)
ceterum – впрочем
circiter – примерно
circus clausus – замкнутый круг
claris verbis – ясными словами
contra racionem – против смысла
e supra dicto ordiri – исходя из вышесказанного
ecce rem – дело в том
eo ipso – тем самым
ergo – итак
et cetera – и так далее
et vita genuina incepit – и настоящая жизнь началась
evidenter – очевидно
exempli causa – к примеру
exemplum – пример
explico – поясняю
floriculi – цветочки
fortasse – возможно
gaudia privatа – личные радости
i. e. (id est) – то есть
igitur – cледовательно
ignis et tympani – фейерверки и литавры
in mensa anatomica – на анатомическом столе
in postremo – в конце концов
in tenebris – во тьме
in toto – в целом
in unda fortunae – на волне успеха
istic – тут
locus communis – общее место
maxime vaste – максимально грубо
minimum consumendi – прожиточный минимум
mirabiliter – чудесно
molliter dictu – мягко говоря
necessario notare – стоит отметить
nervus vivendi – страстно
nihilominus – тем не менее
nunc – теперь
opportune – кстати
per dentes – сквозь зубы
per obticentiam – по умолчанию
perfecte fortasse – вполне возможно
рlangor infantium – избиение младенцев
potius – скорее
propinquus pauper – бедный родственник
psittacinae repetitiones – попугайские повторения
punctum pronumerandi – точка отсчета
puto – полагаю
radula pro neuronis – чесалка для нейронов
repeto – повторяю
ridicule – забавно
sane – конечно
satis – достаточно
scilicet – разумеется
se sustinere difficile – трудно удержаться
secundum naturam – естественно
sed – но
semimalum – полбеды
severe dictu – грубо говоря
sine dubio – несомненно
taceo ego – я уж молчу
tamen – однако
ultra limites factorum – за пределами фактов
ut – чтобы
ut notum est – как известно
ventilius reciprocus – обратный клапан
verumtamen – однако, все же
vulgus terminale – предельно прост
Praefatio
Причина появления этой книги. «Кладовщик». История вопроса. Мозг в Древнем Египте. Гиппократ. Гален. Везалиус. Декарт. Галль. Мозг в Библии. Трансляционизм. Дарвинизм. Теория ретикулярной формации. Павлов. Вариабельность мозга homo. Неустановимость координат.
У меня давно была потребность в данной книге.
Честно говоря, я бы предпочел, чтобы ее написал кто-нибудь другой, а я бы получил ее уже в готовом виде, с хорошим справочным и библиографическим аппаратом и набором достойных таблиц-иллюстраций.
Это было бы лучше во всех смыслах слова: et lupi saturi et oves integrae.
Я долго и терпеливо ждал, даже не помышляя браться за нее сам, так как не ищу лишней работы, да и полагаю, что подобные книги должны делать те, чьей прямой обязанностью это является.
Ceterum, вероятно, я так и не стал той читательской массой, ради которой стоит писать и издавать книгу, в которой суммировались бы бесспорные научные факты о морфологии и эволюционной истории функций головного мозга человека.
Atque формальная суммация меня не очень устраивала. Мне требовались выводы, являющиеся естественным продолжением и порождением данных фактов, да так, чтобы в каждом конкретном случае я мог бы «пощупать пуповину», идущую напрямую от факта к выводу.
Мне нужны были отчетливые, развернутые, но не затуманенные «психологией» трактовки таких понятий, как «сознание», «разум», «личность», «мышление» и «интеллект». Эти трактовки могли быть сколь угодно отважны или парадоксальны, но при этом они не должны были противоречить даже самым радикальным догмам классической нейроанатомии и классической же эволюционной нейрофизиологии. Более того, они должны были быть прямым следствием этих догм.
Repeto, мне нужна была подобная книга под рукой, и мне было совершенно безразлично, кто является ее автором и чья именно фамилия стоит на ее обложке.
Точно так же это безразлично мне и сейчас.
Наличие на книге моего имени – простая случайность. Ее мог написать кто угодно, так как факты и открытия в данной области уже сложились в предельно связную картину, очевидную, как я полагаю, для всех без исключения. Мое авторство объясняется лишь тем, что я оказался менее ленив, чем мои современники.
Secundum naturam, значительная часть данного труда – это свод тех блестящих открытий, которые были сделаны задолго до меня, или выводы, которые возможны лишь на основании исследований И. М. Сеченова, Ч. С. Шеррингтона, В. М. Бехтерева, У. Г. Пенфилда, Г. Мэгуна, И. Павлова, А. Северцова, П. Брока, К. Вернике, Т. Г. Хаксли, А. Бродала, Л. Робертса, Г. Джаспера, С. Р. Кахаля, С. Оленева, И. Филимонова, И. С. Бериташвили (Беритова), С. Блинкова, Дж. Экклса, Х. Делгадо, Е. Сеппа, Г. Бастиана, К. Лешли, Д. Олдса.
Здесь я обязан процитировать высказывание сэра Исаака Ньютона: «Eсли я и видел чуть дальше других, то лишь потому, что стоял на плечах у гигантов». (Я не очень уверен в том, что «увидел дальше других», но, как понимаю, это не избавляет меня от соблюдения забавного ритуала с цитированием.)
In toto, я выступаю всего лишь в роли кладовщика, который, гремя ключами, может провести вас по закромам, где пылятся гениальные открытия.
Естественно, как всякий кладовщик, я могу и себе позволить пару-другую сентенций по поводу содержимого этой кладовки.
Поскольку в качестве читателя данной книги я видел прежде всего самого себя, то я, соответственно, чрезвычайно заботился о точности формулировок и цитат, о взвешенности выводов и их чистоте от всякого категоризма. (Категоризмом, «идеями», тенденциями – можно и нужно потчевать публику, но никак не самого себя.)
Латынь, которой я (вероятно) несколько злоупотребляю, не просто старческое баловство. Помимо всех прочих своих достоинств она создает существенные помехи и неудобства тем, кого я и не хотел бы видеть в числе т. н. читателей данного исследования.
Гипотезы и теории о происхождении интеллекта – это поле конфликтующих доктрин. Часть из них откровенно «мистична», часть допускает определенный процент «мистичности», т. е. смешивает нейрофизиологию с принципами «непознаваемого» и «сакрального».
Я же твердо основываюсь только на тех открытиях, которые были сделаны классическими школами нейроанатомии, и на физиологической, естественнонаучной трактовке любых процессов в головном мозге человека или иного млекопитающего животного.
Alias, для романтиков и мистиков любого рода данная книга абсолютно бессмысленна и неприятна.
Puto, любые разговоры о «тайнах» мозга и «загадках» сознания возможны только при умышленной игнорации классических базовых доктрин нейрофизиологии, при отсутствии долгой и вдумчивой секционной практики на препаратах мозга, на нежелании оценивать сознание, разум, мышление и интеллект как прямое и понятное следствие физиологических процессов и эволюционной истории мозга позвоночных.
Некоторая сложность исследуемого вопроса заключается в его многомерности, в невозможности его решения только методами нейроанатомии или нейрофизиологии.
Ограничившись лишь этими двумя дисциплинами, мы получим известный эффект «phenomeni observantis se ipsum» (явление, которое наблюдает само за собой или, если еще точнее, явление, которое изучает само себя).
Sine dubio, сознание, разум и мышление, свершаясь в небольшом пространстве мозгового черепа, подчиняются, в первую очередь, законам нейрофизиологии, соответственно, поняты и объяснены могут быть лишь в строгом соответствии с этими законами. Но существует целый ряд внешних (т. е. находящихся за пределами самой нейрофизиологии) влиятельных факторов, которые обязательно должны быть учтены в исследовании мышления или разума.
К таковым можно отнести данные геохронологии, эволюционизма, палеоантропологии, палеозоологии, сравнительных анатомии и физиологии, фиксированной истории, гистологии и (отчасти) генетики и клинической психиатрии.
Более того, ни одно явление не в состоянии оценить само себя, свои размеры, место в миропорядке, значимость и важность. Для понимания любого явления природы необходимо представление о его происхождении, «размере» и значении.
Мышления и разума это касается в такой же степени, как и любого другого явления природы.
Представление об их развитии, поскольку это (прежде всего) история физиологического субстрата головного мозга и его функций, отчасти могут дать палеоантропология и палеозоология.
Но вот вопросы «размеров» и места этих явлений в системе мироздания могут быть решены только строго «извне», т. е. только методами, принятыми в той науке, что привыкла точно, свободно и холодно оценивать как миры, так и молекулы.
Мы имеем множество примеров того, что «одномерные» попытки решения вопроса о сущности сознания, разума, мышления и интеллекта в результате приводили к «психологическому многословию», вульгарной теологии или некоей растерянности, которая удивительным образом могла соседствовать с самым утонченным пониманием принципа работы механизмов мозга.
Exempli causa:
Безусловно, великий ученый Уайлдер Грейвс Пенфилд (1891–1976), изучая лишь сам мозг человека, но игнорируя эволюционную историю мозга, несмотря на все свои открытия, в результате оказался «заперт» в весьма банальных выводах о природе мышления и интеллекта.
Другой блестящий исследователь Генри-Чарльтон Бастиан (1837–1915) первым открыл взаимосвязь мышления и речи, но не смог придать своему открытию должного нейрофизиологического обоснования. В результате, его открытие было присвоено психологами, которые утопили теорию Бастиана в своей стандартной фразеологии, лишив ее почти всякого смысла и содержательности.
Эти два примера – всего лишь показатель итоговой безрезультатности как попыток одномерного постижения церебральных процессов, так и допущения в эту тему любых вненаучных дисциплин, таких как психология или философия.
Впрочем, следует помнить, что если бы Пенфилд и Бастиан не совершили этих ошибок, то их пришлось бы совершить кому-то другому. Возможно, и нам. Теперь же нам остается лишь благодарить их не только за их открытия, но и за их ошибки, и изучать последние почти наравне с первыми.
Ценность настоящей, серьезной ошибки в науке хорошо известна. Уважение к ней недурно сформулировал «Квантовый Маразматик» Паули (как он сам себя называл) в своей рецензии на какую-то из гипотез Виктора Вайскопфа: «Эта идея неверна, она даже не ошибочна».
Иное дело – пример И. М. Сеченова (1829–1905).
Он совсем чуть-чуть «разминулся» во времени с публикациями фундаментальных открытий нобелевских лауреатов Ч. С. Шеррингтона «The Integrative Action of the Nervous System» (1906);
С. Р. Кахаля «Histologie du Systeme Nerveux de l' homme et des Vertebres» (1909); с центрэнцефалической теорией У. Пенфилда, Г. Джаспера, Л. Робертса «Epilepsy and the Functional Anatomy of the Human Brain» (1954), «Speech and Brain Mechanisms» (1959); с разработками теории ретикулярной формации Г. Мэгуна, А. Бродала, Дж. Росси, А. Цанкетти (1957–1963); с результатом множества блестящих нейрофизиологических экспериментов и исследований XX столетия.
Если бы Иван Михайлович Сеченов, с его способностью обобщать все, чем располагает наука, с его пониманием принципов работы мозга, при своей жизни располагал бы всеми вышеперечисленными материалами, то в данной книжке не было бы ни малейшей необходимости; возможно, все точки над i в вопросе формирования мышления и интеллекта были бы давно расставлены Сеченовым. Но нам не повезло: Иван Михайлович умер раньше, чем нейрофизиология обрела свою настоящую «научную плоть».
Илл. 1. И. М. Сеченов
В истории изучения мозга великие открытия спрессованы со столь же великими ошибками так крепко, что отпрепарировать одни от других можно будет только в далеком будущем, когда сумма знаний, вероятно, станет окончательной, и будет подведен некий итог эволюционной истории мозга позвоночных.
Нам же остается довольствоваться известным ad interim.
Вкратце – история вопроса.
Парасхиты Древнего Египта (жрецы-бальзамировщики), которые готовили тела умерших к вечной жизни, относились с самым серьезным почтением ко всем внутренним органам человека.
Печень, сердце, почки, желудок, кишечник, селезёнка, легкие et cetera по извлечению из трупа обмывались, бальзамировались и либо расфасовывались по сосудам, либо помещались обратно в мумию. Забвение или случайное уничтожение любого из внутренних органов исключалось, так как лишало покойника части статуса в загробном мире. У каждого из органов была особая мистическая роль и свой бог-покровитель.
Илл. 2. Рентгенологическое исследование мумии (по Михайловскому)
Сердце, exempli causa, находилось под защитой бога Туамутефа (Книга Мертвых, 2002. Гл. XXVI), желудок охранял бог Хапи, а печень – бог Кебсеннуф[1].
Помимо бога-протектора каждый орган имел и врага-демона, старавшегося его повредить, украсть или уничтожить. Все органы при мумификации защищались от демонов-похитителей специальными амулетами из лазурита или сердолика.
Единственный орган, который без сожалений и раздумий выбрасывался парасхитами, был головной мозг.
Его извлекали, как пишет Геродот, «через ноздри», а в реальности, вероятно, проламывая concha nasalis superior, os lacrimale, proc. uncinatus, т. е. верхнюю носовую раковину, слезную кость и крючковидный отросток (Михайловский В. Г. Опыт рентгенологического исследования египетских мумий. СМАЭ, 1928. Т. 8) (Илл. 2).
Мозг не имел ни бога-покровителя, ни тайного имени.
Он вообще не имел никакого значения и, после удаления из головы, мог быть даже «скормлен собакам».
Вразумительных объяснений этому факту нет.
Говорить о точном времени зарождения этой тенденции невозможно, но если мы датируем ее эпохами III–V династий, а это 2600–2500 годы до н. э., то мы, вероятно, будем где-то недалеки от истины. (В это время складываются первые редакции «Книги Мертвых» и формируются основные приемы и правила мумификации.) Но, secundum naturam, нельзя исключать, что полное пренебрежение мозгом – традиция более ранняя, восходящая к I–II династии, ко временам Джера и Кхасекхемви.
Спустя примерно две тысячи лет у греков возникли подозрения о том, что загадочная формация, заключенная в черепе головы, все же имеет какое-то значение. Первым из греков в данной теме обозначился, естественно, Гиппократ.
«Гиппократ определил мозг как железу, регулирующую влагу организма, и как главного производителя спермы, которую он по спинному мозгу перекачивает в яички» (Мороховец Л., проф. История и соотношение медицинских знаний, 1903).
Обычно эту выжимку из гиппократового трактата «О железах» приводят как хрестоматийный пример наивности древней медицины. В приведении ее нет почти ничего некорректного, она, действительно, суммирует часть представлений Гиппократа о мозге.
Но, вероятно, лишь часть.
Трактат его же авторства «О священной болезни» написан будто бы совсем другим человеком. В нем уже нет почти ни слова о сперме, а есть разработки настолько разумные, что крупнейший авторитет нейрологии XX века Уайлдер Грейвс Пенфилд публично признал их «изумительность и по сей день».
Puto, что здесь не помешает полная цитата из речи Пенфилда на Детройтском конгрессе нейрофизиологов:
«…Описание функции человеческого мозга, которое можно найти в его книге, в разделе „священной болезни“ (sacred disease) (эпилепсии), является поистине изумительным и по сей день. Совершенно ясно, что Гиппократ использовал симптоматику и проявления эпилепсии как руководство к познанию функции мозга, подобно тому, как Хьюлинг Джексон делал это много лет спустя, и подобно тому, как мы пытаемся это сделать сегодня» (Penfield W. G., 1957).
Возможно, Пенфилд чуть-чуть и перебрал с восхищением (он был вообще очень щедр на похвалы), но некая научная здравость и ясное понимание главенствующей роли мозга в трактате, безусловно, содержится.
Впрочем, этот трактат особого впечатления на современников и ближайших потомков Гиппократа не произвел. Его безрезонансность в античной науке не объяснима, но очевидна.
Это особенно странно, учитывая чуткость древних греков на всякую гениальность и умение развивать блестящие идеи до общемировых масштабов. Впрочем, безразличие современников и потомков имеет, вероятно, весьма прозаическую причину: во времена Гиппократа трактат или был еще неизвестен, или имел совершенно иное содержание. Следует помнить, что авторство всех трудов Гиппократа является вообще очень спорным; все его трактаты подверглись позднейшим впискам, редактированию или искажениям. Масштабы вписок сегодня установить невозможно, равно как нет и возможности понять, какой текст является подлинным, а какой – существенно более поздним.
Позже на интересующую нас тему появились милые экзерсисы Платона и Аристотеля, но их мы опустим и сразу перейдем к Клавдию Галену (200–130 гг. до н. э.) и его «гидравлической модели» головного мозга. (Эту модель иногда ошибочно приписывают Немезию, жившему в IV веке н. э.)
Ergo, Гален.
В начале новой эры все находилось на примерно прежних позициях. За мозгом признавалось некое значение, но оно было непонятно и скорее укладывалось в «наивные» формулировки Гиппократа.
На этом неярком фоне, при полном отсутствии любых научных догматов и интереса к вопросу – у Клавдия Галена была полнейшая свобода, как исследования, так и импровизации.
Илл. 3 a-b. Слева: рисунок Леонардо да Винчи, иллюстрирующий теорию «трех желудочков». Справа: рисунок из книги Петра из Розенхейма (сборник гравюр, XVI в.)
Сегодня достаточно трудно сохранять серьезность, перечисляя его важные соображения о роли желудочков мозга и намета мозжечка.
Но серьезность необходима.
Теория Галена о том, что собранная рецепторами информация перерабатывается в «передней полости» мозга в некое «чувство ощущения мира» на протяжении почти четырнадцати веков полностью удовлетворяла немногих интересующихся вопросами разума и мышления.
Она стала догмой для сверхузких научных кружков и без малейшего сомнения повторялась даже гениями Возрождения, включая Леонардо да Винчи (Илл. 3 a-b).
«Все медики настолько доверяли Галену, что среди них не было, наверное, ни одного, кто мог бы допустить, что в сочинениях Галена может быть или уже обнаружен хоть малейший промах в области анатомии» (Vesalius A. De Humani Corporis Fabrica, 1604).
Гален также полагал, что различные «сложные» функции (суждение, размышление и опознание) размещаются в некоем «среднем» желудочке, а память и моторные побуждения – в «заднем».
Абстрагируясь от анекдотизма этих рассуждений, мы тем не менее видим некую странную и кривую, но все же попытку познания структур и иерархии мозга.
«Странность и кривизна» попытки, puto, объясняются отнюдь не глупостью Галена, но заставляют совершенно по-иному взглянуть на все «достижения» античной анатомии по части церебральных исследований.
Все нейроанатомические гипотезы и представления Галена ставят под огромное сомнение как его личную секционную практику по этой теме, так и наработки тех, кого принято считать его учителями, анатомов III–I веков Герофила (Herophilus), Руфа Эфесского (Rufus Ephesius), Марина (Marinus), Цельса (Celsus), Нумезиана (Numesianus), Аретея (Aretaeus), Ликоса (Lyсos), Марциала (Martialis), Гелиодора (Heliodorus) et cetera.
Понятно, что имея хотя бы минимальный опыт правильного секционирования мозга, было бы невозможно прийти к тем выводам, которые Гален сделал догмой науки на 14 веков.
Дело в том, что тщательно описанной Галеном горизонтальной последовательности почти равновеликих «полостей» в мозге человека не содержится.
Вероятно, не только анатомы александрийской и других школ, но и сам Гален не имели возможности досконально изучать головной мозг человека. По одной простой причине.
Свежий мозг очень тяжело подвластен ножу, так как местами имеет почти полутекучую консистенцию. При разрезании его структуры, что называется, «заплывают» и сливаются, лишая анатома возможности увидеть отграничения и другие нюансы церебральной архитектуры.
А возможности «сгустить» (зафиксировать) ткани мозга, сделать их пригодными для аккуратной и сложной резки еще не было.
Формалин, этил, двухромокислый калий – не были известны анатомам эпохи Галена. А это именно они придают структурам мозга ту «плотность» и даже некоторую «резиновость», которая и делает возможным ювелирное секционирование, отделение структур друг от друга и тончайшие срезы.
Да, как известно, Клавдий Гален мог подвскрыть живую овцу, обнажить ее сердце и провести мерный и обстоятельный урок с демонстрацией работы перикарда. С мозгом такие фокусы тоже были возможны, причем как на овцах, так и на умирающих гладиаторах или рабах, но с возможностью лишь внешнего осмотра открытого органа, не более.
При любой попытке прорезаться чуть глубже мягкой и арахноидной оболочек такого мозга – начинается обильное закровавление операционного поля, а ни вакуумных, ни иных аспираторов (кровоотсосов) еще изобретено не было. Плюс к этому, при анатомировании живого мозга сохраняются все проблемы, актуальные при работе с нефиксированным препаратом, т. е. «растекание» структур.
«Со снятием мягкой оболочки мозг сильно раздается и, совершенно опадая, несколько расплывается» (Vesalius A. De Humani Corporis Fabrica, 1604).
Было бы ошибочно полагать, что у анатома II века не было проблем с трупным материалом. Нет, они были, так как жара и расстояния обессмысливали для науки практически любую смерть. Учитывая тот факт, что мозг деформируется и разлагается быстрее любого другого органа, произвести его грамотное и бережное изъятие из мозгового черепа было невозможно уже через несколько часов.
Неслучайно свои основные изыскания Гален делал в сполиариях[2] цирков, изучая тела павших или еще агонизирующих гладиаторов и бестиариев[3]. Склонившись над очередным телом, Гален, несомненно, видел в кровавом месиве из волос, осколков черепа и обрывков dura mater осклизлую пульсирующую кору мозга и, вероятно, именно там впервые коснулся ее рукой или ланцетом.
Вот тогда-то, под глухой рев трибун, в смраде гладиаторской мертвецкой и родилась нейроанатомия.
Гален, первым из ученых, признал за мозгом функцию управления всем человеческим организмом и склонился перед ним.
Впрочем, глубокие структуры мозга так и остались для него анатомически неприступны и, соответственно, не изучены.
В тех описаниях, где Гален подробно останавливается именно на строении мозга, нетрудно заметить преобладание чисто внешних наблюдений: правильно описан мозжечок и vermis[4] мозжечка, твердая и мягкая оболочки. Верно подмечена герифицированность[5] полушарий, глубина борозд, наличие серпа, мозжечкового намета.
Словом, все, что можно осязать голыми пальцами.
Есть у него, правда, и попытки посмотреть чуть глубже, но они ограничиваются той частью мозолистого тела и комиссурой, которые можно разглядеть, прорезавшись по линии сагиттальной борозды мозга, разделяющей полушария, и некоторыми наблюдениями за теми стволовыми формациями, что открываются при простом вырезании мозжечка.
Подозрения о том, что абсурдность выводов Галена о внутреннем строении мозга была вызвана невозможностью его полноценного исследования, косвенно подтверждаются еще и тем, что все остальные его изыскания, связанные с устойчивыми к разложению и плотными органами, реестрированы очень недурно.
Как анатом, Гален демонстрирует страстность, последовательность и серьезность.
Некоторые описания мышечных и фасциальных тканей, костей, сухожилий и даже суставных сумок (с поправкой на неполноту и наивность) можно и сегодня воспринимать почти всерьез. Предложенная им техника трепанаций по тем временам вполне пристойна, а почти точное описание блуждающего нерва вызывает даже восхищение.
Впрочем, чем дальше мы будем продолжать список открытий и серьезных разработок Галена, тем более будет контрастировать с ним его «церебральная мистификация».
Puto, что Клавдий Гален Пергамский, отступив перед сложной, субстанционально капризной анатомией мозга, просто подменил ее своей личной фантазией. Другого объяснения возникновению странной легенды о трех горизонтальных полостях я предложить не могу.
Обман Галена, repeto, благополучно просуществовал до 1543 года, когда, наконец, по прошествии почти тысячи четырехсот лет был разоблачен анатомом Андреасом Везалиусом в его труде «De Corporis Humani Fabrica», впервые показавшем точную картину мозга человека.
Получив точные анатомические данные о геометрии и структурах мозга, наука должна была бы отозваться чем-то чрезвычайно здравым.
Первым отозвался Рене Декарт (Картезий), предложивший в первой четверти XVII столетия «диоптрическую модель мозга». Здравость этой модели была равна фантазиям Клавдия Галена, но символом интеллектуальных дерзновений той эпохи стала голова Декарта.
Похоронен Декарт был без нее. Его череп был посмертно распилен ровно на 100 кусочков. Все сто кусочков были вправлены в касты ста больших перстней, украсивших пальцы ста картезианцев – фанатиков идеи о «духах», которые проникают в мозг и, отразившись в полостях желудочков мозга, воздействуют на «нервные моторные пути».
Именно отсюда, кстати, пошло «учение о рефлексах». Стереотипные реакции позже получили свое название именно благодаря декартовским «отражающимся» духам (refractio – отражение).
Картезианская версия просуществовала, впрочем, не так долго.
Уже в самом начале XIX века анатом Франц Йозеф Галль (1758–1828) попытался картировать мозг, педантично разделив кору его полушарий на сектора, каждый из которых (по мысли Галля) концентрировал в себе частицу «высших функций».
Илл. 4. Английская карикатура на Франца Иозефа Галля и его учение о черепах. По литографии Роуландсона.
Галль (по его мнению) обнаружил места локализации «хитрости», «поэзии», «остроумия», «запасливости», «дружбы», «надежды» et cetera (Илл. 5 a-b).
Его идеи некоторое время были очень популярны и даже вытеснили декартовских «духов».
Ceterum, популярность была несколько декоративной и касалась не сути теории, а ее сателлита – «френологии», предполагавшей возможность узнавать по форме выпуклостей черепа «свойства нрава и ума».
Илл. 5 a-b. Картирование по методу Галля
Похоронен Галль, разумеется, был без головы, которая по воле покойного была отделена до панихиды, чтобы не рисковать нежной субстанцией мозга, предназначенной для изучения и, разумеется, картирования.
Ad verbum, Галль, конечно, перещеголял Декарта, завещав не только череп, но и мозг «науке», но этим завещанием он поставил в крайне неловкое положение часть своих родственников. Это были простодушные люди, которые пришли на обычные похороны, и которых никто не предупредил о некоторой экзотичности ситуации. На процедуре прощания с телом, желая запечатлеть на челе покойного прощальный поцелуй, они, вероятно, испытали некоторое замешательство в поисках его лба.
Разработки Галля, которые сегодня кажутся такими наивными, впоследствии спровоцировали уже настоящий научный поиск мест динамической локализации некоторых функций мозга.
Ergo, первые же исследователи (сегодня так располагающие к иронии по их поводу), тем не менее, фундаментировали часть основных положений нейрофизиологии: исключительную роль мозга, рефлекторику, локализацию функций. Определенный успех, конечно же, был налицо. Но очевидным был и факт поразительного общего равнодушия человека к вопросу функций и строения мозга, к природе собственного сознания и разума.
Поясняю.
За две с половиной тысячи лет, что прошли от Гиппократа до Галля, над решением задачи (exempli causa) комфортизации обуви потрудились, вероятно, десятки тысяч людей, прежде чем обувь стала такой, какую знаем мы.
Нюансировка особенностей всех видов косметики, от брачной до погребальной, в совокупности потребовала не меньших усилий, чем обувные изыскания. Этим вопросом, тоже, по всей вероятности, занимались тысячи человек.
Совершенство оружия, архитектура, прически, механизмы, развлечения, законы, кулинария – мобилизовали, по самым скромным предположениям, сотни тысяч умов. По всем этим, да и по множеству других позиций, люди проявляли феноменальную находчивость, упорство, страстность и непреклонность, исследуя, экспериментируя, изобретая и совершенствуя.
За тот же период времени (от Гиппократа до Галля) вопросом происхождения и природы мышления озаботились четверо. Даже если мы удвоим это число (так как я не коснулся менее значительных попыток исследования мозга: Ч. Белл, Г. Прохазка, М. Холл, Ф. Мажанди), то цифра все равно останется ничтожной.
Это сопоставление показывает как подлинный вес проблемы, так и ее минимальную важность для человечества.
Понятно, что общее решение всех вообще вопросов, заключающееся в известном мифе о богах и их воле как определяющем факторе, подменяло и вытесняло даже саму потребность в любом реальном исследовании и знании.
Opportune, не следует полагать, что традиция «неведения о мозге» и полного равнодушия к «загадке» генерации разума, мышления и интеллекта была характерна лишь для египетской цивилизации.
Отнюдь.
В поисках самого простого примера заглянем в книгу, которая почти две тысячи лет весьма категорично очерчивала круг интересов homo.
Я имею в виду Библию.
В тридцати девяти книгах «ветхого завета», в четырех «евангелиях», «деяниях апостолов», «посланиях» и «откровениях», в полном соответствии со скрупулезно-натуралистическим стилем этих сочинений, многократно упомянуты основные анатомические органы, физиологические субстраты и жидкости.
Вот справка по количеству их упоминаний:
Живот, или «чрево», упоминается 105 раз; женские половые органы (лоно) – 19 раз; челюсти – 19 раз; язык – 40 раз; рвотные массы – 5 раз; костный мозг – 2 раза; ноги – 295 раз; кровь – 326 раз; сперма (семя) – 7 раз; руки – 522 раза; моча – 8 раз; печень – 14 раз; сердце – 925 раз; фекалии – 24 раза; спина – 13 раз; глаза – 477 раз; ноздри – 12 раз; гной – 4 раза; зубы – 54 раза; слезы – 40 раз; груди – 21 раз; шея – 28 раз; колени – 37 раз; желчь – 12 раз; область бедер (чресла) – 92 раза; почки – 8 раз; рот – 32 раза; уши – 176 раз.
В меньших количествах, но упоминаются: ногти, пот, ляжки, череп, сальник, соски, язык, щеки, слюна, послед, месячные, желудок, полостной жир, пенис (уд, стегно).
Единственный орган, который ни разу ни в каком контексте не упоминается в Библии – это головной мозг. О нем нет речи не только как о генераторе разума и мышления, но даже как о простом анатомическом субстрате. В своеобразной реальности «ветхого» и «нового» заветов – мозга просто не существует.
Открытие Чарльза Дарвина обрушило бога (богов) и отчасти разорвало очерченный Библией круг интересов и приоритетов. Как следствие, зародилась уже настоящая, научная нейрофизиология, которая и не могла возникнуть раньше дарвинизма, так как в ней не было никакой необходимости. До появления дарвиновской теории «разгадка разума» и не требовалась, так как не существовало «загадки разума». Все было совершенно ясно, так как вера в любую разновидность сверхъестественного автоматически предполагает то, что применительно к нашему вопросу я бы назвал «трансляционизмом».
Поясняю.
Secundum naturam, здесь я буду вынужден утрировать. Но не для того чтобы посмеяться, а лишь из желания предложить схему более понятную и яркую.
Что такое «трансляционизм»?
Это простейшее и очень удобное представление о мышлении как о мистическом и изначально непостижимом акте. Физиологический субстрат мозга или другого органа в нем выступает лишь как «приёмник» чувств, мыслей или желаний, порожденных где-то «вне» этого субстрата.
Анаксагор (500–428 гг. до н. э.) рассматривал бога как «бесконечный самодвижущийся ум, и этот ум, который находится в любом теле, и есть действенная причина всех вещей».
Сократ (469–399 гг. до н. э.) воспринимал любую «идею» как материализацию мыслей бога.
Спиноза (1632–1677) понимал мышление человека как проявляемый в нем атрибут опять-таки бога, а его ум – как один из «модусов бесконечной мысли».
Шеллинг (1775–1854) полагал, что причина всего в человеке – это следствие проникновения в него некоего «бесконечного и вечного ума».
Орфические и Элевсинские мистерии, оказавшие такое влияние на всю философию Античности, были, по сути, ритуализацией вхождения в человека мыслей богов.
Еще более отчетливые, чем у философов, примеры прямого трансляционизма можно найти в любом без исключения религиозном сочинении.
Мы, для примера, возьмем хрестоматийные строки Аврелия Августина:
«И вдруг я услышал голос, звучащий то ли снаружи, то ли внутри меня, мой ли собственный, а возможно, и не мой – не знаю» (Блаженный Аврелий Августин, епископ Гиппонский. Монологи, 1998).
Secundum naturam, список образчиков такого рода можно было бы продолжать до бесконечности, начав с Заратустры, продолжив Жанной Д’Арк, легионами «святых», жрецами вуду и шаманами Зауралья. Различные религии, разумеется, предлагают различные характеристики того, что я здесь обозначил как «трансляционизм».
К примеру, христианская теология именует это явление как «естественное откровение».
«Откровение божественное, проявляющееся через сотворенную Вселенную и природу» (Мак-Ким Д. Вестминстерский словарь теологических терминов, 2004).
Здесь возникает существенная трудность: использовать теологические характеристики невозможно, т. к. вне контекста религиозных убеждений они абсолютно ничего не означают.
А попытки характеризовать эти представления с помощью научной терминологии – сразу уводят тему в банальную психиатрию.
Puto, уход в область терминов сугубой патологии не вполне верен. Он огрубляет суть дела и, отмаркировав все сочным термином «галлюциноз», уже не позволяет добросовестно проникнуть в исследуемый вопрос.
Вполне возможно, что применительно к переживаниям и убеждениям Августина, Бернара Клервосского, Жанны Д’Арк, Иоанна Богослова, Заратустры – понятие «императивная истинная вербальная галлюцинация» более чем справедливо.
Но помимо этих персонажей, мир населяли миллиарды относительно здоровых людей, которые тоже были уверены, что мысли (или их часть) имеют мистическое происхождение, «посылаются» или «внушаются».
Смешение этих двух неравновеликих групп, маркировка их одним и тем же термином тем более неуместна, что вербальные галлюцинации – это очень серьезный симптом. Они невозможны на «ровном месте» (без сопутствующих глубоких патологий), что полностью подтверждается авторитетным клиническим материалом.
С. М. Корсунский (иссл. 1936 г.) указывает, что «слуховые галлюцинации отражают более высокий уровень поражения, чем все остальные галлюцинации». О. М. Гуревич и М. Я. Серейский (иссл. 1937 г.).
«В прогоностическом отношении слуховые галлюцинации менее благоприятны, чем зрительные». А. В. Гиляровский в своем труде «Учение о галлюцинациях» (1936 г.) констатирует: «Зрительные галлюцинации выражают первичную патологическую реакцию мозга, а слуховые – указывают на более тяжелую патологию (глубокое поражение)».
E supra dicto ordiri, мы имеем дело с парадоксом:
Образцы мышления, полностью или частично подпадающие под определение «патология», становятся эталонными для огромного количества людей, таких патологий не имеющих.
Более того, сам способ мышления через «получение мыслей и чувств» считается самым естественным и почетным.
В разные эпохи и в разных религиях это обстоятельство имеет разную эмоциональную окраску, но в любом случае мышление человека не считается самостоятельным процессом, и чем оно менее самостоятельно, тем более велика его «духовная» и общественная ценность.
Классика антропологии здесь предлагает свое, как мне кажется, взвешенное объяснение этого парадокса.
Люсьен Леви-Брюль (1857–1939) в своих трудах исследовал интересующее нас явление на живом материале дикарей Океании, Центральной Австралии, Новой Гвинеи и иных народов, сохранивших первобытную стилистику мышления, и сделал выводы, объясняющие происхождение «трансляционизма».
«Первобытный человек чувствует себя окруженным бесконечным количеством неуловимых существ, почти всегда невидимых и всегда страшных: часто это души покойников, всегда это множество духов с более или менее определенным личным обликом» (Леви-Брюль Л. Первобытное мышление, 1930).
Естественно, эта «окруженность», эта переполненность мира вокруг первобытного человека невидимыми, но очень реальными для него существами предполагала и некий воображаемый вербальный контакт с ними.
Чем меньше было знание о мире, тем больше страсти и воображения вкладывалось в этот контакт. Чем сложнее или трагичнее были обстоятельства, тем он казался важнее.
Позже этот контакт стал основой простейших религиозных форм, но был унаследован и всеми без исключения развитыми религиями и мистическими учениями, в которых был подвергнут эстетической и литературной обработке, а из них «переполз» и в часть бытовых мироощущений.
Можно заглянуть в любую страну, в любую эпоху – и везде все эталоны миропознания, все высокие образчики мыслей и чувств – являют собой чистейший трансляционизм «божественного» происхождения.
Достаточно посмотреть на этимологию слова «вдохновение», которое имеет более точный латинский аналог «inspiratio», т. е. «духовхождение».
Примеры Августина, волхвов, Ноя, Кассандры, Лютера, Кришны, друидов, Иова, Рамы, Иоанна Богослова, жрецов Дельфийского храма, Моисея, апостолов et cetera доказывают, что все мало-мальски достойное и просветленное в мыслях человека есть плод некой трансляции, принять которую тот был удостоен в соответствии со своей избранностью и волей «транслятора».
Через эти эталоны и нормальному человеку было предложено простое, удобное и чрезвычайно лестное объяснение всех загадок того, что происходит в его черепе.
Как мы видим, homo на него согласился без всяких колебаний.
При этом ярко окрашенные и пафосные галлюционные сеансы (вымышленные или подлинные) оставались уделом избранных, почти недостижимым идеалом, а всем прочим доставались трансляции более скромного свойства.
Логично предположить, что какая-то часть «трансляций», т. е. «греховные и грязные» мысли и чувства, оставалась в компетенции демонов, дьявола, чертей, злых духов, бесов, суккубов или богов с отрицательным амплуа, вроде Аримана, Люцифера, Кали, Апопа, Фурий, Сета, Локи, Ангро-Майнью, Эриний, Гейрреда еt cetera.
Исчерпывающие обоснования и пояснения таких трансляций задокументированы в знаменитом труде двух профессоров богословия Якоба Шпренгера и Генриха Инститориса «Malleus Maleficarum» (1487 г.):
«Если спрашивается, каким образом дьявол может производить такую иллюзию чувств, не причиняя боли в голове, то ответ легок. Во-первых, дьявол не дробит органов и не меняет их сущности, а лишь приводит в движение образы» (Sprenger J., Institoris H. Malleus Maleficarum)[6].
* * *
Такая схема мышления, ставшая рутинной и общепринятой, категорически исключала всякие «загадки возникновения мыслей», а особенности органа, который принимает «трансляцию», не казались столь существенны, чтобы его тщательно изучать.
Мозг был просто «приёмником», не более того.
Посему исследования Гиппократа, Галена или Декарта – особого интереса и не вызывали. Их концепции о желудочках или отражающихся духах воспринимались как экзотичное умничанье, способное увлечь, в лучшем случае, сотню эстетов.
С Галлем, который «пришел» в эпоху обрушения мифа о боге (а вместе с мифом треснул и начал рассыпаться трансляционизм), все было несколько иначе. Его учение вызвало живейший интерес просвещенного общества и даже стало модным.
Достойно упоминания, что в середине XX века, когда мозг был уже вчерне изучен, а среди его свойств не было обнаружено базовой для мифологистов «связной» функции, адепты трансляционизма стали искать другой орган мышления, т. е. другой приёмник, способный принимать сверхъестественные сигналы.
Отнюдь не самой крупной, но очень «знаковой» фигурой среди «поздних трансляционистов» был лауреат Сталинской премии по медицине, хирург и епископ В. Ф. Войно-Ясенецкий – «Лука» (1877–1961), в своем итоговом труде написавший буквально следующее:
«Сердце не только определяет наше мышление, но как это ни странно покажется всем, считающим непреложным учение об уме как органе мышления и познания, именно сердце, по священному писанию, мыслит, размышляет и познает. ‹…›
Как это ни сомнительно для неверующих, мы утверждаем, что сердцем можно воспринимать вполне определенные внушения, прямо как глаголы божии» (Войно-Ясенецкий В. Ф. Дух, душа и тело, 2003).
Пример «Луки» является и ответом на вопрос, отчего великие анатомические открытия Сильвия, Везалиуса, Фаллопия, Аренция, Варолия, Фомы Велизия, Жана Риолана et cetera, пришедшиеся на XVI–XVII века, не могли тогда ничего изменить в странной судьбе познания человеком своего мозга.
Само по себе формальное постижение анатомии (как мы можем удостовериться на примере «хирурга и епископа») еще не страхует от любых экзотических и вненаучных убеждений.
Трансляционизм всегда предпочтет идею знанию. Даже имея под рукой не только анатомические атласы XVI века, но и труды И. Павлова, и нейронную теорию Сантьяго Рамон-и-Кахаля, трансляционист, ради сохранения своей иллюзии, легко проигнорирует и то, и другое, и третье.
Ad verbum, Войно-Ясенецкий, по сути, развивает те кардиоцентрические представления о местоположении души и разума, которые изложены в «Молоте Ведьм» Шпренгера и Инститориса: «На это можно ответить, что основное место пребывания души – в середине сердца, откуда она сообщает жизнь всем членам тела. Примером служит паук, который, сидя на паутине, чувствует прикосновение со всех сторон» (Молот ведьм. Ч. 2, Гл. 9).
Opportune, и в XIX, и в XX веке, помимо приведенного выше примера, уже параллельно научной нейрофизиологии зародились психологические и эзотерические учения, целиком или частично основанные на идеях соучастия в мышлении некой силы «вне» субъекта мышления.
Характерным образчиком позднего трансляционизма стала вюрцбюргская школа и ее последователи – А. Майер, И. Орт, А. Мессер и пр.
В отличие от ранних (Я. Шпренгер (1436–1495), Г. Сковорода (1722–1794)) или поздних «кардиоцентристов» с их незатейливыми формулировками, «вюрцбюргцы» понимали необходимость оформления трансляционистских представлений в научной терминологии и очень неплохо справились с этой задачей.
Puto, обостренное наукообразие «вюрцбюргцев», «гештальтцев» et cetera имело целью прежде всего дистанцироваться от другого фланга трансляционистов, представленного в лице эзотерички Е. Блаватской и ее последователей.
Впрочем, эти вопросы достаточно отдалены от цели настоящего исследования.
Я был обречен на этот тяжелый экскурс лишь для объяснения непременного недоумения о том, почему время рождения подлинной нейрофизиологии мы вынуждены отсчитывать именно от эпохи Дарвина.
Secundum naturam, «эпохой Дарвина» я маркирую весь тот блестящий сонм больших и малых ученых, полностью изменивших представление homo как о себе самом, так и о мире.
Илл. 6. Ч. Дарвин
(Если дробить эпоху на персоналии, так еще неизвестно, кто окажется «дарвином» в большей степени – сам сэр Чарльз Дарвин, или гений реальной геологии Чарльз Лайель (1797–1875), или же заслуживший прозвище Бульдог Эволюции анатом и антрополог Томас Генри Хаксли (1825–1895), или «первый системный эволюционист» Герберт Спенсер, или многие другие.)[7]
Сам сэр Чарльз Дарвин, как известно, был очень робок и за свои открытия не хотел и не умел воевать.
Если бы не блистательная плеяда ученых, сплотившихся вокруг него, то проламывать дарвинизму дорогу сквозь стены мистицизма и «традиционной науки» было бы попросту некому.
Ergo, во второй половине XIX века, сквозь дыру, которую Чарльз Дарвин так застенчиво проделал на месте бога, уже отчетливо виделась очевидность животного происхождения человека и его эволюции.
В связи с этим «священный трансляционизм» уже казался смешон, и мышление обрело статус величайшей загадки.
Эти слова могли бы быть очень эффектной точкой как в самом предисловии к исследованию, так и в «истории вопроса». Но, к сожалению, эффектность и академичность находятся в давнем и серьезном конфликте.
Я все же выберу путь академичности и прежде чем приступлю непосредственно к самому исследованию, в двух словах очерчу историю современной нейрофизиологии.
(Дело не в почтении к «великим теням», а в необходимости уточнить некоторые положения и нюансы.)
Илл. 7. Краниометрические точки лицевого и мозгового черепа homo: 1 – bregma; 2 – metopion; 3 – glabella; 4 – nasion; 5 – rhinion; 6 – prosthion; 7 – infradentale; 8 – pogonion; 9 – gnathion; 10 – mentale; 11 – gonion; 12 – mastoideale; 13 – inion; 14 – opisthokranion; 15 – lambda; 16 – asterion; 17 – porion; 18 – auriculare; 19 – orbitale; 20 – dakryon; 21 – stephanion
Илл. 8. Dura mater
Итак, приоткроем череп по линии от глабеллы к лямбде (Илл. 7).
Мы еще не увидим мозг, он скрыт dura mater – оболочкой, которую на ощупь можно уподобить очень сырой и толстой пергаментной бумаге (Илл. 8).
Вступая на «территорию мозга», которая начинается уже с этой первой оболочки, необходимо понимать, что перед нами всего лишь недурной образчик биологической логичности и точности, не более.
Некоторой запутанности, небрежности, «вымученности» анатомической конструкции, обычной для любого эволюционного организма – нет и в помине. По крайней мере, на первый взгляд.
Но мы хорошо знаем и постоянно видим редкостный цинизм эволюции, которая всегда довольствуется простой жизнеспособностью, никогда не доводя свое творение до совершенства.
А уж непосредственно homo, с его набором (примерно) в триста распространенных болезней, с его изначально дефективным позвоночником и зубами, нелепым устройством глаз, кишечника и родовых путей – один из превосходнейших образцов этого свойства эволюции.
Ceterum, ее цинизм легко понять.
Совершенство недопустимо, так как одна из важнейших задач любого организма – вовремя умереть, освободив место для организма последующего. Биологическое (или иное) совершенство могло бы помешать выполнению этой важной функции или существенно затруднить ее.
К тому же, понятие «совершенство» – всегда нелепо применительно к промежуточному, этапному варианту. А согласно логике неостановимой эволюции – любой вариант является промежуточным и этапным.
Увы, и мы с вами являемся расходным, экспериментальным материалом эволюции, а реплики про «венец творения» – это не более чем поэтическая шалость, основанная на незнании банальных фактов (exempli causa) инвагинации в кишечнике или образования ректовагинальных фистул.
(Данные примеры неслучайны. Они – прямое свидетельство именно «конструкционных просчетов», а не травм или иных чрезвычайных обстоятельств.)
Это, конечно, очень печально, но в дурную компанию «этапных вариантов» вместе с нами, согласно эволюционной логике, попадает и наш головной мозг.
Но пока оставим эту тему.
Вернемся к нашей dura mater.
Под ней, отграниченные «щелевидным» субдуральным пространством, располагаются еще две оболочки. Арахноидная и мягкая. Под ними – кора головного мозга. Плотноватенькая субстанция общей площадью (примерно) 2200 см2, толщиной 3–6 мм, имеющая 5–7 слоев.
Общепринятым является спорное утверждение, что многочисленные борозды и извилины коры – это следствие усилий эволюции по размещению структуры такой большой площади в очень маленьком объеме мозгового черепа.
Как правило, приводится пример с большим листом бумаги и маленькой рюмкой. (Чтобы затолкать лист в рюмку, его следует кардинальным образом смять, и через это действие получить представление о происхождении борозд и извилин коры головного мозга.)
Puto, что это представление неверно.
Опровержение его не стоило бы времени и усилий, если бы оно изначально не внушало ложных мыслей о морфогенезе коры, а тем самым – и о ее роли.
Илл. 9. Кора больших полушарий (по Синельникову)
Достаточно сделать парочку хороших коронарных или аксиальных[8] срезов на препарате мозга, чтобы убедиться в том, что кора, скорее, напоминает глазурь, неравнотолсто разлитую по подготовленному сверхсложному рельефу и, соответственно, рабски повторяющую этот рельеф (Илл. 9).
Стоит вглядеться в особенности шпорной борозды (sulcus calcarinus), в область клауструма, капсул, в конфигурацию клина или поясной извилины et cetera, чтобы сделать все выводы о старшинстве структур, а тем самым – и о природе борозд и извилин.
Кора, строго говоря, к ним имеет очень мало отношения. Она лишь «выращена» на всех поверхностях этого невероятного рельефа. Адресация к ней как к высшей инстанции по всем вопросам церебральных «таинств» не совсем понятна, так как даже один маленький пример с «глазурью» выдает в коре лишь инструментарий более глубоких и древних структур мозга.
Кора сакрализована большей частью нейрофизиологических школ, так как содержит те проекционные и ассоциативные центры, которые, собственно, и позволяют вам сейчас прочесть эти строки и понять их смысл. По этой, да и по многим сходственным причинам поклонение коре давно уже стало общим местом.
Очарованность корой понятна, закономерна и полезна, но только в том случае, когда она не мешает видеть истинные механизмы работы мозга. Конечно, вопрос в трезвости взгляда.
Сeterum, стоит вспомнить, что даже с такими титанами физиологии, как И. П. Павлов, сакрализация коры сыграла очень злую шутку, отчасти обессмыслив его исследования процессов торможения.
Если полагать, что человеческий интеллект со всеми его нюансами – это цель и венец эволюции, то поклонение коре надо продолжить.
Если есть желание увидеть чуть более реальную ситуацию, то, вероятно, стоит обратить внимание на следующие доводы и факты.
Интеллект, это, бесспорно, полезное и крайне значительное для самого вида homo явление. (Более того, это единственный инструмент, который смог обеспечить данному виду выживание.)
Самому человеку интеллект сейчас представляется осью, на которую нанизываются не только частные, общественные и исторические понятия, принятые внутри его вида, но даже законы природы и космологические реалии.
Эта иллюзия является даже еще более «плотной» и навязчивой, чем в свое время была иллюзия бога. Она порождает существенные переоценки этого, в общем-то, микроскопического явления, реальный возраст которого едва ли превышает 5–8 тысяч лет.
Будем откровенны, занятные электрохимические процессы в 56 разновидностях нейронов коры и других структур головного мозга – это всего лишь одно из явлений природы, не слишком значительное даже в сравнении (к примеру) с фотосинтезом, не говоря о таких глобальных явлениях, как (например) гравитация.
Это прекрасный, важный, но и настораживающе хрупкий процесс, не имеющий ни дублеров, ни запасов прочности. Эволюционный ресурс его, мягко говоря, неочевиден.
Естественно, он более сложен, чем просто межклеточное взаимодействие, так как предполагает еще и структурное взаимовлияние различных отделов (клеточных массивов): зон, функций, формаций и центров мозга, возбуждающих или тормозящих связи клеток.
Весь этот процесс намертво привязан к сверххрупкому биологическому субстрату мозга и к его идеальному физиологическому функционированию.
Повреждение субстрата ведет к неминуемым повреждениям продуктов физиологического процесса, в том числе разума и мышления. Гибель субстрата гарантирует прекращение всех процессов и, соответственно, окончание выработки всех продуктов.
Примечательно, что и мышление и интеллект не являются прямым следствием работы механизмов мозга и не являются «врожденным» и наследуемым свойством мозга человека.
Даже сверхидеальное функционирование всех церебральных систем само по себе не образует ни мышления, ни интеллекта. Для образования обеих этих позиций требуются искусственно созданные, достаточно сложные внешние обстоятельства.
Если эти обстоятельства отсутствуют (мы подробно будем разбирать этот вопрос далее), то мышление и интеллект не генерируются, мозг продолжает выполнять только свои прямые функции, которые примерно тождественны у всех высших млекопитающих животных.
Интеллект человека как явление, как один из продуктов работы мозга, repeto, несомненно, драгоценен для нашего вида. Но лишь для него одного.
Его исчезновение вообще не может иметь никакого значения, влияния или последствий для мироздания, как не имело никакого значения его несуществование еще 10 тысяч лет назад.
Предполагать наш интеллект целью и высшей точкой эволюции, как видите, не слишком логично.
Впрочем, эту иллюзию можно было бы «оставить в живых», если бы она не затрудняла понимание естественной, прежде всего, возрастной иерархии механизмов мозга.
Ceterum, вернемся к истории познания коры и иных церебральных структур.
В дарвиновскую и постдарвиновскую эпохи юная нейрофизиология вдохновлялась смежными точными науками – и попала, судя по всему, под обаяние геологического гения Чарльза Лайеля (1797–1875).
Тогда общее развитие мозга объяснялось «как результат добавления в процессе филогенеза последовательных нервных уровней» (Мэгун Г. Бодрствующий мозг, 1965).
Теория получила название «геологической», или «горизонтальной». Если несколько огрубить ее основной постулат (для краткости пересказа), то эволюционное формирование мозга можно уподобить некоему наращиванию горизонтальных слоев, подобно тому, как это происходило в земной коре.
Примерно на этом этапе в истории нейрофизиологии возникает демоническая фигура Хьюлинга Джексона (1836–1911), разрывающего данную концепцию изнутри.
Начав, вместе с Людвигом Эдингером (1855–1918) и Гербертом Спенсером (1820–1903) как «геологист», Джексон первым начал воспринимать мозг со всеми нюансами его архитектуры не как горизонтальную, а как системную иерархию, как сложное, но логичное взаимодействие зон. Как выяснило время, догадка (а это была именно догадка) Джексона была точна.
Ее точность тем более удивительна, что значение большинства зон и структур на тот момент было еще не познано.
Ceterum, это было уже «кое-что».
Естественно, следующей за горизонтальной была вертикальная, «эмбриологическая» модель познания мозга, отцами которой в равной степени являются как сам Джексон, так и эмбриолог Карл фон Бэр (1792–1876).
Бэр писал: «Если мы проследим за ходом развития, то отчетливо увидим, что из гомогенного и общего постепенно возникает гетерогенное и специфическое. Что касается направления такого развития, то на каждом данном этапе видно, что оно идет от центра к периферии, у эмбриона прежде всего закладывается средняя часть, а затем развиваются все остальные» (Baer K. E. Über Entwicklungsgeschichte der Thiere, 1828).
Puto, именно эти трезвые и квалифицированные наблюдения Бэра, дерзкие догадки Джексона, разработки и открытия Поля Брока (1824–1880), Карла Вернике (1848–1905), И. М. Сеченова (1829–1905), В. М. Бехтерева (1857–1927), существенно дополненные новыми открытиями в эмбриологии, нейроанатомии и гистологии, детонировали создание теории о неспецифической ретикулярной системе как о предполагаемой основе активности мозга, а возможно, и вообще как о ключе к научному постижению церебральных процессов.
(Впрочем, данная теория вобрала в себя много качественных открытий. Вбирание было диалектичным, т. е. контрконцепции порой привносили в теорию больше, чем исследования сторонников.)
Деликатные, но относительно зрелые формулировки теории принадлежат профессорам Джузеппе Моруцци (1910–1986) и Горацио Мэгуну (1907–1991).
«Внутри мозга была выделена центральная область, осуществляющая взаимодействие между теми ограниченными сенсорными или моторными системами, рассмотрением которых занималась классическая нейрология. Было обнаружено, что этот центральный ретикулярный механизм способен ослаблять или усиливать активность большинства других частей мозга» (Мэгун Г. Бодрствующий мозг, 1965).
Как-то само собой произошло слияние «ретикулярных идей» и «теории центрэнцефалической интеграции», автором которой был гениальный нейрохирург, нейрофизиолог и нейроморфолог, канадец Уайлдер Грейвс Пенфилд (1891–1976).
Илл. 10. У. Г. Пенфилд
Именно ему и принадлежит наиболее хладнокровная, но вместе с тем и наиболее категоричная формулировка теории: «Совершенно очевидно, что мозг должен иметь центральный координирующий и интегрирующий механизмы» (Пенфилд У. Г. Речь и мозговые механизмы, 1959).
Ceterum, очевидность того, что раздражениями ретикулярной формации вызываются резкие изменения электрохимической активности обширных зон коры никем и никогда не оспаривалась, опровергнуть этот факт не удалось даже самым радикальным критикам центрэнцефализма, равно как и наличие системы афферентов, которая оказывает генерализованное воздействие на кору, по сути, управляя ее работой. Не подвергалась сомнению и схема того, как именно это происходит: совокупность двухсторонних кортикопетальных и кортикофугальных[9] связей соединяет все зоны коры головного мозга с верхними отделами мозгового ствола. Эта система динамирует импульсы по кольцевым орбитам – от ствола мозга к коре больших полушарий, а от них – к стволу.
Напомню, что «вывод Пенфилда» основан на экспериментах, в которых производилось сочетание электростимуляции с электроэнцефалографией и стрихнинной нейронографией, с последующей электрографической записью реакции мозговых структур, на исследованиях разрядов эпилептического возбуждения во время операций на мозге больных эпилепсией, на клинико-лабораторных анализах последствий хирургического удаления различных участков мозга человека. (Я позволил себе закавычить выражение «вывод Пенфилда» исключительно на том основании, что данная трактовка лишь олицетворяется Уайлдером Грейвсом, но на самом деле является результатом труда нескольких нейрофизиологических школ и очень большого коллектива выдающихся ученых.)
Эпоха «ретикулярной теории», а пришлась она на 60-е годы XX века, страстями и масштабом фигур почти напоминала «дарвиновские 60-е».
На странный, но отчетливый зов нейрофизиологической «истины» потянулись сотни гистологов, анатомов и физиологов со всех континентов. Забылись конфликты и взаимные кляузы. Вчерашние враги «во науке» публично братались на Детройтском конгрессе 1957 года, где 36 докладов, один другого блистательнее, казалось бы, со всей ясностью прочертили дальнейший путь нейрофизиологии.
Но… теория «сеточки»[10] (reticulum) так и заглохла, оставив после себя лишь десяток больших имен и сотню (примерно) прекрасных трудов по «ретикулярной формации». Никакого существенного продолжения не последовало.
Ретикулярная теория, в отличие от всех прочих теорий работы мозга, требовала еще большей четкости и дерзости в формулировке своей основной идеи.
А эта идея уже была не в компетенции чистой нейрофизиологии, она была значительно обширнее и сложнее. Она напрямую касалась происхождения человека, его не вполне понятных скитаний по временным просторам эволюционного пространства, его места в мире и во Вселенной.
Дело в том, что ретикулярная теория – это, конечно, редкий по своей концентрированности «чистый эволюционизм», в качестве наглядного пособия использующий человеческий мозг. Более того, в ней содержится понимание того, что, exempli causa, сознание есть «простая» биологическая функция, неизбежно порождаемая теми древнейшими отделами мозга, которые сложились еще в палеозое.
Это не означает, что ретикулярная теория претендовала на некую «истину». Отнюдь.
Но она посягала на разрушение стереотипов о принципах работы мозга и должна была бы внятно сформулировать хотя бы свои посягательства.
Увы, она промолчала. У «сеточки» был «коллективный Дарвин», но не было своего «Хаксли».
(Пенфилд, бывший формальным лидером слившихся «ретикулярной» и «центрэнцефалической» теорий, не годился на эту роль, он был слишком рефлексивен, рафинирован и отчасти слишком «растворен» в той самой научной среде, которая, принимая доказательную базу теорий, не могла смириться с неизбежно порождаемыми ею выводами.)
Сверхдобросовестные, талантливые, точные разработки А. Бродала, Дж. Росси, А. Цанкетти, К. Киллама, Г. Мэгуна, У. Д. Ноута, А. Уорда, Г. Джаспера, А. Ардуини, Г. Бишопа, Дж. Д. Френча, Д. Линдсли, сэра Дж. Джефферсона et cetera – были (при всем их блеске) лишь «технической документацией» ретикулярной теории. А вот движение вперед эта масса первосортного научного материала могла бы совершать только на плечах понятно высказанной и очень ярко конфронтационной идеи.
Но идея не сформулировалась. И погасла.
Ретикулярной теории, чтобы развиться, не хватило общественных проклятий, ненависти научной среды, осмеяния в прессе и, возможно, судебных процессов. (Именно эти факторы обычно мобилизуют и вооружают серьезные идеи, провоцируют их на движение и победы.)
Но, увы, мир в те годы был еще зачарован наукой и, не вникая, самым трепетным образом принимал все, что она порождала. Западной научной среде не хватило проницательности и элементарного понимания того, что творится на нейрофизиологическом Олимпе.
Лишь в недрах АН СССР, АМН СССР и АПН РСФСР недобро зашевелились советские академики, почуявшие угрозу для царствующей в СССР идеи «павловской рефлекторики».
Проф. Н. Н. Дзидзишвили назвал взгляды Пенфилда «неадекватными». «Точно так же ошибочно утверждение, будто ретикулярная формация является высшим интегративным органом, чуть ли не вместилищем сознания, как это допускают некоторые зарубежные ученые. Такое неадекватное обобщение было сделано, например, известным канадским ученым Пенфилдом» (Дзидзишвили Н. Н., 1960).
Проф. А. А. Меграбян: «…Выдающиеся открытия в области нейрофизиологии, к сожалению, приводят Пенфилда и др. к идеологически неправильным выводам. Согласно этой концепции, высшим центром сознания человека, регулирующего его поведение, является подкорковая зона, включающая в себя ретикулярную формацию» (Меграбян А. О природе индивидуального сознания, 1959).
Проф. А. Р. Лурия отчитал Пенфилда прямо на страницах своего программного трактата: «Данные изыскания сразу же обнаруживают полную беспомощность их авторов и фактически ставят их вне положительной науки» (Лурия А. Мозг человека и психические процессы, 1964).
Проф. В. Н. Мясищев, С. А. Саркисов, П. К. Анохин et cetera подхватили осудительный тон, но и у них, как и у Лурии, Меграбяна, Дзидзишвили и пр., для детонации масштабного скандала, увы, не хватило возможностей и авторитета; они не были расслышаны «большой» (мировой) нейрофизиологией – и все снова затихло.
Necessario notare, что не только ретикулярная, но и ни одна из всех вышеперечисленных теорий не давала (да и не пыталась дать) ответа на вопрос о происхождении и механизме мышления.
И у этого факта тоже есть несколько причин.
Причина первая – это сознательная «запертость» светил нейрофизиологии в своем мире, где правила диктуются радикальным академизмом, не допускающем «дерзостей и обобщений».
По традиции этого мира, все происходило, происходит и может происходить только в небольшом, жестко очерченном кружке доказанных фактов. Всякий, кто сделал шаг из этого кружка, оказывается ultra limites factorum, т. е. за пределами науки.
Вторая причина – такие теории и гипотезы, как (к примеру) происхождение мышления или интеллекта вообще не имеют никакого отношения к задачам нейрофизиологии или нейроанатомии[11].
Эти две причины органически сливаются в одну монументальную догму, которой, вероятно, и руководствовались в своем молчании на «главную тему» Х. Джексон, У. Пенфилд, Г. Мэгун, Ч. Шеррингтон, Дж. Экклс, В. Хесс et cetera.
Это, безусловно, очень красивая и очень верная позиция, но в результате мы имеем:
Нейрофизиология не создает теорий мышления просто потому, что это «неакадемично». А философия и «психология» не могут их создать, потому что для этого требуются глубокие знания структур и функций мозга, которыми не располагают и не могут располагать ни философия, ни «психология», т. к. они не являются ни «точными», ни «науками».
Puto, более удачно и деликатно сформулировал эту мысль проф. В. Д. Глезер: «Однако в настоящее время эта область (мышление) исследуется преимущественно психологией и философией, которые занимаются не выяснением нейрофизиологических механизмов мышления, а соотношением тех категорий, которые сами являются результатом мыслительного процесса» (Глезер В. Д. Зрение и мышление, 1985).
У нас, в России, все было, на первый взгляд, несколько грустнее, так как не было ни конкуренции идей, ни конфликтующих или сливающихся теорий.
Иван Петрович Павлов, занявший нейрофизиологический «престол» в СССР, правил этой наукой столь авторитарно и ревниво, что почти на полвека парализовал ее, вынуждая обслуживать лишь собственные, весьма значительные, но и весьма спорные разработки.
Легионы адъюнктов, доцентов, кандидатов, профессоров и аспирантов маршировали по строго указанным маршрутам, старательно затаптывая все (по мнению Павлова) «ошибочное», «лишнее» или просто не вполне согласующееся как с «рефлекторной», так и со «второй сигнальной» гипотезами Ивана Петровича.
Exempli causa, была «разгромлена» и, по сути, объявлена «вне науки» школа В. М. Бехтерева (1857–1927). С 1930 года не только ученики Владимира Михайловича не имели возможности проводить изыскания или публиковаться в СССР, но и на любое переиздание фундаментальных трудов самого Бехтерева был наложен негласный, но четко исполняющийся запрет. Причем речь идет не о спорных текстах времен «заката Бехтерева», а прежде всего о тех работах, что стали основой мировой нейрофизиологии – «Проводящие пути спинного и головного мозга» и «Проводящие пути мозга». Лишь в 1954 году, через двадцать семь лет после смерти В. М. Бехтерева, был выпущен сборник его мелких статей, не имеющих принципиального научного значения, а капитальные, важнейшие труды – стало возможным переиздать лишь в 1994 г. (спустя 70 лет!) Этот пример не единичен: мировая «основа основ» нейрофизиологии, классический труд нобелевского лауреата 1932 года Ч. С. Шеррингтона (1857–1952) «Интегративная деятельность нервной системы» (опубликованный в Англии в 1906 году), смог быть переведен и издан в СССР лишь в 1969 году, когда Иван Петрович был уже давно в могиле, а влияние «павловцев» существенно ослабело. Труды лауреата Нобелевской премии 1906 года Сантьяго Рамон-и-Кахаля (1852–1934), автора нейронной теории, нейрогистолога, чьи разработки считались и считаются в мировой науке основополагающими и строго обязательными при изучении мозга, на русский язык так переведены и не были, и, соответственно, ни в СССР, ни в России вообще никогда не издавались. (Лишь в 1985 году издательством «Медицина» была выпущена минимальным тиражом «Автобиография» С. Р. Кахаля). Павловской школой долго и аккуратно блокировались любые переводы и издания трудов нобелевского лауреата 1963 года нейрофизиолога Джона Кэрью Экклса (1903–1997); лишь в 1971 году на русском появляется сокращенный вариант «Тормозных путей центральной нервной системы». Таких примеров можно привести множество, причем не только в отношении относительно современных авторов, но и по части очевидного запрета переиздания таких классиков нейрологии и физиологии, как Брока, Вернике, Фогт, Вирхов, Мержеевский, Хаксли, Джексон, Магнус и пр.
Илл. 11. И. П. Павлов
Илл. 12. В. М. Бехтерев
Маршировка, конечно же, дисциплинировала научные коллективы, а тысячи публикаций (развивавшие павловские гипотезы или выстроенные на их основе) создавали иллюзию торжества и расцвета нейронауки.
Но!
Как мы помним, Нобелевская премия была присуждена Ивану Петровичу исключительно за его открытия в области физиологии пищеварения.
Его исследования в области мозга, рефлексов и «второй сигнальной системы» мировая нейрофизиология восприняла более чем скептически.
Н. Клейтман (Kleitman N. Sleep and Wakefulness, 1939), У. Гент (Gantt W. H. Experimental Basis for Neurotic Behavior, 1944), Р. Лоукс (Loucks R. B. Reflexology and the Psychobiological Approach, 1937; An Appraisal of Pavlov's Systematization of Behavior from the Experimental Standpoint, 1933) – были насмешливы, но еще деликатничали, а вот Лиделл и Фултон в своем втором издании «Физиологии нервной системы» вердиктировали следующее:
«Хотя павловская теория была критически дискутирована физиологами (Howell, 1925; Baritoff, 1924), ее влияние на физиологию было почти ничтожным, и в настоящее время она представляет только исторический интерес» (Fulton J. F., Liddell H. S. Physiology of the Nervous System, 1943).
На самом деле вся эта критика (как и любая другая), несмотря на авторитетность, не стоила и ломаного гроша. История науки знает примеры отвержения и непонимания самых гениальных теорий.
Подлинная значимость «павловских рефлексов» и «второй сигнальной системы» прояснилась, скорее, на примере сторонников и последователей Павлова в европейской науке. (Или тех, кто считал себя таковыми). В качестве примера могу напомнить Е. Хилгарда и Д. Маркеса (Hilgard E. R., Marquis D. G. Conditioning and Learning, 1940).
Приняв рефлекторную теорию и имея возможность свободного ее развития и обсуждения, Хилгард и Маркес вынуждены были ее деноминировать. Были удалены всякие упоминания про «учение о высшей нервной деятельности» как претенциозные и ничем не подтвержденные.
Осталась лишь «теория условных рефлексов», которая, в контексте больших нейрофизиологических открытий науки, оказалась достижением весьма скромным и спорным.
Она не была признана ложной или ошибочной, отнюдь.
Просто – «весьма скромной», т. е. любопытной, но никуда не ведущей и основанной на не вполне «чистых» экспериментах.
Дальнейшая ее судьба интереса не представляет. Заняв свое место в строю второстепенных теорий[12], «условнорефлекторная» не оказала никакого влияния на магистральные разработки мировой нейрофизиологии и, соответственно, забылась.
Тем не менее Павлов был действительно гениален. Его итоговая ошибка не умаляет его огромных достоинств и не зачеркивает значительнейших исследований и разработок, которые он делал «по пути» к «условным рефлексам» и «второй сигнальной».
В 1932 году, смятый и потрясенный первой же западной критикой, Павлов пишет:
«Прежде всего я должен валовым образом, т. е. пока не входя в подробности, заявить, что такой беспощадный приговор над рефлекторной теорией отрывается от действительности, решительно, можно даже сказать, как-то странно, не желает брать ее во внимание. Неужели автор рискует сказать, что моя тридцатилетняя, и теперь с успехом продолжаемая работа с моими многочисленными сотрудниками, проведенная под руководящим влиянием понятия о рефлексе, представила собой только тормоз для изучения церебральных функций? Нет, этого никто не имеет права сказать. Мы установили ряд важных правил нормальной деятельности высшего отдела головного мозга, определили ряд условий бодрого и сонного состояния его, мы выяснили механизм нормального сна и гипнотизма…» (Pavlov I. P. Psychological Review, 1932. Vol. 39. № 2).
К приведенному им перечню своих заслуг, puto, необходимо добавить и его уроки жесткого неприятия любых методов «психологии» при исследовании кортикальных или общецеребральных механизмов, открытия в области блуждающего нерва, иррадиации, иннервации кровеносной системы и огромное множество мелких, но важных разработок.
Павлов напоминает титана-кладоискателя, который в поисках «волшебного ларца» от края и до края вскопал огромное поле нейрофизиологии.
Для Ивана Петровича таким кладом была «рефлекторная» и «вторая сигнальная» теории. Ларчик он, разумеется, обнаружил, но тот оказался (скорее всего) не имеющим особой ценности. Но вот в процессе раскопок было найдено множество драгоценных для нейрофизиологии мелочей, вполне пригодных для того, чтобы обеспечить титану бессмертие и благодарную память.
Но все же основной заслугой Павлова стали не эти мелочи, а глобальная и любопытнейшая ошибка со «второй сигнальной системой».
Именно эта ошибка и дала мировой нейрофизиологии ключ к пониманию некоторых важных особенностей мозга.
Вкратце напомню суть.
Мозг человека (по Павлову), в отличие от мозга других животных, имеет две сигнальные системы.
«Вторая» и генерирует «разум» и мышление.
Разумеется, столь радикальное отличие в функциях должно иметь нейроанатомическое и гистологическое обоснование.
По законам нейрофизиологии (в очередной раз подтвержденным опытами того же Павлова) никакая функция, тем более чрезвычайная, не может существовать без порождающего ее материального субстрата.
Igitur, необходимо обнаружить этот субстрат, делающий мозг человека уникальным в природе.
Рассмотрим, exempli causa, эхолокацию. (Данная функция, конечно, не может сравниться с такой «глобальной» способностью, как мышление, но допустима в качестве иллюстрации того, что любое чрезвычайное свойство мозга имеет в нем и особое анатомо-физиологическое обеспечение.)
Исследуем головной мозг типичного обладателя эхолокации, к примеру, дельфина (Delphinus).
Мы увидим, что это свойство, scilicet, не имеет никаких «мистических» или аномальных генераторов; его наличие обеспечивается всего лишь невероятно развитыми слуховыми центрами.
По сравнению с другими млекопитающими животными, не наделенными эхолокацией (в среднем и пропорционально), слуховой бугорок у дельфина больше в 5 раз, nucl. cochlearis ventralis – в 16 раз, nucl. olivaris superior – в 150 раз, nucl. lemnisci lateralis – в 300 раз, colliculus inferior – в 14 раз, corpus geniculatum mediale – в 8 раз. (Данные приводятся по: Зворыкин В. Морфологические основы и локализация восприятия ультразвуков, 1969; Оленев С. Конструкция мозга, 1987; Филимонов И. Сравнительная анатомия коры большого мозга млекопитающих, 1949..
Repeto, эхолокация не есть фатальная особенность, меняющая судьбу вида (как мышление), это всего лишь (barbare dictu) исключительная развитость слуха, присущая множеству живых существ: летучим мышам (Microchiroptera); крыланам; некоторым птицам (гуахаро, саланганам, совам); кротам (Talpidae); землеройкам; морским млекопитающим (из подотряда морских китообразных и тюленям (Phocidae)), а также всем тридцати пяти тысячам разновидностей Noctuidae, т. е. ночных бабочек.
Но как мы видим на примере Delphinus, для физиологического обеспечения эхолокации требуются многократные размерные разницы с аналогичными ядерными или иными формациями мозга других животных. Но даже и эти отличия (за которыми мы вынуждены признать статус «существенных») не образуют в структурах мозга неких «новых субстратов», а всего лишь компенсируют кардинальным усилением слуха бессилие зрительного аппарата, понятное в условиях ночных полетов, быстрого подводного или подземного перемещения.
Инфракрасное видение у змей, комаров и клещей; биолюминисценция рыб и насекомых, электроэнергетичность скатов, астроскопусов и угрей (Electrophorus electricus), так или иначе, но имеют отчетливый нейрофизиологический генератор, который нетрудно обнаружить. Exempli causa, у питонов инфракрасное видение обеспечивается дополнительным ядром тройничного нерва, «получающего нервные волокна от клеток ямкового органа, проекции которого осуществляются в nucl. paradontus» (Оленев С. Конструкция мозга, 1987); а у электрических угрей установлены кардинальные особенности блуждающего, лицевого и языкоглоточных нервов, возбуждающих электрореакции в латерально расположенных ячеистых органах (organa electricus).
Alias, любая неординарная способность основана на анатомической и физиологической неординарности нервной системы организма.
Вполне закономерен вопрос – насколько радикально должен отличаться генерирующий мышление мозг homo, содержащий недоступную всему остальному животному миру «вторую сигнальную систему», от мозга других животных?
Для того чтобы оценить это различие – необходимо, в первую очередь, обнаружить среди церебральных структур homo тот субстрат, делающий мозг человека уникальным в природе.
Яростный поиск этой уникальности привел к прямо противоположному результату: появилась существенная научная база обратных доказательств.
Уже к середине XX столетия стало ясно, что такого субстрата не существует, а теория о «второй сигнальной системе» имеет не больше научных обоснований, чем (к примеру) убеждение в существовании «души».
К концу XX века догмой нейрофизиологии становится понимание того, что:
«Отсутствие структурных и биохимических качественных отличий между мозгом человека и животных является объективно установленным фактом. ‹…›
Как это ни удивительно, но у человека морфологически не выделены принципиально качественные признаки, которые отличали бы мозг человека от мозга крысы, кошки или обезьяны» (Оленев С. Н., проф. Конструкция мозга, 1987).
Примерно то же самое, но еще жестче, лаконичнее и парадоксальнее высказал и Чарльз Скотт Шеррингтон в своем классическом труде «The Integrative Action of the Nervous System» (1906), объединив понятия «нейрофизиологический потенциал мозга» и «умственные способности»: «Принципиального разрыва между человеком и животным, даже в области умственных способностей, не существует».
Я очень не случайно выбрал цитаты именно из самых консервативных классиков нейроморфологии и нейрофизиологии: профессора С. Н. Оленева и лауреата Нобелевской премии Ч. С. Шеррингтона. Их труды «Конструкция мозга» и «Интегративная деятельность нервной системы» – это как раз те примеры радикального академизма, цитируя которые мы гарантированно не окажемся ultra limites factorum.
Здесь, вероятно, необходим краткий комментарий к скупым тезисам Оленева и Шеррингтона.
Сравнительно с мозгом многих крупных высших млекопитающих человеческий мозг действительно не имеет никаких уникальных или даже принципиальных особенностей, а имеет лишь геометрические отличия, обусловленные эректильностью человека и формой его черепа.
Под этими «геометрическими отличиями» я подразумеваю как простую размерную разницу, так и нюансы архитектуры мозга.
Может быть, именно эти нюансы являются существенным фактором? Они могут быть весьма и весьма значительны.
Помимо общего объема мозговой массы и ее линейных размеров – могут разниться (к примеру) ширины мозжечкового вермиса, размеры части нейронов, их плотность на мм3, объемы латеральных желудочков, цистерн, зубчатых ядер, хвостатого ядра, диаметры волокон пирамидного тракта, рельеф борозд и извилин, размеры гиппокампа, мозжечка et cetera, et cetera.
Сравнительно с другими крупными высшими млекопитающими эти разницы могут быть 2-3-5-кратными (в обе стороны)[13].
На первый взгляд, такие различия кажутся очень существенными. Возможно, они способны влиять на функции, а через них и на принципы работы мозга?
Ergo, рассмотрим эти «разницы» и установим степень их влияния.
Для этого необходим «препарат», на примере которого мы могли бы установить влияние различий мозговой архитектуры на функции мозга.
Чтобы анализ был корректен, требуется немногое: все подобные «разницы» должны быть заключены внутри одного вида, и мы должны иметь возможность отследить их влияние на поведение, размножение и выживаемость этого вида.
Такой «собирательный препарат» есть. Это – сам homo.
Мозг homo имеет невероятную как клеточную, так и геометрическую вариабельность размеров, пропорций и размерных соотношений всех мозговых структур.
Вот несколько примеров того, как значительно может отличаться мозг одного взрослого человека от мозга другого, в том числе и по самым «существенным» параметрам:
Объемы гиппокампа у homo варьируются от 520 мм3 до 1567 мм3; объемы зубчатых ядер мозжечка (nucleus dentatus) – от 167 мм3 до 424 мм3; объемы латеральных желудочков – от 15 см3 до 40 см3; поверхность коры височной (правой) области – от 150 см2 до 238 см2; вес мозжечка – от 67 г до 165 г; putamen – от 1447 мм3 до 5342 мм3; зрительное поле – от 2923 мм3 до 6157 мм3; линейные размеры по ширине – от 90 мм до 163 мм, а по длине – от 110 мм до 183 мм; количество нейронов в двигательном ядре тройничного нерва – от 5530 до 11 820; латеральное коленчатое тело – от 53 мм3 до 152 мм3; зубчатая пластинка – от 42 мм3 до 119 мм3; хвостатое ядро (nucleus caudatus) – от 2224 мм3 до 4560 мм3 et cetera.
(Данные сведены мною по нейроморфологическим таблицам проф. С. М. Блинкова (1964); «Атласу Мозга Человека» проф. С. В. Савельева (2005); по трудам проф. В. П. Зворыкина «Вариабельность размера неостратиума» (1982), «Индивидуальная изменчивость скорлупы мозга человека» (1983), «Новое в вопросе об индивидуальных особенностях латерального коленчатого тела человека» (1980); T. Bischoff «Das Hirngewicht Des Menschen» (1880); J. Davis «Contribution Towards Determining the Weight of the Brain in Different Races of Man» (1868); K. L. Beals, C. L. Smith, S. M. Dodd «Brain Size, Cranial Morphology, and Time Machines» (1984).)
Necessario notare, что все авторы вышеперечисленных трудов подчеркивают, что данные не включают образчики церебральных патологий, и что вариабельность параметров никак не привязана к общему размеру мозга.
Exemplum:
Гиппокамп максимального объема (1576 мм3) обнаружен в мозге массой 1346 г, а минимального объема (520 мм3) – в мозге массой 1400 г. Putamen объемом 1447 мм3 (минимальный) обнаружен в мозге массой 1420 г, а превышающий его в 3,7 раза (5342 мм3) – в мозге массой 1350 г (Савельев C. В., 2005; Зворыкин В. П., 1987).
Могут существенно разниться не только объемы и размеры, но и формы. Проф. Д. Н. Бушмакин (К вопросу о расовом изучении мозга, 1928) представил случаи существенных изменений форм IV желудочка. Проф. Т. В. Струкгоф (Типы некоторых образований mesencephalon и diencephalon, 1927) описывает разноформенность организации четверохолмия, латеральных и медиальных коленчатых тел и пульвинара.
Четверохолмие (lamina quadrigemina) может быть вытянутым как в длину, так и в ширину, иметь множество вариантов расположения бугорков, форма которых и сама по себе крайне изменчива – от полностью уплощенных до выпуклых.
Медиальное коленчатое тело (corpus geniculatum mediale) может быть как круглой, так и овальной формы или иметь форму «тонкого гребешка».
Пульвинар (pulvinar) может быть «пухл» и идеально гладок, а может быть абсолютно уплощен и щербат по краям.
Без особого категоризма, а лишь с некоторыми основаниями, но можно утверждать, что есть существенные отличия меж плотностью нейронов в некоторых областях височной плоскости (planum temporale) у мужчин и женщин.
Согласно исследованиям M. Habib, F. Robichon, O. Levrier, R. Khalil, G. Salamon (1995), у женщин в planum temporale нейрональная плотность на 11 % выше, чем у мужчин в той же зоне.
Для понятности того, сколь значительна по церебральным масштабам эта цифра, могу привести данные по таблице Чоу и Блюма (Chow Kao Liang, J.S. Blum, 1950), свидетельствующие, что 11 % – это разница в плотности нейронов на 0,01 мм3 в прецентральной извилине козы (Capra) и человека (homo). (Necessario notare, это разница в области прецентральной извилины, где плотность в принципе выше, чем в темпоральных областях.)
В качестве дополнительных примеров индивидуальной вариабельности можно привести и уже ставшие locus communis факты разниц общей массы мозга: Оливер Кромвель – 2000 г, А. Ф. Кони – 1110 г, Байрон Дж. – 2230 г, Эразм Роттердамский – 918 г, И. С. Тургенев – 2012 г, А. Франс – 1017 г, Ж. Кювье – 1861 г, И. Ф. Швейцер – 550 г et cetera.
Как мы видим на всех этих примерах, различия меж мозгом одного и другого человека можно признать крайне существенными по всем параметрам нейроанатомии.
Структуры разнятся по весу и объему в 3–5 раз, а общие размеры – порой более чем в 2 раза, а в сопоставлении «Байрон-Швейцер» – в 4 раза. Формы варьируются, гистологические показатели радикально отличаются.
Тем не менее никакого существенного значения эта вариативность не имеет. Ни для физиологической полноценности мозга, ни для его способности генерировать разум и мышление. (О разнице этих двух явлений я буду говорить позже, непосредственно в тексте исследования.)
Но в данном случае вопрос «мышления» и не мог быть ни решен, ни даже затронут, он значительно сложнее, чем простое доказательство сопоставимости структур и единого принципа их построения. Я говорил лишь о независимости функций мозга от любой, в том числе значительной вариативности.
Аккуратно «сняв кальку» с фактора изменчивости человеческого мозга, мы, в принципе, получаем известное право «наложить ее на ситуацию» с геометрическими отличиями меж мозгом человека и любого другого животного. (Даже в самом строгом смысле этого слова внутривидовые различия сопоставимы с межвидовыми[14].)
Это «наложение» выводит нас на подтверждение сухой догмы нейрофизиологии об отсутствии существенных принципиальных различий меж мозгом человека и животного и отчасти снимает вопрос геометрических и прочих отличий.
Ceterum, как только этот вопрос отчасти снят, ситуация становится еще тяжелее.
Все было бы значительно проще, если бы в мозгу человека был бы обнаружен «особый человеческий отдел», более никому в природе не присущий. Тогда можно было бы заключить, что именно этот отдел ответственен за генерацию мышления. Круг поисков и сомнений предельно бы сузился. Оставалось бы лишь основательно изучить этот отдел, чтобы наконец выработать хотя бы первоначальные трактовки таких явлений, как сознание, разум, мышление, личность и интеллект.
Новая кора (neocortex), как бы ни была она развита у homo, на роль уникального фактора тоже не годится.
Слишком понятна ее морфологически подчиненная, строго инструментальная роль и ее малая «самостоятельность».
Все процессы в ней находятся в прямой зависимости от факторов возбуждения-торможения, порождаемых совершенно иными структурами мозга. Ее активация – это прежде всего система ее связей с теми формациями, которые «дирижируют» этой активацией и относятся к сугубо древним образованиям.
Мозг – не месиво из древних структур, комиссур, лучистостей и желудочков, накрытых «умной» корой для обеспечения виду homo эволюционной карьеры, а очень логично и просто сформированный орган, имеющий жесткую эволюционную иерархию, в которой доминация коры невозможна по всей логике цереброгенеза.
Да, кстати, и «лидерство коры» головного мозга человека в животном мире – далеко не безусловно.
По богатству герификации, общей площади и, вероятно, связям – кора homo значительно уступает коре Elephas maximus (шри-ланкийский слон, масса мозга – 7475 г); Loxodonta Africana (саванный слон, масса мозга – 5712 г); Elephas indicus (индийский слон, масса мозга – 4717 г); Balaenoptera musculus (синий кит, масса мозга – 6800 г); Delphinapterus leucas (белуха, масса мозга – 2352 г); Phocaena (морская свинья, масса мозга – 1800 г) et cetera. (Данные прив. по таблице Каунта (1947) и по иссл. «Elephant brain» J. Shosani и др. (2006)).
Уязвимость гипотез об «индексе цефализации» (т. е. соотношении массы мозга и массы тела) и «рубиконе Валлуа» – мы рассмотрим чуть позже.
Подводя итог praefatio, мы можем констатировать, что имеем дело с достаточно любопытной задачей.
Нейроанатомические, нейрофизиологические и нейроморфологические данные однозначно свидетельствуют о том, что никакого особого «человеческого отдела» как анатомической структуры в мозгу homo не существует, как нет у человеческого мозга и никаких уникальных физиологических свойств. Это хорошо развитый, эволюционно оформленный под крупное прямоходящее существо мозг млекопитающего животного.
У него нет никаких особых «клеток разума», есть тот же самый набор из 56 видов нейронов, который есть и у крысы, и у кролика, и у слона.
Тем не менее не имея для этого никаких особых оснований, homo пока делает недурную эволюционную карьеру.
Его мозг обычного животного примерно 15–20 тысяч лет назад порождает речь, затем, на основе речи, начинает генерировать мышление (внутреннюю речь), а чуть позже, установив прочную речевую и графическую связь с другими особями своего вида, формирует некий коллективный интеллект (ingenium medium), которым может пользоваться почти каждый представитель вида homo и который становится основой человеческой цивилизации.
E supra dicto ordiri сложно воздержаться от предположения, что весь эволюционный процесс (применительно к активным формам жизни) – это в первую очередь история мозга, история усложнения и развития как самого мозгового субстрата, так и заключающейся именно в нем «биологической индивидуальности» и ее потребностей, а рост, воспроизведение, наследственность, изменчивость, прогрессия возрастания численности, борьба, отбор, дивергенция признаков и другие компоненты классического дарвинизма – лишь факторы, неизбежно сопровождающие и обеспечивающие это «развитие и усложнение». Такое предположение, fortasse, более логично, чем традиционная доктрина, но оно не имеет тех глубоких и удобных разработок, как классический эволюционизм, igitur, менее удобно как метод исследования. (Полагаю, что это неудобство временами будет ощущаться.)
В любом случае, основная и принципиальная проблема не решается как применением данной (цереброцентрической) гипотезы, так и с помощью «традиционного инструментария» теории эволюции.
Эта проблема заключается в том, что мы не можем и, fortasse, не сможем даже приблизительно установить «собственные координаты» в истории развития жизни.
Наше знание геохронологии, смены эр и эпох, происхождения млекопитающих, особенностей зарождения органической жизни – лишь позволяет разглядеть пройденный путь от некой «начальной точки», но оно не может подсказать, где именно сейчас находимся мы сами: в «середине», «второй трети» или вообще еще лишь в самом начале эволюционного процесса.
Цели, задачи и масштабы эволюции нам неведомы точно так же, как они были неведомы, exempli causa, аномалокарису (Anomalocaris), 500 миллионов лет назад плескавшемуся в горячем кембрийском море.
Количество догадок по поводу подлинной цели эволюции, конечно, делает нам честь, но никакой ясности, разумеется, не «привносит»; основываясь на эволюционной логике, мы лишь можем смутно осознавать собственную «промежуточность» и «этапность», но не более того.
Ad verbum, гипотеза о человеке как о «венце творения» могла бы обсуждаться только при наличии бесспорных данных о состоявшемся прекращении развития жизни, ароморфоза и эволюции в целом. Но таких данных на сегодняшний день не существует, и появление их не прогнозируется.
Ceterum, досадная невозможность вычислить реальную роль и местоположение homo в эволюционном процессе должна заботить и раздражать биологов; для решения нашей локальной и не слишком сложной задачи происхождения мышления и интеллекта homo это обстоятельство является не помехой, а скорее подспорьем, так как обеспечивает должный уровень трезвости как в отношении этого существа, так и его интеллекта.
Repeto, ни в малейшей степени не подвергая сомнению доктринальные положения дарвинизма, мы можем (учитывая специфику задачи) рассматривать известную нам часть эволюционного процесса прежде всего как начавшуюся 545 миллионов лет назад историю мозга, помня, что мозг homo – это лишь одна из страничек этой истории.
P. S.
Вероятно, необходимо сразу оговорить и жестко отграничить понятие «разум» от понятия «мышление», чтобы не возникало недоумений при чтении первой же главы данного труда.
Это несколько разные явления, имеющие, secundum naturam, одно происхождение, но разные механизмы.
Ceterum, попытка объяснения этих и им подобных нюансов и является предметом настоящего исследования.
Caput I
Lacuna nigra. Ранний homo. Условность классификации палеоантропов. De Rerum Natura и ее методы. «Врожденность совести» и «нравственного закона» как странная фантазия. Первая схватка науки и человечества (Оуэн и Хаксли). Гиппокамп обезьяны. «Поганая метла» как метод исследования. Индекс цефализации. Рубикон Валлуа.
Всемогущий стереотип провоцирует применение понятия «человеческий разум» лишь к образцам предельно краткой эпохи его относительного развития, совершенно упуская, что и кроманьонцы, и, более того, «неандертальцы», и «питекантропы» (homo neanderthalensis, pithecanthropus erectus, homo erectus) тоже обладали тем, что мы называем «разумом», и являлись его законными представителями на протяжении как минимум двух миллионов лет.
Аbsolute, эта огромная эпоха – одна из самых главных загадок человечества.
Нет никаких оснований «списывать» этот период, или закрыть на него глаза, или считать примерно восемьдесят тысяч поколений людей не представителями человеческого рода и разума.
Эти восемьдесят тысяч поколений болели, рожали, влюблялись, вожделели, ненавидели, радовались, смеялись, спали, плакали, ели, встречали, хвастались, крали, убивали, улыбались, глядя на рассвет, и боялись ночи, путешествовали, совокуплялись, завидовали, провожали, играли, мастерили свои каменные зубила, стонали, рыдали, надеялись, умирали, насиловали, теряли и находили. Все было.
Эмоциогенные зоны мозга, судя по той его конструкции, что отпечаталась на эндокраниумах homo erectus, были у них такими же, как и у нас.
И двенадцать пар черепных нервов, обслуживая мозг или выполняя поставленные им коммуникативные задачи, обеспечивали homo erectus такое же восприятие действительности, какое есть у нас.
Они так же видели, так же слышали, так же обоняли и осязали, получая такую же картину мира, как и каждый человек III, XIV или XXI столетий.
Преимущественно употребляя лишь термины «homo erectus» и «кроманьонцы», я, конечно, несколько упрощаю богатство и многообразие наименований жителей палеолита и неолита.
Secundum naturam, те два миллиона лет, что предшествовали зафиксированной человеческой истории (формально начинающейся с шумерской письменности), были населены homo, получившими в XIX–XX веках различные палеоантропологические номенклатуры.
Впрочем, никаких особых анатомических отличий внутри самих групп «homo erectus» и «кроманьонцев» (существенных для нашего вопроса) не было, а пестрота номенклатур чаще всего связана с местом обнаружения их останков, а не с какими-то экстраординарными особенностями.
Puto, что в качестве рабочих номинаций, объединяющих обе эти группы, будут вполне уместны обобщающие термины «палеоантропы» или же, что еще точнее, «ранние homo».
В такой слегка упрощенной классификации нет никакой вольности или легкомыслия.
Классики палеоантропологии М. Нестурх (1970), В. Якимов (1964), G. Simpson (1963), Herrman (1974), А. Зубов (1964) et cetera едины в мнении, что к «настоящим», т. е. эволюционно сформировавшимся людям должны быть отнесены архантропы, палеоантропы и неоантропы, которые могут быть обобщены в один род «homo» и одно семейство «hominidae».
(Все предшествующие им подвиды, такие как австралопитеки, парантропы et cetera рассматриваются исключительно как ископаемые антропоиды семейства «pongidae».)
Существует и более либеральная, не столь строго академичная точка зрения, согласно которой к семейству «hominidae» могут быть причислены все антропоидные формы, «имеющие тенденцию развития в человеческом направлении». Таково мнение В. Бунака (1966), М. Урысона (1969), Narier (1964), Harrison (1968), Weiner (1968), Novak (1969), Le Gros Clark (1967), Я. Рогинского (1977), М. Гремяцкого (1961), Piveteau (1976) et cetera.
Puto, параметры более строгого (первого) варианта являются предпочтительными в данном исследовании, так как именно они ограничивают время существования «настоящего» homo четким периодом в два миллиона лет, не допускают расширенных и вольных толкований такого неоднозначного понятия, как «человек», и ориентируются на более многочисленные и исследованные археологические находки.
Чуть позже я объясню, почему именно период в два миллиона лет я избрал как принципиально важный для решения вопроса о трансформации разума в мышление и организации интеллекта.
Да, ранние homo были несколько иными, чем мы, являющиеся их прямым продолжением.
(Продолжением не только физиологическим.)
Они не имели понятия о стыде или о ядерном синтезе, они не играли в «совесть» или в преферанс, не читали Монтеня или Хокинга. Они были достаточно обычными животными. Впрочем, на основании такого пустяка отказать им в праве называться «людьми» мы все же не можем.
(Как известно, согласно канонам современной классической зоологии, мы и человеку никак не можем отказать в праве классифицироваться как «животное».)
И мы не отказываем. Они – homo. Причем homo, символизирующие труднопредставимую по своей космической продолжительности эпоху, занимающую как минимум 99 % общей истории человечества.
Вообще-то, подобное соотношение можно считать критичным.
Я имею в виду соотношение т. н. интеллектуального и т. н. чисто животного периодов в истории homo.
Для большей отчетливости могу уточнить: «интеллектуальная» эпоха – это 200 поколений (если считать от шумерской клинописи), чисто «животная» – 80 000 поколений.
Считать «интеллектуальную» более характерной для рода homo мне представляется несколько легкомысленным. По математическим представлениям как раз наша «интеллектуальная» эпоха является всего лишь «погрешностью».
Ceterum, эти два миллиона темных лет все равно остаются загадкой, необыкновенно важной для раскрытия темы сознания, разума, мышления и интеллекта человека.
Не спорю, загадкой на первый взгляд крайне оскорбительной для современного человеческого достоинства.
Слишком уж необъяснимо долго, несмотря на наличие т. н. разума, человек был исключительно примитивным в своих проявлениях животным.
Проще забыть об этой загадке или замаскировать ее некой крайне неопределенной формулировкой – «доисторический период». Эта формулировка ничего не объясняет, ни к чему не обязывает. Просто хоронит под пустым и ложным термином «доисторический» основной период истории существования человечества, никак не объясняя, почему оно сперва (и так бесконечно долго) было таким, а потом стало другим.
Впрочем, в данном труде и палеоантропология, и история человечества – это весьма второстепенные материи, нужные лишь как вспомогательное средство для понимания законов развития разума, организации мышления, образования интеллекта.
Понимание этих трех совершенно различных явлений, вероятно, отчасти возможно благодаря имеющимся на данный момент открытиям в области нейроанатомии, физиологии, гистологии и в элементарной физике.
Теоретическая физика только на первый взгляд не имеет отношения к вопросу. На самом деле имеет – и самое прямое. И дело даже не в ее подлинном латинском имени. (Хотя и в нем тоже.)
Дело в том, что никто кроме нее не в состоянии предложить стилистику и методы мышления, необходимые для решения столь простого, но и столь запутанного вопроса, как наш.
Учитывая тот безусловный факт, что «ни в одной части живого организма не обнаружено каких-либо признаков действия каких-либо особых сил», все происходящее и в головном мозге и с головным мозгом может быть обобщено и понято только в контексте законов физики.
Да, и нейроанатомия, и физиология, и гистология – драгоценные дисциплины, но все они, по сути, есть филиалы De Rerum Natura, следовательно, подчинены ее правилам и требуют применения особого, принятого в ней метода мышления.
Образчики этого мышления, предельно организованного, но и невероятно свободного, мы видим не только у Эйнштейна, но и у Шредингера, Фейнмана, Планка, Хокинга.
Таких образцов более нет нигде, ни одна из наук не предлагает столь совершенных инструментов научного мышления, как это делает теоретическая физика.
Вероятно, это произошло потому, что именно она имеет дело с фактами и реалиями, не требующими вообще никакой деликатности, никаких поправок на чувства, никаких связей с надуманными понятиями типа «этики», «корректности» или «веры».
Возможно, эти понятия имеют определенный смысл, но они всегда блокируют интеллектуальный поиск. Именно физика наилучшим образом демонстрирует преимущества их полного отсутствия.
Opportune, высочайшие авторитеты De Rerum Natura весьма резко предостерегали от применения этих методов «вне физики».
Макс Борн (1882–1970):
«Мы должны также заботиться о том, чтобы научное абстрактное мышление не распространялось на другие области, в которых оно неприложимо. Человеческие и этические ценности не могут целиком основываться на научном мышлении».
Борн, в этой очень искренней сентенции, вероятно, руководствовался страхом причинить существенный вред имиджу человека, который под лупой науки выглядит далеко не столь величественно, как бы ему самому хотелось.
Виктор Фредерик Вайскопф (1908–2002) повторяет за Борном:
«Чувства без знаний неэффективны, знания без чувств – бесчеловечны».
И это тоже верно. И тоже очень метко.
Ну что же. Тем больше оснований применять эти методы.
Ergo, вернемся к теме разума палеоантропов.
Существенная переоценка и сакрализация понятия «разум» без всякого понимания, что же такое «разум» и чем он отличается от сознания, мышления и интеллекта, вносит в этот вопрос существенную путаницу.
Данное понятие (в его неверном, «пафосном» понимании) грубо контрастирует с образом существа, жизнь которого ничем, кроме совокуплений, голода, страха, пожираний друг друга и поиска падали, т. е. абсолютной биологической «животности», не была наполнена в течение (почти или более) двух миллионов лет.
Тем не менее, нет никаких веских оснований отказывать homo erectus в «разуме», если придерживаться не пафосного, а строгого научного понимания сущности этого незатейливого продукта работы головного мозга.
Repeto, человек уже встал на задние конечности и освоился на них, приобретя характерные особенности тазового пояса. Он уже освободил передние конечности и ими изготавливал некие орудия, отчасти компенсировавшие отсутствие у него полноценных клыков и когтей. Его мимическая мускулатура (судя по конструкции лицевого черепа) была богата и тонкоуправляема, т. е. это существо, несомненно, могло улыбаться.
При этом не следует забывать, что поедание самками homo своей плаценты (после родов) было, вероятно, такой же пищевой и поведенческой нормой, как и у прочих млекопитающих (Griffin D., Novick A. Animal Structure and Function, 1970).
Сомнения в разумности палеоантропов базируются на очень сильном желании современного человека дистанцироваться от этих существ и иметь с ними как можно меньше общего. Чувства понятные.
Наличие homo erectus в портретной галерее предков существенно девальвирует сияние нимбов, складки тог, кружева, латы и прочие аксессуары фамильных полотен человечества. Чертовски неприятно обнаружить, что блистательный ряд рыцарей, богов и философов начинается со стайного животного, специализацией которого была детритофагия[15] и каннибализм.
С «обезьяньим фактором» человечество, стиснув зубы, кое-как смирилось под натиском Дарвина, Хаксли и Геккеля.
Отстоящая на 8-10 миллионов лет некая теоретическая «обезьяна» (тогда еще было неизвестно имя dryopithecus proconsul major) являлась, конечно, очень болезненным обстоятельством, но, в силу своей абстрактности и временной удаленности, не таким постыдным, как совсем недавний «палеоантроп».
Opportune, настойчивость, с которой декларируется происхождение «человека от обезьяны», в принципе, не совсем корректна. Обезьяна – это не предок, а лишь «страница эволюционной биографии»; homo есть результат долгого эволюционного процесса, в котором, со времен протерозоя, в качестве «прямых предков» фигурировали самые разные организмы, от звероящеров до первых плацентарных.
Археология и палеоантропология сделали достаточно много, чтобы конкретизировать образ этого существа и стиль его жизни. Пришло понимание того, что не только физиологическая родословная непрерывно восходит к обычному животному (палеоантропу), но и моральная, вероятно, тоже. И столь же непрерывно.
Нomo erectus – это уже не абстрактная «обезьяна». Это – homo.
Данный факт ставит под сильное сомнение фактор врожденности «нравственного закона», «совести», «веры», «стыда» и других игрушек человечества.
Последним бастионом сопротивления реальности «низкого биологического происхождения» человека стало козыряние т. н. разумом.
Объявив себя единственными его обладателями на планете и отчасти неверно реестрировав его формальные признаки, люди не заметили, как в разряд тех, кто его категорически лишен, зачислили и собственных предков.
В качестве очень слабенького объяснения этому парадоксу была прочерчена некая демаркационная линия «до разума» и «после» него.
Сравнительно легко согласившееся на свое «обезьянье» происхождение человеческое сообщество было готово насмерть стоять за уникальность своего «разума».
Первая схватка человечества с наукой по этому вопросу произошла в то время, когда Чарльз Дарвин опубликовал теорию эволюции.
На стороне оскорбленного человечества выступил анатом, теолог и линнеевский кавалер сэр Ричард Оуэн (1804–1892).
Илл. 13. Р. Оуэн – английский зоолог и анатом.
Вспомните страсть, с какой он отстаивал наличие хотя бы некоторых анатомических различий меж мозгом животного и мозгом человека.
Оуэн был превосходным анатомом и понимал наличие крепчайшей связи меж любым свойством организма и анатомией.
Он понимал, что любое уникальное качество, любая исключительная функция должны иметь то или иное анатомическое воплощение. Без этого воплощения они остаются мифом столь же бездоказательным, как и миф о «душе».
Тогда поводом для его баталии с ранними дарвинистами стал гиппокамп, но этим поводом могло быть все что угодно, как позднее стала «полушарная асимметрия» или плотность веретенообразных нейронов.
На всякий случай напомню ту ситуацию: сэр Ричард Оуэн анатомировал мозг обезьяны и по каким-то трудно объяснимым причинам не обнаружил у нее гиппокамп.
(Существует две версии этого «необнаружения». Возможно, Оуэн просто солгал из самых лучших побуждений, надеясь своей подтасовкой спасти имидж человека как существа уникального. Но возможно, препарат мозга обезьяны, с которым он работал, просто был недостаточно «сгущен» двухромокислым калием, и структуры при секционировании смешались и заплыли.)
Так или иначе, но публичной реакцией самого Оуэна на «необнаружение» этой ключевой структуры мозга у обезьяны – было безудержное ликование.
Его чувства понятны.
Отсутствие гиппокампа у животных – серьезный фактор, принципиально меняющий всю архитектуру, функции и отчасти физиологию мозга. Если бы гиппокампа действительно там не было, картина мира была бы принципиально иной, а эволюционная теория была бы с позором низвергнута, так как наука оказалась бы перед фактом наличия двух кардинально разных типов мозга у млекопитающих животных.
(Оуэн, правда, делегировал гиппокампу человека функцию именно «вместилища души», а не разума, что, впрочем, с точки зрения теологии, т. е. «трансляционизма», – почти идентично.)
Воодушевленные «открытием» Оуэна, креационисты решились контратаковать дарвинизм.
Но Бульдог Дарвина – сэр Томас Генри Хаксли (1825–1895), блистательный анатом, антрополог, зоолог и тоже линнеевский кавалер – в качестве ответа Оуэну произвел публичное секционирование обезьяньего мозга – и продемонстрировал наличие в нем развитого гиппокампа, абсолютно сопоставимого с человеческим.
«Наконец, что касается до hippocampus minor, который назван „свойственным только человеку“, то мы видим, что и это образование так же ясно в мозгу у оранга, как и у человека» (Хаксли Т. Г. Начальные основания сравнительной анатомии, 1864. Лекция VI).
Т. Г. Хаксли, надо сказать, лишь подтвердил забытый анатомический догмат, сформулированный еще А. Везалиусом: «Хотя, заметим, в строении мозга обезьяна, собака, кошка и почти все четвероногие, каких я до сих пор видал, а также все птицы и большинство видов рыб, – почти сходны с человеком; и при вскрытии не встречается никакой разницы, которая заставляла бы устанавливать что-либо иное в функциях человека, нежели в функциях этих животных» (Vesalius A. De Humani Corporis Fabrica, 1604).
Илл. 14. Т. Г. Хаксли
Таким образом, человечество проиграло науке первую битву за анатомическую уникальность своего мозга. Контратака теологов на дарвинизм захлебнулась, а Хаксли написал:
«Я не ставлю своей целью унизить человеческое достоинство и не думаю, что это произойдет, если признать, что у обезьян тоже есть гиппокамп. Но мне хочется вымести поганой метлой человеческое тщеславие» (Huxley T. H. (1863/1901). Man's Place in Nature and Other Anthropological Essays).
Дело не в гиппокампе, упоминание о нем я сохранил в цитате лишь ради сохранения контекста. Ключевой и важнейшей фразой здесь все же будет «но мне хочется вымести поганой метлой человеческое тщеславие».
Мы можем с уверенностью предположить, что линнеевский кавалер, профессор Томас Генри Хаксли руководствовался отнюдь не презрением к роду человеческому. Он лишь трезво осознавал, насколько мешают реальному изучению человека любые иллюзии по его поводу.
У меня тоже нет никакого желания унизить человека.
Но нет и особого почтения.
Ceterum, существует такое количество исследований, авторами которых руководило безграничное уважение к человеку, что, я полагаю, не будет особой беды, если одно исследование обойдется без этого уважения.
Ergo, вновь вернемся к разуму и мозгу палеоантропов.
Дискриминация homo erectus в этом вопросе, по неким анатомическим признакам contra racionem и не выдерживает никакой критики.
Первым доводом дискриминации обычно служит так называемый индекс массы тела – массы мозга или, как его иногда называют, «индекс цефализации».
Существует стойкий стереотип, распространяемый научно-популярной литературой, объясняющий нынешнее умственное превосходство человека тем, что из всех живых существ он лидирует по индексу соотношения массы мозга к массе тела.
Но этот «индекс соотношения» (как универсальная категория) давно похоронен наукой.
Как известно, по данному индексу современный человек не попадает даже в первую десятку. По этому индексу его значительно превосходят и крысы, и мелкие приматы, и даже колибри. По данному индексу человек современный идентичен бурозубке (Sorex araneus) (Савельев С., проф. Происхождение мозга, 2005. Таблицы).
Вторым доводом дискриминации является утверждение, что разум возможен лишь в мозге, масса которого превышает 800 см3, а всякий мозг, не обладающий такой массой, полноценного разума генерировать не может.
Существует даже специальный термин – «мозговой рубикон».
В разных научных школах он варьируется.
К примеру, антрополог Ф. Вейденрейх установил его как 700 см3, анатом А. Кизс – 750 см3, антрополог А. Валлуа – 800 см3.
Общепринятым стал «рубикон Валлуа».
Теперь, вероятно, станет понятно, почему я взял эпоху именно в два миллиона лет: исключительно из желания соблюсти даже формальную точность деления истории человечества.
Дело в том, что именно два миллиона лет назад человек перешел т. н. рубикон Валлуа, то есть стал обладателем головного мозга, превышающего 800 см3.
Caput II
Микроцефалы и маленькие люди. Разница. Мозг Мотея. Реальные промеры черепов карликов. Реальные объемы их мозга. Иоганн Швейцер (Гельвеций). И. Борувлаский. Профессии маленьких людей. Полноценность их миниатюрного мозга. Дырки в сыре. Homo floresiensis. Эразм Роттердамский. Детритофагия и каннибализм homo. Решающая роль агрессий. Мрачная ирония судьбы homo. Агрессии. Лимбическая система. Порноиндустрия и каннибализм. Кондорсе.
Предрассудку о «нижнем пределе массы мозга» я вынужден посвятить целую главу, которая, как мне кажется, вполне способна выполнить роль могильщика этого заблуждения.
Она не имеет, на первый взгляд, отношения к разуму палеоантропов, но те выводы, которые мы можем в ней сделать, чрезвычайно пригодятся нам в самом скором времени.
Ergo, ранее предполагалось, что масса мозга менее 800 граммов не способна генерировать полноценный интеллект.
Традиционный взгляд на «малоголовость» был сформулирован еще в XIX веке проф. Л. Мануврие (1850–1927): «Микроцефалия есть аномалия вследствие остановки развития, главным образом, характеризуемая количественным недостатком содержимого черепа и вызывающая идиотизм» (Manouvrier L. Microcephalie // Dict. des sciences anthropologiques, 1896).
К. Фогт (1817–1895) характеризовал микроцефалию как «атавистическую формацию, которая происходит в частях свода мозга и которая влечет, как следствие, нарушенное эмбриональное развитие, которое возвращает человека по своим основным признакам к корню, из которого род человеческий возвысился» (Vogt C. Mémoire sur les microcéphales ou hommes-singes, 1867).
Р. Вирхов (1821–1902), П. Брока (1824–1880), Л. Грациоле (1815–1865), И. Мержеевский (1838–1908), Д. Анучин (1843–1923), С. Корсаков (1854–1900), Ю. Зандер (1838–1922) были не столь категоричны в оценке умственных качеств людей с мозгом, масса которого была в два или три раза меньше нормативной, но демонстрировали в своих трудах по меньшей мере скептицизм в отношении интеллектуальной полноценности «малоголовых людей».
Со времени этих оценок прошло более ста лет.
Хотя серьезных исследований на данную тему более не проводилось, но собрались и подытожились множественные любопытные факты, позволяющие ревизовать не только категоризм Л. Мануврие и К. Фогта, но даже и тот аккуратный скептицизм, который выражали И. Мержеевский, Р. Вагнер, П. Брока et cetera.
Как выяснилось, ситуация совсем не так однозначна, как она представлялась первым исследователям[16].
Существенной ошибкой, исказившей картину феномена «малоголовости», было то, что антропологи и психиатры XIX и начала XX веков не разграничивали настоящих микроцефалов и т. н. гипофизарных карликов.
И те и другие оценивались по формальному факту «недостаточности мозговой массы», хотя общая анатомическая разница меж этими двумя категориями «малоголовых людей» была, как правило, очень существенной.
Первым, кто обратил внимание на этот факт, был профессор С. С. Корсаков (1854–1900): «Микроцефалия значит буквально „малоголовие“. Но не всякое малоголовие может быть названо микроцефалией. У карлика голова очень мала, но это будет не микроцефалия, так как у него голова пропорциональна другим частям его тела; у настоящего же микроцефала голова необыкновенно мала именно по отношению к его телу» (Корсаков С. К психологии микроцефалов, 1894).
Примеры откровенного слабоумия, которые так любили приводить в своих трудах И. Мержеевский, К. Фогт, Р. Вагнер, относились исключительно к натуральным микроцефалам. Atque и в этом случае фиксация идиотии не была вполне корректной. Субъекты исследований, как правило, с момента своего рождения воспринимались как «обуза и уроды» и не получали ни воспитания, ни образования.
Более того, практически все случаи микроцефальной идиотии описаны на примерах «социально ничтожных» персонажей (беднейших солдатских сирот, пастушат, скотниц, сборщиков хвороста, храмовых попрошаек, пожизненных пациентов психиатрических лечебниц et cetera), т. е. обитателей тех сред, где воспитание и образование было негарантированно и при церебральной полноценности, а зримое врожденное увечье (микроцефалия) сразу переводило человека в разряд «бросового, убогого», которого не имело смысла учить ни речи, ни алфавиту, ни счету.
Scilicet, большая часть микроцефалов, вероятно, имела серьезные патологии мозга, но установить с точностью, когда идиотия (или ее видимость) была следствием структурных изменений мозга, а когда – простого одичания, необученности речи и банальному этикету, уже не представляется возможным.
Увы, в истории микроцефалов все перемешано и обобщено самым нелепым образом.
Absolute, есть примеры, когда мозг микроцефала был тщательно и квалифицированно описан.
Илл. 15. Мозг Мотея Воронежского (по Мержеевскому). А – дорзо-латеральная поверхность; В – дорзальная поверхность
И. Мержеевский (1838–1908) оставил не только описание мозга некоего Мотея Воронежского (ум. 4 мая 1870, объем мозга 369 см3, рост 154 см), но и приложил к нему рисунки, свидетельствующие о фантасмагорических патологиях обоих полушарий Мотея (Илл. 15).
(Даже беглого взгляда достаточно, чтобы заметить общую атрофацию извилин. Нижняя лобная (к примеру) не образует двух дуг, как это типично для развитого мозга homo, pars orbitalis ужасающе плоска, sulcus orbitalis едва обозначена, кзади от gyrus angularis – странное углубление, похоже на кистозную каверну.)
С. Корсаков (1854–1900) вкратце описал мозг микроцефалки Марьи Петровой из села Губино Можайского уезда и снабдил описание фотографиями (Корсаков С. Избранные труды, 1954. С. 243).
Такие случаи, увы, единичны.
Доктора Маршалл и Тейле, И. Мюллер, Ю. Зандер снабдили свои изыскания формальным топографированием микроцефального мозга, но рисунками себя не утрудили, что сделало проверку их наблюдений невозможной.
К. Фогт (1817–1895), так любивший обобщать, изучал мозг микроцефалов исключительно по гипсовым слепкам, что исключило точность выводов о наличии (или отсутствии) структурных патологий. При этом ни Фогт, ни Мюллер, ни даже Вирхов никогда не затрудняли себя подробным биографическим «портретом» микроцефала или окружавшего его социума. Основным и категорическим критерием была только масса мозга.
Следует отметить, что в тех случаях, когда «малоголовый» появлялся на свет в семье, способной обеспечить его развитие, мы имеем разительный контраст с описанной Вагнером и Фогтом «неизбежностью идиотии».
Антония Гордони (к примеру) была блестящей танцовщицей, музицировала, говорила, ориентировалась в персоналиях вокруг и географических названиях. Примечательно, что Антония являлась своего рода «рекордисткой» даже среди микроцефалов. Объем ее головного мозга составлял всего 289 см3. (Приводится по: Корсаков С. К психологии микроцефалов, 1894; Ireland W. W. Microcephaly // A Dictionary of Psychological Medicine, 1982. Vol. II)
И. Могилянский (1915) описывает жившую в начале XX века в Полтавской губернии Устинью Ялеху.
Судя по антропометрическим данным, которым И. Могилянскому удалось снять с У. Ялехи (высота лба: назион – 45 мм, офрион – 27 мм; межглазничный диаметр – 28 мм, «горизонтальная окружность» головы – 370 мм)[17], объем ее мозга примерно равен 350–450 см3.
Устинья практически не говорила, но досконально понимала все нюансы общепринятой речи и была предельно точна в выполнении сложных вербальных наставлений: «Ей можно поручить маленького ребенка и она бережно перенесет его повсюду, даже по бревну через речку и возвратится с ним домой». Могилянский отдельно отмечает исключительно добродушный нрав девушки, полное отсутствие конфликтности и еще ряд своеобразных черт: «Узнает знакомых, чувство вкуса развито, половой инстинкт отсутствует, менструаций никогда не было» (Могилянский И. Случаи микроцефалии, 1915).
Necessario notare, что в истории натуральных микроцефалов прецедентов, подобных Ялехе, предостаточно, а вот Антония Гордони является редким исключением.
С карликами, т. е. с «маленькими людьми», дело обстоит совсем иначе. Среди них так же трудно найти примеры слабоумия, как среди «больших» микроцефалов – относительную умственную полноценность.
Atque речь идет не о неких исключениях и строго частных случаях, а об отчетливо прослеживающейся закономерности на примерах поэта и мемуариста графа Йозефа Борувлаского, врача Иоганна Фридриха Швейцера (Гельвеция), дуэлянта, крайне искусного вора и придворного интригана Джеффри Хадсона (Лорда Минимуса), ювелира Вибранда Лока и множества других, не менее знаменитых гипофизарных карликов, которые имели полноценный интеллект при массе мозга от 350 до 650 см3.
Sane, сохранились условно достоверные сведения о параметрах мозга этих маленьких людей, но лучше всегда проверять эти данные с помощью методов самой простой «песочной» краниометрии.
Рост, вес и объем мозга карликов часто умышленно занижался, так как именно предельная «маленькость» была предметом гордости их опекунов или владельцев. Это касалось и живых, и мертвых «карликов».
Личные свидетельства маленьких людей о своем росте и весе вообще всегда следует ставить под сомнение. Для «гипофизария» его миниатюрность была козырной особенностью. Именно она его кормила, одевала и распахивала пред ним ворота дворцов.
Маленькие люди XVII–XVIII веков, свидетельствуя о самих себе, в минимизации своих параметров доходили до абсурда.
Ceterum, о некоторых «гипофизариях» сохранились и относительно достоверные сведения:
Вибранд Лок, поэт и ювелир (1730–1800): рост 64 см, вес около 10 кг, объем мозгового черепа 600 см3; Роберт Скиннер, гадатель (умер в 1765 г.): рост 63 см, вес 9 кг, объем мозгового черепа 580 см3; Тереза Сувре: рост 76 см, вес 12 кг, объем черепа 650 см3; Алупий Александрийский, логик и философ: рост 43 см, объем черепа и вес неизвестны; Борувлаский, граф, мемуарист (умер в 1837 году): рост около 78 см, вес 14 кг, объем черепа около 720 см3.
Мы можем убедиться в реалистичности этих старинных данных, сравнив их с относительно современными антропометрическими показателями карликов XIX–XXI веков.
Хагендра Тапа Магар (род. в 1992 г.): рост 67 см, вес 7 кг; Хэ Пинпин (1988–2010): рост 74 см, вес 13 кг; Яйя Бин Яйя Аль-Гхадера: рост 80 см, вес 15 кг; Эдвард Ниньо Фернандес: рост 70 см, вес 10 кг; Полин Мастерс (1876–1895): рост 58 см, вес 8 кг; Кларенс Честерфилд Хавертон (1913–1975): рост 66 см, вес 9 кг.
Зная основные параметры, вычислить приблизительный объем головного мозга не представляет особого труда.
Стандартным для пропорционально сложенного человека является соотношение массы мозга к массе тела 1:50.
При среднем весе человека 65–75 кг мы получаем массу мозга около 1350 г, что и соответствует средним значениям массы мозга современного полнорослого человека. Учитывая тот факт, что средний вес одного кубического сантиметра мозгового вещества – примерно 1 грамм, то мы получаем возможность говорить о мозге в единицах не веса, а объема.
При среднем весе пропорционально сложенного гипофизарного карлика от 7 до 15 кг, применив индекс соотношения 1:50 и добавив т. н. фактор опережающего роста мозга, мы получим средний объем мозга от 350 до 600 см3.
Ceterum, абсолютные и бесспорные величины останутся лишь мечтой.
Как я уже сказал, препятствием на пути к этим бесспорным величинам будет хаос и подтасовки в патанатомическом документировании объемов мозга маленьких людей.
Я говорю как об умышленном «уменьшательстве», так и о невольном увеличении, когда объем мозга вычислялся по объему вычищенного черепа.
Вычисление производилось простейшим, по сути своей почти верным способом, практикуемым, opportune, и по сей день.
Через большую затылочную форамину в черепную полость засыпалась песчаная субстанция, имеющая соотношение 1 грамм = 1 см3, которая затем высыпалась и взвешивалась. Получался реальный объем черепной коробки (Илл. 16).
Илл. 16. Определение объема черепа
Но!
При итоговом документировании цифр, как правило, не учитывалось, что объем мозгового черепа и объем действующего мозгового вещества – это далеко не идентичные понятия.
Дело в том, что помимо рабочих анатомических структур мозга в черепной коробке помещаются твердая мозговая оболочка, серп большого мозга, намет мозжечка, серп мозжечка, диафрагма седла et cetera. И это только плотные образования. Не слишком значительные по весу и объему, они в совокупности дают весьма внушительные (в масштабе церебральных измерений) цифры.
К примеру, только твердая мозговая оболочка (полнорослого человека), полностью отпрепарированная от мозга и черепа, может весить от 30 до 60 граммов, т. е. занимать от 30 до 60 см3 общего объема. А вот латеральные и прочие желудочки мозга веса, естественно, не имеют никакого, будучи пустотами, но имеют собственный объем, который может варьироваться от 15 до 40 см3, увеличиваясь с возрастом.
Puto, что в сумме все эти «вспомогательные» и пустотные структуры занимают не менее 5 % объема черепа. (Очень усредненно.)
Помимо плотных и пустотных, пространство черепа занимаюти жидкостные образования, т. е. кровь и ликвор.
По догме нейроанатомии, ликвор (цереброспинальная жидкость) занимает не менее 10 % краниального объема, и еще десять процентов занимает кровь (процентовка объема ликвора и крови приводится по классическому труду «Неврология и нейрохирургия», статья 2.7 – «Внутричерепные объемные взаимоотношения и их нарушения», 2009).
Alias, для вычисления верного объема действующего мозгового вещества необходимо вычесть не менее 20–25 % внутреннего объема черепной коробки. Это будут очень примерные данные, но все же более верные, чем попытка исчисления объема мозга по общему объему мозгового черепа.
Здесь необходимо уточнение: согласно точке зрения академиков В. Сперанского и С. Блинкова, «разница между объемом мозга и объемом черепа увеличивается с возрастом; у новорожденного она составляет 5,7 % от объема черепа, а к 20 годам увеличивается до 20 %» (Сперанский В. Основы медицинской краниологии, 1988).
«В пожилом и старческом возрасте эта разница возрастает до 25–27 %» (Блинков С., Глезер И. Мозг человека в цифрах и таблицах, 1964).
Ad verbum, еще в 1543 г. А. Везалиус подметил разницу меж объемом черепа и объемом мозга, установив размерное несоответствие последнего с размером твердой мозговой оболочки. В главе XVIII (Способ вскрытия частей мозга) он предлагает следующий эксперимент: «Теперь надо с какой-нибудь стороны прорезать ножичком твердую оболочку мозга и, введя в отверстие стиль, трубочку или сифон, какой мы применяем для извлечения мочи, прижать к нему пальцами стороны сечения, чтобы потом, надув сифон, ознакомиться с тем, насколько твердая оболочка шире массы мозга; но достаточно будет сделать такое отверстие в одной только стороне, так как обилие вдуваемого воздуха отовсюду растягивает и вздувает твердую оболочку мозга» (Vesalius А. De Humani Corporis Fabrica, 1604).
Илл. 17. Сравнение черепа нормального человека и гипофизария
По счастью, черепа маленьких людей частенько сохранялись как сувениры или как анатомическая экзотика и сегодня вполне пригодны для исследований и вычислений реального объема их мозга (Илл. 17).
Для нас, впрочем, не так важна абсолютная точность, как понимание того, что в любом случае мы будем иметь дело с головным мозгом, объем которого находится значительно (порой вдвое) меньше т. н. рубикона Валлуа.
Илл. 18. И. Ф. Швейцер (Гельвеций)
Иоганн Фридрих Швейцер (1631–1709), более известный как Гельвеций, имел мозг не самый маленький среди гипофизариев, но и не самый большой – около 550 см3 (т. е. значительно ниже низшего возможного значения).
Известность в литературе он получил благодаря странной истории с тиглем, золотом и Спинозой и почти мифологизировался, чуть не растворившись в этой алхимической ахинее.
Однако Гельвеций был вполне реальным персонажем. Более того, Гельвеций был современником и другом анатома Фредерика Рюйша (1638–1731), очень известным врачом, коллекционером и автором трактатов «Обезоруженная чума в склянке териака» и «Vitulus Aureus».
Гельвеций, впрочем, не только дружил с великим Рюйшем, но и сам недурно анатомировал. Именно он выпрепарировал и преподнес Рюйшу тот эмбрион человека, что был Рюйшем забальзамирован и описан как «человеческое существо ростом не больше ржаного зернышка с плацентой и пуповиной».
(Т. е., судя по размеру эмбриончика, – это вторая неделя. Препарация, произведенная Гельвецием, сложна, требует архипедантизма и крохотности пальчиков.)
Ceterum, авторитет его как ученого и литератора был не слишком велик.
О Гельвеции и его литературно-медицинских экзерсисах сохранились отзывы его современников: «Знаю я этого докторишку и знаю, что он не очень-то достоверный автор» (Переписка Людевика Гюйгенса с братом. HAM Snelders, De geschiedenis van de scheikunde in Nederland).
Гельвеций был свидетелем при знаменитом споре Де Билса и Рюйша о клапанах лимфатических сосудов, причем свидетелем не безмолвным. Люк Койманс пишет о Гельвеции: «Его регулярно бранили, над ним смеялись. Разумеется, поводом для шуток часто служил его внешний вид. Когда он зимой надевал меховую шапку и шубку, то про него говорили, что это „чучело павиана, размером с британского петуха“. Мальчишки кричали ему вслед: „Куда идет этот бархатный камзол с человечком внутри“?» (Койманс Л. Художник смерти. Анатомические уроки Фредерика Рюйша, 2008).
То, что Гельвеций (по мнению ученых-современников), скорее всего, был жуликом от медицины, меня менее всего волнует. Более того, чем более он был жуликоват, тем лучше, т. к. его жуликоватость напрямую свидетельствует о полноценности его мышления. Современники отмечали, впрочем, обаяние крохотного доктора и даже «красоту лица».
Внешность «гипофизариев», opportune, как правило, характеризовалась без всякой брезгливости или критики.
Более того, Йозеф Борувлаский, о котором пойдет речь чуть ниже, при своем малюсеньком росте обольстил несколько вполне полномерных девиц и дам, а Вибранд Лок, имея рост 64 см, много лет был любимой игрушкой (во всех смыслах этого слова) самых известных красоток Англии середины XVIII столетия.
Necessario notare, что здесь мы видим и еще одно, строго анатомическое отличие от «больших микроцефалов». Оно не принципиально, но достойно упоминания.
Большую часть «малоголовых» объединяла особенность, которую подметили еще первые анатомы и антропологи: «На голове микроцефалов замечаются иногда странные явления, касающиеся кожного покрова головы. Вирхов, Мержеевский и др. констатировали, что в некоторых случаях кожа на голове лежит складками, как если бы она выросла тогда, когда череп имел нормальные размеры, и легла складками, чтобы улечься на маленьком черепе. Для Вирхова – это не редкое, но вторичное явление, которое, по его мнению, лишь доказывает, что нарушающая причина не лежит извне. Кожа развивается нормально и не находит достаточно места на маленьком черепе, так что ей не остается ничего другого, как лечь в виде борозд и валиков» (Могилянский И. Случаи микроцефалии // Арх. ИЭМ, 1915).
Теперь рассмотрим пример Йозефа Борувлаского (1739–1837).
«…Было нетрудно судить о том, что мне уготован исключительно малый рост с самого момента моего рождения, так как в то время он равнялся всего восьми дюймам (28 см). И все же, несмотря на столь небольшой размер, я не был слабеньким или хилым, напротив, моя мать, которая кормила меня грудью, часто утверждала, что ни один из ее детей не доставлял ей меньше хлопот.
‹…›
…Вскоре после моего прибытия в Лондон там появился настоящий гигант. Он был восьми футов четырех дюймов росту. (Далее Борувлаский долго и хорошо описывает, как „лондонские покровители“ повезли его в гости к гиганту. – Прим. автора) ‹…› Я отправился с ними, и думаю, что мы были одинаково потрясены. Гигант на некоторое время потерял дар речи. Потом он очень низко наклонился и протянул мне руку, в которую, я думаю, поместилась бы дюжина моих» (Boruwlaski J. The Memoirs, 1792).
Илл. 19. Й. Борувлаский
Я очень не случайно привел здесь строчки из мемуаров Йозефа Борувлаского, написанных им собственноручно.
Этот человечек, имевший объем мозга около 450 см3, писал вполне профессионально, более того, умел соблюдать ту простоту и ясность слога, что выдают интеллектуально самостоятельного автора. Помимо славы мемуариста, карьеры придворного (он находился под покровительством принца Уэльского и получил дворянский титул от короля Польши) маленький человечек был известен как превосходнейший скрипач.
Puto, что этих примеров достаточно, хотя история знает множество удивительных и очень разных гипофизарных карликов и карлиц, мозг которых даже уступал в размере и мозгу Гельвеция, и мозгу Борувлаского, что не мешало им знать языки, писать долговые расписки, гранить бриллианты, гадать, стреляться на дуэлях, картежничать, быть поэтами, философами и интриганами… или тихими деревенскими дурочками.
Secundum naturam, далеко не каждый случай гипофизарной карликовости и, как следствие, формальной микроцефалии, непременно привязан к интеллектуальной полноценности, но достоверных прецедентов откровенного слабоумия среди маленьких людей практически нет. (При получении ими должного воспитания и образования.)
(Ни в коем случае не следует отказываться от версии, что полная и очевидная осмысленность большинства «гипофизариев» связана с тем, что каждый «маленький человечек» имел безусловную «товарную ценность». Пик свидетельств о крайне «интеллектуальных» гипофизариях приходится на XVI–XVIII века, т. е. на ту эпоху, когда практически каждый «карлик» мог найти место при цирке, королевском или ином «дворе» либо театре. Соответственно, рождение миниатюризированных младенцев воспринималось почти любой семьей как финансовая удача. Вне зависимости от продолжительности жизни карлика и вызываемых им чувств, в его воспитание и образование имело смысл «вкладываться».)
Карлики и карлицы новейшего времени (см. выше) отметились как превосходные авиамоделисты, актеры кинематографа, танцовщицы, кулинары, шахматисты, фокусники и политики.
Exempli causa, Яйя Бин Яйя Аль-Гхадера (рост 80 см) баллотировался на пост президента Йемена.
Да, если очень постараться, то в интеллекте этих маленьких людей можно порой подметить девиантные черты, дефекты мышления, речи и пр. Но подобное мы часто наблюдаем и у обладателей полноразмерного мозга.
Более того, отчетливая или слабая дефектность мышления, если она хорошо диагностируется традиционными нейропсихологическими тестами, является лишним и бесспорным доказательством наличия этого самого мышления.
Т.е., barbare dictu, дырки в сыре возможны только при наличии сыра.
Игнорация наукой факта наличия полноценного интеллекта у людей, вес головного мозга которых находится значительно ниже всяких «предельно низких значений», сама по себе впечатляет.
Этот факт можно на первый взгляд отнести к разряду «загадок». Можно просто перечеркнуть его диагнозом «микроцефалия» и отнести к разряду патологий, как это сделал Джакомини (1876), К. Фогт (1867), Л. Мануврие (1895).
Впрочем, в этом случае перечеркнуть придется и мемуары Борувлаского, и алхимические опыты Гельвеция, и его беседы со Спинозой, и еще много всего другого. Часть исследователей так и поступает, но часть оставляет безусловный интеллектуализм обладателей сверхмалого мозга в разряде загадок.
Ceterum, загадка не так уж и сложна.
Дело в том, что всегда недостаточно внимания уделялось той призрачной, мерцающей, подвижной и совершенно не реальной, но очень важной и объективно существующей демаркационной линии, которая в головном мозге млекопитающих разделяет обеспечение мозгом сомато-физиологических функций организма от функций непосредственно сознания и разума.
Я прекрасно понимаю, сколь сложно (даже умозрительно, о ланцете не может идти и речи из-за динамичности, переплетенности и инсталлированности друг в друга различных областей и отделов) провести эту линию сквозь структуры мозга.
Впрочем, сложность еще никогда не отменяла необходимости.
Sine dubio, это разделение способно разъяснить очень многое. Такая «линия», при всей ее условности, наглядно показывает, насколько фатально преобладает над интеллектуальной «долей» та масса мозгового вещества, что отвечает за обеспечение сомато-физиологических функций.
У меня получилось соотношение примерно 8:2. (То есть если, maxime vaste, у полнорослого человека всего лишь 200–250 граммов мозгового вещества заняты непосредственно образами, ассоциациями, способностью писать, читать и пр. «прямыми» проявлениями «интеллекта».)
Теперь берем «гипофизария» и, желая найти отгадку полноценности его «ничтожного» мозга, рассмотрим все последствия происшедшей с ним миниатюризации.
В качестве инструмента возьмем самую простую логику пропорционального уменьшения.
Secundum naturam, с радикальным сокращением массы всего тела – пропорционально может быть уменьшена и масса мозга, которая обеспечивает физиологические и соматические процессы.
Понятно, что для регулировки этих процессов в небольшом организме масса церебрального вещества потребуется меньшая, чем для обеспечения оных в большом организме.
«Объем работы» уменьшился (из-за общего уменьшения тела), и пропорциональное уменьшение мозговой массы никак не сказалось на полноценности ее выполнения.
Но если мы последуем этой логике и дальше, то будем обречены признать, что в режиме общего пропорционального уменьшения мозга пропорционально уменьшилась и та его часть, что обеспечивает генерацию разума и сознания.
Но разум-то не может быть «уменьшен пропорционально».
Его «объем работы» неизменен что для полнорослого человека, что для великана, что для самого маленького человечка.
Если мы начнем пропорционально, на треть или на четверть «уменьшать разум», то наш гипофизарный карлик будет понимать только треть (четверть) букв алфавита, распознавать треть (четверть) звуков и пр.
Или воспринимать все буквы и звуки, но неполноценно.
Более того, его ассоциации становятся конечными, коль скоро и они могут сократиться на треть. Сам же факт возможности сокращения ассоциаций на треть предполагает некую конечность ассоциативного ряда, что полностью исключено, т. к. принцип мышления основан как раз на бесконечности ассоциаций.
Тем не менее часть гипофизарных карликов, отметившихся в истории человечества и в ней задокументированных, имели полноценный, а порой и выдающийся интеллект.
Из этого вполне возможен вывод, что обеспечение интеллектуальных полноценных процессов возможно чрезвычайно малой (шокирующе малой) массой вещества коры головного мозга, а сама величина головного мозга обусловлена лишь масштабом организма, который необходимо обеспечить сверхсложной регулировкой физиологических и соматомоторных процессов.
С. Р. Кахаль прямо указывает, что «деятельность мозга зависит от разветвленности нейронов головного мозга и качества синаптических связей. Общая масса мозга менее важна для обмена информацией, чем его внутренняя организация и богатство связей» (Cajal S. R. Histologie du Systeme Nerveux de l'homme et des Vertebres, 1909–1911).
Данная гипотеза, puto, не решает полностью вопрос идиотии «больших микроцефалов», но оставляет простор для нескольких рабочих версий.
Согласно первой, «индекс цефализации», конечно, не слишком существенный фактор, но всему есть предел. Все же некий критический порог соотношения массы мозга и массы тела но существует.
При переходе этого порога – различные второстепенные и декоративные функции мозга, вроде речи и мышления, «приносятся в жертву» соматомоторному и физиологическому обеспечению организма.
Порог, в нашем случае, получается впечатляющим.
При нормальном индексе цефализации для обычного homo, гипофизарного карлика или палеоантропа 1:50−1:38, у микроцефалов соотношение массы мозга к массе тела составит 1:250 (по Мержеевскому), 1:140 (по Маршаллу), 1:220 (по Грациоле) et cetera.
E supra dicto ordiri, у микроцефалов он подобен «индексу цефализации» орла-могильщика (Aquila heliaca) или эфиопского шакала (Canis simensis).
Есть и вторая версия.
Она мне представляется более серьезной; в большинстве случаев неспособность микроцефалов к мышлению была обеспечена лишь тяжелыми структурными патологиями мозга и ничем иным.
Микроцефалия, при которой сохранялась относительная структурная и архитектурная целостность мозга, все же не приводила к полной идиотии. (Не следует забывать о таких примерах, как Антония Гордони или тщательно описанная С. Корсаковым Мария Петрова (умерла в 1911 г.), которая имела относительную способность к речи.)
Более того, существуют и палеоантропологические данные, подтверждающие возможность относительного интеллектуального прогресса при относительной массовости того, что обычно именуется микроцефалией и формально номинируется как патология.
На Флоресе (Индонезия), близ г. Рутенг, в пещере Лианг-Буа произошло обнаружение останков homo с «совершенно миниатюрным мозгом», сопоставимым с мозгом наших гипофизарных карликов, микроцефалов или с мозгом самых ранних австралопитеков (330–380 см3)[18].
Данная находка стала безусловным научным фактом, и в длинной галерее древних homo появился новый тип, получивший классификацию homo floresiensis.
Данный вид не был бы ничем примечателен, кроме малого размера мозга и роста (около 1 метра), если бы найденные каменные орудия труда не были бы подобны орудиям homo erectus, а по мнению некоторых исследователей, не были бы даже более совершенны, чем орудия палеоантропов того же периода.
Данный факт спровоцировал появление смелых, но не слишком корректных гипотез, вроде той, что была выдвинута И. Мосевицким: «Эволюция шла в сторону миниатюаризации, в том числе мозга, при одновременном повышении интеллекта» (Мосевицкий М. И., проф. Распространенность жизни и уникальность разума, 2008).
В противовес этой и ей подобным гипотезам – возникло и мнение о том, что homo floresiensis были обыкновенными микроцефалами, жертвами синдрома Ларона, редкого заболевания, при котором угнетается гормон роста.
В этой трактовке тоже были очень слабые места; прецедентов эпидемии данного синдрома не существует, а некий «внешний фактор», который мог бы спровоцировать массовость редчайшего заболевания, так выявлен и не был.
К тому же микроцефалия, особенно «лароновская», имеет ряд характерных признаков, в частности, нарушения пространственной геометрии полушарий и мозжечка, атрофацию извилин, заплощение оперкулярной части и, как следствие, тяжкие патологии.
Исследования У. Джангерса (Университет Стоуни-Брук, 2005), Д. Фольк (Университет Флориды, 2005) установили отсутствие каких-либо геометрических и объемных аномалий развития головного мозга homo floresiensis.
(Opportune, эндокраниумы многих иных обладателей «малого мозга» свидетельствуют либо об отсутствии любых патологий такого типа, либо о спорности их наличия.)
К тому же, подозрение на поголовную микроцефалию homo floresiensis давало основания для множества научных дискуссий, но не давало никакого ответа о совершенстве каменных орудий этих малышей.
В результате была принята компромиссная, очень обтекаемая версия, что homo floresiensis страдал от генетического дефекта, известного как микроцефалическая остеодисплазическая примордиальная карликовость II типа (microcephalic osteodysplastic primordial dwarfism II – MORD II). При этом типе карликовости «тело и мозг человека остаются маленькими при практически нормальном уровне интеллекта» (Вонг Кейт // ВМН, 2005. № 5).
Благодаря этим компромиссным, но, возможно, здравым выводам, феномен homo floresiensis и иных «маленьких людей», не получив снова никаких объяснений, получил хотя бы новое имя: MORD-II.
И вновь возвращаемся к вопросу разума палеоантропов.
Но даже если придерживаться стереотипических, устоявшихся представлений о критичности небольшой массы мозга, то и в этом случае отказать в наличии полноценного разума и homo erectus, и неандертальцам, да и вообще всем палеоантропам не будет никакой возможности[19].
По всей совокупности археологических данных на сегодняшний день уже известно, что люди палеолита, мезолита и раннего неолита имели объем мозговой массы не меньший, чем у Эйнштейна (1230 см3) или у нобелевского лауреата А. Франса (1017 см3), а у неандертальцев – значительно больший, приближаясь к стандарту Мерилин Монро (1422 см3) и даже превосходя его (список цитируется по таблице проф. Л. Этингена).
По очень грамотным вычислениям Г. Бонина (исследование 1934 г.), средняя емкость черепа кроманьонца равняется, в среднем, 1570 см3, примерно такой же она остается и у более поздних представителей неолита (1525–1533 см3), в железном веке начинается постепенное уменьшение до 1524 см3, а в Древнем Египте доходит до 1390 см3, приближаясь к среднему значению современного человека.
Вероятно, следует помнить, что мы имеем на руках еще далеко не все цифры, даже по тем персонажам истории, что признаны как выдающиеся интеллектуалы.
Значительная часть захоронений знаменитых или известных писателей, полководцев и ученых остается необследованной по крайней мере в части элементарной краниометрии.
«Почтение» к останкам, не очень понятное при нерешенности столь важных проблем, как происхождение и развитие мышления, увы, препятствует вскрытию и изучению многих сакрализированных склепов, гробниц, саркофагов, мощевиков, рак[20] и могил.
(Огромное количество драгоценного для краниометрии материала скрыто в так называемых мощах. Естественно, для полноценной краниометрии они нуждаются в чистке от органических остатков их прежних «владельцев», последующей дезинфекции и выварке.)
Впрочем, впечатляют даже случайные, разовые результаты недавних исследований.
Профессор Р. Вертеманн, которому довелось изучить череп Эразма Роттердамского, определил емкость его мозгового черепа в 1225 см3. (Цит. по иссл. ИАРАН: Медникова М. Трепанации в древнем мире и культ головы, 2004.)
Igitur, объем мозга роттердамского гуманиста вряд ли превышал 918 см3, что дает полное право говорить о его полной анатомической сопоставимости с мозгом самых ранних homo erectus.
Я неслучайно говорю об анатомической сопоставимости, так как два миллиона лет для столь сложного органа, каким является мозг, – это ничтожный срок, недостаточный для формирования новых структур и функций.
Ceterum, вопрос о «возрасте» функций и части важнейших структурных образований мозга еще будет подробно рассмотрен мною в главе V.
Вообще, стыдливость человечества в отношении основного периода собственной истории понять легко.
Как минимум два миллиона лет человек, имея уже очень большой и анатомически развитый мозг, равный мозгу Эйнштейна и Эразма Роттердамского, довольствовался ролью мелкостайного животного, промышлявшего падалью, выкапыванием съедобных корешков и каннибализмом.
Стереотип о человеке как об «охотнике» и «хищнике» давно развенчан палеоантропологией. Есть множество изложений данного вопроса, но наиболее концентрированными и простыми до сих пор являются формулировки проф. Б. Ф. Поршнева (1905–1972):
I. «Люди, начиная с австралопитековых и кончая палеоантроповыми, умели лишь находить и осваивать костяки и трупы умерших и убитых хищниками животных. Впрочем, и это было для высших приматов поразительно сложной адаптацией. Ни зубная система, ни ногти, так же как жевательные мышцы и пищеварительный аппарат, не были приспособлены к занятию именно этой экологической ниши. Овладеть костным и головным мозгом и пробить толстые кожные покровы помог лишь ароморфоз, хоть и восходящий к инстинкту разбивания камнями твердых оболочек у орехов, моллюсков, рептилий, проявляющийся тут и там в филогении обезьян. Это была чисто биологическая адаптация к принципиально новому образу питания – некрофагии.
‹…›
II. Итак, археоантропы, все еще, как и австралопитеки, не имели никаких ни морфологических, ни функциональных новообразований для умерщвления крупных животных, для превращения в хищников-убийц. Они были по-прежнему узко специализированным видом высших приматов, приспособленных к трупоедению. Гипотеза об их охоте на крупных животных не может быть подтверждена никакими фактами» (Поршнев Б. Ф., проф. О начале человеческой истории, 2006).
(Здесь, для скептиков, я напоминаю, что Поршнев говорит об эпохе homo erectus, т. е. об основном периоде становления человека, а не о двух десятках тысяч лет, условно именуемых «кроманьонским временем», когда, помимо традиционной детритофагии, действительно уже практиковалось что-то похожее на охоту.)
Necessario notare, что предлагаемый взгляд является не неким «особым» мнением проф. Б. Поршнева, а сформировавшейся концепцией палеоантропологических школ.
Exempli causa:
«Для плотоядных, но еще не имевших возможности добывать себе пищу охотой гоминид, практически единственным источником необходимого белка было мясо животных, убитых и частично брошенных хищниками» (Зубов А. А., проф. Становление и первоначальное расселение рода «homo», 2011).
«При обилии копытных значительная часть туши убитого животного оставлялась хищниками нетронутой, что составляло достаточную пищевую базу для ранних людей» (Бутовская М. Социальная структура ранних гоминид и проблема адаптации к различным климатическим условиям в палеолите, 1997).
«Ситуация определила пищевую стратегию первых людей как популяции scavengers – „падальщиков“, или, точнее, существ, питающихся объедками, т. к. речь в данном случае идет не о животных, погибших своей смертью, а о тактике „доедания“ дичи, убитой крупными хищниками» (Dennell R. Dispersal and Colonisation, Long and Short Chronologies: How Continuous is the Early Pleistocene Record for Hominids Outside East Africa, 2003).
Впрочем, здесь есть «непонятности».
В частности, вероятно, навсегда останется вопросом «очередность» человека в доступе к падали, так как конкуренты в деле нахождения и доедания останков у homo были весьма впечатляющими.
«Особенно опасным конкурентом для гоминид в процессе борьбы за туши животных была вымершая теперь огромная гиена Pachycrocuta, способная разгрызать любые кости, которая не оставляла человеку никаких шансов на добычу костного и головного мозга мертвых животных, а прямая конфронтация с таким зверем окончилась бы в то время не в пользу человека, тем более что гиены охотятся стаями» (Зубов А. А., проф. Становление и первоначальное расселение рода «homo», 2011).
Место homo в очереди к падали достаточно долго было предметом дискуссий[21].
Если обратиться к наиболее серьезным исследованиям последнего времени, то мы увидим, что M. Dominguez-Rodrigo (иссл. 2001), R. J. Blumenschien (иссл. 1995), M. E. Lewis (иссл. 1997), M. M. Selvaggio (иссл. 1994) определяют человеку весьма скромное место в этой очереди, едва ли не одно из последних.
R. Dennell (иссл. 2003), A. Treves, L. Naughton (иссл. 2005), М. Л. Бутовская (1997), А. Зубов (2011) тот же самый вопрос рассматривают значительно оптимистичнее, полагая, что каменные орудия, размеры и исключительная агрессивность все же оставляли человеку некий шанс на место где-то в середине «очереди», после Pachycrocuta и других крупных стайных падальщиков, но все же до птиц и плотоядных грызунов.
Здесь есть мрачная «ирония судьбы», возможно, определившая многие наклонности человека. В течение двух миллионов лет своей т. н. доисторической животной жизни (т. е. основного биологического периода), нося в себе поразительные потенциалы агрессии, homo вынужден был довольствоваться ролью падальщика, не способного самостоятельно убивать.
По всем меркам зоологии homo достаточно безобиден. Он лишен даже минимального инструментария хищника. У него нет когтей, клыков, скоростных возможностей, ядовитости, мышечной мощи или уникальных особенностей (вроде тех, что есть, к примеру, у пауков). Но есть редкий по силе и комплектности набор основных агрессий.
Что же позволяет с уверенностью говорить об исключительной агрессивности как о видовом отличии homo, изначально ему присущей и неизменной? Ведь о характере и нравах палеоантропов не сохранилось почти никаких свидетельств; лишь скупые археологические указания на вероятную нормативность каннибализма в их стаях, на детритофагию и странную стагнацию вида в течение примерно двух миллионов лет.
Explico.
Такой вывод становится возможен благодаря наличию двух бесспорных факторов.
Первый фактор – это та часть истории человечества, которая была задокументирована, является общеизвестной и прекрасно характеризует вид homo. Формально «коротенький», но неплохо зафиксированный и исследованный период человеческой истории с 5000 г. до н. э., до наших дней вполне может быть образчиком поведения данного вида.
Конечно, история человечества, начиная с шумеров, – это очень размытый, во многом фантазийный, но (в общем и целом) все же документ, свидетельствующий (в первую очередь) о беспрецедентной в зоологии агрессивности вида.
Exempli causa, массовость и постоянность внутривидовых и межвидовых убийств является не просто практикой homo, но и сущностным стержнем его цивилизации. Более того, обязательным, рутинным условием ее развития и успешности.
Но, быть может, исключительная агрессивность – это свойство homo лишь «фиксированной эпохи», некое правило социализации, которое «замешивается» только на внутривидовой и межвидовой крови и через это правило формирует особый тип поведения?
Отнюдь.
Это предположение легко опровергается знанием как особенностей, так и возраста той структуры головного мозга (лимбической системы systema limbica), которая и генерирует различные эмоции и агрессии, а через них формирует базовое поведение любого позвоночного (Илл. 20).
Илл. 20. Схематическое изображение структур и связи либической системы (по МакЛину)
Еще в 1784 году Поль Брока определил лимбическую систему как область, включающую структуры переднего мозга на границе ростральной части ствола головного мозга у входа в полушария. (Брока же дал ей имя – от limbus, т. е. «кайма».) Впоследствии границы лимбической системы были существенно расширены, но об этом – чуть ниже.
Вглядимся в «фиксированную» историю homo и увидим, что сквозь пламя церковных костров, бесконечье скотобоен, грудей, младенцев, завоеваний, пулеметов, нимбов, концлагерей, шуб, войн, открытий, отбивных, совокуплений, казней и ракет, т. е. сквозь все «знаковые» картинки человеческой цивилизации просвечивают знакомые еще по мозгу древних рептилий очертания амигдалы[22], сосцевидного тела, гипоталамуса, септума и прочих первородных структур systema limbica. (Причем они не просто «просвечивают» и видятся, они во многом и определяют содержание этих картинок.)
Следует помнить, что вышеперечисленные мною отделы мозга окончательно сформировались еще в палеозое, в черепах синапсид (терапсид и пеликозавров), и неизбежно обрекли почти все виды, унаследовавшие их от звероящеров, на агрессивность как на абсолютную норму и основной движитель поведения.
(Лимбическая система мозга функционально и анатомически сходственна у всех видов животных, включая homo. Следовательно, речь может идти о возрасте «вообще» systema limbica, а не конкретно у человека. Понятно, что являясь поздним видом, homo мог только унаследовать те нейрофизиологические структуры, что складывались у позвоночных за сотни миллионов лет.)
Вероятно, следует сразу признать и оговорить, что нейроморфология и до сегодняшнего дня не имеет единого мнения об анатомических границах systema limbica. Ceterum, для нас это не может явиться существенной проблемой, так как объектом нашего внимания являются возраст и функции тех ее структур, принадлежность которых к лимбической системе сомнений не вызывает, это гипоталамус, гиппокамп, миндалевидный (амигдалярный) комплекс, прозрачная перегородка, поясная извилина, вентромедиальные ядра таламуса, центральное серое вещество, мамиллярные тела et cetera).
Наилучшим и наиболее полным образом на сегодняшний день (применительно к эмоциогенным функциям) изучены такие части systema limbica, как гипоталамус и амигдалярный комплекс, в чем можно убедиться на основании следующих трудов: В. Черкес (1967), М. Мгалоблишвили (1974), K. Pribram, Kaplan (1954), Rosvold et al. (1951), Adey (1958), Gloor (1960), Brutkowski, Fonberg, Mempel (1960), Brady et al. (1954), Д. Бирюков (1963), Lissak, Endorczi (1961), Summer, Kaelber (1962), Koikegami (1964), А. Гамбарян и др. (1981), A. Kuntz (1953), Goddard (1964), Nacao (1960), Ursin (1965), Е. Сепп (1959), Kaada (1972), Blanchard (1972), Н. Гращенков (1964), Righetti (1903), Babinski (1900), Economo (1917–1920), Camus, Roussy (1913), П. Анохин (1957), Г. Мэгун (1958), Дж. Папец (1937), W. Cannon, Z. Back, A. Rozenblueth (1931), J. Johnston (1923), W. Le Gros Clark (1936) et cetera.
Для начала, используя данные труды и заключенные в них экспериментальные данные, необходимо расставить точки над i в вопросе «возраста» systema limbica.
Отметим, что мы имеем сумму очень авторитетных мнений по данному поводу, из которых выберем три. (По принципу академического радикализма их авторов.)
I. «Связи меж гипоталамической областью и более каудально расположенными структурами продолговатого и спинного мозга принадлежат к числу ранних» (Гращенков Н. Гипоталамус, 1964).
II. «Гипоталамическая область обнаружена у всех хордовых, в том числе и у тех рыб, что не претерпели существенных эволюционных изменений со времен палеозоя» (К примеру, у латимерии – Прим. автора). (Бирюков Д. Эволюционные идеи И. М. Сеченова и некоторые вопросы физиологии нервной деятельности // Физиологический журнал СССР, 1963).
III. «Миндалевидный комплекс – это симметричная структура, расположенная в вентромедиальной части рострального полюса височной доли. Филогенетически развитые миндалины наблюдаются уже у круглоротых и достигают полного развития у млекопитающих» (Johnston J. Further Contributions to the Study of the Evolution of the Forebrain, 1923).
Легко заметить, что, при всей их несомненности, выводы J. Johnston, Д. Бирюкова, Н. Гращенкова (как и любых других исследователей) излишне лаконичны, постулятивны и нуждаются в комментариях.
Ergo, комментирую.
Первым признаком архаичности церебральной структуры (как известно) является наличие у нее прямых связей со спинным мозгом.
Возьмем для примера эфферентные пути гипоталамуса: медиальный пучок (fasciculus longitudinalis medialis), дорсальный гипоталамо-тектальный пучок (fasciculus longitudinalis dorsalis), обонятельный мезенцефальный пучок, пучок Щютца, сосково-покрышечный пучок Гуддена, сосковидно-таламический пучок et cetera.
На самом деле эфферентные пути гипоталамуса многочисленнее, чем указано мною выше, но важнейшие – напрямую ведут к структурам спинного мозга, что сразу говорит само за себя (т. е. за древность формации).
Вторым, и не менее значимым, признаком архаичности органа или структуры справедливо считается гомологичность[23] ее ядерных формаций с подобными же формациями у примитивных животных.
Приглядимся к ядерным формациям того же гипоталамуса.
У homo (к примеру) кривизна оси мозга и глубокая рельефность турецкого седла (необходимые при эректильности тела), конечно, несколько утолстили и укоротили гипоталамическую область, придав ей определенное анатомическое своеобразие. Образно выражаясь, здесь оттиск «печати эволюции» на самой форме достаточно отчетлив. Но, несмотря на эту внешнюю метаморфозу, все существенные скопления ядер в этой структуре (примерно) подобны расположению ядерных масс у низших животных.
Более того, и сами ядра достаточно легко гомологизируются, как это доказал Ле Гро Кларк (Le Gros Clark W. The Topography and Homologies of the Hypothalamic Nuclei in Men // J. Anat., 1936).
Гро Кларковский труд свидетельствует о типичности, а тем самым, fortasse, и о неизменности функций гипоталамуса у позвоночных, вне зависимости от их «высшести» или «низшести». Эта неизменность, я бы сказал, «эволюционная застывшесть» ядерных образований является прекрасным (еще одним) свидетельством архаичности гипоталамических структур.
Спинальные связи и гомологичность ядер – это, конечно, самые грубые и простые критерии, но именно они и являются бесспорными.
E supra dicto ordiri древность данных структур не вызывает никаких сомнений.
Предположение, что формировавшая мозг свирепая реальность как палеозоя, так и последующих эпох могла испытывать потребность в каких-то иных интеграторах поведения, кроме агрессий, является чисто фантазийным и всерьез обсуждаться не может.
Дело в том, что выживание вида обеспечивали лишь зрелость и сила агрессий. Любое подмешавшееся к ним «положительное» качество было бы для этого вида самоубийственным. Оно просто «смахнуло» бы его носителей с эволюционной сцены.
В результате, именно комплект агрессий и стал основой всякого сложного поведения. И именно его (в той или иной степени) унаследовали млекопитающие, в том числе и homo.
А более, кстати, наследовать было и нечего. В реальности нашей эволюции никакие качества, кроме тех, что детонируются агрессиями и их производными, не имели, не имеют и, вероятно, не будут иметь никакой существенной ценности.
Ad verbum, «стыд», «совесть», «милосердие» или иные «качества» современного homo хотя и имеют строго культурологическое происхождение, но тоже способны в незначительной степени определять его поведение. Впрочем, будучи лишь поведенческими играми, они предельно хрупки и зависимы от множества этнических, исторических, финансовых, бытовых, культурных, географических, климатических, этикетных или иных обстоятельств. С реальными интеграторами поведения (агрессиями) они соотносятся примерно как Verrucaria со скальным массивом, на котором эти лишайники обычно селятся. Впрочем, «добродетели» никогда не выдерживают конкуренции с подлинными основами поведения, т. к. являются не более чем инструментом, применение или не применение которого целиком зависит от обстоятельств. Впрочем, это отдельный разговор, который еще впереди.
E supra dicto ordiri homo, как эволюционный продукт, на всех этапах своей истории и не мог бы быть другим, нежели он обозначен в свой «фиксированный» период, т. к. не мог и не может быть свободен от наследства «бабушки-терапсиды», т. е. от своего переднего мозга и лимбической системы.
Предположение о любом сущностном «изменении» функций systema limbica за 5–7 тысяч лет является необоснованным, т. к. изменение функции неразрывно связано с принципиальным изменением анатомического субстрата и физиологии. Этих изменений, разумеется, произойти не могло и не произошло (вспомним гомологичность ядерных образований гипоталамуса у рептилии и homo).
И дело даже не в том, что для структур мозга семь тысяч лет – ничтожный срок, за который (в смысле цереброгенеза) не может свершиться ничего.
Дело в том, что если мы «вынем» агрессивную составляющую или как-то существенно изменим ее, то никаких других реальных интеграторов поведения просто не останется, так как эволюция никаких «иных» и не создала.
(Примерную «дату» получения предтечами человека этого наследства назвать сложно. Это может быть как конец мезозоя, так и самое начало кайнозоя, когда начали распространяться первые плацентарные, в том числе и приматы, вроде eosimias. Но, in genere, попытка установления точной «даты» является бессмысленным формализмом, так как эволюция обеспечила всему живому необычайную близость и непрерывность родства по церебральным (в данном случае, стволовым) параметрам.)
Впрочем, было бы несправедливо сводить роль агрессий исключительно к практике убийств. Следует помнить, что комплект агрессий вообще является главным фактором, формирующим норму поведения всякого живого существа.
Основных видов агрессий, как известно, шесть или семь. (Вопрос о границах меж близкими агрессиями и их номинациях до сих пор является дискутивным).
Перечислим их.
Это «хищническая» praedonia agressio, «материнская» materna agressio, «половая» sexualis agressio, «правовая» (агрессия самозаявления) justa agressio, «территориальная» terretris agressio, «межсамцовая» intermasculina agressio, «страховая» reveritoria agressio. (Я уж не говорю о множестве малых «инструментальных» агрессий, которые тоже, как и «большие», структурируют поведение любого животного, включая homo.)
«Хищническая» (praedonia agressio) является одной из основных агрессий.
Именно ее потенциалы обеспечивают будущее вида и его развитие, так как именно хищничество вынуждает организм искать и находить сложные, но и наиболее эффективные формы поведения.
Будучи самой динамичной из агрессий, praedonia одновременно способна концентрировать все возможности организма на достижение цели, порой, через преодоление множества обстоятельств и препятствий.
По степени фундаментальности и важности она сопоставима с такими базовыми видами агрессий, как materna, sexualis и justa.
По всей вероятности, praedonia значительно более весома, чем terretris, intermasculina, reveritoria et cetera.
Puto, «хищническая» наиболее многооттеночна, сложна, нюансирована и, что самое важное, она может провоцировать то поведение, при котором все проявления самой агрессии тщательно скрыты.
Scilicet, со времен звероящеров докембрия praedonia сотни миллионов лет шлифовалась, прежде чем стать стержневой в поведении части млекопитающих, но шлифовка изменяла лишь ее «поверхность», разумеется, не касаясь самой сути.
Ceterum, даже если разложить смысл «хищнической агрессии» на ее самые архаические компоненты, такие как «скрытность», «поиск», «выслеживание», «угадывание по косвенным признакам», «затаивание», «маскирирование», «скрытное ожидание», «погоня», «нападение», «умерщвление», «добивание», «раздирание», «пожирание», то становится ясно, сколь этот вид агрессии многообразен, перспективен и применим к самым разнообразным ситуациям, внешне совершенно не напоминающим (к примеру) охоту терапсид (звероящеров) палеозоя.
(За последние три тысячи лет homo, конечно, героизировали и «напудрили» весь комплект агрессий, от praedonia до intermasculina, навязали на него множество социальных, культурных, религиозных, военных и гастрономических «бантиков», но, будем откровенны, сути явления это не изменило[24].)
Я неслучайно опять упомянул именно терапсид – зверозубых рептилий, появившихся двести пятьдесят миллионов лет назад. Именно они первыми демонстрируют достаточно сложное поведение, основой которого были зрелые инстинкты и агрессии. Согласно исследованиям J. Carey (1967), H. Koikegami (1963), именно у рептилий впервые в эволюции появляется полноценный амигдалоидный комплекс, а сами синапсиды являются «критическим этапом эволюции».
Илл. 21. Терапсида
Достойно упоминания и то, что разрушение (экспериментальное) части лимбической системы рептилий давало результаты предельно близкие с последствиями таких же экстирпаций у млекопитающих (Карамян А., Соллертинская Т. Роль структур лимбического мозга в регуляции поведенческой деятельности в филогенезе позвоночных, 1985).
Более того, не следует забывать тот факт, что именно синапсиды послужат материалом, из которого эволюция наконец «изготовит» млекопитающих.
Вернемся к наиболее важной для нашей темы – к хищнической агрессии, вполне достойной звания «regina agressionis».
Вероятно, именно она дала жизнь тому поразительному ветвлению поведенческих и эмоциональных нюансов, которые и сегодня определяют стремление, неукротимость, храбрость, терпение, достижение, непреклонность, напор и результат.
Fortasse, будет совершенно лишним напоминание, что все воинские подвиги homo (от Илиады до Сталинграда) – это прямые дети praedonia, причем в самом ее чистом, первородном виде, восходящем из палеозоя.
Возможно, это покажется парадоксальным, но, puto, что именно хищническая агрессия является «матерью» и столь ценимых качеств, как «самопожертвование», «бескорыстие», «благородство», «целеустремленность», «сострадание» и другие «добродетели».
Дело в том, что социализация несколько «сместила ориентиры» и переоценила ценности.
Объектом охоты в социализированном мире homo, основной сверхценной «добычей» – становится уже не кролик или бегемот, а общественное одобрение (т. н. слава, признание, уважение, поклонение et cetera).
Именно эта добыча обеспечивает доминацию, власть и дивиденды (масштабы как власти, так и дивидендов могут сильно варьироваться – от «всемирных» до межличностных).
Но охота на общественное признание – сложна и тонка, она требует особой изобретательности, как раз и порождающей различные «самопожертвования», «бескорыстия» и другие специфические, ярко контрастные и, в силу этого, часто успешные вариации поведения homo. Особо сложная цель порождает и предельно сложный инструментарий для ее достижения, т. е. т. н. добродетели.
Ridicule, но механизм их возникновения, чаще всего, совершенно неведом «охотнику» за признанием. Он вполне может быть уверен, что действительно руководствуется «добродетелями», в чем ему оказывает существенную помощь та часть его мышления, что образована стереотипами.
Ad verbum, в «добродетели», как в охотничьей уловке, нет ничего принципиально нового; puto, здесь отчасти уместна аналогия с разнообразием маскировок и ухищрений, к которым давно прибегает животный мир и насекомые для успешности своего промысла. Вариативность таких маскировок огромна, она может быть и косметической (для ликвидации собственного запаха), и зрительной, и поведенческой. Превосходными образчиками мимикрии, при которой существо выдает себя за нечто «прекрасное» или «безобидное», являются пауки-бокоходы, или цветочные пауки, маскирующиеся под соцветия, что позволяет им прямо в цветке подкарауливать свою добычу; самцы каракатиц, способные «раскраситься» под самок, чтобы получить безопасный доступ в их общество и внезапно совершить спаривание; притворяющиеся водорослями или веточками рыбы-иглы, палочники et cetera.
У homo шаблоны «добродетелей», как правило, заимствуются из бытовой, мистической или литературной мифологии, т. е. из того массива фантазий, который род человеческий сложил о себе самом. Стоит отметить, что, несмотря на свою искусственность, они могут иметь хоть и временно-декоративное, но очень успешное воплощение в реальности.
Также достойно ремарки, что «добродетелями», как эффективным средством достижения цели, «пользуется» не только praedonia, но и любая другая агрессия. К примеру, sexualis и justa.
Столь же отчетливо, как и в деле генерации «добродетелей», regina agressionis просматривается и в любой другой сфере деятельности homo.
Наглядные образчики ее проявлений можно обнаружить, exempli causa, в литературе или науке, где в основе успеха – всегда умелая, беспощадная, терпеливая охота за результатом. Впрочем, здесь (скорее всего) присутствует симбиоз агрессий, где justa играет не меньшую роль, чем praedonia. Этот симбиоз выступает как интегратор, движитель уже «интеллектуальных» корковых потенциалов, т. к. в качестве «добычи» выступает научное открытие.
Exempli causa:
Применительно к нашей теме нет никакой принципиальной биологической разницы меж десятью пальцами Эйнштейна, в 1921 году принимающими диплом нобелевского лауреата, и 220-ю зубами Varanosaurus, 300 миллионов лет назад терзающего ими брюхо тихого мохоеда Moschops. И та и другая добыча (как диплом, так и брюхо мосхопса) есть результат проявления примерно одних и тех же качеств; правильно направленной, концентрированной агрессии достижения цели, т. е. praedonia. (В случае с Эйнштейном мы всего лишь наблюдаем, сколь удивительно она может трансформироваться, и как важно в таких случаях «соучастие» полноценной агрессии самозаявления.)
Secundum naturam, речь не идет и не может идти о какой-либо «диктатуре» агрессий или о том, что они являются чем-то большим, чем специфическим, оформленным и направленным видом «возбуждения-торможения».
Относительно понятно, что на принципы работы systema limbica распространяется общая логика мозга, т. е. принципы «возбуждения-торможения» и их иррадиации, igitur, сама systema limbica подчинена интегративному влиянию ретикулярной формации и является тем инструментом, через который самые древние стволовые структуры выстраивают поведение организма.
Сегодня у нас нет никаких оснований говорить об эволюции агрессий.
Puto, что суть их так же неизменна, как и генерирующие их древние структуры мозга. Впрочем, мы вправе отметить (и отмечаем) причудливость их метаморфоз и ролей.
Sane, теория агрессий как единственных врожденных интеграторов поведения homo может быть воспринята тяжело и критично в силу ее конфронтации с известным набором стереотипов, но, repeto, «другие» реальные движители поведенческих механизмов могли бы образоваться только неким «волшебным образом».
Necessario notare, что в течение последних 300–400 миллионов лет в этих «других» не было ни малейшей потребности ни у одного живого организма, igitur, теоретически, взяться им было бы просто неоткуда.
Тем не менее (с учетом знания сложности поведения homo) вопрос о том, существуют ли какие-то реальные базовые интеграторы поведения, кроме агрессий, вполне уместен и закономерен.
Узнать ответ несложно, достаточно проанализировать результаты основных исследований лимбической системы за последние 70 лет.
По сумме экспериментальных данных должно стать окончательно ясно, какие именно основы поведения позвоночных являются подлинными (врожденными), а какие – декоративными и временными, порожденными только правилами социальных игр.
Ergo, рассмотрим функции systema limbica.
Роль гипоталамуса, амигдалы и цингулярной извилины как «производителей чувств и побуждений» была примерно понятна еще Ф. Гольцу (1892), Ч. Шеррингтону, Р. Вудворту (1904), Дюссе де Барену (1920) (Goltz F. Der Hund ohne Grosshirn, 1892; Woodworth R., Sherrington C. A Pseudoaffective Reflex and its Spinal Path, 1904; Dusser de Barenne J. G. Recherches experimentales sur les fonctions du systeme nerveux central […], 1920).
Ceterum, тогда это было, скорее, интуитивно-логическое понимание, основанное лишь на общем знании мозга и логике эволюции. Оно было мало подкреплено экспериментальными данными, и посему формулировки этого «понимания» были не вполне зрелыми. (Даже у Ч. Шеррингтона).
Чуть позже начались систематические исследования. Они подтвердили догадки «отцов» нейрофизиологии и породили ажиотацию вокруг отдельных фрагментов лимбической системы.
К примеру, В. Кэннон, З. Бэк, А. Розенблют (W. Cannon, Z. Back, A. Rosenblueth, иссл. 1931) на основании серии опытов объявили гипоталамус «центром ярости».
В этой милой однозначности, sane, были издержки, типичные для той эпохи «нейрофизиологических восторгов». (Тогда и серьезные ученые частенько попадали под обаяние сенсационности своих собственных экспериментов, легко воодушевлялись их значимостью, а это воодушевление и порождало категоризм как в оценке открытия, так и в его номинации.)
Эмоциогенная (агрессиогенная) роль гипоталамуса, амигдалы, прозрачной перегородки, поясной извилины et cetera выявлялась (преимущественно) методами локального повреждения (иссечения), точечной экстирпации (удаления) или электрораздражения различных отделов systema limbica.
Результатом экспериментов стало некоторое представление о том, какие из чувств (агрессий) «выпадают» при поражении определенных участков systema limbica, а какие интенсифицируются в ответ на электрораздражение. Сумма данных дала право на предварительные обобщения.
Первым, кто обобщил все экспериментальные данные и оформил их в связную теорию, был нейроанатом Дж. Папец (1937). Чуть позже его идею развил П. МакЛин (1949). (Papez J. A Proposed Mechanism of Emotion, 1937; MacLean P. Psychosomatic Disease and the «Visceral Brain», 1949.)
Суть теории была в том, что Папец утверждал полную взаимозависимость сегментов лимбической структуры друг от друга, а порождаемые агрессии и побуждения считал не функцией только (к примеру) гипоталамуса или амигдалы, а их связи и аккордности. По Папецу, любая эмоция была плодом сложного «кругового» взаимодействия гиппокампа, сосцевидного тела, таламического комплекса, миндалин и цингулярной извилины.
Теория была красива, но, по меркам радикального академизма, излишне отважна, а ее основные постулаты – недостаточно «экипированы» прямыми нейрофизиологическими доказательствами. В том холодке, с которым академисты восприняли идею «Круга Папеца», не было догматического высокомерия, был лишь мудрый скепсис и выжидательность.
Этим скепсисом и объясняется то, что радикалы нейроморфологии и нейрофизиологии (принимая факт наличия системы как таковой) все же предпочитали связывать с конкретными агрессиями конкретные сегменты структуры. (Особое внимание, как мы помним, уделялось гипоталамусу.)
Посему А. Кунтц (Kuntz A. The Autonomic Nervous System, 1953), Е. Сепп, (1959), П. Анохин (1957), Г. Мэгун (1958), по сути, канонизировали «роль гипоталамуса в осуществлении эмоциональных реакций», обозначив его как главный подкорковый механизм ярости, боли, удовольствия и полового поведения.
Пикантность сексуальной тематики спровоцировала редкую серьезность и обстоятельность исследований всех аспектов sexualis agressio.
(Ridicule, но за все время исследования эмоциогенных функций systema limbica, опытов по изучению половой агрессии было проведено значительно больше, чем опытов, касающихся (к примеру) «материнской» materna agressio или «правовой» (агрессии самозаявления) justa agressio.
Серия известных экспериментов, проведенных в 1937–1938 гг. Х. Клювером и Р. Бюси с экстирпацией различных фрагментов лимбической системы, дала основание для очень эффектных заключений:
«Оперированные обезьяны становятся чрезмерно активными в половом отношении. У самцов наблюдается эрекция пениса, они усиленно облизывают его, сосут и иногда впадают в сон, удерживая пенис во рту. Обезьяны делают попытки спариваться не только с другими обезьянами, но и с любыми животными независимо от вида и пола» (Кluver H., Busi P., 1938).
Эксперименты Л. Шрейнера и А. Клинга, в ходе которых у кошек разрушалась амигдала, тоже приводили к гиперсексуальности подопытных, причем объектом их вожделения становились (в том числе) собаки и курицы (Schreiner L., Kling A. Behavioral Changes Following Rhinencephalic Injury in Cat, 1953).
А вот опыты А. Фишера, В. Инграма, С. Рансона (1950), Г. Мэгуна (1938), Е. Фонберга (1963), Д. Брукхарта и Ф. Дея (1940), в которых электрораздражение было перенесено ближе к супраоптической области гипоталамуса, дали полное исчезновение вообще всякого сексуального поведения. Примерно такие же результаты (стойкий анэструс) были получены Ц. Савиером и Б. Робинсоном (1956).
Д. Бауэр (1954) на основании весьма солидного клинического и (отчасти) экспериментального материала доказал, что гипоталамические структуры регулируют сексуальную агрессию и у человека.
Что же касается генерации других агрессий, то, несмотря на чуть меньшее количество экспериментов, и в этом вопросе тоже есть определенная ясность.
Установлено, что незначительные повреждения амигдалы (в дорсомедиальной области) вызывало резкое снижение хищнической агрессивности, а незначительная по степени экстирпация вентромедиальной ее части, наоборот, провоцировала вспышки предельной неконтролируемой ярости (Т. Ониани, 1980).
Разрушение задней части гипоталамуса дало удивительный эффект полной флегматичности и отсутствия вообще каких-либо эмоциональных реакций. (W. Ingram, R. Barris, 1936; S. Ranson, 1937), а электростимуляция септума провоцировала всплески необычайной эмоциональности (с уклоном в свирепость), причем провоцировалась не только хищническая, но и межсамцовая агрессия (J. Brady, W. Nauta, 1955; F. Sodetz, B. Bunnel, 1967).
Поражение передней части цингулярной извилины непомерно усиливает то, что можно было бы назвать бесстрашием, так как хищническая агрессия направляется на существ, значительно превосходящих по размеру, силе и «оснащенности» (М. Коридзе, Т. Ониани, 1972).
Х. Урсин и Б. Каада в результате серии экспериментов пришли к выводу, что «регулирующие механизмы реакции страха локализованы в ростральных частях латерального и центрального ядер миндалины, тогда как в более вентральных и каудальных частях этого комплекса локализованы механизмы, регулирующие реакции гнева» (Ursin H., Kaada B. Functional Localization within the Amigdaloid Complex in the Cat, 1960).
Опыты В. Смит показали, что реакция «удивительного послушания», полное отсутствие проявлений страха или злобы наблюдаются при почти полном комплексном разрушении амигдалы, грушевидной доли и гиппокампа (Smith W. Non Olfactory Functions of the Pyriform-amigdaloid Hippocampal Complex, 1950).
Л. Шрейнер и А. Клинг демонстрировали т. н. феномен полного укрощения и приручения диких кошек, наступающий в результате экстирпации всего амигдального комплекса: «После операции кошки, выйдя из наркоза, становились необыкновенно спокойными и послушными. У них полностью исчезала охотничья агрессия, даже если к ним в клетку или на морду помещали мышь. Не проявляли никакой агрессивности и на появление собаки или обезьяны. В последующие послеоперационные дни спокойствие сменялось развитием поражающей гиперсексуальности» (Schreiner L., Kling A. Behavioral Changes Following Rhinencephalic Injury in Cat, 1953).
Операции, проводимые К. Ливингстоном (1953) по удалению части цингулярной извилины у психически больных людей (65 случаев) «дали эффект в виде ярко выраженной эйфории, подчеркнутого выражения довольства, ликвидацию агрессий». (Цит. по: Замбржицкий И. Лимбическая область большого мозга, 1972. Табл. 9.)
J. Stamm, иссекая цингулярную область, получал эффект гиперсексуальности, но одновременно с этим и полную аннуляцию всех примет materna agressio (материнской агрессии). Обрушение materna agressio имело следствием не только безразличие при угрозе детенышам, но и забвение всех вообще «обязанностей материнства» (Stamm J. The Function of the Median Cerebral Cortex in Maternal Behavior of Rats, 1955).
Вообще, любые экстирпационные или электростимуляционные вмешательства в лимбическую систему имели следствием самые неожиданные результаты: от приступов немотивированной ярости до полной атрофии любых эмоций, от детонации всех видов агрессии (хищнической, межсамцовой, территориальной, материнской, половой, инструментальной et cetera) до проявлений полной покорности или непобедимой сонливости.
Обобщая опыт всех исследователей systema limbica, можно с определенной долей уверенности утверждать, что даже миллиметровые подвижки электрода или ланцета полностью меняли картину поведения с «яростной» на «сверхпокорную».
Любопытно, что порой результаты экспериментов опровергали друг друга или входили в существенные противоречия, возвращая нейрофизиологию если и не прямо к теории Дж. Папеца и П. МакЛина, то к пониманию того, насколько все первородные структуры мозга симфонизированы, взаимозависимы, «взаимопроникновенны», и к тому, что решающим фактором, вероятно, все равно остается аккордность функций, которая характерна для мозга вообще, а для его первородных механизмов – в особенности.
К примеру, гипоталамус, при всей его важности, scilicet, не всевластен даже в деле генерации простых и сложных эмоций.
Скорее уж всевластны связи меж формациями той древней лимбической системы, в которую он входит.
Воздействия на проводящие пути (связи) меж структурами лимбической системы оказывались столь же фатальны, как и воздействие на сами структуры.
К примеру, перерезка путей меж амигдалой и гипоталамусом резко ослабляла хищническую агрессию (P. Karli, M. Vergnes, 1964).
Чрезвычайно важным было и открытие Д. Фултона (1949), обнаружившего в лимбической системе механизмы не только активации, но и сдерживания агрессий: «Лимбические структуры, обеспечивающие выполнение сложных и противоположных по характеру функций, могут обусловить самые разнообразные типы эмоционального поведения. Пучки волокон, расположенные непосредственно впереди гипоталамуса, по-видимому, участвуют в подавлении ярости. Перерезка в этой области, сразу кпереди от гипоталамуса, делает животное столь неистовым, что оно разрушает все на своем пути» (Fulton J. Functional Localization in the Frontal Lobes and Cerebellum, 1949).
E supra dicto ordiri становится понятно, что вся systema limbica, вероятно, является высокосимфонизированным генератором эмоций и агрессий, работающим по принципу аккордного и (или) прямого взаимодействия структур. Ее точное картирование пока нереально, так как логика этой аккордности, как и логика прямых связей меж ее структурами, пока находятся in tenebris.
Sine dubio, роль гипоталамуса не сводится только к эмоциогенной функции. Его влияние вообще очень велико; разрушение, поражение или существенное раздражение этой структуры мозга радикально меняет терморегуляционные процессы всего организма, вызывает множественные трофические эрозии полости рта и внутренних органов, прободные язвы желудка, обрушивает сосудистый тонус, прекращает лактацию et cetera. (Исследования Н. Кушинг (1932–1937), Н. Бурденко и Б. Могильницкий (1926), J. Karplus, A. Kreidl (1909–1928), A. Keller, W. Hare (1933), J. Beattie, D. Sheehan (1934), Н. Боголепов (1963), J. Wherle (1951), Н. Соловых (1963), А. Сперанский (1934) et cetera.)
Более того, невозможны даже самые приблизительные нейрофизиологические трактовки, вчерне поясняющие связку «отдел-функция», так как все составляющие лимбической системы (судя по всему) либо многофункциональны, либо подчиняются принципу неведомой нам пока аккордности.
Строго говоря, ad interim в вопросе познания systema limbica нейрофизиология располагает лишь набором эффектных экспериментальных данных, прямо подтверждающих догму об агрессиогенной роли лимбической системы и очень косвенно – теорию Дж. Папеца и П. МакЛина. (Причем, скорее сам принцип теории, но не ее конкретные постулаты.)
Разумеется, это немного, но нам – вполне достаточно.
Подведем итоги.
Ergo, прошу обратить внимание на тот факт, что т. н. положительные качества возникают лишь как следствие разрушения или удаления части лимбической системы головного мозга или связей меж ее компонентами.
Да, absolute, ту или иную агрессию можно «убрать» из основ поведения, но только вместе с производящим ее анатомическим или физиологическим субстратом.
Да, поведение возможно изменить в т. н. лучшую сторону, но лишь ценой травмации древнейшей формации мозга, нарушения баланса меж ее структурами, ценой повреждения того загадочного симфонизма, который настраивался 400 миллионов лет.
Да, вследствие разрушения части мозга, вследствие «удаления» части systema limbica, а с ней вместе – и генератора той или иной агрессии, на этом месте образуется некая «пустота», а еще вернее – дисфункция. Она-то и может быть условно номинирована как (к примеру) «доброта», так как имеет все привычные для нашего интеллекта признаки проявления этого качества. Такое происходит (к примеру) при экстирпационном «отключении» царицы агрессий praedonia agressio, т. е. «хищнической».
Впрочем, не стоит забывать, что подчинение лимбической системы общему принципу работы мозга, т. е. «принципу возбуждения-торможения и их иррадиации», позволяет мозгу регулировать уровень активности эмоциогенных структур, в том числе сводя агрессии до полного минимума (в зависимости от обстоятельств).
Результат такой минимизации тоже может быть номинирован как «положительное» свойство, например, как «милосердие», «миролюбие» или «жалость». Но это всего лишь минимизация агрессии, вызванная иррадиацией торможения, возникшей как ответ на некую ситуационную необходимость, не более.
Разумеется, ни одно из исследований systema limbica среди врожденных мотиваций и побуждений не установило наличия того, что принято называть «основными добродетелями», определив место «стыду», «совести», «нравственному закону» et cetera в разряде мифов или атрибутики социальных игр.
Будучи биологически бессмысленными, такие свойства homo, тем не менее, объективно существуют, но лишь как смоделированные украшения сложных внутривидовых игр, ныне именуемых «общественными и личными отношениями».
Впрочем, стоит помнить, что «добродетели», как все искусственное, не только необыкновенно вариабельны, но и хрупки. Они никогда не выдерживают конкуренции с подлинными основами поведения, т. к. являются не более чем инструментом, применение или неприменение которого целиком зависит от обстоятельств, или декором, который и вовсе факультативен.
Примечательно, что и данный вывод отнюдь не является новацией. Более деликатно, но примерно то же самое высказал в своем итоговом труде «Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности» (1938) И. П. Павлов: «У высших животных, до человека включительно, первая инстанция для сложных соотношений организма с окружающей средой есть ближайшая к полушариям подкорка (лимбическая система), с ее сложнейшими инстинктами, влечениями, аффектами, эмоциями».
В качестве самой простой иллюстрации рассмотрим, exempli causa, «стыд» в самом прямом смысле этого понятия, т. е. как основу т. н. целомудрия.
Могу напомнить, что заключается канонический «стыд» не только в утаивании прямых или косвенных указаний на свою возможность к спариванию, но и в тщательном сокрытии самого факта своей физиологичности. Будучи важным декором социальных и межличностных игр во многих культурах, «стыд» романтизирован и возведен чуть ли не во врожденное свойство.
Публичная, ориентированная на очень большое число зрителей демонстрация (exempli causa) своего влагалищного лубриканта или labium minus pudenda приравнивается к психической неполноценности либо гарантирует остракизм.
Но… лишь по правилам одной из социальных игр.
По правилам другой социальной игры, предельно откровенная демонстрация гениталий, как в состоянии покоя, так и в режиме совокупления, является обязательным условием успеха и благополучия, а попытки утаить или замаскировать их – психической неполноценностью.
Под «другой игрой» я имею в виду порноиндустрию и те сотни тысяч женщин, которые в ней участвуют или участвовали с момента съемок первого порнофильма (Lear. Реж. E. Pirou, A. Kirchner, 1896) до наших дней.
(Что любопытно, но согласно простым статистическим подсчетам, психика этих сотен тысяч женщин остается интактна[25]. Различные проблемы «психологического» свойства, разумеется, у них возникают, но их процент не превышает процент наличия «душевных» проблем у учителей чистописания или офисных дам.)
Alias, «стыд» объективно существует, но не как врожденное свойство, а лишь как правило определенной игры. Он «есть» или «нет» лишь в зависимости от того, что именно востребовано на данный момент – наличие «стыда» или его отсутствие[26].
Данный факт имеет нейрофизиологическую апробацию: нигде, ни в одном сегменте эмоциогенного биологического механизма systema limbica мы не сможем обнаружить ничего, что хотя бы отдаленно можно было бы трактовать как «стыд» или «целомудрие».
Что неудивительно. Будучи биологически и эволюционно совершенно бессмысленными, эти мотивации и не могли бы обнаружиться среди врожденных движителей поведения.
Еще показательнее будет пример с т. н. врожденным нравственным законом.
Напомню, что «врожденный нравственный закон» – это очень объемное (но и крайне расплывчатое) понятие, объединяющее целый комплекс строго табуированных действий, желаний и намерений, комплектно «проживающий» в организме «носителя» и даже наделенный правом «голоса», т. н. совестью.
Здесь, конечно, сложно сохранять серьезность, но мы говорим не о забавности этого стереотипа, а о его важной роли в социальных играх, о его способности мотивировать и определять поведение. Такая способность, пусть и незначительная, но, несомненно, есть.
Любопытен, ceterum, не сам этот комплекс. Любопытна легкость и скорость его аннуляции под воздействием любых неблагоприятных обстоятельств.
(Repeto, сам «комплекс» и его «голос» крайне размыты и сильно варьируются в разных культурах и эпохах. Несомненно, «европейская совесть» XIX века имеет мало общего с европейской же «совестью», но XI столетия, и кардинально отличается от «совести» (exempli causa) воина племени миннеконжу любой эпохи.)
Мы, для чистоты эксперимента, возьмем в качестве образчика стандартную «европейскую совесть XX столетия», когда основные параметры этого мотиватора уже отработались и были закреплены как незыблемое правило общественной игры.
Более того, жестко очертился тот круг строго запретных действий и желаний, соблюдение которого и является «врожденным нравственным законом», внутренне озвучиваемым «совестью».
Напомню, что бытовое поедание человеческого мяса к XX веку является строжайшим табу, выводящим «поедателя» за пределы социума и всякой «психической нормы».
Отрезание трупу щек с целью их съедения, выбивание мозга из черепа, «разделка» человеческой туши для получения пользовательского доступа к тканям легких или к печени – позиционируется как нечто радикально противоречащее «врожденному нравственному закону», т. е. тому, что не может быть допущено «совестью».
Nihilominus, рассмотрев подробности авиакатастрофы 1972 г. в Андах (13 окт., Рейс 571), мы увидим беспроблемность в совершении именно этих действий. (Выбивание, отрезание, разделка, поедание.)
Напомню.
Рейс 571, имеющий на борту студенческую сборную Уругвая по регби, их родственников и спонсоров, совершил крайне жесткую посадку в безлюдном районе Анд. Погибло (в результате) 29 человек.
Все погибшие были (в разной степени) съедены оставшимися в живых.
Произошло это по причине отсутствия какой-либо другой еды, кроме трупов друзей и родственников, в течение двух месяцев.
Уцелевшие (и в конце концов спасенные) не утратили «психического здоровья», сейчас занимаются рекламой и пропагандой донорства внутренних органов, бизнесом и политикой (Goldman L. The Anthropology of Cannibalism, 1999; Tannahill R. Fles and Blood: a History of Cannibalism, 1996).
На этом примере мы опять-таки видим объективную неизбежность «перехода» из стилистики общественной игры – во власть подлинных мотиваторов и организаторов поведения любого позвоночного, т. е. агрессий. Усложнение обстоятельств (как видим) способно аннулировать любые искусственные мотиваторы.
(«Психологическая легкость» или «тяжесть» этого перехода особой роли не играет, т. к. мы имеем дело только с фактами, а не с их беллетристическим оформлением. В конце концов какая разница, какими именно словами сопровождаются поступки? Прошу заметить, что я сознательно взял современный, нейтральный, будничный, т. е. «химически чистый» пример; он не замутнен религиозными или иными иррациональными побуждениями, как у ацтеков или полинезийцев, он не обусловлен архаичностью персонажей, как у ранних homo, которые съедали любой человеческий труп, как и всякий другой, в принципе съедобный биологический объект, что мы видим на многочисленных археологических примерах раскопов Херцхайма, Монте-Чирчео, Хёне, Штейнхейма, Эрингсдорф, Крапины, Фонтешевадд, Саккопасторе, Нгандонг, Неандерталь, Гоуха (Сомерсет), Мугарет-эль-Зутие (Галилея) еt cetera.)
Прогрессист и романтик, блистательный маркиз Де Кондорсе (1743–1794) пафосно возглашал: «Разве возможно, чтобы наши родители, передавая нам возможности своей физической конституции, не передавали нам также понимание, энергию души и нравственность?».
Кондорсе, разумеется, совершенно прав. Передавали, конечно, передавали. Но требуется одно маленькое уточнение: нашими «родителями» были не только люди.
Более того, преимущественно не-«люди».
Нашими «родителями», начиная со звероящеров палеозоя, была впечатляющая эволюционная цепь существ, чей мозг «приспособительно» формировался в тех условиях, где сила и полноценность агрессий решали почти все, а «иные» качества были совершенно лишними.
Данное заключение позволяет поставить условную точку в вопросе о той «порочности» человека и его «вине», которые нам демонстрирует его «фиксированная история». Понятно, что другим homo быть и не мог, у него для этого не было ни малейшей нейрофизиологической возможности.
(Я оставляю за скобками биологическую бессмысленность терминов «порок» и «вина». Впрочем, при всей своей бессмысленности они недурны в роли «контрастного вещества», способствующего визуализации реальной картины.)
Закрыв вопрос о природе происхождения характера homo, вновь вернемся к палеоантропам и удивительному факту стагнации в их развитии.
Да, в течение двух миллионов лет происходили небольшие анатомические эволюционные дорисовки – происходило укрупнение protuberantia mentalis, уменьшение глабеллы и надбровных дуг, грациализация[27] пяточных костей, талусов et cetera. Но никакого отчетливого эволюционирования разума, параллельного этим мелким анатомическим изменениям, естественно, не свершалось, что позволяет делать вывод о независимости этих процессов друг от друга.
Atque следует напомнить, что на протяжении колоссального срока в 2 000 000 лет человек полностью довольствовался ролью животного, лишенного какой бы то ни было интеллектуальной жизни, хотя эндокраниальные особенности его черепа напрямую свидетельствуют об относительной развитости и полноценности мозга, eo ipso, о всех тех нейрофизиологических процессах, которые генерируют (в том числе) и полноценный личный разум.
Puto, что именно это противоречие и вынудило искать у палеоантропа тот скрытый фатальный дефект головного мозга, на основании которого ему в «разуме» все же можно было бы отказать.
Caput III
Лобные доли и их реальная значимость. Создание и крушение мифа. «Верховный орган головного мозга». Мнение И. П. Павлова.
Кочующие из исследования в исследование psittacinae repetitiones о некоей «неразвитости лобных долей» мозга древнего человека, которые чему-то там «препятствовали», основаны на простой морфологической неосведомленности, но чаще – на умышленной игнорации данных классической нейроанатомии и законов эволюции.
Лобные доли, преимущественно загруженные соматомоторными функциями, центрами тактильной, болевой, проприоцептивной чувствительности, не содержат ничего сверхъестественного, и никакой «роковой» роли в формировании разума, речи и мышления играть не могут. Они важны и крайне существенны, но абсолютизация их ничем не оправдана.
Secundum naturam, по их поводу существует несколько кардинально и жестко разнящихся точек зрения.
Рассмотрим их.
Очень серьезная плеяда нейроанатомов, нейрофизиологов и нейропсихологов: Ф. Мэттлер (иссл. 1949 г.), Краун (иссл. 1951 г.), Клебанов (иссл. 1951 г.), Ле Бо (иссл. 1954 г.), Сковилл (иссл. 1953 г.), Петри (иссл. 1953 г.), Тизар (иссл. 1958 г.), Шустер (иссл. 1902 г.), Пфейффер (иссл. 1910 г.), Монаков (иссл. 1910–1914 гг.) экспериментально установили и теоретически обосновали, что лобные доли не имеют никакой существенной роли в формировании психической деятельности человека.
Их выводы предельно корректно обобщил А. Лурия в своем капитальном труде «Высшие корковые функции человека» (2008):
«Как показали эксперименты, электрическое раздражение лобных отделов коры не вызывает никаких реакций… не приводит ни к параличам, ни к нарушениям зрения, слуха, речи или кожной чувствительности. ‹…›
Более того, отрицательные результаты, полученные исследователями, привели к мысли, что лобные доли мозга вообще не имеют самостоятельных функций, и что они являются своеобразным примером „избыточности“ среди других продуктов эволюции мозговой ткани» (Цит. по: Лурия. Высшие корковые функции человека, 2008).
Д. Хэбб был не менее категоричен (иссл. 1942–1945 гг.): «Даже резекция значительной части лобной доли может вообще не привести к сколько-нибудь заметному снижению интеллектуальных функций».
К отрицанию специальных высших психических функций лобных долей мозга склонялись Мунк (1881 г.), Гольц (1876–1884 гг.), Лючиани (1913 г.), а J. Hrbek (иссл. 1977 г.) резко обобщил проблему: «Приписывание лобной коре самых высших психических функций – традиционная догма, которая уже 150 лет задерживает прогресс научного познания».
Абсолютно весомым доводом против «лобной теории» стала серия экспериментов (электрораздражением) на живом человеческом мозге, проведенная У. Г. Пенфилдом, также признавшим, что значение лобных долей малосущественно. Пенфилд прямо пишет: «Мы не будем уделять особое внимание передней лобной области. Электрическое раздражение ее не вызывает никаких видимых эффектов, если не возникает припадок (эпилепсии)» (Пенфилд У., Джаспер Г. Эпилепсия и функциональная анатомия головного мозга человека, 1958).
И. П. Павлов, много занимавшийся этим вопросом и переживший в свое время очень серьезные крены в сторону «лобной теории», в результате демонстративно не включил в «сложную систему связей для осуществления сенсорных и моторных функций, наряду с такой же системой для „приобретенных навыков“ те участки лобных долей, что находятся кпереди от центральной извилины».
Сторонники очень красивой и эффектной «лобной теории» представлены преимущественно психологами или философами, далекими от практической нейрофизиологии и очень влюбленными в свою гипотезу, под которую они, порой, «подгоняли» нейроанатомию или вообще выдумывали несуществующие морфологические особенности мозга. Среди них есть крайне авторитетные ученые, но следует обратить внимание, что в большинстве предлагаемых ими обоснований доказательная часть ловко переносится из области научной – в область метафизики, мистики или беллетристики:
«Подходя к функции лобных ассоциативных полей, мы сталкиваемся лицом к лицу с теми видами деятельности, которые трудно описать в физиологических терминах» (Фултон, 1949).
Лобные доли трактовались как орган «абстрактного мышления» (Гитциг, 1874), «активного внимания» (Феррье, 1876), «апперцепции» (Вундт, 1873–1874), «субстрат регулирующего разума», «верховный орган головного мозга» (Грациоле, 1861).
Никаких внятных нейроанатомических данных к этой теоретике не прилагалось, но год от года гипотеза становилась все эффектнее и краше, и, наконец, под ее знамена подтянулись и настоящие нейрологи.
Первые обоснования предложил Бианчи (иссл. 1895, 1921 гг.), систематически занимавшийся экстирпацией лобных долей у животных. Следующим был Клейст (иссл. 1934 г.), который по своему обыкновению «наобнаруживал» в лобных долях все, что вообще было возможно, начиная от центра «терпения» до места дислокации самой «личности».
Идеи Бианчи и Клейста подхватили У. Фримен, Дж. Ваттс, К. Гольдштейн (иссл. 1948–1950 гг.), провозгласившие кору лобных долей «органом критического отношения к себе» и «органом способности к абстрагированию».
Гипотеза лобных долей стала еще прекраснее.
Затем И. П. Павлов (как раз в период своего «крена») поставил серию экспериментов и описал их следствия.
«…Если вы вырежете всю переднюю часть больших полушарий по той же границе, по которой вы вырезали заднюю часть, то перед вами будет, по-видимому, глубоко ненормальное животное. Это – совершенно исковерканное животное, у которого, по-видимому, не осталось никаких признаков целесообразного поведения» (Павлов И. П. ПСТ, 1949. Т. 3).
Илл. 22. И. П. Павлов в лаборатории Института экспериментальной медицины
Харлоу (1868 г.), Старр (1884 г.), Леонора Вельт (1888 г.), Ястровиц (1889 г.), Оппенгейм (1890 г.) предложили, как мне кажется, чуть менее значимые свидетельства последствий поражений лобных долей, так как описывали случаи тяжелых ранений или опухолевых последствий. Клинически и нейроанатомически описания были чисты и точны, но все они рассматривали обширные поражения, затрагивающие не только кору лобных долей, но и подлежащие, и смежные структуры.
Я уже упоминал, что И. П. Павлов поменял точку зрения по данному вопросу.
Иван Петрович почти нигде не уточнял, с чем была связана эта перемена взглядов, но, я полагаю, Павлов сделал поправку на чудовищную нечистоту эксперимента, неизбежную при экстирпации лобных долей. Впрочем, известны и слова самого Павлова:
«Большие полушария представляют собой сложнейшую и тончайшую конструкцию, произведенную творческой силой земной природы, а мы для ознакомления с нею применяем грубое, валовое отторжение тех или иных кусков».
Следует заметить, что здесь претензия к экстирпации как к способу научного познания выглядит еще достаточно абстрактно и как бы ни к чему не обязывает автора.
Это, скорее, мрачный вздох о несовершенстве мира вообще и научных методов в частности. Равно как и его второе, превосходно написанное, но тоже несколько обтекаемое заявление:
«Представьте себе, что нам предстоит изучить строение и работу бесконечно более простой и грубой поделки человеческих рук – какого-нибудь самого простого будильника. И вот мы, невежественно не различая частей его, не разбирая его осторожно, попросту удаляли бы при помощи пилы или другого какого-либо разрушительного орудия то восьмую, то четвертую и так далее часть часового механизма и таким образом собирали бы материал для суждений об устройстве и работе часов» (Павлов И. П. ПСТ, 1949).
Литературно это блистательно, но для нас важнее его строгое и взвешенное заявление о тех участках мозга, что располагаются кпереди от центральной извилины.
В следующей главе я позволю себе высказать предположение о том, что же могло так смутить Ивана Петровича, что он, по сути, отказался от результатов своих экспериментов на лобных долях.
Сам Павлов (подчеркиваю) этого не конкретизировал. Но дал возможность это понять.
Caput IV
Экстирпация. Травмогенность удаления фрагментов коры. Поражение подлежащих структур. Мистичность аргументов. Уродливые факты. Схема Кронлейна и Тейлора. Диктат черепа. Искусственные изменения формы черепа: долихокефалы, скафоцефалы et cetera.
Следует учитывать, что, описывая последствия «удаления лобных долей коры», мы никак не можем сбрасывать со счетов ту запредельно травмогенную суть процедуры, которая неизбежна при экстирпации (топэктомии).
Наиболее откровенное и подробное описание этого действа мы можем найти в диссертации Э. Н. Иванова «О центрах мозговой коры и подкорковых узлов для движения голосовых связок и для обнаружения голоса» (ИЭМ № 10744, 1899):
«Для производства трепанации собака привязывалась к доске животом вниз с вытянутой шеей, при этом морда ее привязывалась к верхушке металлического стержня доски так, чтобы голова и шея не лежали на доске, а были бы на весу – приподняты, иногда для этой цели под голову подкладывалась колодка. Когда собаку растянули таким образом, приступали к самой операции, выбривши, предварительно, шерсть на голове. Делался продольный кожный разрез на черепе, кожа отсепаровывалась, иногда большие лоскуты ее привязывались нитками, чтобы не мешали при дальнейшем ходе операции и при исследовании; далее, височные мышцы удалялись или целиком, или только часть их. Для удаления височных мышц ранятся довольно крупные артерии, поэтому приходится их зажимать торсионными пинцетами. Затем большею частью брался средней величины трепан – 2–2,5 см в диаметре, и производилась трепанация черепа обыкновенно над двигательною областью мозговой коры на той или на другой стороне, но чаще на обеих сторонах. В тех случаях, когда нужно было открыть большую поверхность мозга, трепанационное отверстие расширялось выламливанием костей черепа костными щипцами» (С. 80–81).
Но помимо простой травмогенности есть и еще одно крайне неприятное и ключевое обстоятельство, которого не мог не понять Иван Павлов, но об этом чуть позже.
Вслед за описанными Э. Ивановым процедурами следует прободение и вскрытие твердой мозговой оболочки и ее удаление.
Подлежащие под твердой оболочкой арахноидная и мягкая мозговые оболочки также должны быть удалены, что уже гораздо сложнее, так как pia mater не сферично настилается на кору, а в точности следует ее рельефу, глубоко заходя во все борозды меж плотно прилегающими друг к другу извилинами.
Удаление pia mater с сохранением всей сосудистой сеточки – сверхвиртуозная операция. Неудаление мягкой оболочки затрудняет всю процедуру, так как богатство пронизывающих ее сосудов обеспечит закровавленность операционного поля, а с учетом сложнейшего рельефа – бесконтрольное спускание кровяных масс книзу по бороздам, которое в результате даст скопление крови в pars orbitalis, гарантированный сепсис и быструю бессмысленную смерть.
(Как показывает опыт, при экстирпации вакуумные аспираторы не справляются, учитывая, что мозг пропускает через себя до 25 % минутного объема всей крови организма) (Василевский Н., Науменко А. Скорость мозгового кровотока и движение цереброспинальной жидкости, 1959). По другим данным (применительно строго к человеку) «в 1 минуту через мозг человека протекает 740 мл крови» (Potter J. Redistribution of Blood to the Brain due to Localized Cerebral Spasm // Brain, 1959. Vol. 82). С цифрой Поттера согласен и академик И. Стрельников в своем труде «Анатомо-физиологические основы видообразования позвоночных» (1970). Нетрудно заметить, что данные Стрельниковаи Поттера конфликтуют с традиционной цифрой 25 %, но с учетом того, что общая длина кровеносной системы в мозгу млекопитающих находится в пределах 500–560 км (Блинков С., Глезер И. Мозг человека в цифрах и таблицах, 1964), то, вероятно, и та и другая конфликтующие точки зрения имеют некоторые основания для своих выкладок.
Secundum naturam, здесь я описываю лишь малую часть подробностей и нюансов подготовки. Вне зависимости от того, как именно она производится, какова стилистика скальпирования, трепанирования, пропилов черепа, выемки оболочек и костного лоскута, обескровливания и ирригации, по своим физиологическим следствиям операция сама по себе является жесточайшей по степени шоковости. Трудно даже подсчитать, сколько лабораторных собак и других животных погибло во имя торжества «лобной теории», но красота, как известно, требует жертв. Особенно, красота гипотезы.
Но это, repeto, еще floriculi.
Сама экстирпация, или топэктомия, делается следующим образом: заточенная десертная ложка подводится в разделяющую извилины борозду (в данном случае это «роландова» – центральная борозда), и затем начинается медленное, кусочково-ленточное срезание участков коры головного мозга кпереди и вниз, по возможности следующее неравнотолстости извилин, т. е. волнообразное.
Несмотря на существование специального инструментария (кюреток[28], хирургических ложек), более удобным и точным инструментом для удаления коры головного мозга является обыкновенная десертная ложка, остро заточенная с одной или с двух сторон. Кюретка капризничает в руке, а хирургическая ложка неудобна из-за своей длины.
Экстирпация – процедура крайне сложная на живом мозге, учитывая своеобразие рельефа, различную (и внезапно различную) плотность участков, зыбкость фактуры, когда инструмент то скользит, то «вязнет», то внезапно начинает «собирать» и «мять» субстанционально странную структуру живой коры, напоминающую по ощущению мягчайший сыр, то обветренный, то свежий.
При этом стоит помнить, что примерно 70–75 % коры, которую необходимо удалить, скрыто в очень тесных глубинах борозд.
А вот тут начинается самое неприятное, по сути лишающее процедуру всякого научного смысла и значения и переводящее любые ее результаты в разряд банального подлога.
Давайте взглянем на коронарный срез через лобные доли мозга.
Мы увидим, что сложнорасположенные изгибы коры головного мозга, мягко говоря, неравновысотны, и что в петлях срезов любой из извилин находится substantia alba (белое вещество). Это то, что видно глазу при простом фронтальном срезе (Илл. 23a).
Отпрепаровка покажет, что снизу в кору вплетаются миллиарды волокон мозолистого тела (corpus callosum) – структуры сверхнежной и сверхсложной (Илл. 23b). Все это, естественно, при добросовестной экстирпации частично удаляется вместе с корой или фатально поражается.
Илл. 23a. Фронтальный срез мозга. Видны сложнорасположенные изгибы коры головного мозга, в петлях срезов любой из извилин находится substantia alba (белое вещество) (по Блинкову)
Илл. 23b. Волокна мозолистого тела (по Блинкову)
Иными словами, процедура «снятия» коры лобных долей оборачивается как тяжелейшими операционными травмами, которые сами по себе способны обеспечить то самое павловское «угнетение», так и необратимым разрушением еще нескольких отделов головного мозга. Отделить следствие поражения одной структуры от поражения других не представляется возможным, что обессмысливает экстирпацию и уводит ее из числа научных методов.