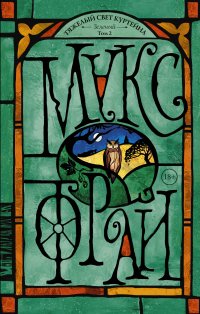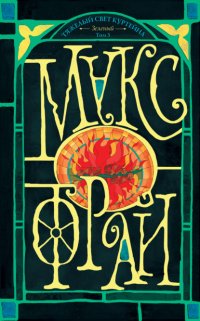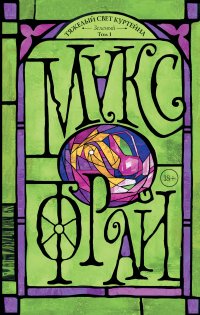
Читать онлайн Тяжелый свет Куртейна. Зеленый. Том 1 бесплатно
- Все книги автора: Макс Фрай
©Макс Фрай, текст, 2020
© ООО «Издательство АСТ», 2020
* * *
Любовь моя, цвет зеленый[1]
1. Зеленый немец
Состав и пропорции:
джин 75 мл;
зеленый яблочный шнапс 25 мл;
лед.
Наполнить олд-фэшн бокал льдом, налить в него джин, затем яблочный шнапс.
Эдо
Шел домой; на этом месте можно начинать смеяться. Ну или плакать, это почти все равно. Но он не плакал и не смеялся, а просто шел, заткнув уши плеером, в котором играла эта, как ее, ну, чудо-трубачка, в последнее время очень ее полюбил, слушать мог бесконечно, но имя пока не запомнил, у него всегда была цепкая память на впечатления и скверная на имена. Эту трубу услышал в кафе на площади, не живьем, конечно, а в записи, спросил: «Кто такой прекрасный у нас появился?» – «Не «такой», а «такая», совсем молодая девчонка, круто играет, да?» – вот это запомнил, ну, что она девчонка. А имя сразу вылетело из головы. И на флешке файлы назывались просто «truba-1», «truba-2» и так далее, всего девять труб. Это, конечно, была отличная идея – специальная флешка с домашней музыкой, чтобы слушать ее на Другой Стороне. А здешнюю музыку, симметрии ради, слушал только на Этой; на самом деле, пока всего-то два раза чуть-чуть послушал: там он не мог находиться подолгу и никогда не оставался один. Но ладно, ладно, мало ли как оно сейчас получается, все еще впереди.
В общем, слушал волшебную эту трубу и шел в то место, которое теперь считалось домом, временным, других ему не светило, да и черт с ним, вот уж это точно не горе, какая разница, где хранить вещи, мыться и спать.
Шел и вдруг увидел через дорогу яркие желтые фонари, такие уютные и приветливые, что даже наяву ну их на хрен к чертям собачьим, хватит с меня. Невольно скривился и отвернулся, вернее, хотел отвернуться, но успел заметить какого-то мужика, нерешительно, как ему показалось, топтавшегося у двери, над которой сияли желтые фонари, понял, что тот вот-вот толкнет дверь и войдет, и окончательно потерял разум, то есть по-настоящему, деятельно рехнулся, а не просто подумал что-нибудь странное, бросился через дорогу, слава богу, пустую, время-то уже за полночь, но это он потом уже понял – что поздно и дорога пустая, и спасибо, что это так, а тогда просто перебежал на другую сторону улицы, метнулся к нерешительному мужику с криком: «Не ходи, не надо тебе туда!» – и только после того, как мужик, нелепо вздрогнув всем телом, словно оно было призрачным студнем, исчез, подумал: боже, что я творю? Зачем пристаю к незнакомым людям на улице? Это не сон, это явь, не Маяк, а просто декоративные желтые фонари над входом – не куда ты сейчас подумал, а в самый обычный бар, человек покурить вышел, его внутри наверняка ждет компания, или брошенное на табурете пальто.
Стоял, пытаясь если не успокоиться, то хотя бы выровнять дыхание, старательно думал простые разумные мысли, уже понимая, что от них никакого толку, потому что явь-то она, конечно, явь, и под желтыми фонарями действительно вывеска «Amy Wine» и… в общем, еще что-то там, в пепельнице у входа дымится только что выброшенный окурок, из-за чуть приоткрытой двери доносятся хмельные веселые голоса, но мужик-то куда подевался? Он же реально исчез, нелепо и неуклюже, колыхаясь и дергаясь, как призрак из старого кинофильма, прямо у меня на глазах.
Долго еще топтался у входа в бар, не то чтобы даже всерьез рассчитывая понять, скорее, выбирая, что теперь обо всем этом думать, с какой версией будет проще ужиться, а с какой интереснее жить. То есть, ему самому казалось, что стоял там долго, целую вечность, а на самом деле секунд, наверное, двадцать. Наконец сказал себе: ладно, чего это я в самом деле, исчез и исчез, его личное дело, подумаешь, здесь у нас еще не такое бывает.
– Вот-вот. На себя посмотрели бы всего полчаса назад, когда под мостом возникли из полного ни хрена с такой наглой рожей, как будто так и положено, – это уже был не внутренний голос, а внешний, горячий щекотный шепот, словно кто-то невидимый даже не в ухо, а куда-то за шиворот это ему говорил.
Впрочем, почему «кто-то»? Ясно же кто. Знаем мы этого невидимого по имени, по всем двум дурацким его именам. Жители города Вильнюса одержимы абсурдной галлюцинацией в пижамных штанах. Ну, правда, не все подряд одержимы, а только некоторые избранные счастливчики; на самом деле, сарказм неуместен, действительно же счастливчики, просто по достоинству оценить это трудное счастье не всегда хватает душевных сил.
Ответил вслух, потому что с этой галлюцинацией иначе не договоришься, влом ей чужие мысли читать.
– Я уже сто раз вас просил человеческим голосом: являйтесь мне, когда захотите, только, пожалуйста, весь, целиком. Без мистических озарений и таинственных ангельских голосов. Какая из меня, в задницу, Жанна д’Арк.
– Ну такая, не очень, – легко согласился горячий шепот. – Хотя войско тоже запросто соберете, когда припечет. Я сейчас, если что, не нарочно морочу вам голову. Просто сплю, и мне снится, как встретился с вами на улице. А что при этом никак не выгляжу – просто техническая накладка. Во сне иногда бывает и так. Вы сами-то всегда во сне свое поведение контролируете? Вот и я нет.
Крыть было нечем. «Да и незачем крыть, – думал Эдо, сворачивая на улицу Пилимо. – Все равно свое черное дело этот негодяй уже сделал: окончательно сбил меня с толку. И настроение зачем-то без спросу поднял».
Эдгар
Проснулся в холодном поту, сердце так колотилось, словно убегал от погони и пробежал, как минимум, километра три. Янина тоже подскочила, испуганно спросила:
– Ты что, все-таки уснул? И все забыл?
Ответил, мотая головой, как будто только что вынырнул из моря и в уши попала вода:
– Да вроде бы не забыл.
Впрочем, без особой уверенности. Встал, подошел к окну. Подумал: жалко, отсюда Маяк не виден. Ладно, по крайней мере, я помню, что он вообще должен быть.
– У тебя все записано, – сказала Янина. – Ты сказал, если что, надо просто дать тебе ту тетрадь.
Кивнул, не оборачиваясь:
– Я без тетради помню. Все в порядке. Спасибо, Нинка. Ты лучше всех в мире. Прости, что разбудил. Трудно тебе со мной.
– Без тебя труднее, – отозвалась она. – Плавали, знаем. Не парься. Подумаешь, великое горе – разбудил.
Пока Янина говорила, окончательно пришел в себя. Нормально все. Память на месте, вообще все на месте, включая меня самого; собственно, начиная с меня. Ну правильно, так и должно быть, я же не уснул толком, только начал дремать. И не успел войти в ту дверь с желтыми фонарями. Даже за ручку не взялся. Спасибо тому чуваку. Интересно, кто он? Тоже сотрудник Граничной полиции Другой Стороны? Или кто-то из наших? Новенький? Старых-то я вроде всех в лицо знаю. Ладно, неважно. Кем бы он ни был, спасибо ему.
Отлип наконец от окна, подошел к постели, сел рядом с Яниной. Сказал:
– Как же все-таки круто, что ты есть на свете и живешь одновременно со мной. Правда, на Другой Стороне, ну и черт с ней, главное – ты есть. Не понимаю, за что мне такое счастье. И не пойму. И не хочу понимать. Давай-ка я тебя спать уложу и пойду, а то совсем расклеился. Глаза сами закрываются. По заднице бы им за такие дела.
– Ну это вообще нормально, что в начале второго ночи глаза слипаются, – вздохнула Янина. – Ты когда еще только пришел, уже было видно, что сильно устал.
– Устал, – согласился он. – Больше в одиночку в Элливаль не поеду, надо будет найти напарника, чтобы хотя бы половину пути не рулить, а спать. Сам понимал, что сперва надо выспаться, а потом уже все остальное. Но я тебя почти неделю не видел. Не мог сразу не прибежать.
– Я даже не буду говорить, что это ты зря, – улыбнулась Янина. – Хотя, по уму, все-таки зря.
– Ничего, – сказал он. – Сейчас пойду домой и продрыхну, наверное, сутки. А потом сразу опять к тебе. Я не зря в Элливаль съездил, отлично там заработал. Теперь долго можно никуда не мотаться, а просто спокойно жить… Тебе, кстати, когда платить за квартиру?
– Через неделю, не раньше, – отмахнулась Янина. – Пока ждет.
– Все равно лучше прямо сейчас деньги оставлю, – сказал он, поднимаясь. – А то я нас знаю, забудем потом.
Вышел в коридор, где висела его одежда, достал конверт из внутреннего кармана плаща, вернулся, положил его в шкаф на верхнюю полку. Спросил:
– Видела, куда засунул? Не забудешь?
– Не забуду, – пообещала Янина. – Кстати, слушай, давно хотела спросить: а где ты вообще деньги берешь?
– А то ты не знаешь. Сама же постоянно ржешь, что связалась с контрабандистом. И жалеешь, что никому нельзя рассказать.
– Я имею в виду, наши деньги. У вас там что, есть пункт обмена валют?
Пожал плечами:
– Ну естественно. И не один. Три банка официально меняют; о частных конторах уже и не говорю. У банков курс совершенно грабительский, а у частников иногда попадаются фальшивки, но я тут детектор купил, чтобы проверять, и теперь меняю по нормальному курсу. В общем, налажено у нас это дело. Когда чуть ли не треть населения время от времени мотается на Другую Сторону, без обмена валюты не обойтись.
– Смешно, – улыбнулась Янина. – Не знаю почему, но очень смешно. Пункты обмена нашей валюты в другом измерении! Это… ну, как пункт приема земной стеклотары где-нибудь на Альфе Центавра, для летавших к нам на выходные инопланетян.
– А кстати, пунктов приема стеклотары Другой Стороны у нас до сих пор нет, – сказал Эдгар. – Просто оказалось, никому это не надо. Выпивку отсюда многие носят, но бутылки не выбрасывают, оставляют на память. А лишние на барахолке продают; будешь смеяться, народ разбирает. В каждом доме хотя бы пара таких сувениров есть… Ты ложись давай. Тебе же завтра на работу в какую-то страшную рань. Вот так, молодец. За это я расскажу тебе сказку. Только если можно, не про обмен валюты, про это я ничего интересного не сочиню. О чем хочешь послушать?
– Про Элливаль расскажи, – попросила Янина, вытягиваясь под одеялом и закрывая глаза. – А то я пока знаю только, что там можно продать здешние сигареты вчетверо дороже, чем в вашем потустороннем Вильнюсе. Потому что далеко от границы и дефицит.
– На самом деле, Элливаль тоже Граничный город. Но граница там закрыта наглухо, причем не по какому-нибудь указу полиции, а сама по себе. Никто ее не караулит, просто из Элливаля невозможно пройти на Другую Сторону. Зато можно на нее посмотреть. Не из любого места, только из некоторых точек, но все горожане эти точки, конечно, знают наперечет и ходят любоваться видами Другой Стороны. У нас такого нет, кстати, сколько ни смотри, ничего интересного не увидишь, пока сам на Другую Сторону не придешь. А в Элливале – сиди себе и смотри на здоровье. Зато пройти, хоть убейся, нельзя. Почему так, никто точно не знает, но скорее всего, из-за мертвецов. На самом деле, сами элливальцы в этом уверены, хотя нет никаких доказательств. Ну, доказательств в подобных вопросах обычно и не бывает. Граница дело такое, темное. Ничего о ней невозможно понять человеческим умом.
Говорил таким специальным убаюкивающим шепотом, каким бабка когда-то рассказывала ему сказки на ночь – ни разу не смог дослушать ее до конца. Гладил Янину по голове, очень осторожно, едва касаясь волос, чтобы ласка не мешала ей засыпать. Любил ее очень. Сам не понимал, как так получилось. У многих случаются романы на Другой Стороне, но редко затягиваются надолго, все-таки мы слишком разные. Поначалу это как раз больше всего привлекает, но потом начинает действовать на нервы: люди здесь слишком тяжелые, осторожные, расчетливые и унылые, на то и Другая Сторона. «Но Нинка совсем не такая. Ну или я уже сам не такой, как нормальные люди, стал не таким, все-таки восемь лет прожил здесь настоящим человеком Другой Стороны, без памяти, даже без смутного понимания, кто я на самом деле. Ладно, неважно. Просто люблю ее очень, и все, – думал Эдгар. – И, положа руку на сердце, постоянно мотаться туда-сюда через границу – не самая высокая плата за то, что мы вообще хоть каким-нибудь образом друг у друга есть».
– Из-за каких мертвецов? – сквозь сон пробормотала Янина. – Это же самое интересное, а ты вдруг замолчал.
– А спать кто будет? – спросил Эдгар строгим уютным голосом своей бабушки. И сам рассмеялся от неожиданности, что так получилось. А Нинка сонно пробормотала:
– Я-а-а-а.
– Элливаль удивительный город, других таких нет, – продолжил Эдгар. – В Элливале мертвые не исчезают бесследно, как у нас и вообще везде, а становятся призраками и навсегда остаются среди живых. Почему так вышло, точно никто не знает, но, скорее всего, тамошние жрецы в старину чего-то не того намутили. Говорят, очень крутые были жрецы в те времена, которые теперь называются Эпохой Исчезающих Империй. Может, у кого-то из них зазноба молодой умерла, а может, для себя старались, сами не хотели навсегда исчезать. Сперва жители Элливаля были рады, что так получилось: даже если кто-то из близких умер, все равно можно хоть ежедневно встречаться и разговаривать. Со временем они научились обнимать своих мертвых, ну или мертвые сами придумали, как обнимать живых, а в барах стали подавать специальные благовония с запахами крепких напитков, способные радовать мертвых и даже их опьянять. Но число умерших со временем множилось, призраков в городе стало гораздо больше, чем живых, и теперь они там, можно сказать, за главных. Вроде бы ведут себя деликатно, стараются живым не мешать, селятся на окраинах, но все равно чувствуется, что Элливаль принадлежит своим мертвецам. Там такая, знаешь, совершенно особая атмосфера. Что-то вроде глубокой меланхолии; ладно, «меланхолия» это просто более-менее подходящее слово, на самом деле, не с чем сравнить. Не всем эта атмосфера нравится. То есть самим элливальцам нормально, они привыкли, а приезжим там нелегко. Я сам подолгу там не выдерживаю, три дня – мой потолок, а лучше вообще сдать товар и сразу уехать, даже не ночевать. Хотя некоторые наши, наоборот, прикипают сердцем и остаются там жить навсегда. Я троих таких знаю; собственно, один – старый друг, мой напарник, без него я бы этот бизнес не потянул… Ага, ты уже уснула. Вот и хорошо. Спи, моя маленькая. А я завтра приду, доскажу, – это он говорил почти беззвучно, медленно, чтобы не потревожить уснувшую Нинку, поднимаясь и отступая на цыпочках в направлении коридора.
Не разбудил.
Уже в подъезде вызвал такси до моста Короля Миндаугаса. На самом деле, идти тут совсем немного, максимум полчаса, но устал, как собака. Ну и, чего там, приятно лишний раз поддержать репутацию единственного в своем роде нахала, который ездит на свет Маяка в такси. Конечно, гораздо круче было бы возвращаться домой вообще без всякого Маяка, раньше иногда получалось, но после того, как застрял здесь на восемь лет, разучился. А может быть, дело не в том, кто где на какой срок застрял, а просто от Нинки уходить неохота. Все дело в желании, в том, чего хочешь на самом деле, а не поставил себе задачей. А желания, в отличие от поступков, штука неуправляемая.
То-то и оно.
Попросил водителя остановить на углу набережной, вышел, дождался, пока такси уедет, и неторопливо пошел к зданию, ослепительно сияющему ультрамариновыми огнями. Когда шел к Маяку первый раз после долгого перерыва, восемь лет прожив на Другой Стороне, чуть не сдох, так было тошно от этого синего света. А сейчас привык, ничего.
Вручил Тони Куртейну пачку вишневого табака – тот его однажды где-то попробовал и теперь ничего другого курить не желает, всех просит с Другой Стороны ему вишневый табак приносить. На благодарность привычно ответил: «Это тебе спасибо», – и почти бегом выскочил на улицу. Теперь домой. Спать. Наконец-то спать!
Ни о чем кроме сна думать не мог, но не лег. Открыл окно, уселся на подоконник, закурил и все-таки набрал номер Альгирдаса. Не стоит откладывать. Граничной Полиции надо такое знать.
Рассказал, как было: впервые за все это время нечаянно задремал на Другой Стороне и сразу увидел чертовы желтые фонари над дверью бара на улице Басанавичюс, возле мальчишки с калошей[2]; наяву там, кстати, действительно есть какая-то забегаловка, не помню, как называется, внутри ни разу не был, но мимо часто ходил. И про чувака, который прибежал с криком: «Не заходи, не надо!» – и разбудил. Что за чувак? Да черт его разберет, я толком не разглядел, может, из тамошней Граничной полиции? Нет, на смотрителя Маяка совсем не похож, что я, Тони Куртейна не знаю? Он здоровенный и белобрысый, такое и в темноте видно. Не смеши.
– Спасибо, – сказал Альгирдас, когда Эдгар закончил рассказывать. И, помолчав, добавил: – Понимаю, что нет смысла соваться к тебе с советами, все равно никого не слушаешь… Ладно, на твоем месте я бы и сам никого не слушал. Но ты бы хоть усталым туда не ходил.
Ответил:
– Да знаю, что дурака свалял. Но слушай. Я Нинку неделю не видел. Уезжал…
На этом месте осекся, потому что Альгирдас, как ни крути, полицейский. А он – контрабандист. Понятно, что Граничная полиция смотрит на это сквозь пальцы, им лишь бы люди не пропадали на Другой Стороне навсегда. Только потому, собственно, и ввели когда-то штрафы за контрабанду, что из-за нее куча неопытных любителей приключений влипает в неприятности. Но с меня-то что взять, пропащая душа.
А все равно рассказывать полицейскому, что ездил в Элливаль сбывать контрабандный товар, как-то – ну, предположим, неделикатно. Словно сам на себя настучал.
– Да что с тебя взять, – вздохнул Альгирдас, словно прочитал его мысли. – А то я не знаю, куда ты уезжал и по каким делам. Мне-то что, баба с возу, кобыле легче. Пока ты сбываешь товар в Элливале, ты не моя забота, а Граничной полиции Элливаля. Которой там все равно нет.
– Это они молодцы, – согласился Эдгар. – Зря городской бюджет не транжирят. Зачем им Граничная полиция? За покойниками следить? Я слышал, тамошние мертвецы на Другую Сторону шастают – только в путь. Но сигарет на продажу не носят. Такой уж они непрактичный народ.
– Зато ты практичный, – усмехнулся Альгирдас. – А помнишь, как хвастался, что стал богачом, и пальцем о палец теперь не ударишь? Слушать было смешно.
– Да я бы и не ударил, – ответил Эдгар. – Бездельником быть хорошо. Я бы, честно говоря, сейчас с удовольствием поучился чему-нибудь по-настоящему интересному. Например, резать по дереву. И заодно еще парочку языков.
– Ну так кто тебе не дает? – удивился Альгирдас. – Хочешь сказать, деньги уже закончились? Ты же не кутила. И не игрок.
Эдгар не собирался ему рассказывать. И вообще никому. Просто был сонный. И очень счастливый, что так удачно спасся от желтых огней. И размякший, как всегда после свиданий с Нинкой. Поэтому брякнул прежде, чем прикусил язык:
– Так я же дом покупаю. Двухэтажный с садом, на Белой улице. Три четверти сразу внес, а остальное надо заработать, и чем скорее, тем лучше. Просто чтобы закрыть вопрос.
– Зачем тебе такой здоровенный дом? – удивился Альгирдас. И тут же спохватился: – Извини, если лезу не в свое дело. Просто дом для большой семьи, а ты…
– А я один, – согласился Эдгар. – Но на самом-то деле совсем не один.
– Ты рехнулся? – прямо спросил Альгирдас.
Довольно обидный вопрос, если задавать его таким резким тоном. Но в устах человека, которому ты должен примерно полторы жизни за то, что он когда-то помог тебе, беспамятному и перепуганному балбесу, выбраться с Другой Стороны, вполне нормально звучит.
– Я помню про Первое Правило, – сказал ему Эдгар. – И нарушать его не собираюсь. Я себе не враг – любимую жену тащить сюда хитростью и в Незваную Тень превращать. Просто я, понимаешь, дураком уродился. И верю в чудеса.
2. Зеленый фонарь
Состав и пропорции:
дынный ликер 50 мл;
апельсиновый сок 50 мл;
содовая 50 мл.
Положить в стакан хайбол кубики льда, налить все ингредиенты.
Тони Куртейн
Проснулся, как от удара, бросился вниз, кутаясь на бегу в банный халат, хорошо, что под рукой оказался, никто в целом мире, на обеих его сторонах не нагрешил на внезапную встречу с голым смотрителем Маяка, – это он уже потом, задним числом подумал и посмеялся. А тогда было не до того.
В холле, ясное дело, дверь нараспашку – не та, через которую можно выйти на улицу, впустить, или проводить гостей, а другая, обычно невидимая, она появляется только когда возвращается кто-то с Другой Стороны; ну, Тони и не сомневался. С чего бы еще ему, едва задремав, вскакивать в начале шестого утра, когда все вокруг окутано предрассветным осенним туманом, синим, словно в него пролили банку школьных чернил.
На пороге лежал человек; слава богу, не просто лежал, а ворочался, пытаясь подняться хотя бы на четвереньки – значит, все с ним в порядке, нормально, сейчас прочухается. Всех, кто слишком долго был на Другой Стороне, поначалу мутит от света Маяка, некоторые даже теряют сознание, к счастью, уже на пороге, успев открыть дверь и войти. И этот красавец успел. Кто он? Я многих в городе знаю, но этого вроде бы…
– Тони Куртейн, – хриплым шепотом, прозвучавшим в предрассветной тишине громко, как колокольный набат, сказал лежащий на полу человек и сразу привстал, сперва на одно колено, потом подтянул другое, словно имя смотрителя Маяка было чудесным заклинанием, возвращающим силы; на самом деле, конечно же, нет.
Тони его подхватил, помог подняться, доволок до ближайшего кресла и только тогда наконец узнал. Здорово изменился, конечно. Другая Сторона всех меняет. И годы тоже меняют. А Бешеный Алекс сгинул лет пятнадцать назад.
– Тебе рому налить? – спросил Тони Куртейн. – У меня обычно есть хоть какой-то выбор, но последний коньяк с другом вечером выдули. Остался только ром.
– Да какая, к чертям собачьим, разница, – ответил Алекс. Но тут же добавил: – Спасибо тебе. Давай.
Выпил залпом; впрочем, сколько там было, четверть стакана, крепкий ром для того, кто только что пришел с Другой Стороны на свет Маяка, почти все равно что вода. Сказал на выдохе:
– Звони полицейским. Я же, получается, пришел им сдаваться. Только что вспомнил, что сбежал на Другую Сторону после того, как Черного Марюса убил.
– Помню эту историю, – кивнул Тони Куртейн, подливая ему еще рома; сам он сейчас спросонок даже смотреть на бутылку не мог. – Ты учти, можно не врать. Все знают, что Марюса убила Марьяна. Сперва действительно на тебя подумали – убил, сбежал на Другую Сторону, все сходится – но Марьяна сама пришла в полицию и призналась, когда узнала, что ты пересек городскую черту на Другой Стороне. На нее смотреть было страшно, так по тебе рыдала…
– Кккак пппризналась? – дрогнувшим голосом спросил Алекс. И, вероятно, заподозрив подвох, поспешно добавил: – За каким хером Марьянка призналась в убийстве? Это же не она!
– Да ну тебя в пень, – отмахнулся Тони Куртейн. – Мне-то зачем голову морочить? Полицейским, если хочешь, морочь, а меня эти ваши дела вообще не касаются. Но я слышал, против Марьяны сыграло не только ее признание, там куча других доказательств, улик, или как это правильно называется, была…
Стакан выпал из рук его гостя, но не разбился, а покатился к стене. Зато Алекс сам чуть не разлетелся на осколки, по крайней мере, со стороны это так выглядело, что Тони Куртейн почти всерьез приготовился собирать его по полу и складывать заново, как пазл.
– Если что, суд решил, это была самооборона, – сказал Тони Куртейн. – Потому что на самом деле именно она и была. Так что твоя Марьяна ни дня не просидела в тюрьме. Слышал, она пару раз пыталась подкупить контрабандистов, чтобы провели ее на Другую Сторону, сама-то она не умеет. Но вбила себе в голову, что если туда попадет, с памятью, или без памяти, а все равно как-нибудь отыщет тебя. Однако ничего у нее из этой затеи не вышло. То ли никто не захотел брать грех на душу, то ли она даже с помощником не прошла. Теперь в баре «Злой злодей» здесь, на углу работает. Я дружу с ее сменщицей Иолантой, поэтому кое-что о Марьяне знаю. Живет, если что, одна.
И отвернулся, потому что он, конечно, много на своем веку повидал, даже со своим двойником на Другой Стороне как-то раз сидел за одним столом, а это дело совершенно немыслимое. Но смотреть, как плачет Бешеный Алекс, бывший начальник портовой охраны, от взгляда которого мгновенно трезвел любой перепивший матрос, все равно перебор.
– А я-то, дурак, сбежал, не разобравшись, ничего даже слушать не стал, – наконец сказал тот. – Решил, если уж моя Марьянка не просто хахаля завела, а так крепко влюбилась, что убила его от ревности, нечего мне больше здесь делать. Подержался за рукоятку ножа, чтобы отпечатки оставить, и сбежал. Чтобы спасти ее от тюрьмы и никогда больше не видеть. И забыть навсегда. А оно, получается, совсем не так было. А как?
– Знаешь, давай я действительно позвоню в полицию, – предложил Тони Куртейн. – Все равно ты им нужен для разных формальностей, чтобы дело официально закрыть. Заодно расскажут тебе все подробности, а не городские сплетни, как я.
– Вот прямо среди ночи придут и расскажут? – опешил Алекс.
– А почему нет? В полиции круглые сутки дежурные есть. Не представляешь, как они обрадуются – первыми такую новость узнать! Ты вообще привыкай к мысли, что теперь тебе все будут рады. Чего доброго, на улицах станут останавливать, поздравлять с возвращением. Ну, тут ничего не поделаешь, придется терпеть. Когда человек, сгинувший на Другой Стороне, вернулся домой, это радость для всех.
– Ладно, – кивнул Алекс. – Тогда звони, пусть радуются. Может, и я за компанию наконец-то обрадуюсь. А то пока только умом понимаю, что все не настолько ужасно, как мне казалось. Может быть даже почти хорошо.
Ханна-Лора
– Ну ничего себе дела! – говорит Ханна-Лора. И с удовольствием повторяет: – Ну и дела!
Начальница Граничной полиции выглядит сейчас совсем не начальственно, даже по сравнению с ее обычным демонстративно неначальственным видом. Сразу видно, что вскакивать в такую рань не привыкла. И серый брючный костюм под тонким плащом подозрительно напоминает пижаму. Можно спорить, что это и есть она.
Тони Куртейн, хмурый от недосыпа, как небо перед зимней грозой, ставит на стол кофейник, старый, с облупившимся боком. Сколько пытался варить кофе в нормальной посуде, даже собрал небольшую коллекцию медных турок с Другой Стороны, но по-настоящему вкусно почему-то получается только в нем.
– О! Я же принесла круассаны, – хлопает себя по лбу Ханна-Лора. И достает из сумки бумажный пакет. – Еще теплые, по дороге купила. Шла к тебе мимо пекарни Тима, а он уже открылся как раз… Теперь ты не так сильно меня ненавидишь?
– А я тебя ненавижу? – удивляется Тони Куртейн.
– Ну, по идее, должен. За то, что так рано пришла.
– А-а-а-а, – не то вздыхает, не то просто зевает он. – Да нет, нормально. Чего откладывать. Я бы сам до вечера не уснул. Такое событие! С прошлого года никто из сгинувших на Другой Стороне домой не возвращался. Я уже начал думать, что-то снова пошло не так. И тут вдруг целый Бешеный Алекс пришел! Со своей любовью, ревностью, смертью и внезапно вполне счастливым концом, ну или наоборот, началом, это как посмотреть. Настоящая театральная драма в стиле Восьмой Империи… или все-таки Девятой? Я в литературных традициях не силен.
– Да обеих сразу, – улыбается Ханна-Лора. – Благо большой разницы нет… Алекс – дааа! Это он нам шикарный подарок сделал, конечно. Пятнадцать с лишним лет пропадал, а все равно вернулся. Такой молодец!
– Восьмой, – говорит Тони Куртейн. – Если считать Эдо, который только наполовину вернулся. И пришел не на свет Маяка.
– Восьмой, – повторяет за ним Ханна-Лора. Загибает пальцы, как школьница: – Блетти Блис, Аура, Вера, Беата, Квитни, Ванна-Белл. Ну и Эдо, конечно. Поди такого не посчитай! Чего доброго, узнает, рассердится и сам нас не посчитает. А потом догонит и еще раз не посчитает. И будем мы с тобой как дураки дважды непосчитанными сидеть!
Говорит и сама же смеется, и Тони Куртейн почти поневоле тоже расплывается в улыбке – не потому, что шутка хороша, просто такой уж человек Эдо, заговори о нем, и настроение как-то само поднимается, что при этом ни обсуждай.
– И вот Бешеный Алекс тоже вернулся, – отсмеявшись, заключает Ханна-Лора. – Лишь бы, конечно, теперь Марьяна его на радостях не прирезала за то, что тогда сбежал. Как любительница театральных постановок, я даже не то чтобы возражаю. Но по-человечески всех было бы жалко, сердце-то у меня есть.
– Шутки у тебя, – укоризненно говорит Тони Куртейн. – Вообще не смешно. Это же Алекс! Чтобы такого прирезать, ей целую банду придется нанять. Да и то не факт, что найдутся желающие. Нет уж, придется бедняжке просто мирно от счастья рыдать.
– Считай, я тоже рыдаю от счастья. Глупые шутки у меня вместо слез. Бешеный Алекс с Другой Стороны вернулся, ну надо же, а!
– А ты тоже думала, что теперь, когда Эдо нашелся, свет Маяка потускнеет и больше никому из сгинувших не поможет? – спрашивает Тони Куртейн.
В другой ситуации он, пожалуй, не стал бы так формулировать. Но спросонок ему свойственна угрюмая прямота.
Ханна-Лора укоризненно качает головой.
– Зачем думать всякую ерунду, когда можно сходить посмотреть, или просто спросить? Коллеги с Другой Стороны говорят: твой Маяк горит даже ярче, чем год назад. В иные ночи глазам больно делается на этот ужас смотреть. Его свет даже местные видят – не все подряд и не каждый день, но многие уже видели, факт. А наши контрабандисты иногда возвращаются без товара, жалуются: ничего не успели купить, просто нервы не выдержали твоего сияния, все бросили, развернулись и побежали домой…
– Это да, – невольно улыбается Тони Куртейн. – У меня тут недавно Милый Мантас скандалил, что Маяк стал слишком ярко светить, невозможно работать на Другой Стороне, отвлекает. Я ему посоветовал витамины от нервов попить.
– А еще лучше, сменить профессию, – подхватывает Ханна-Лора. – Благо пока несложно, молодой же совсем мужик… Вот видишь, что с людьми от твоего света творится! А ты говоришь.
– Ну все-таки после Эдо никто из сгинувших до сегодняшнего дня не объявлялся. Почти целый год с тех пор прошел, и все это время на свет Маяка приходили только те, кто город не покидал.
– Это как раз легко объяснимо. Во-первых, сгинувших вообще, слава богу, очень мало. В моем списке было девятнадцать человек. Значит, теперь осталось всего одиннадцать. Во-вторых, не факт, что все они до сих пор живы – надеюсь, что все-таки да, но люди, в принципе, не бессмертны. Тем более, на Другой Стороне, где медицина, прямо скажем, не очень, а человеческая жизнь пока далеко не везде в цене. Но даже если все живы-здоровы, черт их знает, где они поселились. Может, вообще на других континентах, а туда еще поди досвети…
– Так Алекс же из Нью-Йорка приехал! – оживляется Тони Куртейн. – Тебе еще не рассказали? Это самое удивительное в его истории! Прикинь, он в Нью-Йорке, на другом континенте, за океаном однажды увидел мой синий свет. Чуть не рехнулся от необъяснимой тоски по неизвестно чему, дождался отпуска и как миленький подорвался в Вильнюс, якобы навестить могилу родителей. Вымышленных родителей, которых у него никогда не было. Хотя могилу, говорит, все-таки разыскал, причем не где-нибудь, а на Бернардинском кладбище, где давным-давно не хоронят. Притом что его настоящая мать до сих пор жива и здорова… У меня, знаешь, иногда волосы дыбом от всех этих историй с фальшивой памятью о себе и прилагающимися к ней настоящими, весомыми, оснащенными тысячами свидетельств судьбами на Другой Стороне. Ум за разум заходит, в голову не помещается, какие там творятся дела!
– Да и в мою не то чтобы помещается, – задумчиво говорит Ханна-Лора. – Удивительное все-таки это место – наша Другая Сторона, где в чудеса почти никто не верит, хотя кроме них ничего толком нет… Ладно. Главное, Алекс вернулся. Да еще, оказывается, из-за океана. Тем лучше. Тем больше шансов у остальных.
– Если бы еще желтый свет Маяка никому не снился, – вздыхает Тони Куртейн. Он морщится, как от боли; впрочем, почему «как от боли». Боль от невидимой раны может быть настоящей. Иногда такой настоящей, что, считай, только она у тебя и есть.
– Ладно тебе. – Ханна-Лора встает, кладет на его плечо маленькую горячую руку. – Свет Маяка таков, каков есть, спасительный наяву, гибельный в сновидениях. Не ты его таким придумал. Не ты этого захотел. Ты и так делаешь гораздо больше, чем можно сделать. Такими кошмарами окружил этот желтый свет, что только конченый псих вроде уважаемого профессора Ланга мог от них отмахнуться. Но кстати, он сам говорит это потому, что ты ему в детстве страшные сказки рассказывал. И у него постепенно выработался иммунитет.
Тони Куртейн все еще морщится, но одновременно смеется. Потому что шутка и правда хорошая. Ну и, как уже было сказано, Эдо такой человек, что от разговоров о нем само собой поднимается настроение. Даже если по сути это совсем невеселые разговоры – как, например, сейчас.
– Все равно я бы дорого дал, чтобы этот проклятый желтый свет Маяка перестал сниться нашим людям на Другой Стороне, заманивать их в ловушку, навсегда, безвозвратно лишать настоящей судьбы, – наконец говорит он. – Умер бы ради этого, честное слово! Если бы точно знал, что поможет… Да не смотри ты на меня зверем, я и сам знаю, что ни черта оно не поможет. А ровно наоборот.
– Так-то лучше, – вздыхает Ханна-Лора. – Но на будущее учти, я девушка нервная, темпераментная. В следующий раз за такие разговоры я тебя, ну вот честное слово, просто отколочу!
– Имеешь полное право, – соглашается Тони Куртейн. И помолчав, добавляет: – Извини, что такую мрачную ерунду говорю. Жизнь прекрасна, совсем дураком надо быть, чтобы умирать. Просто трудно жить, никогда не зная, что сейчас несет людям мой свет – спасение, или погибель? Ну или наоборот, точно зная, что одновременно и то, и то. Эдо счастливчик, за него духи-хранители Другой Стороны кулаки держали и, как я понимаю, безбожно ему подыгрывали, нарушая все правила и законы природы. Вряд ли еще кому-то так повезет.
– Ну, мои люди, сам знаешь, тоже не сидят, сложа руки, – укоризненно говорит Ханна-Лора. – Будь спокоен, никто из наших, уснувших на Другой Стороне в пределах Граничного города на желтый свет Маяка во сне не пройдет.
– То-то и оно, что в пределах Граничного города. А одиннадцать человек пока живут – и спят! – в других городах, где нет твоих патрулей. И заранее ясно, что они не последние. Рано или поздно в твоем списке появятся новые имена.
– Ну так на то и свобода воли, чтобы человек мог сотворить со своей жизнью все, что захочет, – пожимает плечами Ханна-Лора. – В том числе, сгинуть с концами на Другой Стороне, выехав за пределы граничного города. Мы, конечно, будем останавливать всех, кого сможем поймать. И отговаривать. И, если понадобится, временно высылать. В этом году троих уже, кстати, сцапали. Двух не в меру романтичных девчонок и одного старика, который с какого-то перепугу решил, будто на Другой Стороне сможет снова стать молодым, хотя до сих пор ничего подобного не случалось, возраст человека остается прежним, даже когда переписывается судьба. И имя почему-то тоже остается прежним – вот это, кстати, для меня особенно удивительно. Казалось бы, подумаешь, великое дело – имя, доставшееся тебе в силу стечения обстоятельств и родительской воли, можно сказать, наугад. Но почему-то на Другой Стороне оно остается таким, каким было дома… Ладно, неважно. Не до парадоксов Другой Стороны мне сейчас. Я на самом деле только и хотела сказать, что ты лучший из смотрителей Маяка за всю историю его существования. Совершенно невозможные вещи делаешь. Не знаю, что будет дальше, но восемь безнадежно сгинувших ты уже спас. И несколько сотен сгинувших не совсем безнадежно. И еще паре десятков тысяч даже шанса сгинуть не оставил. И это неотменяемо. Не изводись, пожалуйста. Не грызи себя.
Я
Я сплю, и мне снится – на этом месте самое время самоиронично заметить: «история всей моей жизни», – но все-таки нет. Во-первых, не всей, а только части, а во-вторых, даже то, что у меня теперь вместо жизни, далеко не всегда похоже на сновидение. И сам я регулярно вполне себе наяву проявляюсь, а не только снюсь всем подряд.
Но вот прямо сейчас я сплю, и мне снится один из моих самых любимых снов, в котором я снова художник; по большому счету, я и есть художник, мы бывшими не бываем, но формально все же не совсем он, формально я сейчас – неизвестно что не пойми откуда, не факт, что вообще существующее и вряд ли имеющее правильное название хоть в одном человеческом языке.
Я сплю, и мне снится, что я выкладываю мозаику. Такое, кстати, действительно было, я имею в виду, в моей настоящей жизни, в очень давние, так и тянет сказать, что древние времена: внезапно увлекся мозаикой, забросил все остальные дела, почти полгода с утра до ночи складывал разноцветные кусочки смальты, керамической плитки, крашеной гальки, обкатанного водой бутылочного стекла, все вперемешку, в причудливые спирали, полосы, пятна, в перерывах покрывал черной эмалью осколки битой посуды и черепицы, все потом шло в работу, мне тогда постоянно мучительно не хватало тьмы, как Нёхиси ее не хватает летом, в июне, когда ночи так коротки, что их, считай, почти вовсе нет.
Я сплю, и мне снится, что я – начинающий юный художник, неопытный, неумелый, зато наглый и страстный, каким, собственно, был всегда, но одновременно и нынешний я, поэтому когда мне не хватает тьмы, я просто беру ее из какой-нибудь будущей зимней ночи, например, со второго на третье декабря, никто не заметит, что она чуть короче положенного, а заметит, так не заплачет – никто, кроме разве что Нёхиси, но он не станет сердиться, знает, что мне для дела, не просто так.
Я сплю, и мне снится, что когда в моей мозаике не хватает света, я беру сияющие фонари, наугад, откуда придется, какой подвернется под руку, и одновременно совершенно по-человечески думаю: так вот почему в городе иногда попадаются темные, словно до изобретения электричества переулки и дворы! Вот, оказывается, что порой происходит с нашими уличными фонарями, вот по чьей милости они среди ночи гаснут, а горожане привычно думают, мэрия виновата, или кто там у нас нынче ответственный за фонари. Но тут ничего не поделаешь: я художник, мне надо, на все остальное в такие моменты плевать.
Я сплю, и мне снится, что я упахался, как ненормальный, до темноты в глазах, но при этом не особо доволен результатом. На первый взгляд, мозаика вполне ничего получилась, композиция, форма, цвет и прочая ерунда на месте, но не хватает чего-то самого главного, ради чего я брался за эту работу, если не вовсе рождался на свет. Смысла? Масштаба? Чуда? Да, точно, чуда. Мне всегда мучительно не хватает чуда, даже когда кроме него больше ничего уже нет.
Я сплю, и мне снится, что я смотрю на свою мозаику с расстояния не то нескольких шагов, не то многих дней пути. И наконец понимаю, что все это время складывал не просто абстрактную композицию, а город, каким он видится с высоты. Наш ночной сентябрьский город, темный, сияющий фонарями, окутанный сразу двумя туманами – стекающим вниз по холмам и поднимающимся вверх от реки. Ясно теперь, почему я извел на работу столько фонарного света и будущей зимней тьмы. Но их по-прежнему не хватает, я вижу прорехи, у меня точный и ясный взгляд, а вот в голове сейчас каша, как это часто бывает во сне, поэтому никак не соображу, чем заполнить оставшиеся пустые пространства. И кстати, куда вообще подевались мои материалы, блестящие стекла, осколки черепицы, речная галька, искры света, лоскуты тьмы? Буквально только что была целая куча. Неужели уже закончились? Вот так, сразу все?
* * *
– Ты в порядке вообще? – встревоженно спрашивает то ли бездна, на дно которой я медленно опускаюсь, то ли небо, где я, кувыркаясь, парю, но на самом деле ясно, конечно, кто спрашивает. Кто еще может говорить со мной в моем сне, даже не потрудившись присниться, потому что он и так есть везде.
Нёхиси довольно смешно устроен: он, с одной стороны, всемогущий, а с другой, вот прямо здесь и сейчас все-таки не совсем, потому что в таком виде его ни один нормальный обитаемый мир не смог бы вместить. Поэтому в нынешней жизни Нёхиси то и дело случаются удивительные моменты, когда он не понимает, что происходит, и как теперь быть, и от этого совершенно теряется. Он к такому не привык, еще недавно сама постановка вопроса показалась бы ему нелепой: как может чего-то не понимать тот, кто вносит полную ясность в происходящее самим фактом своего присутствия? Обычно Нёхиси это нравится, с его точки зрения, растерянность – самое интересное, что вообще может быть. И вот прямо сейчас с ним случилось это самое интересное: смотрит на меня и не понимает, что происходит. Но ему почему-то не особенно это нравится, его тревогу и огорчение я чувствую даже во сне.
– Ни за что не стал бы тебе мешать, – говорит Нёхиси, – но со стороны ты сейчас выглядишь как-то не очень. Вообще непонятно, живой или мертвый. Люди так бездыханно, по идее, не спят.
Тоже мне нашел человека, думаю я, не просыпаясь; впрочем, сугубо технически я местами вполне себе человек. По крайней мере, у меня должен быть, как минимум, пульс. И дыхание. И что-то еще в таком роде. Кровяное давление, например. А я так увлекся сном про мозаику, что напрочь о них забыл, как раньше забывал за работой поесть, выпить воды и даже сходить в туалет. Это я зря, конечно. К жизни следует относиться ответственно, особенно пока она – органическая жизнь.
Подыши пока за меня, пожалуйста, если тебе не трудно, не просыпаясь, думаю я. А то у меня работа в разгаре, я выкладываю мозаику, мне нельзя отвлекаться на ерунду. Где-то я тут налажал, а в чем – не пойму. И еще материалы то ли закончились, то ли просто куда-то пропали. Именно так в моем понимании и выглядит по-настоящему страшный сон, но просыпаться, пока не закончил работу, не вариант. Черт его знает, когда мне этот сон снова приснится. Может, вообще никогда. Так и останется болтаться в недоделанном виде в каком-нибудь тайном архиве внезапно оборвавшихся сновидений. Ненавижу незаконченные дела.
– А, мозаика! – говорит Нёхиси, переходя на совсем уж неощутимый шепот, чтобы меня не разбудить. – Это когда берут фрагменты разных реальностей и перемешивают? Хорошее дело. Обычно очень красиво получается, что ни смешай.
Он что-то еще говорит, вероятно, обещает хорошенько за меня подышать, или, наоборот, уверяет, что дыхание – необязательное излишество, он вообще-то страшный лентяй, но я больше его не слушаю, погружаюсь все глубже в сон. Как же вовремя Нёхиси мне напомнил, что такое мозаика с точки зрения всемогущего существа! И теперь наконец-то понятно, чем я собирался заполнять прорехи в мозаике, зачем вообще все это затеял, и что должно получиться в итоге – ну, то есть, по моему замыслу, должно получиться. А как будет на самом деле, черт его знает. Впрочем, не знает и черт.
Я сплю, и мне снится, что я выворачиваюсь наизнанку – наяву я так пока не умею, зато во сне это очень легко. А когда во сне выворачиваешься наизнанку, все, что в этот момент тебе снится, выворачивается наизнанку вместе с тобой. Вот и город – моя мозаика и одновременно настоящий, живой – тоже вывернулся, перестал быть самим собой, и сейчас передо мной сверкает, как груда пиратских сокровищ в детских мечтах, наша городская изнанка, так называемая Эта Сторона.
Я часто вижу Эту Сторону наяву, то издалека, то на расстоянии вытянутой руки, так что знаю ее сияющие проспекты и тайные закоулки не хуже иных старожилов. Иногда захожу туда весь, целиком – тайком и совсем ненадолго, чтобы не нарушить хрупкое равновесие, хотя будь моя воля, гулял бы там и гулял. И столько уводящих туда Проходов собственноручно открыл, что если бы все население города Вильнюса внезапно пожелало немедленно ими воспользоваться, очереди были бы примерно как в большом супермаркете к кассам самообслуживания, то есть не особенно велики. А вот во сне я Эту Сторону до сих пор не видел – разве что в детстве, как почти все дети, а потом, как и они, забыл.
Но вот прямо сейчас в этом сне изнанка нашего города – просто моя палитра, мой склад рабочих материалов, да такой роскошный, что руки трясутся от жадности, самое время захапать побольше и быстро удрать. Но я, слава богу, не такой невменяемый, каким обычно с удовольствием притворяюсь. На самом деле, для человека в моем положении, вернее, для существа, которым этот человек стал, я даже слишком вменяемый. И рассудительный. И практичный. Хорошо, что об этом никто не догадывается, а то задразнили бы. Но сейчас-то я сплю, и за мной никто не подсматривает, разве что Нёхиси, но он особо дразниться не станет, он беспредельно милосердное божество, поэтому можно внимательно оглядеть раскинувшуюся передо мной груду пиратских сокровищ, спокойно выбрать среди них то, что понадобится для работы, и аккуратно собрать в подол пестрого ситцевого сарафана – вот интересно, почему именно сарафан? откуда он вообще взялся? это моя домашняя пижама так на изнанке выглядит? или просто я вот до такой степени псих?
Правильный ответ – да какая разница. Важно, что в подол сарафана очень удобно складывать нужные мне для завершения мозаики яркие теплые янтарно-желтые огни, а потом крепко держать добычу, прижав к животу, чтобы не потерялась, когда мы вместе станем выворачиваться обратно, на лицевую сторону, в почти нормальный человеческий сон о том, как я художник и выкладываю мозаику, и у меня офигительно получается, вот теперь точно – да.
Я открываю глаза и сразу же понимаю, почему так долго не мог проснуться. Поди проснись, когда у тебя на груди привольно разлегся кот, теплый и такой тяжеленный, что поневоле вспомнишь, как Тор пытался поднять (и, вероятно, вусмерть затискать) Ёрмуганда, прикинувшегося котом, но смог только заставить его оторвать одну лапку от пола[3]. А уж с меня тогда какой спрос.
– Ты успел закончить свою работу? – строго спрашивает кот и спрыгивает на пол с таким громким стуком, что ощутимо вздрагивает не только весь дом, но и холм, на краю которого он стоит.
– Работу, – сонно повторяю я. – Какую работу?.. Ай, ну да, мозаика. Знаешь, вроде закончил. Понятия не имею, что из этого выйдет, но слушай, какая же получилась красота!
– Тогда ладно, – говорит Нёхиси, постепенно приобретая условно антропоморфный вид, пока с когтями и перьями, а каким обликом дело в итоге кончится, невозможно пока предсказать. – Я за тебя, между прочим, дышал, как каторжный, – укоризненно добавляет он.
– Устал?
– Устал – не то слово. Я упахался! Это даже трудней, чем ночь напролет посуду мыть. Не представляю, как вы все справляетесь – вот так, без перерывов на отдых, в поте лица, всю жизнь.
Небо за окном раскалывается надвое, вспыхивает молния, по оконным стеклам начинают стучать тяжелые капли дождя и даже, кажется, самые настоящие градины. Так мы вообще-то не договаривались. Как раз перед тем, как лечь спать, я честно выиграл в покер солнечный теплый сухой конец сентября, но теперь тактично помалкиваю. Нёхиси в своем праве, для него устроить бурю – то же самое, что для обычного человека пропустить стаканчик после тяжелой работы, просто чтобы расслабиться. Свинством было бы с моей стороны возражать.
3. Зеленый шум
Состав и пропорции:
базилик
джин 30 мл;
огуречный сироп 15 мл;
ликер из цветов бузины 20 мл;
сок лайма 15 мл;
просекко.
На дне шейкера размять пару листьев базилика. Добавить все остальные ингредиенты, кроме последнего, лед, встряхнуть.
Процедить в охлажденный бокал для шампанского, долить просекко и аккуратно перемешать.
Тони
Тони вынимает из духовки один за другим шесть яблочных пирогов. Строго говоря, в этой духовке можно одновременно испечь только два пирога. Теоретически третий противень сюда кое-как втиснется, но на практике это будет полная ерунда – слишком низко или, наоборот, чересчур высоко. Поэтому Тони всегда ставит в духовку не больше двух пирогов зараз, а вынимает – ну, сколько получится. Иногда, как сейчас, бывает нефиговый навар.
Головокружительный яблочный запах ползет по залу, как поземный туман из оврага, медленно, но неумолимо заполняет собой все пространство, отменяет прочие ароматы, как бьет все карты, вне зависимости от достоинств, козырный туз. Даже тапер, которому снится, как он здесь играет, внезапно перестает играть. Но не исчезает, в смысле, не просыпается дома, в такой момент просыпаться ищи дурака. Теперь ему, надо понимать, снится, как он нетерпеливо смотрит на Тони – не тяни, давай разрезай!
– Это уже третье за вечер покушение на мою жизнь и рассудок, но сейчас ты близок к успеху как никогда, – меланхолично говорит Стефан. Он всегда одинаково шутит по поводу Тониных пирогов, и сам понимает, что одинаково, и всем уже давным-давно не смешно слушать про покушения, но ничего не может с этим поделать. Говорит, это у него такой условный рефлекс.
– А ведь могла бы сейчас сидеть дома, как дура, – мечтательно улыбается Эва. – Но не сижу.
Все вокруг, бодрствующие и спящие, люди, оборотни и застенчивый юный шарский демон с внешностью нормальной человеческой девчонки-подростка и непроизносимым именем, что-то вроде «Рхмщлщ», которого, как котенка подобрала на улице Кара и привела сюда покормить и сдать на руки Стефану, чтобы отвел домой, синхронно кивают – дескать, и мы, и мы могли бы, как последние идиоты, но ведь не сидим, не сидим!
– Это пироги с падшими яблоками, – торжественно объявляет Тони. – Ни одного из них не сорвал, все подобрал с земли. Яблоки, как и ангелы, падшие – самые вкусные… я хотел сказать, самые лучшие, насчет вкуса как раз точно не знаю. Чего-чего, а падших ангелов я вроде пока не ел.
На этом месте дверь кафе распахивается настежь от такого сильного порыва ветра, словно ужасный тайфун «Факсай»[4], прознав о Тониных яблочных пирогах, бросил терзать Японские острова, устремился к нам и вот наконец долетел.
Впрочем, с первого взгляда ясно, что никакой это не «Факсай», очень уж аккуратно он пролетел по проходу, ни единого табурета не уронил, зато щедро насыпал всем на тарелки желтых березовых листьев, звезд из серебристой бумаги и почему-то розовых лепестков, после чего утих, напоследок захлопнув входную дверь и оставив на барной стойке тело, к счастью, не мертвое, а даже несколько более живое, чем обычно ожидаешь от тел, принесенных ветром. Возмущенно размахивающее руками, хохочущее до слез, которые натурально текут по щекам, и орущее: «Положи меня на место!»
– Ну так вот же, положил. Здесь твое место, – говорит ветер, то есть уже не ветер, а огненное колесо, медленно вращающееся над плитой, то есть не колесо, а гигантская темная тень, то есть не тень никакая, а Нёхиси, безупречно антропоморфный и одетый так тщательно, словно собрался на хипстерскую вечеринку, только почему-то с красными водорослями вместо бороды.
– И ведь хрен возразишь, – соглашается жертва тайфуна, спрыгивая со стойки и полой пальто сметая с нее шесть пустых и два полных стакана. Впрочем, посуда у Тони к таким эксцессам привычная, она не падает на пол, а взлетает к потолку.
– Это ты сейчас красиво зашел, – одобрительно говорит Стефан. И поворачивается к Нёхиси: – Спасибо, что выгрузил это счастье на стойку, а не как в прошлый раз – мне на колени. И даже не на чей-нибудь стол.
– Ну, я всегда стараюсь быть аккуратным, насколько это возможно в текущих условиях, – отвечает Нёхиси. – А в прошлый раз, что бы ты об этом ни думал, не согласно какому-то зловещему замыслу, а совершенно нечаянно его на тебя уронил.
На этом месте наконец вступает нестройный хор: «Ну наконец-то!» – «Где тебя черти носили?» – «Куда ты аж на неделю пропал?»
Тони пока молчит, потому что режет свои пироги. Еще решат, чего доброго, будто это он с ними сейчас разговаривает, начнут наперебой отвечать, и как их потом есть, таких разговорчивых? Вот это был бы провал! Но мысленно он присоединяется ко всем вопрошающим, причем возмущенным тоном. Потому что – ну, елки, это и правда не дело так надолго ни с того, ни с сего исчезать. Ясно, что все мы время от времени заняты, у всех бывают дела, но что это за дела такие, что нельзя заскочить хотя бы на четверть часа? Вон даже Стефан почти каждый вечер заходит, хотя вот уж кто по-настоящему занятой человек, а здесь, в отличие от его дома, время все-таки вполне обычным ходом идет.
– Да я спал просто, – отвечает Иоганн-Георг (слава богу, имя пока на месте, не потерял где-нибудь по дороге, надо же, какой бережливый стал) и выхватывает кусок пирога прямо из-под ножа.
По Тониным меркам, это практически преступление, но преступник примирительно говорит:
– Не серчай, что лезу под руку, радуйся, что хотя бы ее не кусаю, я неделю не жрал.
– Что, правда неделю? – изумляется Тони. – Ты зачем в аскезу ударился? Немедленно перестань.
– Так уже перестал, – мычит тот с набитым ртом. И, проглотив кусок, объясняет: – Говорю же, я спал. Очень крепко. И, к сожалению, без единого лунатического припадка, во время которых можно что-нибудь схомячить втайне от самого себя. Очень на них рассчитывал, но я, как внезапно выяснилось, от природы совершенно не склонен к сомнабулизму. За это и пострадал.
– Я даже пару раз проверял, жив ли он, – вставляет Нёхиси. – Думал, вот будет номер! Я же до сих пор еще ни разу представителей вашего вида не воскрешал. Теоретически должно получиться, но непонятно, с какого конца начинать. А вдруг получится зомби, как в кино? И куда я его потом дену? Но обошлось.
– А просто разбудить в голову не приходило? – невинно осведомляется Стефан.
– Ну так свобода воли же, – разводит руками Нёхиси. – Пока человек жив, его воля священна. А он очень просил не будить.
– Но почему? – спрашивает Тони.
– Так было надо, – говорит Иоганн-Георг. То есть, не то чтобы именно говорит, скорее, издает отдельные звуки, те немногие, которым удается пробиться через пирог: «А ыо ада».
Ладно, допустим, действительно «ыо ада». Как скажешь, дорогой друг.
От пирога, меж тем, осталась уже половина. И продолжает стремительно убывать. «Хорошо, – думает Тони, – предположим, я с самого начала вынул из духовки только пять пирогов. Или даже четыре, потому что Нёхиси тоже явно голодный и уже тянет к противню семипалую от вожделения руку. Все с ним ясно. И с пирогами. Значит, шесть минус два».
И быстро-быстро, пока необратимый процесс вычитания окончательно не обездолил всех остальных гостей, распределяет уцелевшие пироги по тарелкам. Ну, слава богу, вроде бы всем хватило. И даже себе оставил немного, буквально на два укуса… ой, нет, на один укус. «Все-таки четыре пирога слишком мало, – огорчается Тони, распробовав. – Впрочем, яблочных пирогов всегда слишком мало, сколько ни сделай», – печально думает он.
– Хочешь, я за это кофе сварю? – предлагает главный виновник скорбного вычитания. И, выдержав паузу, добавляет: – Причем вообще всем желающим. Но первому, конечно, себе. И тебе.
А Нёхиси молча достает из-под стойки корзину с остатками падших яблок. И начинает их чистить. И нарезать на куски.
– Я бы и тесто сам вымесил, – наконец говорит он Тони. – Но у тебя почему-то всегда получается лучше. Короче, давай по-быстрому напечем еще пирогов.
– Я могу взбивать яйца, – вызывается Жанна. – Ты же луддит, миксер терпеть не можешь, так я руками тебе взобью.
– А я могу никому не мешать, – говорит Стефан, так веско, что всем сразу становится ясно: это нам крупно повезло.
Предпоследние гости уходят уже под утро, а последние никуда не уходят – Стефан с юным шарским демоном Рхмщлщ, который, впрочем, наелся, угрелся и спит, свернувшись клубком на слишком коротком диване. Ни дать ни взять, настоящий помойный котенок, впервые попавший к людям, хотя с виду вполне человеческая девица, с такими кудрями, скулами и коленками, что где мои семнадцать лет, в смысле, семнадцать тысяч малых огненных трансформаций, думает Тони. К этому возрасту, по утверждению Стефана, шарские демоны как раз понемногу начинают взрослеть – ровно настолько, чтобы их отпускали на прогулки без старших. Похоже, зря. Не во всякой реальности найдется волшебный помощник, способный отвести ребенка домой. Или на самом деле во всякой? Был бы заблудившийся шарский демон, а помощник приложится? Предусмотрительно родится в нужном месте, за сколько надо столетий до рокового визита и будет прилежно учиться, чтобы к моменту встречи все уже знать и уметь?..
– Вообще-то вполне может быть. Эти непоседы ужасно везучие, не удивлюсь, если в итоге окажется, что вселенная придумана исключительно для удовольствия шарских демонов и вращается вокруг них, а все мы со своими великими целями, грандиозными планами и неизъяснимыми смыслами нужны только затем, чтобы однажды в нужный момент оказаться у них на пути, – говорит Стефан, отвечая на Тонины мысли.
Он их не нарочно читает, просто Тони иногда слишком громко думает, буквально орет, видимо, чтобы двойнику было слышно. Сам знает за собой такой грех.
Рыжий кот, в которого успел превратиться Нёхиси, потому что теперь пришла его очередь как следует выспаться, возмущенно дергает ухом во сне. Дескать, имей уважение и хотя бы в моем присутствии подобную чушь не неси.
– На самом деле, я так не думаю, – улыбается Стефан. – Просто мне нравится допускать все что угодно, верить в собственное бредовое предположение и потом очень долго, например целых десять секунд кряду, с этой верой жить. Очень бодрит!
Теперь юный шарский демон дергает – не ухом, а бровью, но тоже вполне возмущенно. Дескать, хорошо же рассказывал, почему вдруг сразу «бредовое предположение»? Пусть вокруг нас действительно вертится мир! Но не просыпается, а только переворачивается на другой бок, устраиваясь поудобнее. Тони накрывает девчонку пледом.
– Отведи уже ребенка домой, – говорит Стефану Иоганн-Георг. – По твоим же словам, существовать в человеческой форме для них все равно что нам бегать по городу в фанерных доспехах. Не смертельно, но качество жизни сильно не то.
– Ничего, потерпит, – отмахивается Стефан. – Так и тянет сказать: «В следующий раз будет вести себя осторожней и куда попало не лезть», – но врать не стану. Не будет. Завтра же скажет: «У-у-у, было круто, хочу еще!» Я этих красавцев хорошо знаю. Все как один балбесы, хуже тебя.
– Наши люди! Хоть и не люди, – одобрительно кивает тот, отправляя в рот даже не последний кусок, никаких кусков не осталось, все смели подчистую, а последнюю черствую хлебную корку. Можно начинать рыдать.
– Ребенок, между прочим, из-за тебя страдает, – говорит ему Стефан. – И дальше будет страдать. Никуда не пойду, пока не узнаю, зачем ты дрых неделю, не просыпаясь. Ты вообще не забыл, что пространство городских сновидений – подведомственная мне территория? Что ты там замутил?
– Да так. Решил кое-что переставить с места на место. Правда, я пока не уверен, что у меня получилось. Не хотелось бы хвастаться зря.
– Чем именно хвастаться? – хмурится Стефан. – Что ты там переставлял?
– Да считай, просто пару лампочек выкрутил в чужом подъезде и вкрутил в своем. Знаешь, бывают такие хозяйственные воришки, выкручивают соседские лампочки и волокут к себе в дом. Вот и я туда же, – ухмыляется он и за неимением черствых корок достает из корзины последнее битое яблоко, не поместившееся в пирог.
На этом месте у Тони не выдерживают нервы, он встает, разжигает плиту, ставит на нее сковородку и спрашивает:
– Будешь омлет?
– Буду, – вздыхает тот. – Похоже, я превращаюсь в голодного духа, как их описывают в поучительных эзотерических брошюрах. Симптомы налицо! Этого еще не хватало. Говорят, от такой напасти даже таблеток нет.
– От всего есть таблетка, – утешает его Стефан. – Моего изобретения. Называется «по башке». Но прописывать, ладно, не буду. На тебе и так лица нет.
– А что там? – искренне ужасается Иоганн-Георг, хватаясь за свою рожу. Нащупав нос, укоризненно говорит: – Ну вот зачем ты меня на ночь глядя пугаешь? На месте все.
– Вообще-то, на утро глядя. И не я пугаю, а ты сам зачем-то пугаешься. Это же просто такое выражение. Ты его тоже знаешь. Прекращай валять дурака.
– Да просто чувствую себя странно, – вздыхает тот. – Совершенно не удивился бы, если бы еще и рожа исчезла. Как будто не то в нормального человека опять превращаюсь, не то, наоборот, в поземный туман. Устал зверски. Хотя казалось бы, великое дело. Подумаешь, неделю проспал.
– Так что за лампочки ты у соседа выкручивал? – нетерпеливо спрашивает Стефан. – И кто у нас нынче «сосед»? Запутался я в твоих метафорах. Давай по-человечески объясняй.
– Желтые лампочки, – как бы неохотно, а на самом деле выразительно, с нажимом на слово «желтые» говорит Иоганн-Георг и столь же выразительно умолкает.
Удивительно все-таки, что за такую манеру вести беседу его до сих пор никто не убил, думает Тони. Наверное, он просто везучий, как шарские демоны. Потому что на самом деле это вокруг него вращается мир.
– Ну что вы так на меня смотрите, словно собрались вздернуть на дыбу? – невинно спрашивает тот. – Говорю же: желтые лампочки выкрутил. Они меня уже давно достали. Не должно такой дряни на свете быть.
– Ты имеешь в виду желтый свет Маяка? – ахает Тони, а Тони Куртейн, все это время мирно дремавший в кресле с очередным томом «Истории путешествий по воде и по суше», уникального издания, пережившего чуть ли не все Исчезающие Империи, книгам в этом смысле часто везет куда больше, чем людям, почувствовав его волнение, вздрагивает, просыпается и пытается вслушаться если не в мысли, то хотя бы в ощущения своего двойника.
Я
Я и правда чувствую себя странно. То есть я всегда чувствую себя странно. Говорят, поначалу только так и бывает; «поначалу» – читай, пока помнишь, что когда-то считал для себя нормальным, хотя даже намека на эту норму в твоей жизни давным-давно и в помине нет. Но мое обычное «странно» это все-таки хорошо знакомое «странно». Хотел бы сказать «понятное», но нет. Пока – нет.
А вот прямо сейчас я чувствую себя по-настоящему странно, то есть совсем непривычно. И черт его знает, как в таком состоянии следует жить. Как будто еще не проснулся, хотя на самом деле проснулся, конечно. И голодный, как хрен знает что, хотя сожрал какую-то немыслимую прорву нормальных материальных продуктов питания и примерно столько же миражей. Никогда не знаешь, каких именно витаминов сейчас не хватает твоему организму, поэтому лучше на всякий случай их смешивать. Или чередовать.
Тони ставит передо мной сковородку с омлетом – настоящим, я имею в виду, из настоящих яиц, купленных в супермаркете. Но сверху омлет щедро посыпан сыром, которого в холодильнике не осталось, поэтому Тони пришлось наспех вообразить, будто сыр там все-таки есть, ему это дело раз плюнуть, давно наловчился, причем его воображаемый сыр обычно даже вкусней настоящего – ну, как по мне.
– Спасибо, – говорю я, и потом даже не то чтобы ем, а словно бы со стороны зачарованно наблюдаю, как Тонин омлет исчезает в какой-то чертовой бездне. То есть во мне. И повторяю с набитым ртом: – Спасибо. Ты мой спаситель. А может, как раз не мой, а всего остального мира? Вдруг я теперь Робин Бобин Барабек[5]? Никогда не угадаешь, кем сегодня проснулся. За мной глаз да глаз!
– Не смешно, – кривится Стефан.
Естественно, ему не смешно. Потому что, во-первых, людоедов на своем веку он и без меня навидался, ничего особо смешного в них действительно нет. А во-вторых, совсем другой информации жаждет сейчас его душа.
– Да мне и самому не смешно, – вздыхаю я. – Не хочу кривых мясников сырыми жрать. А напротив, желаю вести возвышенные беседы в предрассветный час. Но сам видишь, как получается. Кстати, если хочешь дать мне в глаз, я в кои-то веки не против. Может, в себя наконец-то приду.
– Обойдешься, – ухмыляется Стефан. – Нашел себе бесплатного массажиста. В глаз ему после ужина на блюдечке подавай.
Но меня не обманешь ухмылками, знаю я этот Стефанов взгляд. И даже целиком его разделяю, сам бы сейчас так смотрел на себя.
По-хорошему, хватит уже тянуть паузу. Но я по-прежнему не понимаю, как это все рассказать. Да и что, собственно, рассказывать? Я до сих пор не уверен… вообще ни в чем не уверен.
То-то и оно.
– Значит, так, – наконец говорю я, подвигая поближе бутылку темного стекла с чем-то вряд ли известным науке, но благоухающим абрикосовым садом, где плоды перезрели на жарком июльском солнце и начали потихоньку бродить; наливать мне пока ничего крепче компота не стоит, а то, чего доброго, совершенно по-человечески окосею, но пусть просто рядом утешительно постоит.
– Значит, так, – повторяю я и снова умолкаю. Хоть и понимаю, что сейчас в меня кинут каким-нибудь тяжелым предметом. И поделом.
Однако похоже, пока я спал, Стефан с какого-то перепугу исполнился святости. По крайней мере, вместо того, чтобы швыряться предметами, он кротко, то есть, не скрежеща зубами и не стуча кулаком по столу, спрашивает:
– Ты продолжать собираешься или нет?
Чувствую себя двоечником, не выучившим урока. Но святому нельзя отказывать. Их и так все вокруг обижают. Ну, то есть обижали в недавнем прошлом. На протяжении многих развеселых темных веков.
Поэтому я говорю:
– Короче. Если я все правильно сделал, что, как мы понимаем, совершенно не факт, желтый свет Маяка больше не будет сниться странникам с нашей изнанки, чтобы их погубить. А будет просто светить наяву.
– Что?! – дуэтом переспрашивают Стефан и Тони. Только интонация у них разная. Тони переспрашивает восхищенно, а Стефан – как будто на него только что упал шкаф. Из чего следует, что оба очень хорошо меня знают. Просто, скажем так, с разных сторон.
– Если у меня получилось, то желтый свет Маяка будет теперь гореть наяву, – повторяю. – Я бы его с удовольствием вообще выключил на хрен, но не умею. Электрик из меня тот еще. Ну ладно, пусть хотя бы не во сне своих жертв подстерегает, а честно мерещится им наяву. Все-таки наяву люди в среднем получше соображают, чем во сне. И ведут себя осторожней. Сто раз подумают и все взвесят прежде, чем не пойми куда зачем-то пойти… А может, наяву он вообще станет безопасным, как обычные лампочки. По моему замыслу, в идеале, должно сделаться именно так.
– А если у тебя не получилось? – заинтересованно спрашивает Стефан.
Пожимаю плечами.
– Ну тогда, наверное, будет как раньше… или примерно как раньше. Или еще как-нибудь будет. Понятия не имею, честно говоря. Ты же все-таки учитывай, что я сам во сне эти дурацкие лампочки перевешивал, наяву мне до них не добраться. А во сне я не всегда хорошо соображаю. Примерно через раз. Ну или просто логика у меня там настолько другая, что потом, как проснусь, самому ни хрена не понятно – что я имел в виду? Поживем – увидим, я так считаю. И вам советую. А как еще?
– Мать твою! – говорят Тони и Стефан, снова слаженным хором, в смысле, дуэтом. Тони – с еще большим энтузиазмом, чем прежде, а Стефан – как будто из упавшего на него шкафа выскочил, как минимум, Люцифер без шенгенской въездной визы, и это теперь тоже будет Стефанова проблема – сразу после того, как новую башку взамен раздавленной себе отрастит.
– Предложение дать мне в глаз остается в силе, – говорю я, чтобы его если не утешить, то хотя бы рассмешить.
– Вот счастье-то! – Стефан возводит глаза к потолку, словно бы в надежде обнаружить там поддержку в лице дежурного сотрудника Небесной Канцелярии. Но хрен ему, конечно, а не поддержка. На этом потолке обычно никто кроме меня не дежурит, а сейчас там даже меня нету, я – вот он, на стуле сижу, как дурак.
– Но это же круто! – говорит ему Тони.
– Да круто, конечно, не вопрос, – легко соглашается Стефан. И закрывает лицо руками.
На этом месте мне становится несколько неуютно. Он что, собрался рыдать? Серьезно? Вот так, ни с того, ни с сего? И что теперь прикажете делать? Чудотворные слезы начальника виленской Граничной полиции в бутылочку собирать? Или развоплощаться подобру-поздорову и сизым поземным туманом в окно уползать? Вспомнить бы еще, как это делается. Я могу очень многое, да практически все, но редко по заказу. То есть я сам обычно не знаю, что способен выкинуть в следующий момент, а за что бесполезно браться. Нёхиси говорит, мне повезло, так жить интересней, но это точка зрения всемогущего существа, до сих пор приходящего в восторг от самой идеи наличия каких-то ограничений и способного искренне радоваться: «У меня не получилось, ура!»
В общем, я не растекаюсь туманом, отчасти из чувства солидарности с остальными присутствующими, а отчасти все-таки потому, что прямо сейчас не могу вспомнить, как это делается. И напоминаю Стефану:
– Не факт, что у меня вообще хоть что-нибудь получилось… – и на этом месте наконец понимаю, что он не рыдает, а беззвучно смеется. Ну, все нормально тогда.
– Лампочки он выкрутил! – сквозь смех стонет Стефан. – В соседнем подъезде! Хулиганье!
– Ты еще скажи: «родителей в школу немедленно».
– Вот, между прочим, не помешало бы, – соглашается Стефан. – Но породившую тебя бездну я пока не готов в своем кабинете принимать. Так что просто давай дневник. В смысле, стакан. А то сидишь, как засватанный… или наоборот, незасватанный? Кому из них хуже сидится? Что-то не соображу. Короче, для хулигана ты сейчас непростительно скромен. И обескураживающе трезв.
Благоухающий абрикосовый сад разлит по стаканам, опустевшая бутылка отправляется под стол, Нёхиси наскоро превращается в нечто человекообразное, чтобы не пить настойку котом, Стефан строго говорит юному шарскому демону, приоткрывшему было лучистый глаз: «Спи давай, детям такое нельзя», – словом, тихое предрассветное блаженство, обычно посещающее наше кафе на исходе всякой удавшейся вечеринки, уже готово нас всех охватить, и тут Тони спохватывается.
– А как же кошмары? – спрашивает он, да так требовательно, словно мы твердо пообещали подарить ему букет отборных кошмаров, но в последний момент передумали, пожадничали, решили оставить себе.
– Чего – кошмары? – удивляется Стефан. – Тебе что, нас мало? Надо добавить еще?
– Желтый свет Маяка в последнее время был окружен кошмарами, – напоминает Тони. – Такими, чтобы тот, кому он приснится, пугался и просыпался, или хотя бы просто поворачивал назад. Мой второй этого захотел, чтобы хоть как-то людей защитить, и у него получилось. Эдо однажды мне рассказал, что ему снилось, так я от одних разговоров чуть не поседел. Особенно от тварей, пожирающих сердце. И как он навеки застрял в стене, то есть чувствовал, будто навеки… И мне интересно, эти кошмары будут теперь у нас наяву вместе с желтым светом? Или ты придумал способ обойтись без них?
Я мысленно хватаюсь за голову – матерь божья, он прав, там же еще кошмары! Ну все, трындец. Но вслух говорю нарочито небрежно, репутация принца хаоса, в смысле безответственного балбеса, мне пока дорога:
– Понятия не имею. Может, и будут кошмары. Я о них, честно говоря, забыл.
– Очень на тебя похоже! – ехидно вставляет Стефан.
– Естественно, на меня похоже. Потому что это я сам и был.
– Лишних кошмаров нам тут, вообще-то, не надо бы, – устало вздыхает он. – Со своими разбираться не успеваем. В смысле, с теми, что и так почти ежедневно приходят в город Путями, которые открыл нараспашку – угадайте кто!
– При твоем попустительстве, подозрительно похожем на просьбу, – напоминаю я. – Можно подумать, мне одному надо, чтобы в этом городе были открыты Пути в неведомые места.
– Пути в неведомое – базовая потребность всякого города. Не только граничного, а любого вообще. Людям несладко живется в городе, где эта базовая потребность не удовлетворена, – веско говорит Нёхиси, на секунду отрывая от стакана ужасающую дыру с неровными краями, которая у него сейчас вместо рта.
Все-таки он страшный лентяй, особенно спросонок, превращается в человека хуже, чем я одеваюсь. То есть не глядя и не задумываясь. Как получилось, так тому и быть.
– Оно так, конечно, – соглашается Стефан. Еще бы он не согласился, с Нёхиси поди поспорь. – Но дополнительные кошмары все-таки не базовая потребность, – добавляет он. – И вообще не потребность, а уже какая-то патрицианская роскошь. А для меня – дополнительный геморрой.
– Ну, смотри, – говорю я. – Мы на самом деле пока вообще не знаем, что у меня получилось. Но предположим, кошмары действительно автоматически прилагаются к желтым огням. И что? Какая в этом беда? Почему это должно стать твоей заботой? Оставь их в покое, пусть цветут все цветы. Ну испугается кто-нибудь лишний раз, подумаешь, великое горе. Люди и так всего подряд боятся, а тут хоть какое-то разнообразие. Вместо скучных бытовых фобий в кои-то веки настоящий мистический ужас. Магическое приключение. Движуха! И главное, все закончится хорошо. Кошмары Тони Куртейна не убивают. Не для того они были придуманы, чтобы кого-то угробить, а чтобы наоборот, уберечь. Значит, как ни пугайся, счастливый финал тебе обеспечен: или ты удерешь от ужаса, или страхи сами рассеются. Уж как-нибудь способ найдут. Это называется «позитивный опыт». А от позитивного опыта люди обычно делаются храбрей и сильней. Ну, некоторые точно делаются. А остальные сами дураки.
– Позитивный опыт, – с нескрываемым удовольствием повторяет Стефан. – Вот, значит, как ты его себе представляешь. Ну да, а чего я хотел?
– Он мне тоже заливал про позитивный опыт, когда моя пиццерия превратилась хрен знает во что, а мы оба стали тенями и беспорядочно мельтешили на потолке, – мечтательно улыбается Тони. – Дескать, если сейчас не совсем закончимся и уцелеем хоть в каком-нибудь виде, это будет позитивный опыт, благодаря которому нам потом станет гораздо легче переносить внезапные неконтролируемые превращения без вреда для здоровья и психики. Самое смешное, что оказался совершенно прав.
– В любом случае, не перевешивать же теперь все обратно, – заключаю я. – По-моему, что угодно лучше, чем прежде было. Я давно на этот желтый свет зуб точил. Ненавижу, когда самых лучших, самых храбрых и упрямых людей обманом заманивают в ловушку, лишают памяти и судьбы. Короче, как будет, так будет. А мы поглядим.
4. Зеленая обезьяна
Состав и пропорции:
ликер «Зеленый Шартрез» 50 мл;
ликер «Galliano» 50 мл;
сок лайма 25 мл;
апельсиновый сок 100 мл;
имбирное пиво 10 мл.
Смешать «Зеленый Шартрез», «Galliano», сок лайма и апельсиновый сок со льдом, перелить коктейль в высокий стакан коллинз, сверху налить немного имбирного пива.
Цвета
Если бы Цветы не было, ее бы следовало придумать, так часто говорил Цветин отец. И обязательно добавлял: вот я и придумал, когда надоело без дочки жить.
Цвета ему безоговорочно верила: говорит придумал, значит, придумал. И не перестала верить даже после того, как подросла и узнала от родственников, что родилась, как все нормальные дети, просто ее мать пропала без вести, когда ей еще четырех месяцев не исполнилось, и с тех пор ни слуху, ни духу; то ли сбежала на Другую Сторону к бывшему любовнику, то ли просто умерла от внезапного сердечного приступа, когда была одна дома, и тело исчезло прежде, чем кто-то его обнаружил, очень печально, но бывает и так.
Цвету эта информация не смутила. Подумаешь, ну была мать, и была. Одно другому вообще не мешает. «Со стороны мое рождение вполне могло выглядеть, как обычное, – думала Цвета. – А что папа перед этим несколько лет ходил и заранее придумывал, какая у него будет дочка, никто не знал. О таких вещах кому попало не рассказывают. Все в тайне хранят.
Я бы тоже никому не стала такое рассказывать», – думала Цвета. Она вообще была скрытная. С раннего детства, всегда. Только отцу все рассказывала, если спрашивал. Не потому, что очень его любила и целиком доверяла – хотя, конечно, и любила, и доверяла, просто не в этом была причина ее откровенности. А в том, что если уж человек тебя придумал, он имеет полное право узнавать все, что ему интересно. Иначе нечестно, все равно что писателю не прочитать свою книгу, так считала она.
Отец Цветы был мастером инструментального цеха на заводе электроприборов. Людей, наделенных призванием своими руками и волей убеждать материю принимать не какую попало, а конкретную нужную и полезную форму, на самом деле не очень-то много, а мир, как ни крути, держится именно на них. Без них все до сих пор ходили бы голыми, жили в лесах среди ненадежных миражей и грызли шишки да съедобные корешки. Ну или силой заставляли бы друг друга работать, хотя чем так, лучше уж голыми по лесам. От вещей, сделанных как попало, по нужде, без сердечной склонности, толку примерно столько же, как от приготовленной из-под палки еды, или телесной любви ради денег и выгоды, как в некоторых фильмах Другой Стороны; в общем, понятно, что такого добра никому не надо. Поэтому хорошо, что во все времена были и есть мастера. Очень круто родиться с таким призванием и стать рабочим, фермером или строителем, они окружены почетом, как жрецы эпохи Исчезающих Империй, и зарабатывают лучше всех.
Цвета росла как маленькая принцесса, отец ей ни в чем не отказывал, все разрешал, берег от любых огорчений. Он считал, что из балованных детей вырастают самые лучшие взрослые; по большому счету, был прав. Ну, то есть, глядя на себя объективно, как бы со стороны, Цвета видела, что из нее получилась просто отличная взрослая, таких еще поискать.
Изнутри оно, конечно, выглядело не так радужно: быть Цветой оказалось довольно трудно. Но Цвета подозревала, что это у всех так. Пока смотришь на другого со стороны, думаешь: вот счастливчик! А окажешься в шкуре «счастливчика», чего доброго, быстро запросишься обратно в свою.
Когда отец еще был жив, Цвета иногда в сердцах спрашивала его: ну вот зачем ты придумал меня музыкантом, а не мастером, вроде тебя? Жила бы сейчас в свое удовольствие, горя не знала. Счастливые люди вы, мастера, всегда заняты делом, довольны собой, когда хорошо получается, а если что-нибудь не выходит, сразу понятно, что надо исправить, чему еще научиться, или кого на помощь позвать. А у нас, музыкантов, как-то глупо устроено: чем лучше у тебя получается, тем сильнее ты недоволен, тем больше тебе от себя и от всего остального мира надо, тем глубже пропасть внутри, тем слабее любые опоры, жизнь становится как Зыбкое море – помнишь, ты однажды разбудил меня ночью и повел смотреть, как оно исчезает, чтобы сразу возникнуть где-нибудь на другом конце города? Только что мы стояли на пляже, слушали шум прибоя, смотрели на волны, и вдруг у нас под ногами уже не мокрый песок, а растрескавшаяся асфальтовая дорожка, вместо воды деревья, и мы оба знаем, что это старый заброшенный Сумрачный парк, помним, что он был здесь всегда, говорят, чуть ли не со дня основания города, но про море мы тоже помним, и в руке у меня ракушка, которую я специально подобрала, чтобы потом лизнуть и убедиться, что она влажная и соленая. Ты тогда еще мне сказал: «Вечно так с нашим морем, сколько раз ходил его провожать, столько раз удивлялся, невозможно к такому привыкнуть». Совершенно с тобой согласна. Невозможно привыкнуть, да.
Отец на это всегда отвечал ей примерно одно и то же: я придумал тебя не музыкантом, а просто девочкой Цветой, которая сама однажды решит, кем ей стать. И ты решила, никого не послушала; собственно, правильно сделала. Я в современной музыке не очень-то разбираюсь, но стоит пройтись по барам весенним вечером, и в каждом втором играет твоя труба. Это что-то да значит! Люди сами выбирают, какую музыку слушать для радости, никто их не заставляет. И видишь, они выбирают слушать тебя.
Этих слов Цвете обычно было достаточно, чтобы на какое-то время заново примириться с собой. Жаль, что больше некому их говорить. Вернее, Цвете стало некого слушать. Вокруг, конечно, полно народу. Но какая разница, что они говорят.
Зоран
Эти неизбежные две, три, десять – зависит от обстоятельств – минут, когда самолет уже не катится по летному полю, окончательно остановился, пассажиры нетерпеливо вскочили, сняли с полок сумки и чемоданы, накинули куртки, и стоят в проходе, нетерпеливо топчутся, подпирая друг друга, ждут, пока подадут трап и начнут выпускать; в общем, эти минуты в ожидании выхода, с одной стороны, невыносимо томительные, особенно если всю дорогу хотелось курить, а с другой – чистое счастье, лучший момент путешествия, граница, не какая-нибудь условная государственная, отмеченная яркой желтой чертой на полу перед будками паспортного контроля, а настоящая, хоть и невидимая постороннему глазу, внутренняя граница между дорогой и целью, между сбывшимся и неизвестным, между человеком, вышедшим утром из дома, и прилетевшим пока непонятно куда пассажиром, между прошлым и будущим тобой, – думал Зоран, пока стоял, пригнувшись, даже не в проходе, забитом другими желающими постоять в неудобных позах, а между опустевшими креслами. Мог бы спокойно сидеть, но, конечно, стоял, напряженный, сосредоточенный, как бегун на старте. Самому смешно.
Когда толпа в проходе наконец зашевелилась, вздрогнула и пошла неожиданно быстро, как хлынувшая из открытого крана вода, Зоран изогнулся, одним ловким рывком вытащил из багажного отсека туго набитый рюкзак, но вместо того, чтобы устремиться к выходу, замер, неловко обнимая тяжелый рюкзак, так бешено заколотилось сердце, удары гулко отдавались в ушах, и уши, не болевшие при посадке, заныли сейчас от этих невыносимых сердечных басов. С ним такое порой случалось, причем без серьезного повода, в по-настоящему опасных ситуациях Зоран обычно становился спокойным и хладнокровным, как индейский вождь, зато перед началом кинофильма, или концерта, на пороге бара, даже просто на углу незнакомой улицы, куда решил свернуть, чтобы изменить наскучивший маршрут, сердце начинало колотиться как бешеное, кровь пульсировала в ушах, приливала к лицу, в глазах темнело, земля уходила из-под ног – не от страха, конечно, а от волнения, такого сильного, словно он вот прямо сейчас переступает невидимую черту, за которой все станет иначе. Почему вдруг станет, как выглядит это «иначе», стоит к нему стремиться или, наоборот, любой ценой избегать, Зоран не знал. Вернее, он точно знал, что от просмотра фильма, порции рома в баре, прогулки по незнакомой улице ничего в его жизни принципиально измениться не может. Перемены наступают совсем иначе, при иных обстоятельствах.
Знать-то он знал, но чувствовал именно так.
Вот и сейчас стоял со своим рюкзаком, частично загораживая проход – не настолько, чтобы совсем его перекрыть, а ровно настолько, чтобы несколько раз получить по ногам и бокам углами чужих чемоданов. Узнал об этом только по виноватым репликам: «ой, сорри! пардон! извините! атсипрашау!» – потому что ударов пока не чувствовал, вообще ничего не чувствовал, кроме сердцебиения и боли в ушах. Но извинения сделали свое дело: взял себя в руки, мысленно дал поджопник, глубоко вдохнул, с силой выдохнул, собрался, пошел.
Примерно двадцать минут спустя, когда курил на холодном, почему-то морском, соленом – хотя откуда здесь море? – ветру, стоял с идеально прямой спиной и выпученными глазами, как солдат почетного караула, только вместо винтовки в одной руке сигарета, в другой проштампованный паспорт, который до сих пор так и не спрятал в карман, зыркал по сторонам, прикидывая, где здесь станция электрички, которая, как ему рассказали, довозит до расположенного в центре вокзала всего за десять минут[6], сердце все еще бешено колотилось от несуществующего обещания неизвестно чего, но Зоран уже не обращал на него внимания, что с ним сделаешь, пусть колотится, если ему приспичило, я привык.
Искать станцию электрички не стал, поехал в автобусе, который, судя по надписи на табло, приезжал все на тот же железнодорожный вокзал. Гостиница, где его поселили, вроде бы совсем рядом, судя по гугл-картам, пешком всего десять минут.
Ехали недолго, примерно четверть часа, но за это время на улице успел подняться штормовой ветер, хлынул проливной дождь, тут же перешел в мелкий град. Зоран успел ужаснуться, вообразив, какая прогулка ему предстоит, но буйство стихий закончилось так же внезапно, как началось, так что из автобуса он вышел на мокрый асфальт под совершенно безоблачным небом, озаренным почти круглой, оранжевой, как мандарин, луной. Надо же, как удачно сложилось, а он-то уже приготовился плутать в темноте под холодным дождем. Не чуждый так называемому магическому мышлению, то есть всегда готовый увидеть в любом событии «знак», доброе предзнаменование, предостережение, инструкцию, или подсказку, Зоран подумал: «Хорошая, значит, выйдет поездка. Все бури пройдут стороной, а я буду смотреть на них из укрытия, одновременно приближаясь к желанной цели. Вот интересно, как пройдет стороной развеска? Как по мне, она и есть главная буря, а я приехал именно ради нее».
То ли в ответ на его вопрос, то ли просто так, ради собственного удовольствия, в небе сверкнула молния, да такая яркая, что весь окружающий мир на короткий восхитительный миг стал ослепительно-белым, сияющим, ясным, пронзительным, невозможным, настолько нечеловеческим, что Зоран почти поверил: это и есть конец света. Внезапно, конечно, но так, наверное, подобные события и происходят – хлоп, и все!
А потом молния погасла, исчезнувший было человеческий мир вернулся на место, свежий, умытый недавним дождем, остро пахнущий влажной землей, мелкими хризантемами с ближайшей клумбы, вокзальным креозотом, горьким печным дымом, сладкой, только-только начавшей увядать древесной листвой. И оказался так обескураживающе, необъяснимо и неопровержимо хорош, что Зоран подумал: «Я дурак, это явно не конец, а начало света. Раньше все у нас было невсерьез, понарошку, просто мерещилось, а настоящая жизнь на этой планете вот только что у меня на глазах началась».
5. Зеленый бархат
Состав и пропорции:
коньяк 20 мл;
ликер «Блю Кюрасао» 20 мл;
сок лайма 10 мл;
апельсиновый сок 50 мл.
Смешать ингредиенты, в бокал коллинз положить несколько кубиков льда и налить коктейль.
Эдгар
Пришел рано утром, чего обычно не делал, отличный получился сюрприз. Нинка по утрам всегда мрачная, даже если нормально выспалась, до первой чашки кофе – не человек, а ходячая меланхолия, как мертвецы Элливаля. В прежние времена, когда еще жил на Другой Стороне, а не являлся сюда набегами, старался проснуться за десять минут до Нинкиного будильника, чтобы успеть сварить кофе, принести и прямо под нос ей сунуть; когда получалось, Янина сонно бормотала: «Боже, это мне кофе? Какое счастье, так не бывает, спасибо, ты лучше всех в мире», – и начинала улыбаться уже после второго глотка.
Теперь, конечно, хрен так красиво выступишь, для этого надо подскочить еще затемно, чтобы привести себя в нормальное рабочее состояние, добраться до Другой Стороны, это тоже не минутное дело, а потом еще и до дома дойти; в общем, как ни старайся, все равно не успеешь. Лучше уж выспаться по-человечески, прийти ближе к вечеру, встретить Нинку с работы, придумать для нее какой-нибудь праздник, или просто вместе пойти домой.
Но проспав сутки с лишним, с короткими перерывами – выпить воды, съесть грушу, открыть окно, – окончательно проснулся в четыре утра, бодрым и отдохнувшим, по ощущениям, на несколько лет вперед, и сразу понял, что это отличный шанс наконец-то сварить Нинке кофе, как в старые времена. Собрался и побежал. Все успел – и кофе сварить, и разбудить, и обнять, и отвезти ее на работу; на самом деле, тут близко, пешком минут двадцать, просто Эдгару очень нравилось ее подвозить.
Потом занимался своими делами. Хоть и говорил Янине – и сам себе в тот момент верил, – что теперь можно будет долго бездельничать, не тот у него был темперамент, чтобы выгоду упускать. Да и просто любил это дело – слоняться по городу, заглядывать в лавки, прикидывать, какой товар сейчас хорошо пойдет, покупать понемногу того и другого, азартно потирая руки в почти полной уверенности, что опять угадал. От избытка энтузиазма даже съездил на Кальварийский рынок за дешевыми сигаретами, в Элливале такие отрывают с руками, для них это диковинка. Смешное все-таки место этот Элливаль. Прошелся по книжным без особой надежды найти что-нибудь из списка, обычно покупал заказанные постоянными клиентами книги в интернет-магазинах, так гораздо дольше, зато не надо искать; как всегда цапнул несколько художественных альбомов, их никто не просил, но желающие непременно найдутся, можно не гадать. Прошелся по кондитерским и кофейням; вроде нелепо еду с Другой Стороны таскать, у нас она всяко лучше, но после того, как здесь повально увлеклись шоколадом ручной работы, сразу появились его любители. Принесешь пару-тройку коробок с мыслью: «Не пойдут, так просто съем сам», – и моргнуть не успеешь, как все смели, не оставив тебе даже попробовать. Так что пробовать надо прямо сейчас, – думал Эдгар, засовывая за щеку осколок черного шоколада, в этом месте его так и продавали – не аккуратными плитками, а осколками, нарочно как попало, косо-криво на куски разломав; сперва думал, сдуру, но Янина сказала, что это просто такая новая мода – аккуратно раскладывать по нарядным пакетикам небрежно поломанный шоколад.
Все это называлось «играть в Блетти Блиса», как будто я – прежний удачливый хваткий контрабандист, который своего не упустит; формально – да, а по сути, конечно, давно уже нет. А прогулки с Яниной, походы в кино, ужины в ресторанах, редкие визиты к общим друзьям назывались «играть в Эдгара», потому что аккуратный бухгалтер Эдгар Куслевский, умник, сибарит и умеренный карьерист из меня теперь даже хуже, чем Блетти Блис.
Блетти Блис закончился, когда пересек черту граничного города здесь, на Другой Стороне, и навсегда, бесповоротно, необратимо – так тогда все были уверены – утратил память о прежней жизни и прежнем себе. А бухгалтер Эдгар закончился, когда вернулся домой на синий свет Маяка – первым из сгинувших. Раньше считалось аксиомой, что тот, кто уехал из города на Другой Стороне и утратил себя, уже никогда не сможет вернуться домой, это технически невозможно, так вообще не бывает. Но оказалось – еще как бывает. Все возможно, пока жив человек. С тех пор уже многие уехавшие вернулись. Ванна-Белл, девочка из «Железной ноты», с весны снова там поет. И Квитни-алхимик. И Эдо, друг смотрителя Маяка. И еще разные люди, с которыми он не был знаком, поэтому имен не помнил. Да и неважно, какие у них имена, главное, что вернулись. Вот интересно, они теперь тоже играют в Квитни-алхимика, профессора Эдо Ланга и красотку Ванну-Белл? Или действительно ощущают себя таковыми? Жаль, не расспросишь, о таких вещах не принято говорить, да и непонятно, как формулировать. Нет в языке нужных слов, чтобы объяснить другим людям, что больше нет Блетти Блиса, и Эдгара тоже нет, но я-то остался. И это совсем не печально, наоборот, здорово: никакого меня больше нет, и от этого я по-настоящему есть наконец-то. Как сказал бы сейчас дружище Мартинас, на всю голову есть.
Дел было переделано даже несколько больше, чем требовалось – теперь хочешь, не хочешь, а придется завтра дома хорошенько побегать, чтобы выгодно сбыть товар. А времени всего половина третьего. У Нинки сегодня, как назло, какая-то бесконечная прорва лекций, еще долго придется без нее гулять. Жалко, конечно, что она так много работает; с другой стороны, какое же счастье, что ей есть чем заняться, кроме как целыми днями ждать меня у окошка. И не ерундой, а хорошим, любимым делом. Янине нравится преподавать, – думал он и улыбался так, словно Нинка уже была рядом. Удивительная все-таки штука эта любовь, доставшаяся ему, можно сказать, по наследству от бухгалтера Эдгара, как деньги и связи от Блетти Блиса. Спасибо обоим, но Эдгар особенно круто выступил. Он был молодец.
Зачем-то спустился к реке Нерис, прошелся по набережной. Скорее всего, просто потому, что до сих пор ни разу здесь не гулял, а разнообразие – великая вещь. Где бы мы все были без возможности иногда делать что-то впервые в жизни. Пусть даже такой пустяк, как прогулка по пешеходной набережной реки.
Сел на лавку, достал сигареты, прихваченную из дома серебристую пачку «Dark Bark»; смешно сказать, но от местных его до сих пор тошнило с той ночи, когда, почти обезумев от ужаса, не понимая, что делает, шел на синий свет Маяка. Закурил, щурясь от удовольствия и одновременно нетерпеливо притоптывая ногой. Если очень долго сидеть на берегу реки, мимо проплывет труп убитого времени. И настанет момент, когда можно будет идти встречать Нинку. И куда-нибудь поужинать отвести.
Эдо
Если хочешь кого-нибудь как бы случайно встретить, просто ходи по городу и хоти, рано или поздно получится. Это правило здесь у нас отлично работает, и еще ни разу не подводило. Вопрос только в том, как долго придется гулять, но Эдо все равно был совершенно свободен. У него здесь часто выдавались свободные дни. Даже несколько чаще, чем требуется человеку, которому наедине с собой, скажем так, довольно непросто. Хотя все равно хорошо.
Была бы возможность переиграть – такой возможности никогда не бывает, но все любят о ней теоретически рассуждать – так вот, была бы такая возможность, долго бы, наверное, мучился, прикидывал, мечтал о том, как могло бы сложиться, повернись все иначе, но заранее ясно, что в конце концов отказался бы. Оставил бы все как есть. Не отменять же нынешнего себя. Потому что человек, что бы он сам о себе ни думал, это пережитый им опыт. Сумма изменившего меня опыта – это и есть я, а все остальное – ну, просто удобная упаковка. Чтобы опыт не расплескать, – думал Эдо, спускаясь к реке Нерис, не по какой-то надобности, а просто разнообразия ради. Часто пересекал ее по мостам, любил это дело, в смысле, мосты, мог подолгу стоять у перил, особенно в ледоход, после того, как зимой, в январе его научили смотреть на плывущие по течению льдины, представляя их неподвижными, тогда мост вздрогнет и поплывет, то есть просто покажется, будто он плывет, но так достоверно, что голова начинает кружиться, и нужно очень крепко держаться за перила, чтобы устоять на ногах.
Без ледохода такое тоже можно устроить, но это гораздо труднее, очень долго надо стоять и смотреть, мысленно останавливая не льдины, а волны, поди их останови, но он в конце концов научился, и с тех пор мосты притягивали его, как магнит. А вот по набережной он очень редко гулял, и почему бы вот прямо сейчас не исправить это досадное упущение, – думал Эдо, пока спускался к реке, рассеянно глядя по сторонам. Скоро наступит октябрь, и тут станет невыносимо красиво, хоть каждый день от невозможности вместить в себя всю эту красоту умирай, по крайней мере, так все говорят, дразнятся, обещают, сам-то он осень в этих краях до сих пор не видел. Ну то есть видел, конечно, когда-то. Просто не вспомнил пока.
Весь день думал о давешнем происшествии возле бара. Вчера было не до того: полдня отсыпался, потом бродил по дому сомнамбулой с ощутимо поролоновой головой, окончательно распроснулся только под вечер, но тут между ним и желанием понять, что там на самом деле случилось, встала скопившаяся работа, которая, как известно, не волк, но только в том смысле, что добровольно в лес не сбежит, зато наброситься может буквально в любую минуту. И хорошо, что так.
В общем, вчера ему было не до бара с желтыми фонарями и исчезнувшего мужика, зато сегодня можно вволю мучиться над разгадкой – куча свободного времени и ясная голова. Он даже специально сходил на улицу Басанавичюса посмотреть на тот бар. Бар как бар, самый обыкновенный, вывеска «Amy Winehouse», закрыт, откроется только в четыре пополудни, и, кстати, у входа никаких желтых фонариков; впрочем, это как раз понятно – спасибо, боже, наконец мне хоть что-то понятно! – если они не вмонтированы в стену, а просто развешены, наверняка их снимают перед закрытием и уносят в помещение, чтобы вороватые деклассированные элементы не искушать.
Ладно, бар он увидел, и не то чтобы это хоть что-нибудь прояснило. Для прояснения, как ни крути, хорошо бы встретить того мужика и расспросить, что с ним случилось; звучит, как заведомо нерешаемая задача, однако Эдо твердо усвоил правило: если хочешь кого-нибудь случайно встретить, просто ходи по городу и хоти. Но только как следует, страстно, всем сердцем хоти! «Страстно, всем сердцем» тоже звучит не особо обнадеживающе, но он всегда умел себя накрутить, выдать желаемое за очень желаемое, за настолько желаемое, что без него не прожить. Вот остановиться, сказать себе: «хватит», вспомнить, что на самом деле не очень-то надо, остыть гораздо труднее, поэтому если уж начал хотеть, хоти до победного конца.
У него уже столько раз получалось как бы случайно встретить в городе тех, кого захотел, что сейчас почти не сомневался в успехе. Только слегка опасался, что если тот мужик, топтавшийся возле бара, все-таки был призраком, может получиться неловко: он уже давным-давно здесь, вьется над головой, подает какие-нибудь сигналы, а я его не вижу, не слышу и даже толком не верю в него, – думал Эдо, до сих пор ни разу не встречавший призраков на Другой Стороне. Чего только в последнее время здесь ни навидался, но призраков – все-таки нет. Чего не было, того не было. С другой стороны, это только к лучшему. Не надо нам тут никаких призраков, мертвым не стоит крутиться рядом с живыми, ничего хорошего из этого не получается, если верить моим же собственным – пока еще, к сожалению, не воспоминаниям, а найденным дома записям о четырех, даже страшно подумать, насколько давних путешествиях в Элливаль.
Теперь, задним числом, он страшно жалел, что не вел дневники постоянно, очень бы пригодились. Но ладно, хотя бы в поездках что-то записывал, всякий раз специально покупая для этого новую тетрадь.
«Мертвецы Элливаля живут, как волшебные феи из старинных легенд, а все равно не сказать, что довольны своей судьбой. А здесь, на Другой Стороне, быть призраком, наверное, вообще полная жопа, – думал Эдо, пока шел вдоль реки. – Живым еще туда-сюда, местами вполне неплохо, но стать здесь призраком лично я бы ни за что не хотел».
В общем, в призраков Эдо не особенно верил – для их же блага. Зато верил в силу своих желаний и совершенно не удивился, когда увидел мужчину, одиноко сидящего на лавке. Узнал его прежде, чем на самом деле узнал; то есть в лицо, пожалуй, и вблизи не узнал бы, видел же только силуэт в темноте. Но сразу понял, что перед ним не местный, а человек с Этой Стороны. Специально распознавать своих он никогда не учился, да и нечему тут учиться, это просто невозможно не чувствовать, как невозможно не чувствовать резкий запах, если у тебя не заложен нос.
Словом, он понял, что перед ним путешественник с Этой Стороны, и одновременно вспомнил, что позавчера ночью на улице этого ощущения не было – интересно, почему? То есть получается, откуда-то точно знал, что это тот же самый чувак. Если говорить, или даже думать об этом линейно, словами, получается очень странно, это Эдо и сам осознавал. Но в последнее время в его жизни вообще все было странно, так что проще считать странность происходящего нормой. Вот такая новая норма теперь у нас.
Подошел, сел рядом. Незнакомец совершенно не удивился. Приветливо улыбнулся и сказал:
– Тоже иногда возвращаешься погулять на Другой Стороне? После всего, что было? Думал, я один такой псих.
«Ага. Значит, мы с ним знакомы, – подумал Эдо. – Но после моего возвращения явно не виделись, а то я бы запомнил, приметный мужик».
Ответил:
– Я даже не то чтобы иногда возвращаюсь. Я тут живу.
– Как же так? – опешил неопознанный старый знакомый. – Ты же еще в начале зимы вернулся. И цикл публичных лекций о современном искусстве Другой Стороны начал читать на позапрошлой неделе. Я сам там не был, но мне Альгирдас из Граничной полиции говорил.
Пожал плечами:
– Да. Но это всего раз в неделю, по пятницам. Необязательно ради этих лекций постоянно дома сидеть. Да я и не могу постоянно. Ты, кстати, извини, но я тебя не узнал. И вряд ли в ближайшее время узнаю. У меня даже не провалы в памяти, а вместо памяти один большой бездонный провал. Мы были друзьями? Или соседями? Или ты у меня учился? Судя по возрасту, вряд ли наоборот.
– Да скорее просто знакомыми, – сказал тот. И, улыбнувшись, добавил: – Я – Блетти Блис. Ты у меня иногда покупал здешние сигареты, хотя на Другую Сторону чуть ли не чаще меня мотался, книжки отсюда таскал мешками. Но запастись сигаретами вечно забывал.
– Ну ни хрена себе! – присвистнул Эдо. – Вот это удачно я тебя встретил. Давно хотел поблагодарить. Тони Куртейн говорит, если бы ты не вернулся, вообще ни хрена бы не получилось. Он же только после твоего возвращения поверил, что ситуация не безнадежна, есть ради чего стараться. И Маяк сразу стал еще ярче гореть. Потому что от настроя смотрителя, как ни крути, вообще все зависит. Если решит, что его усилия тщетны, какой уж там свет.
– Да, – кивнул Блетти Блис. – Это он и мне говорил.
– Ты крутой, – сказал Эдо. И с удовольствием повторил: – Ты очень крутой. А кстати, ты знаешь, что двойник смотрителя нашего Маяка, между прочим, повар от бога, назвал свой любимый нож Блетти Блисом?
– Моим именем нож назвал? – изумился тот.
– Да. Свой лучший разделочный нож. По-моему, это и есть настоящая слава, круче десятка памятников в полный рост. Специально рассказываю, потому что если бы кто-то назвал свой разделочный нож моим именем, я бы хотел об этом узнать. И даже страшно подумать, как бы зазнался. И был бы прав.
– Ладно, раз так, зазнаюсь, – кивнул Блетти Блис. – Спасибо, что рассказал. Приятно, когда тебя считают героем! Но на самом деле мне просто фантастически повезло. Причем много раз подряд. Во-первых, сам факт, что в Вильнюс вернулся. А ведь как не хотел сюда ехать! Сейчас вспоминать смешно.
– Я, кстати, тоже не хотел возвращаться. Причем уже не просто что-то там смутно чувствовал, а вполне ясно осознавал, что мне сюда срочно надо, и все равно дурью маялся, обещал себе: «Ладно, поеду, но когда-нибудь потом, не сейчас». Говорят, у всех наших такая проблема. Если уж уехал из граничного города, возвращаться сюда ни за что не захочешь. Некоторые всерьез боятся здесь умереть, другие вспоминают, как якобы сильно они этот город не любят, в общем, у всех по-разному. Факт, что очень трудно перешибить этот необъяснимый внутренний запрет.
– А мне такая девчонка попалась, что хочешь не хочешь, а пришлось к ней приехать, – признался Блетти Блис. – Это мое первое «повезло». Второе – что, пожив тут немного, стал видеть свет Маяка. Раньше такого ни с кем из вернувшихся не случалось, но у Тони Куртейна свет уже тогда сделался таким ярким, что даже некоторые жители Другой Стороны начали видеть синее зарево на горизонте. Ну и я за компанию с ними увидел. Теперь смешно вспоминать, но как же я его поначалу боялся! Думал, галлюцинации, схожу с ума. А самая большая моя удача, что наша Граничная полиция не дала мне пройти на желтый свет. Он же, зараза такая, часто мне снился и, в отличие от синего наяву, выглядел уютным и притягательным. Теперь как вспомню, так вздрогну. Чудом беды избежал.
– Да, ничего хорошего, – кивнул Эдо. – Я-то на этот хренов желтый как раз попался. Он мне стал сниться, когда я жил в Берлине, а там нет Граничной полиции. Только обычная, которая от желтого света никого не спасет.
Блетти Блис сперва решил, что ослышался. Как это – попался? Что он имеет в виду? Что его приманил желтый свет? И он… Да ну, быть такого не может. Кто пошел во сне на желтый свет Маяка, того, считай, для нас больше нет. Становится человеком Другой Стороны – весь, с потрохами. И с той непонятной, но самой важной на свете штукой, которую называют «душой». И он, что ли, стал? А публичные лекции тогда кто читает? И как это он сейчас со мной о наших домашних делах говорит? Ну и вообще, весь город знает, что Эдо вернулся, причем не на Маяк, как все добрые люди, а просто приехал в трамвае без номера; говорят, его Граничная полиция чуть ли не всем составом встречала, знатный был переполох. И Тони Куртейн, который столько лет изводился, ходит страшно довольный. И у него теперь чуть ли не каждую ночь вечеринки – прямо на Маяке.
– Просто люди, рожденные на Другой Стороне, к нам тоже иногда забредают, – сказал ему Эдо. – Обычно их быстро разыскивают и уводят обратно, так что те толком не успевают понять, что с ними вообще случилось. А кого вовремя не найдут, становится Незваной Тенью, почти без шансов дожить хотя бы до следующего утра… Да ты и сам знаешь, это все знают.
– Знаю, конечно. А ты это к чему говоришь?
– К тому, что я вернулся домой примерно таким же способом, как к нам приходят люди Другой Стороны. И на тех же правах. Несколько часов дома провести – не проблема, но потом надо уматывать. Зато назавтра можно снова прийти, если получится. У меня получается, потому что мне помогают. И это гораздо лучше, чем ничего.
Эдо вдруг понял, как давно ему, оказывается, хотелось поговорить с кем-нибудь понимающим и при этом незнакомым, или почти. Потому что близкие и так давным-давно знают, что с ним случилось. И ребята из обеих Граничных полиций – Этой и Другой Стороны. Глупо постоянно талдычить одно и то же. Было и было, обсудили, посмеялись, поплакали, придумали, как ему теперь жить – все, тема закрыта. Но на самом деле, конечно же, не закрыта. Потому что когда пережитый опыт не помещается в человека, наилучший выход – почаще о нем говорить. Переводить неизъяснимое на простой понятный язык, уменьшая его таким образом до собственного размера. И обретая если не возможность все это однажды вместить, то хотя бы убедительную иллюзию этой возможности. А с такой иллюзией уже вполне можно жить.
Блетти Блис слушал его в полной растерянности. И так сочувственно, как может только человек, который чуть не вляпался в ту же ловушку сам.
– И поэтому ты до сих пор ничего не помнишь и никого не узнаешь? – наконец спросил он.
– Ну, кое-что все-таки вспомнил. Слишком мало, конечно. И в основном, то, что мне рассказали. Пока рассказывают, в памяти что-то откликается – ну точно же, было такое! А может, просто воображение у меня хорошее, всегда готово нужное воспоминание сфабриковать. Но кое-что я вспомнил сам, без подсказок. Так смутно, как помнят прочитанные в детстве книги и некоторые сны. Но сколько расспрашивал очевидцев, вроде бы все совпадает, действительно было, я ничего не придумал, так они говорят. То есть я не совсем безнадежен. Может, в конце концов, вспомню все. И, кстати, времени дома могу проводить чем дальше, тем больше. В первый раз пробыл там всего четыре часа, а потом меня ухватили за шкирку и отвели обратно, потому что сквозь пальцы стали просвечивать фонари. Я сам ничего не заметил, пока не сказали, отлично себя чувствовал, и вдруг такая фигня; на самом деле, неважно. Важно, что сейчас я уже спокойно по семь-восемь часов кряду на Этой Стороне провожу. И наверняка мог бы больше, но стоит чуть-чуть засидеться, как за мной приходит конвой из Граничной полиции и насильственно выдворяет на Другую Сторону, хоть отбивайся, хоть криком кричи, ничего не поможет… Я, конечно, шучу про «насильственно». На самом деле ребята очень трогательно меня опекают. И не только они. Мир ко мне как-то обескураживающе добр. Собственно, оба мира. Я сперва сдуру решил, что у меня больше нет никакого дома, но на самом деле, теперь обе реальности – дом.
– У меня тоже так получилось, – кивнул Блетти Блис. – Совсем по другой причине, но итог ровно тот же: нет у меня больше дома, и одновременно обе реальности – дом.
– А что за причина?
Сам понимал, что это довольно бестактный вопрос. Не беда, не захочет, так не ответит. Но может, ему тоже хочется с кем-нибудь об этом поговорить?
– Ну так девчонка же, – улыбнулся Блетти Блис. – Та самая, из-за которой я в Вильнюс вернулся. А когда оказался дома и вспомнил себя настоящего, оказалось, это ничего не меняет. То есть на самом деле все меняет, конечно, но кроме девчонки. Ее любит не только человек Другой Стороны, которого больше нет, а весь я. Целиком.
«Вот, кстати, в частности, этим, – подумал Эдо, – мы базово отличаемся друг от друга, уроженцы Этой и Другой Стороны. Мы легко говорим о любви с посторонними, не делаем из нее великую тайну… вернее, они легко говорят о любви. Я-то как раз разучился. И не факт, что когда-нибудь снова привыкну. В этом смысле, как и во многих других вопросах, я пока – настоящий человек Другой Стороны. Хотя, по свидетельствам очевидцев, я всегда был скрытный. Заранее подготовился, молодец».
– Так что я тоже мотаюсь туда-обратно, – заключил Блетти Блис. – Мне же здесь теперь спать нельзя. Вообще никому из наших не стоит здесь спать, если только ты не великий мастер, освоивший сотню специальных приемов, но мне после всего, что случилось, строго-настрого запрещено. Мне все это твердили с первого дня, даже к начальнице Граничной полиции вызывали. Я тогда всерьез испугался, думал, мне крышка, вышлет из города, и привет. А она просто решила лично меня предостеречь, чтобы проняло. Често говоря, я думал, наши полицейские сильно преувеличивают, работа у них такая – перестраховываться на ровном месте, но ладно, пусть, я и сам осторожный. Но знаешь, ни хрена они не преувеличивали. Я буквально на днях расслабился, задремал всего на минуту и сразу же, первым делом увидел эти хреновы желтые фонари. Горели над баром, как бы для украшения. Правда, не так уж сильно меня тянуло туда войти. С прошлым опытом вообще несравнимо. Но сам факт!..
– То есть бар с желтыми фонарями тебе приснился? – удивился Эдо. – Ну надо же. А я тебя видел там наяву.
– Ты меня видел?
– И бежал к тебе через улицу с криком «Не заходи».
– Так это ты был? Ничего себе совпадение!
– Ага, прикинь. Не знаю, кстати, зачем я к тебе помчался. От чего собирался спасать? Наяву Маяк желтым светом не светит. А я-то не спал. В итоге решил, что спятил. Ну ладно, спятил и спятил, имею право. Но разобраться все равно хочется. Я сегодня туда ходил.
– Куда – туда?
– К этому бару. Оказалось, самый обычный бар на улице Басанавичюс, возле мальчишки с калошей. Называется «Amy Winehouse». Хочешь, сам сходи посмотри.
Чуть было не добавил: «И тебя я тут не просто так встретил, а потому что очень хотел расспросить», – но не стал. Телега о том, как у него теперь принято организовывать случайные встречи, даже на фоне всего остального прозвучит, как полная ерунда.
Вместо этого сказал:
– Круто, что я тебя здесь встретил. Вот это называется действительно повезло! Причем, что интересно, обычно я не гуляю по этой набережной. А тут ноги сами принесли.
– Я тоже здесь никогда не гуляю, – растерянно кивнул Блетти Блис. – У меня обычно и времени особо нет на прогулки. И вдруг почти полдня оказалось свободно. И я сюда почему-то пришел, хотя было не надо. Как будто за шиворот взяли и привели.
Помолчал и добавил:
– Странные вещи в последнее время творятся здесь, на Другой Стороне. Или всегда творились, да я не замечал? Я же вроде бы этот город знаю, как хороший хозяин свой огород. Но только за это лето раза три заблудился. В Старом городе заблудился, прикинь! Когда на месте знакомой табачной лавки буквально за ночь появляется новый магазин с разноцветными носками, это ладно, вполне объяснимо: табак переехал, а новые арендаторы очень шустро вселились. Но когда на следующий день табачная лавка снова на месте, а про носки никто даже не слышал, начинаешь думать, что крыша уже поехала оттого, что слишком часто мотаюсь туда-сюда. И ладно бы только лавки, один раз мне вообще показалось, будто улицы поменялись местами. Я стоял на углу Стиклю и Швенто Казимеро, а ведь они не пересекаются, и даже не то чтобы рядом, от одной до другой еще надо дойти[7].
– Кстати, вполне могли поменяться, – невозмутимо кивнул Эдо. – Здесь такое порой случается. Потом улицы быстро возвращаются на места, мало кто успевает заметить. А ты успел. Повезло!
– Издеваешься?
– Да ну, брось. Просто здесь так бывает, не парься. Не поехала твоя крыша. Нормально все.
– Ну ладно, – растерянно сказал Блетти Блис. – Трудно в такое «нормально» поверить, однако в моих интересах, чтобы ты оказался прав. Но как может быть, что мне снился бар с желтыми фонарями, а ты там видел меня наяву? Я, если что, потом сразу же дома проснулся – в своем здешнем доме. Причем раздетым. А во сне вроде в одежде был. А для тебя это как выглядело?
– В одежде, – кивнул Эдо. – Сперва ты выглядел как совершенно обычный человек. А потом задрожал и исчез. Я даже грешным делом подумал, что ты призрак. Хотя всегда считал, что их здесь нет.
– Вот этого я совсем не понимаю. В голове не укладывается. Или скажешь, такое тоже нормально здесь?
Эдо неопределенно пожал плечами. Рассказывать, как гулял наяву по чужому сну, ему пока не хотелось. Перебор. Сам бы решил, что собеседник спятил, если бы ему кто-то такое принялся излагать. Поэтому честно сказал:
– Я пока тоже ни черта не понимаю. И очень хочу разобраться. Интересно, как это мы с тобой так.
– Если разберешься, расскажешь?
– И если не разберусь, все равно расскажу. Узнать, чего именно кто-то из нас не понял, гораздо лучше, чем вообще ничего не узнать.
Достал из кармана новенькую визитку, подарок одной из здешних подружек. На визитке было написано «Эдо Ланг», ниже на четырех языках – литовском, английском, немецком и русском: «Я могу все». Сказал:
– Насчет «могу все» не бери в голову. Это просто шутка была. Но номер телефона тут правильный. Звони, когда будет время и настроение. Только, пожалуйста, не с утра.
– Никогда не был человеком, живущим по строгим правилам, – торжественно сказал Блетти Блис. – Но два правила у меня все-таки есть, и они нерушимы. Не таскать домой дурь с Другой Стороны и никогда не звонить людям раньше полудня, если только это не вопрос жизни и смерти.
– Отлично, – кивнул Эдо. – Легко иметь с тобой дело, Блетти Блис.
– Ты и прежде всегда это говорил, – улыбнулся тот. – Слово в слово. Ну, может, вспомнишь еще потом.
Цвета, Симон
– Это невероятное что-то было, – вздохнула Цвета. – Даже не могу сказать, что мне понравилось. «Понравилось» – неподходящее слово. Нравятся мне, к примеру, рыбный суп у Хромой Лореты, рыжий Томас, который недавно стал помощником мэра, и коричный табак. А твоя музыка мне не нравится. Трудно мне с ней. Я не знаю, что она со мной делает – отменяет? разрушает? разбирает на части, чтобы заново пересобрать? Нет, не так. Все не то! Нужных слов я тоже не знаю. Зато точно знаю, что очень хочу вместе с тобой играть.
– Ты хочешь со мной играть? – переспросил Симон. – Ты серьезно? Или это просто такой изысканный комплимент? В любом случае, спасибо тебе, дорогая. В жизни не думал, что однажды услышу от тебя что-то подобное. Потому что ты… Ай ладно, можно подумать, сама не знаешь, что ты у нас нынче – номер один.
– Да нет на самом деле никаких номеров, – отмахнулась Цвета. – Ни первого, ни второго, ни сорок третьего. Есть музыка, я и моя труба, и другие люди, каждый со своим инструментом, иногда у кого-то из нас что-нибудь так здорово получается, что в мире становится больше жизни, чем было. И это даже не наша заслуга, а просто чудо, которое с нами случается, такие уж мы счастливчики. При чем тут какие-то номера.
– Ни при чем, – улыбнулся Симон. – Но все равно ты очень крутая. Звезда. И когда говоришь, что хочешь со мной играть, у меня не только земля, а вообще все из-под ног уходит. Включая другие планеты, которых под моими ногами, по идее, отродясь не было. Но это почему-то совершенно не мешает им уходить.
– Спасибо, это ужасно приятно слышать даже просто от бывшего однокурсника. А от страшного и веселого композитора, которым ты внезапно стал, практически всемирная премия, – серьезно сказала Цвета. И, помолчав, спросила: – Это Другая Сторона тебя так изменила, да?
Симон кивнул. Плеснул в стакан контрабандного синего джина, хотя крепких напитков почти никогда не пил. Не то на радостях, не то для храбрости, не то просто руки занять. Выпил залпом, поморщился, как всегда невольно подумал: «Какого черта люди пьют эту гадость, опьянеть, если очень приспичило, можно и от вина, почему крепкая выпивка считается удовольствием, кто это вообще придумал, зачем?» А вслух сказал:
– Это было лучшее из моих решений – завербоваться в Мосты. Меня тогда все отговаривали: совсем рехнулся, двадцать лет провести на Другой Стороне в тоске и унынии, без памяти о доме, близких и о самом себе, добровольно поставить крест на музыкальной карьере, слава героя и почетная пенсия не стоят того. Но я никого не слушал, точно знал, что Другая Сторона сделает из меня настоящего музыканта. Вот честное слово, только за этим туда и шел! И получилось по-моему. Отлично я там себя чувствовал, ни дня не сидел без дела, многому научился и таких музыкантов собрал, что до сих пор не могу их бросить. И не хочу бросать. И не собираюсь. Уже полтора года, с тех пор, как всех наших досрочно увели с Другой Стороны, на два дома живу.
– Знаю, – кивнула Цвета. – Это же до сих пор главная сплетня в музыкальных кругах: что ты на Другой Стороне чокнулся и наотрез отказался возвращаться оттуда домой. А я всегда говорила, что ты правильно сделал. Глупо сидеть в одной и той же реальности, когда есть возможность жить сразу в двух. И результат впечатляет. Ты сегодня нам всем показал!
От избытка чувств Симон зажмурился, до боли в веках, до алых пятен во тьме, как жмурился в детстве, когда хотел проверить, это просто сон или правда. Если сон, от такого точно сразу проснешься. А если не проснулся, значит, явь.
Когда он открыл глаза, Цвета была на месте. И дальняя комната бара «Лиха беда», куда они ушли от шумной компании, потому что не терпелось поговорить. И стакан с остатками голубого контрабандного джина на деревянном столе.
– Я, кстати, тоже хотела завербоваться в Мосты, – неожиданно призналась Цвета. – Но меня не взяли. Якобы по каким-то психологическим параметрам не подошла, хотя даже не представляю, что их могло не устроить. Вроде нормальный у меня характер, не вздорный. И нервы крепкие. Ладно, не взяли, значит, не взяли, им видней.
– Ты хотела завербоваться в Мосты? – изумился Симон.
– Еще как хотела. Примерно из тех же соображений, что ты. Ну, если совсем по правде, еще я хотела забыть Элливаль.
– Забыть Элливаль, – повторил Симон. – Ты серьезно?
– Серьезнее не бывает.
– Ну надо же, а. Ты хотела забыть Элливаль! Тебя же там на руках носили. И единственной из всех предложили клубный контракт. Страшно тебе тогда завидовал; ай, да я до сих пор завидую! И всю жизнь буду, каким бы крутым сам ни стал. Потому что это и есть настоящее признание, заоблачная высота. Все знают, что выпускнику нашей консерватории получить контракт с филармонией Элливаля довольно легко, зато в тамошние клубы за всю обозримую историю чужаков приглашали только трижды. Великого Башу Мерлони и Алису Ли с диапазоном голоса в пять октав. Ты, собственно, третья. Что понятно. Ты всегда была лучшей из нас.
– Я была вполне ничего, – согласилась Цвета. – Но в тот клуб меня просто по знакомству взяли. По личному ходатайству одного из учредителей, умершего примерно четыре тысячи лет назад. Я была влюблена в него по уши, как ни в кого из живых никогда не влюблялась, а ему очень нравилось слушать, как я играю, поэтому не захотел меня домой отпускать. Прости, дорогой, я столько не выпью, чтобы дальше рассказывать. Просто поверь на слово: мне было что забывать.
– Я сейчас знаешь чего не понимаю, – сказал Симон, размякший от крепкого джина и Цветиной откровенности. – Мы же с тобой вместе шесть лет учились. А потом вместе работали в Элливале. Почему мы с тобой не дружили? Даже не поговорили толком ни разу. Как это мы так?
– Просто это были не то чтобы именно мы с тобой, – пожала плечами Цвета. – Совсем другие ребята. Я минус страстный роман с мертвецом Элливаля, ты минус десять, или сколько там лет беспамятства на Другой Стороне. Оба минус все остальное, что успело с нами с тех пор случиться. О чем бы они говорили, оставшись наедине? Разве что о музыке. Ну так ее играть надо, а не говорить. Поэтому я и хочу играть с тобой, дорогой. Подумай об этом, пожалуйста. Необязательно решать прямо сейчас. Не бойся, что передумаю, если сразу не согласишься. Мое слово твердо. Я буду хотеть этого завтра и послезавтра, и через год, и через десять, всегда.
– Да не о чем тут думать, – вздохнул Симон. – Я сам очень хочу с тобой играть. Вопрос, что и как? По уму, надо написать что-то новое. Для тебя специально. То есть для нас. И я это сделаю. Только не представляю когда. У меня же, понимаешь, две жизни. И основная пока, как ни крути, на Другой Стороне. Там мои музыканты, почти ежедневные репетиции, расписание концертов на год вперед. Свободное время выкроить еще как-то можно, а внимание и силы – не факт. Поэтому все у нас с тобой будет, но медленно. Хорошо если через год, но скорее все-таки через два. Если ты согласна столько ждать, хорошо. А если не согласна, я приду в отчаяние, что упустил такой невероятный шанс. Но ничего изменить не смогу.
– Ты меня неправильно понял, – сказала Цвета и ослепительно улыбнулась, накрыв его руку своей. – Я хочу поиграть с тобой и твоим оркестром, или что там у тебя, как оно называется? – ансамбль? группа? – неважно. Я хочу играть с тобой на Другой Стороне.
– На Другой Стороне? – потрясенно переспросил Симон. – Ты серьезно?
– А почему нет? – удивилась она.
– Но ты же не… – начал было он, смущенно умолк, потому что говорить о подобных вещах почему-то всегда неловко, как обсуждать пламенеющий закат со слепым, но сделал над собой усилие и прямо спросил: – Как ты туда пройдешь?
– Ну так ты меня и проведешь, – пожала плечами Цвета. – Говорят, с опытным спутником кто угодно на Другую Сторону пройдет, особенно если сопровождающий сам того очень хочет. И научишь специальным приемам, как там безопасно спать, чтобы не проснуться другим человеком. Ты же наверняка кучу полезного знаешь, а то как бы смог месяцами там без вреда для себя пропадать? Хлопотно тебе будет со мной поначалу, согласна. Привести, всему научить, помочь снять квартиру, объяснить, что там принято и чего не положено, специальные правила везде есть. Но я обычно быстро учусь. И денег хватит на любые расходы. И ближайшие выступления хоть сейчас отменить могу.
– А если домой захочешь наведаться? – нерешительно спросил Симон. – Иногда, знаешь, внезапно становится надо, как ныряльщику воздух вдохнуть. И как обратно потом?
Впрочем, ему уже было все равно, что Цвета ответит. Если скажет: «Ой, не знаю», – сам тут же придумает, как эти проблемы решить. Потому что он уже представил, как Цвета играет с его ребятами, и от этого голова шла кругом. Сама Цвета Янович! Золотая труба столетия! Играет с нами! На Другой Стороне!
– Если вдруг действительно припечет, на Маяк приду, как все нормальные люди, – равнодушно сказала Цвета. – А обратно… Ну слушай, придумаем. Попрошу какого-нибудь контрабандиста, или ты сам за мной зайдешь. Ты мне другое скажи: ты вообще этого хочешь? Я впишусь в твои планы? Не буду обузой? Говори, как есть, я не обижусь. Огорчусь, конечно, ужасно. Но переживу.
– Тебе сколько времени надо, чтобы собраться? – спросил Симон. – Я имею в виду, уладить дела.
То ли Цвета так быстро вскочила и подбежала, что Симон не успел заметить, когда она это успела, то ли просто перепрыгнула через стол, то ли и вовсе мгновенно переместилась в пространстве, не сходя с места, как, говорят, умели Старшие жрицы минувших эпох; факт, что буквально сотую долю секунды спустя Цвета заключила его в объятия, совершенно по-детски заливисто вереща от восторга, как будто Симон был любимым старшим братом, впервые позвавшим ее на рыбалку:
– Уррррра! Ты меня берешь!
6. Зеленый ангел
Состав и пропорции:
водка 15 мл;
ром 15 мл;
джин 15 мл;
текила 15 мл;
абсент 15 мл;
кола 40 мл;
апельсиновый ликер 15 мл;
лимонный фреш 40 мл.
В бокал для «Маргариты» добавить все компоненты коктейля в определенной последовательности: водка, далее ром, далее джин, затем текила, ликер и абсент. Рекомендуется наливать ингредиенты по стенке рюмки тонкой струйкой. Это позволит получить четкие слои.
Колу и лимонный фреш наливают в отдельные стопки. Бармен поджигает коктейль, и пока клиент пьет его через соломинку, одновременно вливает в бокал содержимое обеих стопок.
Эна здесь
Эна не проявляется постепенно, а вламывается сразу, целиком, резко, грубо, можно сказать, открыв дверь с ноги, хотя, конечно, нет никаких дверей, да и ног пока тоже нет, ноги появятся после, так уж оно устроено: сперва входишь ты, а ноги и все остальное, что может понадобиться, приложатся потом.
Грубость первого жеста – не каприз Эны, не прихоть, не выражение личной неприязни, не дань тяжелому характеру (у Эны как раз очень легкий характер – в тех случаях, точнее, в тех формах существования, когда он вообще хоть в каком-нибудь виде есть). А просто необходимость, продиктованная исключительно свойствами местной материи. Туда, где материя грубая и тяжелая, входить следует тоже грубо, резко и тяжело. Это, можно сказать, вопрос вежливости. И одновременно безопасности; собственно говоря, вежливость и есть техника безопасности. В любом месте следует вести себя так, как там принято. То есть проявлять свою силу тем способом, каким ее принято проявлять. Чтобы сразу дать понять реальности, с кем она имеет дело, и при этом ее нечаянно не повредить. И себя оградить от дополнительных неудобств, это тоже важно. Эна не любит неудобств.
Поэтому вместо того, чтобы аккуратно родиться в нужное время в подходящем месте и неторопливо дожить до возраста, совместимого с выполнением текущей задачи, или спуститься с небес в ответ на молитвы, предварительно их вдохновив, или, повинуясь зову местных стихий, выйти из каких-нибудь древних песков, трещины в камне, моря, темной пещеры, тумана, да мало ли какие бывают врата, Эна просто появляется в пустом туалете зоны прибытия Вильнюсского международного аэропорта. Возникает там, условно говоря, из ниоткуда, и все дела.
Некоторое время Эна стоит перед зеркалом, внимательно разглядывая себя; с одной стороны, временный облик не имеет никакого значения, с другой, почему-то всегда ужасно интересно, как ты на этот раз выглядишь, словно бы что-то новое узнаешь про себя. Хотя, на самом деле, не про себя, конечно, а про актуальные обстоятельства. Всякий рабочий облик просто соответствует текущей необходимости. При чем тут ты.
Сейчас Эна выглядит женщиной средних лет, по местным меркам, не особенно привлекательной. Эна здесь всегда примерно так выглядит; понятно почему: в реальности, где материя столь тяжела, что деторождение становится трудной работой, следует проявляться самкой: самки от природы выносливей, в самку можно вместить гораздо больше себя. То есть в женщину, их следует так называть; впрочем, какая разница, какими словами ты думаешь. Здесь не умеют слышать чужие мысли, а если вдруг кто-то особо чуткий случайно что-то услышит, примет их за свои и сам себе удивится – какая чушь мельтешит в голове! Эна здесь далеко не впервые и знает, как все устроено. Хотя не привыкнет, наверное, никогда.
«Никогда не привыкну», – думает Эна, но не раздраженно, а весело, с удовольствием. Эне очень нравится не привыкать.
С таким же веселым удовольствием Эна разглядывает себя в большом, во всю стену зеркале. Будь на ее месте настоящая человеческая женщина, отвернулась бы, чтобы лишний раз не расстраиваться, а Эна думает: ай, хороша! Эне нравится это новое тело, как понравился бы любой нелепый карнавальный костюм – праздник! неожиданность! радость! чудесно! смешно! – но с человеческой точки зрения Эна выглядит, прямо скажем, не очень. Так надо, чтобы не привлекать к себе повышенного внимания и не вызывать несанкционированных теплых чувств. Крупное плечистое тело с маленькой грудью и широкими бедрами, копна жестких густых волос цвета темной ржавчины, бледное невыразительное лицо с дряблыми щеками, мясистым носом, длинным тонкогубым ртом и чересчур большими глазами, такими неистово, яростно черными, что лучше бы в них никому не смотреть. Ну, тут ничего не поделаешь, как ни скрывайся, кем ни прикидывайся, а всегда будешь выглядывать из собственных глаз. Поэтому Эна достает из кармана куртки футляр, вынимает оттуда очки в бледно-голубой пластиковой оправе и надевает. Неудобная штука; то есть все ее нынешнее тяжелое твердое малоподвижное тело само по себе крайне неудобная штука, а тут еще какая-то дополнительная дрянь елозит по так называемому лицу. Зато за толстыми стеклами глаза Эны кажутся просто мутными темными пятнами. Вот и славно. Ни к чему лишний раз кого-то пугать.
Кроме того, очки отлично дополняют образ, делают его завершенным. Неброская, опрятная одежда – демисезонная куртка, юбка чуть ниже колена, удобные непромокаемые ботинки, аккуратный дамский рюкзак солидной спортивной фирмы, а теперь еще и очки.
Эна покидает туалет и идет к выходу из здания аэропорта. На первый взгляд, не было никакой необходимости проявляться именно здесь. Но, во-первых, войти в город теми вратами, которыми входит сюда большинство путников, логично и справедливо: теперь город откроется Эне тем же способом, в той же последовательности, как открывается всем остальным. А во-вторых, это просто очень смешно. Эна любит смешное, как некоторые люди любят пирожные – вполне может без него обходиться, но при всяком удобном случае с удовольствием кормится им.
Эна выходит на крыльцо, оглядывается по сторонам. Рядом стоянка такси и автобусная остановка, чуть поодаль – парковка автомобилей. Много людей с чемоданами и рюкзаками, встречающие пришли налегке, некоторые курят, другие разговаривают по телефонам, третьи растерянно оглядываются по сторонам – туристы, впервые в городе, или вернулись после очень долгого перерыва и теперь пытаются разобраться, как добраться отсюда по нужному адресу, этим труднее всех. Воздух влажный, то ли после дождя, то ли перед, то ли между двумя дождями, небо затянуто тучами, поэтому кажется, что уже наступили сумерки, хотя сейчас всего половина четвертого дня. Пахнет мокрой землей, прелыми листьями и печным дымом, этот запах – что-то вроде визитной карточки города, Эна его очень любит, то есть помнит всегда, не забывает о нем, даже когда занимается совсем другими делами, пребывая в иных телах, настолько отличных от нынешнего, что могли бы счесть этот запах неприятным, если не ядовитым. Или вовсе не способны его ощутить. С Эной происходит так много, что нет смысла подолгу помнить хоть что-то, кроме самого интересного, удивительного и прекрасного; для таких как Эна память и есть любовь.
Эна стоит на крыльце возле выхода, озирается по сторонам. Со стороны Эна выглядит одной из растерянных туристок, которые только что прилетели и не знают, куда им теперь идти. Эна действительно ощущает растерянность, но не потому, что сама чего-то не понимает. Это чужая растерянность, вокруг полно растерянного народу, как всегда бывает в подобных местах. Ничего интересного, но это как раз совершенно неважно, ощущать следует, не выбирая, все подряд.
В этом, собственно, и заключается текущая задача: войти в город, оказаться среди населяющих его людей, зверей и деревьев, испытывать чувства, которые испытывают они. Это единственный способ выяснить, как объективно обстоят дела – в этом конкретном городе и в любом месте, где окажется Эна. Эна – честное зеркало, как всякая настоящая взрослая бездна. Одно из лучших зеркал, потому что Эне нравится испытывать чувства – любые. Эна себя не бережет, не ограничивается первыми впечатлениями, не отворачивается, не убегает, толком не разобравшись, и даже окончательно разобравшись, не спешит уйти, непременно остается еще на какое-то время, дает реальности шанс сделать неожиданный ход, удивить, обрадовать или, наоборот, испугать. Если во Вселенной существует хоть какое-то подобие справедливости, Эна и есть она.
И вот прямо сейчас Эна, темная бездна, зеркало, воплощенная справедливость, стоит на крыльце, совершенно по-человечески прижав ладони к щекам, потому что реальность, от которой Эна, будем честны, не ждала ничего выдающегося, по крайней мере, уж точно не в первые полчаса, удивила ее, не откладывая, сразу, в первую же минуту. Сильнее всех человеческих чувств, обычных в подобных местах, предсказуемых, заранее ожидаемых – растерянности, усталости, облегчения, что полет наконец-то закончен, нетерпения, радости встреч, тревоги, досады, деловитой собранности, недоверчивой настороженности и всего остального, свойственного вокзалам и зонам прибытия аэропортов – оказался общий счастливый выдох, почти никем не осознаваемый, но для Эны мощный, яркий и даже отчасти знакомый, немного похожий на чувство, которое Эна неизменно испытывает всякий раз, вернувшись домой – наконец-то я здесь, спасибо, как же хорошо снова быть просто мной!
Некоторое время Эна стоит, наслаждаясь этим неожиданным подарком, и одновременно анализирует происходящее, думает: прежде здесь так не было. Мне казалось, этот тип счастья, обычно сопровождающий благоприятное изменение свойств материи, местным вообще недоступен. По крайней мере, не наяву.
Наконец Эна покидает крыльцо и садится в автобус номер один, который как раз подъехал к остановке. В автобусе необычное для здешних краев чувство счастья ослабевает, перекрывается робостью, суетливостью, досадой, раздражением, неприязнью к другим пассажирам, нервным и умственным напряжением, разочарованием, завистью к тем, за кем приехали в автомобиле, и к тем, кто может себе позволить такси, но окончательно не проходит. Все равно есть.
Вечереет, близятся настоящие сумерки, дождь закапал было, но передумал и перестал. Эна кружит по городу – высокая рыжая тетка, немолодая, не худая, не толстая, слишком нескладная, чтобы вызвать симпатию, слишком заурядная, чтобы ее замечать. Но ей все равно приветливо улыбаются – хозяева маленьких лавок, курильщики возле офисных зданий, старухи с цветами, люди с колясками, которым она уступает дорогу на узких тротуарах, бариста в кофейнях и просто прохожие – не то чтобы лично ей, скорее, просто так, от избытка, хороший выдался день, к вечеру потеплело, так пронзительно сладко и горько пахнет мокрой землей, прелыми листьями, дымом, и небо, такое небо, вы видели час назад целых три радуги, одну над другой? – а тут очкастая тетка навстречу, явно приезжая, с рюкзаком, растерянно смотрит по сторонам, хороший повод лишний раз улыбнуться, пусть думает, что мы ей рады, даже если мы рады просто так, а не именно ей.
То есть не то чтобы нет ничего кроме этой бескорыстной, беспричинной радости. Еще как есть! Прежде всего, страх и боль, но это как раз обычное дело, чем тяжелей и жестче материя, тем больше во всем живом страха и боли, понятная взаимосвязь. И все остальное, естественным образом вытекающее из страха и боли: тревожная спешка, постоянный бессознательный поиск того, что можно присвоить, и тех, кого можно присвоить и подчинить, желание мучить других и одновременно им нравиться, зависть к чужому имуществу, стремление уберечь от чужих свое – да много всего, не особенно интересного, Эну этим не удивишь, не рассердишь, не выведешь из равновесия, Эна знает о свойствах здешней материи, хорошо понимает, как велика ее власть. С самого начала чего-то подобного и ждала. Но вот чего совершенно не ожидала – что в этом хоре так внятно проявится веселая беспричинная радость, свойственная существам, состоящим из совершенно иной материи, тем, кого местные жители наивно сочли бы «бессмертными»; впрочем, были бы по-своему правы: разница между здешней и тамошней смертями столь велика, что даже как-то нелепо называть их одним и тем же словом. Хотя, по большому счету, сила, что разделяет сознание и материю, и есть смерть.
«Удивительно, какие они в этом городе стали, – думает Эна, легкомысленно и беспричинно упиваясь всеобщей легкомысленной беспричинной радостью, необычной для здешних мест, звучащей так громко, что все остальное не то чтобы вовсе не имеет значения, но к тому уже явно идет. – Люди, их звери и даже деревья, подумать только, деревья! А ведь они наиболее беззащитные существа в человеческих городах. Как быстро, оказывается, может измениться неподатливая, на первый взгляд, реальность всего лишь от нескольких дырок в небе, приоткрытых границ и других пустяковых чудес. Буквально за считаные годы можно все изменить! Сказал бы кто, не поверила бы. Собственно, и не верила. Хорошо, получается, что решила прийти посмотреть сама».
Стефан
Начальник Граничного отдела полиции города Вильнюса сидит под еще не убранным с лета темно-зеленым тентом за деревянным столом с бокалом светлого пива. Именно так он представляет себе беспредельную роскошь, разврат, декаданс: уйти пить пиво не ради деловой или дружеской (и поди еще отличи одно от другого) встречи, а в одиночку, без хотя бы завалящего повода, наяву, посреди рабочего дня.
Дело, конечно, не в самом пиве, не в одиночестве, тем более, не в работе, а в том, что каждому человеку надо время от времени каким-нибудь предельно понятным способом демонстрировать себе, что жизнь удалась и легка. Стефан делает это так – позволяет себе оставаться праздным и бесполезным аж двадцать минут кряду. А то и целые полчаса.
И в самый сладкий момент, когда бокал наполовину пуст, но наполовину все еще полон, в голове не осталось ни одной мало-мальски разумной мысли, ни единого соображения о текущих делах, а нависшая над городом дождевая туча всем своим видом показывает, что ей не печет, готова ждать, сколько понадобится, сиди спокойно, уважаемый пан начальник, прольюсь, когда сам отсюда уйдешь – как назло именно в этот момент, а не хотя бы пятью минутами позже, когда пик наслаждения праздностью останется позади, Стефан вдруг понимает: что-то случилось. И даже СЛУЧИЛОСЬ, каждая буква в этом слове до неба и полыхает адским огнем. Больше всего ощущение Стефана похоже на пробуждение от удара, только с той разницей, что он-то не спал, и никто его вроде не бил.
Необязательно, кстати, случилось (СЛУЧИЛОСЬ, СЛУЧИЛОСЬ) непременно что-то ужасное. Пока просто непонятно какое оно. Но столь сокрушительной силы событие, что без таких, положа руку на сердце, распрекрасно бы мы обошлись.
Стефан отставляет в сторону кружку, поднимается и идет, сам не зная куда. Знать в его случае и не надо. Хорошо уметь правильно выбирать направление, но настоящее мастерство заключается в том, чтобы нужное направление выбирало тебя само.
Стефан идет по городу особым Хозяйским шагом. Это его коронный номер, сам когда-то его изобрел. Собственно, практически все, что Стефан умеет, он изобрел сам. Тому, кого интересует исключительно невозможное, обычно не у кого учиться. Или, если посмотреть на это дело иначе, ему достаются лучшие учителя – случай, необходимость и весь мир. Поэтому вряд ли правильно утверждать, будто Стефан именно изобрел все, что он изобрел, в частности, эту походку. Просто однажды, когда-то очень давно ему впервые понадобилось пройти по городу Хозяйским шагом, показать, кто здесь главный, за все отвечает и решает, как будет. И он пошел. А уже потом объяснил, как это делается – себе самому же и объяснил, больше некому, в смысле, никому про Хозяйский шаг знать не надо. Нужно очень долго жить в городе и очень много здесь сделать, чтобы город тебе разрешил по улицам Хозяйским шагом ходить.
В основе Хозяйского шага лежит обычный Зрячий шаг, знакомый всем, кто умеет договариваться с реальностью на равных, один на один. Зрячим шагом ходят, перенося внимание в пятки, глядя ступнями, словно глазами, не только на землю, которой они касаются, но и по сторонам, и вверх, и обязательно вглубь – себя и всего остального, потому что когда смотришь вглубь, границ между тобой и всем остальным больше нет.
Ну, это просто, на самом деле. И не только полезно, но и очень приятно. Кто первые пару сотен раз попробует, потом уже не захочет по земле иначе ходить. Потому что ответом на каждый твой Зрячий шаг сперва становится радостное удивление, от людей земля обычно ничего такого не ждет, а на смену удивлению постепенно приходит нежность: какой ты у меня, оказывается, хороший! Оставайся со мной подольше, ходи еще!
Ощутив однажды нежность земли, невозможно оставить ее без ответа. Так к вниманию неизбежно добавляется любовь, и тогда Зрячий шаг становится Колдовским, исполненным бесконечной радости. Счастлива земля, по которой есть кому ходить Колдовским шагом; о самом идущем нечего и говорить. В первое время, когда только-только начало получаться, твой простой Зрячий шаг понемногу становится Колдовским, вообще больше ничем заниматься не можешь, только ходишь и ходишь, наматываешь какие-то сумасшедшие бессмысленные километры; Стефан когда-то почти полгода вот так ходил, ничего больше не делал и даже не понимал, зачем еще что-то, когда у него уже есть весь мир. Но потом, конечно, привык. Все привыкают. Любовь только начало всякой настоящей истории, а не ее финал.
А чтобы Колдовской шаг стал Хозяйским, надо вкладывать в него не только внимание и любовь, но и всего себя целиком, утверждать себя каждым шагом, натурально впечатывать с такой неистовой силой, как будто споришь сейчас со всем миром о чем-нибудь самом важном и любой ценой, обязательно должен его убедить.
Поэтому Стефан не очень-то любит ходить Хозяйским шагом. Как все существа, обладающие подлинной властью, он терпеть не может ее проявлять. Но иногда бывает надо. Вот, например, сейчас. Что бы там у нас ни случилось (СЛУЧИЛОСЬ, СЛУЧИЛОСЬ, СЛУЧИЛОСЬ), пусть оно заранее поймет, с кем связалось. Ну и земле, на которой построен город, не помешает лишний раз убедиться, что в обиду ее никто не даст.
Стефан кружит по городу этим своим заветным Хозяйским шагом уже добрых полчаса и начинает – не то чтобы по-настоящему закипать, но понимать, что в принципе такое может случиться. В какой-то момент он наверняка закипит. И уж тогда перестанет сдерживаться, стукнет кулаком по столу, в смысле, своим невидимым бубном по башке той части неведомого, которое пробралось в его город и не желает встречаться с хозяином. Даже если у этой долбаной части не найдется ничего похожего на башку.
– Да ладно тебе, – говорит где-то совсем рядом с ним – позади? слева? справа? Так удивительно, когда ты, чуткий и опытный, не можешь понять, откуда звучит чей-то голос, похожий на женский, если слушать человеческим ухом, а если всем собой, как привык Стефан, вообще не похожий на голос, скорее на свист в ушах, когда падаешь в пропасть. К счастью, у этой пропасти нет никакого дна. И это, с одной стороны, так круто, что хоть помирай на месте от восхищения, но с другой, а то я не знаю, зачем в мой город может заявиться Старшая Бездна. Задрали уже своими проверками. Могли бы больше мне доверять.
– Ладно тебе, – повторяет невыносимый сладостный голос, – не серчай. Я не для того пряталась, чтобы тебе досадить. Просто мне очень понравилось ощущать, как ты ко мне приближаешься. Красиво научился ходить!
– Ну ни хрена себе, какие гости, – наконец говорит Стефан, и сам не знает, с облегчением он говорит или нет. – Ты какого черта здесь делаешь? В смысле, добро пожаловать. Рад тебя видеть, но…
– Не ври, ты пока мне не рад, – отвечает Эна, бездна и справедливость, страшная гостья, лучшая из гостей. – Но позже наверняка обрадуешься. А пока не обрадовался, можешь с чистым сердцем хамить. Только не прямо на улице. Не люблю слушать грубости на ходу. Идем где-нибудь посидим, как нормальные люди. Я здесь уже почти сутки гуляю, и мне с непривычки очень понравилось быть одной из здешних людей.
– Почти сутки? – изумленно переспрашивает Стефан. И думает: это, конечно, полный провал. Бездну у себя под носом целые сутки не замечать это еще ухитриться надо. Это я молодец.
– Ты не мог меня учуять, пока я этого не хотела, – примирительно говорит Эна. – Дело не в тебе, дело во мне. Ты что, правда думаешь, будто меня в принципе возможно обнаружить, когда я сама этого не хочу? Нелепое суеверие, выкинь из головы!
– Но в конце-то концов я тебя учуял, – возражает Стефан. – Просто не сразу. Знатно стормозил.
– Вот балда! – смеется Эна. – Не учуял, а просто услышал, как я тебя позвала. Надеюсь, не очень побеспокоила? Я бы с удовольствием позвонила по телефону, да номера в справочной не нашла.
И наконец появляется рядом – справа и чуть позади, как будто немного отстала от спутника, но теперь догнала.
– Выглядишь, как черт знает что, – восхищенно говорит Стефан.
– Знаю, – кивает Эна. – В таких случаях принято отвечать: «Спасибо, я старалась», но будем честны, я не старалась совсем. Что получилось, то получилось, можно было и хуже, но так тоже сойдет.
С этими словами она берет Стефана под руку, и это, конечно, роскошный подарок. Нет ничего слаще прикосновения бездны, которая довольна тобой, а Эна сейчас очень довольна. Натурально сияет. То есть она правда немного светится, даже человеческими глазами, наверное, было бы можно увидеть, если бы уже стемнело; к счастью, до наступления сумерек еще далеко.
– Ну и какого черта ты здесь забыла? – спрашивает Стефан, пока его гостья, нелепая рыжая тетка, поправляет съехавшие на нос очки и маленькими глотками пьет горячий яблочный сок с ромом, величайшее изобретение человечества, лучший сезонный напиток этого холодного сентября.
– Я не забыла, – серьезно отвечает Эна. – Наоборот, вспомнила. Как ты хвастался, что устроишь в этом городе, когда ему наконец дадут статус Граничного. Решила посмотреть, что из этого вышло. Не от какого-то особого недоверия лично к тебе. Тебе-то я как раз доверяю. Ты всегда нравился мне. Что мне не нравилось, так это идея присваивать статус Граничного этому городу и другим здешним городам; собственно, она вообще никому не нравилась. Ты знаешь почему.
Стефан недовольно морщится. Потому что, во-первых, сто раз об этом уже говорили. А во-вторых, он сам понимает, что, по большому счету, Эна права. Все что он сделал и продолжает – вопреки этому пониманию, назло даже не оппонентам, а понимающему их правоту себе. Потому что Стефана интересует исключительно невозможное. А возможное как-нибудь устроится и без него.
– Пока людьми, населяющими реальность, движут страх и стремление мучить друг друга, реальность неизбежно имеет статус, который на вашем местном языке называется «адом», – строго говорит Эна. – А в аду не должно быть ни открытых Проходов в иное, ни, тем более, граничных городов. Но оказалось, – на этом месте она улыбается всей своей рыжей теткой столь безмятежно и ослепительно, будто никакой тетки нет, а есть настоящая Эна, бушующая стихия, погибель и сама жизнь. – Оказалось, я ошибалась! – ликует она так, словно нет ничего в мире лучше, чем как следует ошибиться в важном вопросе и немедленно повторить. – Прими мои поздравления, здесь больше не ад, а значит, вас это правило не касается, – заключает Эна. – Всей остальной реальности – к сожалению, по-прежнему да, но твоего города – нет.
Стефан недоверчиво качает головой.
– Спасибо тебе, конечно. Но на мой взгляд, до «не касается» нам бы еще дожить. Люди есть люди. Им трудно меняться, хоть живьем на небо возьми. А у меня тут не небо. Поэтому страх в них, к сожалению, все еще есть. И желание мучить друг друга не то чтобы вот так сразу прошло…
– Да, естественно, есть, – нетерпеливо кивает Эна. – Глупо ждать, что они исчезнут в обозримое время. Люди есть люди, ты прав. Просто эти две скверные нежелательные мелодии больше не звучат громче всех в общем хоре. Радость звучит заметно громче. И возвышающая, выращивающая сердце тоска по чему-то неведомому. И некоторые другие мелодии, для которых я пока не подобрала точных названий. Но это неважно, главное, они мне понравились. Поэтому пусть и дальше звучат.
– Ты серьезно? – растерянно спрашивает Стефан. – Радость – громче всего остального? Уже? Вот прямо сейчас?
– Громче, громче, – улыбается Эна. – И не только она. Кто бы сказал, сама бы ни за что не поверила. Но я здесь уже почти сутки, много всего повидала, много услышала, и могу лично свидетельствовать: это так. Ты, оказывается, не хвастался, а знал, что делаешь. Надо же, какой молодец.
– Да ни хрена я тогда не знал, – честно говорит Стефан. Он сейчас пьян, как очень давно не был пьян – не от грога, конечно, от счастья. Ну и, чего уж, от близости очень довольной им бездны. Выпивка в подобных случаях обычно более-менее протрезвляет, возвращает на землю, но ее слишком мало. Да и крепость совсем не та.
– Ни хрена я тогда не знал, – повторяет Стефан. – Только чувствовал, как, по рассказам, музыканты изредка чувствуют в самом начале удачной импровизации: ну пошло дело, сейчас мы всем зададим!
– Но это и означает «знал», – пожимает плечами Эна. – Чувство, о котором ты говоришь, и есть настоящее знание. А что же еще?
– Так тебе у нас нравится? – спрашивает Стефан.
Он уже понял, что нравится. Но желает насладиться триумфом по полной программе, слышать это снова и снова, еще и еще. Но Эна отрицательно качает головой:
– Не нравится. Это неточное определение. Смысла не передает. Мне не «нравится», я в восторге. Никогда еще такого не видела.
– Да ладно тебе, – польщенно улыбается Стефан. – Во Вселенной много таких прекрасных миров, что, при всей любви к этому городу, сам понимаю: до них нам еще пахать и пахать…
– Ну, положим, до некоторых вам и пахать бесполезно, все равно не допашете, – отмахивается Эна. – Не обижайся, речь не о «хуже»-«лучше», а о «таком» и «ином». Я сейчас вообще не о том говорила. Не о красоте твоего фрагмента реальности. А о стремительности перемен. За сколько здешних лет это все случилось? Двадцать? Тридцать?
– Чуть больше двадцати.
– Это же меньше обычного срока человеческой жизни?
– Слава богу, гораздо меньше.
– Ну вот, и я о чем. Невероятно, фантастически быстро! – заключает Эна, поставив на стол опустевший стакан. И добавляет: – Очень вкусная штука. Такая счастливая, как будто ее специально настаивали на всех благих переменах. Хотя я понимаю, что не настаивали, здесь так не умеют. Короче, давай закажем еще.
«Ага, не умеют, как же, – думает Стефан. – Это ты просто у Тони пока не была. Не помню, делал ли он настойку именно на благих переменах, но на любви у него точно есть. И на радости. И на непролитых слезах. И на несбывшихся ожиданиях. И на горьком осеннем ветре. И на солнечном свете, и на звездных лучах».
Но Стефан совсем не уверен, что Эну следует приглашать к Тони. Во-первых, там и без нее материя слишком зыбкая, наваждение класса эль-восемнадцать, которому на этой планете, будем честны, не место, куда еще добавлять. А во-вторых, если Эна захочет, куда угодно без приглашения сама придет.
– Конечно, давай закажем, – говорит он вслух, но бокалы с горячим яблочным грогом приносят раньше, чем Стефан успевает сказать хоть слово. Эна честно старается играть по правилам, но она нетерпелива, как и положено бездне. Очень не любит ждать.
– Я у вас тут, пожалуй, еще поживу, – небрежно говорит Эна, отламывая кусок лепешки, посыпанной крупной солью и розмарином. – Не беспокойся, не ради какой-нибудь дополнительной проверки. Не будет больше проверок, все ясно с тобой. А просто для собственного удовольствия. Пока не надоест.
– Ты серьезно? – спрашивает Стефан.
– Что может быть серьезнее моего удовольствия? – смеется она.
– Ну ничего себе новости. Слушай, никогда в жизни в обморок не падал, чего не было, того не было. Но сейчас, того гляди, упаду.
– А зачем тебе падать в обморок? – удивляется Эна. – Какой в этом смысл?
– Да не «зачем», а просто на радостях, – объясняет Стефан. – Чего только в этом городе не творилось, особенно в последнее время, но взрослые бездны у нас еще никогда подолгу не жили. И тут вдруг! Да не кто попало, а сразу целая ты! Еще и ради собственного удовольствия. Понятия не имею, что из твоей затеи выйдет, и как мы потом будем это расхлебывать, но всегда о чем-то таком мечтал.
– Говорила же, ты еще мне обрадуешься, – улыбается Эна. – И не ошиблась! Вот теперь ты по-настоящему рад.
7. Зеленая смерть
Состав и пропорции:
абсент 30 мл;
шампанское (может быть заменено любым сухим игристым белым вином) 50 мл.
В высокий узкий бокал для шампанского налить абсент, потом – охлажденное игристое вино.
Эва
– Теперь соберись, моя радость, – сказала Эва и несколько раз почти беззвучно и одновременно предельно отчетливо, вкладывая в каждый звук всю себя и еще что-то, или даже кого-то, кем она вроде бы не являлась, но в такие моменты все-таки да, повторила: – Соберись, соберись, соберись. Все хорошо, боли нет и не будет, ужаса тоже не будет, а ты будешь, ты уже есть, ты – навсегда. И тебя будет становиться все больше и больше, посмотри, какой целый прекрасный ты, сотканный из огня и света, ничего красивей в своей жизни не видела. Свет здесь вместо дыхания, если все внимание на него, сразу же успокоишься, соберешься и уже никогда не рассыплешься, останешься целым, в ясном сознании, так что светись давай.
Заклинала, утешала и успокаивала этот свет, давно отвыкший быть светом, медленно, бережно, но уверенно, как раздувают костер. И так же ясно, как всегда бывает с костром, почувствовала переломный момент, после которого огонь уже не погаснет. Спасибо, боже, я это сделала, ты это сделал, мы это сделали, и все, на сегодня все.
Только теперь осознала, что все это время просидела на корточках; обычно она мгновенно уставала от такой позы, ноги начинали ныть максимум через пару минут. А сейчас, наверное, полчаса просидела и не заметила. Или не полчаса? Больше, меньше? Сколько я вообще тут пробыла?
Посмотрела на экран телефона: четверть третьего. И когда это началось, тоже была четверть третьего, это Эва запомнила, перед тем как войти в подъезд, посмотрела на часы и поняла, что наверняка опоздает на встречу, подумала, что лучше бы отложить это дело до вечера, но все равно вошла.
«Получается, целую вечность тут была четверть третьего. Черт его знает, что творится в такие моменты с временем, как оно ухитряется течь, аккуратно огибая тебя, словно ты сидишь на острове посреди этой неумолимой реки. Ну, в каком-то смысле и правда на острове. Можно и так сказать. В любом случае, здорово получилось у времени, – думала Эва. – Это оно молодец, спасибо ему. Теперь я даже на встречу с заказчиком не опоздаю. И не придется оправдания сочинять».
Поднялась, разогнула колени – надо же, совсем не болят – и вышла из подъезда жилого дома на улице Якшто, где провела последние полчаса, где не провела ни единой минуты, если верить часам в телефоне, да кто ж им в здравом уме поверит. И пошла, но почему-то не в сторону офиса, а вниз, к реке.
– Вам бы сейчас не нестись не пойми куда, сломя голову, а наслаждаться заслуженной праздностью. Кофе со мной пить, например, – сказал знакомый голос.
Эве сперва почудилось, он это сказал из ее кармана, но оказалось, из полуподвального окна, откуда высунулся по пояс – в заляпанной краской зеленой робе и самодельной малярной шапке, сложенной из газеты. Как будто и правда делает там ремонт.
Эва так обрадовалась, что чуть не запрыгала, как дошкольница на детсадовской елке с криком: «Ура!» Но взяла себя в руки и сказала спокойно и вежливо, как взрослый человек:
– Спасибо, что примерещились. Я соскучилась по старому доброму бреду, отягощенному галлюцинациями. Встречать вас в кафе у Тони все-таки немного не то. Вы там на общем фоне чуть ли не самый нормальный, у меня от вас даже глаз не дергается.
– Да ладно вам – «самый нормальный»! Я же исчадие ада! – искренне возмутился он.
– Еще какое исчадие, – поспешно согласилась Эва. – Просто среди бела дня на улице эффект гораздо сильней. А насчет праздности совершенно с вами согласна. Мне бы сейчас даже не кофе, а водки. Полный стакан. Выпить залпом и мирно уснуть под столом на ближайшие сутки. Но у меня представитель заказчика в офисе плачет. То есть пока, слава богу, не плачет. Но минут через тридцать точно заплачет, если я к тому времени не приду.
– Ай, забудьте, – отмахнулся самозваный маляр.
Эва хотела огрызнуться: вам хорошо рассуждать, вы-то почти что бесплотный дух. То есть ситуативно плотный, но явно же не настолько, чтобы вас всерьез парил ваш банковский счет. А я – скромный начинающий мистик с недовыплаченным квартирным кредитом, рано мне пока работу терять.
Но пока она подбирала подходящие слова для выражения умеренного пролетарского гнева, в кармане блямкнул телефон, заказчик сообщил о переносе встречи на завтра, с таким количеством извинений, словно эта дурацкая встреча была нужна Эве, а не ему самому, так что заготовленный монолог о классовой несправедливости временно утратил актуальность.
– Слушайте, ну вот как вы это делаете? – восхищенно спросила Эва. – Бдымц, и отменилось все!
– Да я вообще ничего не делал, – ответил тот, вылезая из подвального помещения и аккуратно прикрывая за собой окно. – Просто захотел выпить с вами кофе. Немедленно, прямо сейчас, не дожидаясь, пока начнется и закончится это ваше дурацкое совещание. А когда я чего-то хочу, всегда выходит по-моему. Реальность уже давно в курсе, что так будет лучше для всех. Хотите сильнее, громче скандальте, если весь мир на блюдечке не принесли, и у вас тоже все начнет получаться как бы само собой… Слушайте, а вас не очень шокирует, что я в таком виде? Потому что переодеться я сейчас хочу как-то неубедительно. Недостаточно сильно и страстно, чтобы изменился этот дивный наряд.
– Нормально шокирует. В меру. Не больше, чем все остальное, – успокоила его Эва. – Вы настолько вовремя появились, что грех придираться к вашему оформлению. Круто вы угадали! Или это у меня уже получается по-настоящему сильно хотеть? Мне как раз было очень надо – вас, не вас, но чего-то такого. Непостижимого и неопределенного. Вот именно прямо сейчас.
– Значит, уже получается понемногу! – обрадовался ее вымышленный друг, он же бывшая галлюцинация, он же ситуативно уплотнившийся дух непонятного назначения.
Ну, то есть как – непонятного. На самом деле очень даже понятного. Просто не очень-то выразимого словами и не укладывающегося в уме.
На набережной он решительно повернул налево. «Вот интересно, – подумала Эва, – где это мы собираемся кофе пить?»
На всякий случай сказала:
– Если мы идем в «Кофеин» на Белом Мосту, так его еще летом закрыли из-за ремонта.
– Закрыли, – подтвердил ее спутник. И с несвойственным ему обычно злорадством добавил: – Давно было пора!
– Надо же. Была уверена, вам нравилось это кафе прямо на мосту.
– Что оно на мосту, очень нравилось. Но там вечно толкались толпы народу, так что не оставалось свободных мест. При этом кофе, будем честны, ни к черту. Стабильно хуже, чем во всей остальной сети. Вот увидите, у меня гораздо лучше получится. Кофе – моя специализация, он у меня всегда выходит отлично, даже когда я его не варю.
– Понятно, – кивнула Эва.
Потому что на самом же деле понятно. Где и пить кофе с этим… скажем так, удивительным природным явлением, если не в закрытом с лета кафе, которое к их приходу, конечно, открылось, как миленькое. Ну то есть сам киоск как был заколочен, так и остался, но за ним на площадке рядом с перилами появились два неудобных металлических стула и складной деревянный стол из «Икеи». И два оранжевых картонных стакана с кофе на этом столе.
Не успели усесться, как мост под ними ощутимо вздрогнул и медленно двинулся вверх по течению, словно огромный паром. Эва даже не удивилась. Знала же, с кем связывается. Рядом с этим типом вообще что угодно может случиться. Плывущий по реке мост – еще вполне ничего.
– Извините, что в стакане не водка, – сказал Иоганн-Георг, сдвигая на затылок газетную шапку, отчего его умеренно дурацкий вид сразу стал запредельно дурацким. – Водка тоже обязательно будет, но потом. Хотя вру, вряд ли именно водка, Кара ее терпеть не может…
– Кара? – удивилась Эва. – А при чем тут она?
– При том, что сегодня я – ее посланец. Практически вестник богов. Правда, без крылатых сандалий, но только потому, что на босу ногу в них уже холодно, а надевать носки под сандалии даже для меня перебор. Так вот, божественная Кара просила вам передать, чтобы зашли за ней на Олимп, в смысле, в комиссариат на Альгирдо примерно в половине седьмого. Она бы вам сама позвонила, но у них там прямо с утра была какая-то мелкая заварушка, и ее телефон съел демон. Ну, на то и полиция, чтобы каждый день рисковать!
– Демон съел телефон, – меланхолично повторила Эва. И, запоздало осмыслив сказанное, встрепенулась: – Какой еще демон?!
– Да какой-то залетный, – неопределенно пожал плечами вестник богов. – Я сам его не видел, только рассказов наслушался. Говорят, вылез из открытого Пути на холме Тауро и принялся там бузить, даже толком не материализовавшись, что, собственно, к лучшему. Если бы набрался терпения и отсиделся в кустах до полной материализации, весь город мог бы поставить на уши, а не только ребят из Граничной полиции. Но этот звездный шанс бедняга профукал; ну, сам дурак…
– И он съел Карин телефон? – перебила его Эва. – Демоны питаются гаджетами?!
– А почему нет? Надо же им хоть чем-то питаться. Некоторые невоспитанные злобные демоны пожирают все, что попадется под руку. Вернее, под клык. Одни от неутолимого голода, а другие глотают полезные вещи специально, чтобы всем вокруг досадить. Этот был вроде как раз из второй категории. Вредный такой. Ну или вредная, хрен его разберет, мальчик оно, или девочка, или что-то еще. Кара говорила, как оно называется, да я сразу забыл. У меня ужасная память на всякую заумную терминологию. До сих пор не понимаю, как экзамен по философии в свое время сдал… ну и чего вы смеетесь? Отлично, между прочим, я его сдал, на пятерку, тогда еще пятибалльная система была. Зато потом выкинул все эти бессмысленные нагромождения звуков из головы и новые туда не пускаю. Поэтому не запомнил, как называется Карин демон. Но совершенно точно не шарский. Шарские демоны – заиньки и мимими. Они не едят бытовую технику. И не кусаются. Только обиженно ревут, как девчонки, если долго их не кормить.
– Слушайте, да с вами никакой водки не надо, – вздохнула Эва. – И так уже все хорошо. Сижу на плывущем куда-то мосту, на, готова спорить, несуществующем стуле, слушаю сплетни о демонах. И это теперь моя жизнь!
– Отличная жизнь, по-моему. Мне даже завидно. Хотя, по уму, завидовать нечему: я же тоже здесь с вами сижу. Ну, правда, сплетни про демонов не слушаю, а сам рассказываю. Рад, что вам уже водки не надо. Не зря, выходит, на свете живу.
– А были сомнения?
– Естественно. Были, есть и вряд ли однажды куда-то денутся. У человека с пятеркой по философии сомнения будут всегда и во всем, даже если окончательно перестанет быть человеком. А я пока не то чтобы совсем окончательно перестал, – усмехнулся он, доставая из газетной шапки сигарету. И сам же ей удивился: – Ничего себе, какой шикарный у меня теперь портсигар!
Отдал сигарету Эве. Сказал:
– Ваши на работе остались, я правильно понимаю?
– Ну да, – улыбнулась она. – Я же буквально на минутку выскочила. В магазин. Сумку купить хотела. Вчера увидела в витрине идеальную сумку своей мечты, но было закрыто, а тут в середине дня внезапно свободные полчаса, решила, как раз успею. Ничего кроме карты и телефона с собой не взяла. Но почему-то пошла совершенно в другую сторону. Туда, где меня поджидала работа. Впрочем, эта работа меня теперь везде поджидает, хоть вовсе на улицу не выходи.
– Значит, тоже не зря на свете живете, – заметил Иоганн-Георг.
– Да я и так не то чтобы сомневалась. У меня, в отличие от вас, по философии была тройка, и та натянута исключительно из гуманности. Так что мне в этом смысле полегче. Но только в этом. Не в остальных.
– Трудно сейчас быть вами? – прямо спросил он.
– Трудно – не то слово. Но с тем, как было прежде, конечно, не сравнить. Теперь у меня есть опора, и это – лучшее, что могло в моей жизни случиться. Когда понимаешь, что происходит, и точно знаешь, что с этим делать, а если не знаешь, есть у кого спросить, можно справиться с чем угодно. Вообще не вопрос. Если бы кто-то мне раньше сказал, что однажды я стану слышать голоса умирающих, доносящиеся из прошлого, я бы сразу, не сходя с места, свихнулась, чтобы до этого чудесного дня в сознании не дожить. Но ничего, дожила и даже этому рада… бываю. В некоторые моменты. Вот прямо сейчас – точно да.
– Голоса умирающих из прошлого? То есть уже давным-давно мертвых людей? – изумился Иоганн-Георг. – Никогда о таком не слышал. Впрочем, я совершенно не разбираюсь в смерти. Я больше по жизни специалист.
– Да, некоторые умирающие зовут на помощь из прошлого. Те, кто тяжело уходил, но имел достаточно воли, чтобы в последний момент у всего мира сразу помощи попросить.
– Ну надо же! Даже у меня в голове не укладывается, – растерянно протянул он. – Зато, конечно, многое объясняет…
– Хорошо вам. Потому что мне – ничего. Однако я их теперь почему-то слышу. Как будто мне настоящих и будущих покойников мало!
– А что об этом Гест говорит?
– Говорит, это нормально. Восприимчивость обостряется, теперь всегда будет так. Но можно не торопиться их провожать, пока нет уверенности, что получится, или просто свободного времени, или сил. Эти голоса никуда не денутся, всегда будут звать. В любой момент можно вернуться в то место, где такой голос слышала, снова его услышать и проводить. Если я правильно поняла объяснения, на пороге между жизнью и смертью времени как бы не существует. И те, кого мы сможем спасти только в далеком будущем, уже заранее спасены, даже если сто лет назад умерли. Эта идея сводит меня с ума и одновременно здорово успокаивает. Хорошо быть уверенной, что рано или поздно один из тех, кто знает, что делать, услышит, придет и проводит, спасет.
– Я помню, вас это больше всего мучило: что если вы не поможете, все пропало, без шансов, навсегда.
– Да, – согласилась Эва. – Это было совершенно невыносимо. И вдруг я узнала, что, по большому счету, ничего не потеряно, ни для кого, никогда.
– Ну так отлично же! – воскликнул он. – Внезапно выяснилось, что мир устроен гораздо разумней и милосердней, чем вам казалось. И даже, чем до сих пор казалось мне, так что спасибо за хорошую новость, больше всего на свете такие штуки люблю… А вы еще говорили – «водки». С какого перепугу вам водки? Зачем?
– Вообще-то не помешало бы, – вздохнула Эва. – Я же только что впервые сама, без присмотра и помощи проводила умершего когда-то давно – двадцать, тридцать лет назад? Не знаю, да и какая разница, хоть триста могло бы быть. Я до сих пор плохо понимаю, что сделала, и как мне это удалось. Оно как-то само собой вышло: просто вдруг развернулась, зашла в подъезд, поднялась на четвертый этаж, и понеслось. И у меня получилось, я точно знаю. И это счастье, конечно. Но и ужас – когда вот так бесцеремонно проламываешься сквозь время. Плюс ужас, который ждал меня там. Тому умирающему несладко пришлось. Понимаю, почему он так отчаянно звал. Но я справилась, как раньше справлялась с теми, кто умирал здесь и сейчас. Представляете? Я смогла.
– Да запросто представляю, – серьезно сказал Иоганн-Георг. – Все-таки я вас в деле видел. И так мне это понравилось, хоть ложись и сам помирай, чтобы в ваши руки попасть.
– Обойдетесь. У вас уже не получится. Помирать – человеческое занятие. Элитарное хобби для избранных, вы в пролете. Это вам не на потолке без подушки спать.
– На самом деле, еще как получится. Дурное дело нехитрое. Но вряд ли я когда-нибудь как следует захочу.
– Ну и слава богу, – сказала Эва. – Вам такое нельзя. Вернее, нам всем нельзя, чтобы вас не стало. Без вас никакого смысла, точно вам говорю… Слушайте, а можно вернуть мост на место? Мы же черт знает куда заплыли, тут какие-то древние замки на берегах… ой.
Осеклась, потому что в этот момент стало ясно, что никто никуда не заплыл. И на берегу никакие не замки, а знакомые высотки Сити. А по другому медленно едут автомобили, уже начался час пик.
– Вечно вы на меня наговариваете и придираетесь, – укоризненно сказал заляпанный краской маляр. – Художника всякий может обидеть. Сидели спокойно, пили кофе, как приличные люди, чирикали о пустяках, и вдруг с мостом вам что-то не так. Вот научусь рыдать, как шарские демоны, задолбаетесь меня утешать!
Поднялся, достал из-под стола ведро с яркой розовой краской и, демонстративно не обращая внимания на Эву, принялся старательно красить ржавые перила моста.
Но Эва все равно обняла его на прощание, хотя ужасно боялась заляпаться. Иногда надо совершать безрассудные поступки, весело думала она, пока шла по набережной, то и дело недоверчиво поглядывая на свои по-прежнему чистые штанины и рукава.
Кара
– Строго говоря, это был не демон, – говорила Кара, экспрессивно размахивая руками и колотя по Эвиному зонту своим, шикарным, как вообще все у Кары. – У нас дома это называется «тудурамус». Согласно Стефановой классификации, многозадачное плотоядное явление класса что-то там девяносто один. По-моему, Стефан – опасный маньяк. У меня, ты знаешь, крепкая психика, орехи можно колоть, но его терминология однажды точно сведет меня с ума. Зачем нужны какие-то классы и цифры, когда можно просто одним словом назвать? Тудурамус он и есть тудурамус. Редкий гость в наших краях. И слава богу, что редкий. Хуже бестолкового хищника, с которым невозможно договориться, может быть только прожорливый бестолковый хищник. А еще хуже – очень голодный. Представляешь, еще толком не материализовался, а уже попытался сожрать уличного кота…
– Кота? – ахнула Эва.
– Ну да. Видимо, для разминки, в качестве аперитива, чтобы потом доматериализоваться как следует и покрупнее кусок отыскать. Не переживай, кота я отбила. Каааак засандалила этой твари телефоном по морде…
– Телефоном?!
– Просто ничего больше под рукой не было. Туфлей получилось бы еще лучше, но ее долго снимать. Но и так нормально. Ему хватило. Полезная вещь телефон! Жалко его, конечно, ужасно. То есть не столько сам телефон, сколько базу номеров. Теперь заново их собирать придется. Зато кот спасен. И честь Граничной полиции с ним за компанию. Хороши бы мы были, если бы у нас на глазах какой-то зачуханный, почти бесплотный тудурамус сожрал живое существо… О, дождь наконец-то закончился! Это он молодец. Ненавижу ходить под зонтом, но мокнуть ненавижу еще сильней. Рррррррр!
Сложила зонт, спрятала его в сумку. Эва последовала ее примеру, хотя с неба все еще что-то капало. Но уже невсерьез.
– Слушай, – спросила она, – а как вообще получается, что по городу куча разных хищных существ из каких-то иных реальностей бегает, а о них даже не догадывается никто? Ни слухов, ни сплетен. Ну, то есть, я понимаю, что нормальные люди в такую ерунду не верят, но когда неведомые чудища почти ежедневно кого-то жрут, или хотя бы надкусывают, это должно вызывать, как минимум, некоторое беспокойство, разве нет?.. Или наша Граничная полиция так хорошо работает, что чудища просто не успевают ничего натворить?
– Граничная полиция неплохо работает, – согласилась Кара. – Но, честно говоря, не до такой степени, чтобы совсем уж никто не успевал навредить. Просто все эти опасные твари в каком-то смысле невидимые. Чтобы их увидеть, надо долго тренировать зрение. И не только зрение, всего себя целиком. Человеческое сознание так интересно устроено, что игнорирует информацию, которая в него не укладывается, не согласуется с представлениями о возможном, основанными на скудном житейском опыте и еще более скудных теоретических знаниях. А в тех редких случаях, когда игнорировать становится невозможно, людям обычно удается себя убедить, что им показалось. Вон даже ты – уж насколько сама с причудами, а долго не могла поверить в нас с Иоганном-Георгом. Даже после того, как мы картину в подарок тебе принесли и на стену повесили. Хотя мы вроде бы не чудовища. Не настолько чудовища, чтобы нас игнорировать! Да ты и не то чтобы игнорировала. Но все равно думала, мы тебе примерещились. Так сильно этого опасалась, что очень долго не решалась мне позвонить.
– Вы оба были слишком хороши, чтобы оказаться правдой, – невольно улыбнулась Эва. – А я по природе своей пессимистка. Если бы вы не дружить пришли, а пить мою кровь, сразу бы в вас поверила. Вообще не вопрос.
– Да, это мы как-то не сообразили, – пригорюнилась Кара. – А ведь запросто могли бы прикинуться какими-нибудь жуткими вурдалаками и не трепать тебе понапрасну нервы. Прости.
– Ничего, – великодушно сказала Эва. – Не вурдалаки, и ладно, никто из нас не идеал. Но все эти плотоядные явления, они же как раз опасные! А на опасность человек, по идее, должен реагировать адекватно: бояться, сражаться, или убегать. И детей прятать. И близких об этой опасности предупреждать. То есть, по уму, в городе должны ходить хоть какие-то слухи и сплетни. А их нет.
– Ну так ее сперва надо классифицировать как опасность. А для этого – разглядеть. И признать, что ты это действительно видишь. К тому же, ущерб в большинстве случаев наносится неочевидный. Не физические ранения и не порча имущества, я имею в виду. Тудурамус в этом смысле как раз исключение, будем считать, счастливое. Он и правда может укусить, а когда подрастет и окрепнет, сожрать, как котлету. Такой дурак! Но остальные хищники совсем иначе устроены. Они не тело едят, к сожалению. Я говорю «к сожалению», потому что нет ничего опасней неочевидного ущерба, который нельзя даже самому себе доказать. Тот же Голодный Мрак, он же Кхаррский Прожорливый Демон Отчаяния, частый гость в этом мире, накрывает жертву своей ядовитой тенью и забирает – не жизнь, а саму способность чувствовать себя живым. Сходным образом действуют Айские Вигги, но они очень мелкие, поэтому не так страшны, один укус вообще не чувствителен, максимум, охватит тоска на десять-пятнадцать минут, кто ж на такое внимание обращает? Вот если нападут большой стаей, тогда держись. А переловить всю эту подлую мелочь, боюсь, невозможно, очень уж их тут много, хоть с мухобойкой ходи… Но самое страшное, что я в своей жизни видела, это хащи. Вот это действительно адова жуть. Даже рассказывать не хочу, тьма сразу к горлу подкатывает. К счастью, этой дряни в городе больше не осталось. Всего четыре их гнезда было, всех извели, а новые, надеюсь, больше не заведутся. Все-таки мы меняемся. Я имею в виду, меняется человеческий мир.
– Меняется человеческий мир? – переспросила Эва. – Что ты имеешь в виду?
– Как-то я спросила одного, скажем так, эксперта, почему из открытых Проходов всякая опасная дрянь к нам лезет, а не какие-нибудь волшебные феи и ангельские агитбригады в венках из ромашек. И мне объяснили, что пока в людях так много страха и желания мучить друг друга, человеческий мир будет притягивать хищников, как магнит. Какая музыка из кабака доносится, такая публика туда и пойдет – так он мне сказал.
– Метко, – мрачно хмыкнула Эва. – В этом смысле у нас тут, конечно, пивнуха у рынка. Не для фей.
– Но в последнее время с музыкой в нашем кабаке стало заметно получше. Явно сменился диджей. Поэтому публика тоже понемногу меняется. Всякой хищной мелочи как и раньше полно, но по-настоящему опасные твари уже оставили нас в покое. Того же Голодного Мрака в городе с зимы не видели. Мы сперва думали, сами лажаем, утратили бдительность, плохо следим, но знаешь, вроде бы все-таки нет. Стефан периодически ставит всех на уши, но сам ходит довольный, как сытый кот. И не то чтобы прямо говорит, но достаточно громко думает: так и должно быть. Город меняется, люди меняются, на новый визит очередного Голодного Мрака мы – я имею в виду всех горожан как зыбкую сумму постоянно изменяющихся слагаемых – просто не нагрешили. В смысле, не набоялись, не наскрипели зубами, не намечтали о зверских расправах над всеми, кто нам почему-то не нравится. На тудурамуса – да, но не больше того… На этой оптимистической ноте самое время закончить лекцию. Мы пришли.
– Куда? – растерялась Эва, оглядевшись по сторонам и обнаружив, что они стоят на площади Йоно Жемайче, с одной стороны забор Президентуры, с другой – военное министерство, ни кофеен, ни баров поблизости нет, только ресторан «Аделия» при гостинице через дорогу, даже с виду убийственно скучный, с белыми скатертями, совершенно не в Карином вкусе, насколько она успела ее изучить. С другой стороны, может, эта «Аделия» не то, чем кажется? Что-то вроде Тониного кафе?
– Ко мне, – улыбнулась Кара. – Я вон в том доме живу. Давно собиралась позвать тебя в гости, да все как-то не складывалось. А сегодня сложилось. Пошли.
Эва даже не ожидала, что так удивится. Это получается, у Кары есть дом! Ну, то есть квартира в обычном доме. И значит, после работы она не вылетает в трубу с адским хохотом, по крайней мере, не каждый день в нее вылетает, иногда просто идет домой, как нормальный человек. Может, еще в магазин по дороге заходит за хлебом, сыром и яйцами. И, матерь божья, стиральным порошком. С одной стороны, это совершенно естественно, а с другой, почти невозможно поверить. Даже трудней, чем в демона, или как его?.. – а! – тудурамуса, сожравшего телефон.
То ли Кара прочитала Эвины мысли, то ли просто уже не раз сталкивалась с подобным недоумением, во всяком случае, она рассмеялась:
– У меня, не поверишь, даже сушилка в подсобке разложена, а на ней трусы и полотенца висят. Но в подсобку мы не пойдем, чтобы тебя окончательно не шокировать. В гостиной посидим.
Поднялись на третий этаж, Кара отперла старую деревянную дверь длинным латунным ключом, щелкнула выключателем, впустила Эву, на вопросительный взгляд: «разуваться?» – отрицательно помотала головой, провела ее через длинный узкий коридор в просторную гостиную с огромным окном и высокими книжными стеллажами вдоль стен. Эва подошла к ближайшему и пропала: книжные девочки, как художники, бывшими не бывают. То есть она могла бы пропасть, если бы хозяйка не рассмеялась: «Ты что, в библиотеку записываться пришла?» – увела от соблазнительного стеллажа и усадила в кресло-мешок, сконструированное по образу и подобию болотной трясины – угодив туда, без посторонней помощи вряд ли выберешься. И не захочешь выбираться, вот в чем беда.
– Ну все, – сказала Эва, – я в ловушке.
– Да, – подтвердила Кара. – Попалась. Теперь я тебя, беспомощную, беспрепятственно напою.
Вышла и тут же вернулась с небольшой узкой бутылкой необычного темно-красного стекла.
– Это «Белый день», белое элливальское вино урожая позапрошлого года, – объяснила она, разливая в бокалы жидкость, прозрачную, как вода. – В Элливале довольно умеренный климат, но в семнадцатом году там была ужасающая жара. Людям не особо понравилось, зато для винограда это отлично, по крайней мере, виноделы так говорят…
– В Элливале? – переспросила Эва. – Это у меня беда с географией, или это ваше… оттуда… из твоего дома, с нашей изнанки вино?
– Именно так, – подтвердила Кара. – Вино с Этой Стороны. Причем не какое попало, а раритет. На самом деле, я не то чтобы великий гурман, но тут и меня проняло. Решила, что ты обязательно должна это попробовать. «Как если бы солнце умело плакать от счастья» – так о нем говорят.
Отдала Эве бокал, встала, распахнула окно. Сказала:
– Если замерзнешь, жалуйся, дам тебе плед. Неохота бегать курить на кухню. Не для того мы здесь так элегантно расселись! Значит, надо устроить сквозняк.
– Уже жалуюсь, – откликнулась Эва. – Ветер сегодня какой-то холодный, словно дует из будущего ноября. Давай плед прямо сейчас.
– Да не вопрос, – согласилась Кара и швырнула в гостью светло-серое облако. То есть на самом деле, конечно, плед – невесомый, тонкий почти до прозрачности, но теплый, как целая груда одеял.
– Плед из шерсти ушайских коз, – объяснила она. – Это что-то вроде здешнего кашемира, только гораздо круче. И дороже примерно в сто раз; ладно, может, не в сто, но правда гораздо дороже, потому что ушайских коз очень мало. А еще меньше ремесленников, умеющих работать с их пухом. С этими козами, в принципе, все непросто: вроде бы они – овеществленный сон какого-то древнего пастуха, жившего еще до Исчезающих Империй. С тех пор весь наш мир изменился много тысяч раз, а козы остались прежними, на правах затянувшегося сна. Так-то с виду нормальные козы, можно погладить, если догонишь, они пугливые, говорят. Но с технологией выделки там как-то ужасно сложно: пух из коз вычесывают наяву, зато прядут в каком-то сомнамбулическом трансе, иначе не получается. Ну а потом из этой сновидческой пряжи уже можно нормально ткать.
– Ничего себе у вас народные промыслы, – счастливо вздохнула Эва. И поплотней закуталась в облачный плед.
Вино оказалось такое же облачное – невесомое, почти неощутимое, первый глоток как сладкая родниковая вода, во втором ощущается легкая, как бы выдуманная горечь, а по всему телу разливается похожее на эту сладость и горечь, тоже словно бы выдуманное, примерещившееся тепло. С каждым глотком ощущения становятся ярче, и вот уже во всем твоем теле дует веселый солнечный ветер, причем его дуновение – тоже вкус.
– Ты чего смеешься? – спросила Кара.
– Вспомнила, как днем водки хотела, – сквозь смех объяснила Эва. – А получила ее абсолютный антоним, который и вообразить не могла, пока он со мной не случился. Говоришь, солнце плачет от счастья? Душевно плачет, зараза! Так что пусть. У вас там все такое? И при этом ваши контрабандисты от нас что-то носят? И люди добровольно платят за это деньги? Господи, вот дураки!
– Да ну что ты, конечно, не все, – улыбнулась Кара. – Честно говоря, аналогов «Белого дня» я пока не встречала. Большая удача, уникальное совпадение: Элливаль сам по себе довольно странное место даже по нашим меркам, плюс аномально жаркое лето, жгучий солнечный свет пробился сквозь облака, которыми там всегда затянуто небо. А что касается здешних напитков, так у нас их как раз за то и любят, что на наши совсем не похожи. Чужой кусок всегда слаще, скажешь, нет?
– Ай, не знаю, – честно ответила Эва. – Ничего я сейчас не знаю. И хорошо. Слушай, мне так хорошо! Сейчас, чего доброго, вместе с солнцем от счастья заплачу. Это я, что ли, от бокала так окосела? А по ощущениям легкое же совсем вино!
– Легкое, – согласилась Кара. – Это не вино, моя дорогая, а сквозняк. Иди-ка сюда.
– Куда идти? – удивилась Эва. – А может, не надо? Думаешь, я смогу вот так сразу выбраться из этого кресла? Переоцениваешь ты меня.
– Ничего, я помогу.
Вскочила и подала ей руку. Хочешь не хочешь, пришлось вставать. Впрочем, об этом усилии Эва не пожалела, стоять оказалось даже приятней, чем утопать в кресле-мешке. Пол под ногами почти не ощущался, словно к подошвам приделали воздушные подушки, спине так нравилось быть прямой, что она практически пела, а колени дрожали – не от слабости, а от какой-то веселой сладкой щекотки, как будто ходить – равно хохотать.
Кара явно понимала, что с ней творится, бережно поддерживала под локоть, словно Эва и правда в хлам напилась. Подвела к окну, спросила:
– Ну как тебе? Нравится?
За окном была площадь, освещенная разноцветными фонарями, как будто ее уже нарядили к далекому пока Рождеству. Дома, похожие на расписные шкатулки, уличное кафе под украшенным блестящими звездами тентом, цветочный базар, перелившийся с тротуара на проезжую часть, аккуратно объезжающие его автомобили, веселый уличный гомон, деликатный звон приближающегося к остановке трамвая, откуда-то издалека доносится музыка, и воздух теплый, остро пахнущий морем, как на каком-нибудь средиземноморском курорте – что это вообще?
– Это явно не площадь Йоно Жемайче, – наконец сказала Эва.
И Кара согласилась:
– Не она. Это площадь Восьмидесяти Тоскующих Мостов. Я же тебя к себе домой пригласила. А мой дом – Эта Сторона. Чего я совершенно не ожидала, так это что у нас с тобой настолько легко и быстро получится. Думала, вино успеем допить. Тебя оказалось проще, чем любого из наших, на Эту Сторону провести. Моя квартира – служебная, она находится в двух реальностях одновременно; даже не спрашивай, не я ее такой сделала, сама не понимаю, как это возможно, знаю только, что оно так. В общем, квартира специально приспособлена для того, чтобы войти в одной реальности и выйти в другой. Но обычно мне все равно приходится подолгу стоять у окна, рассказывать байки, чтобы ввести спутника в легкий транс, в котором переход становится возможен. А тебе сквозняка хватило. Одного сквозняка!
– И бокала вина, – напомнила Эва. – Может, это оно так подействовало?
– Понятия не имею. И вряд ли стану проводить повторный эксперимент. Я обычно не жадина, но когда у поставщика запасы уже на исходе, все-таки да.
Рассмеялась, разлила остатки вина по бокалам. Сказала:
– Добро пожаловать, дорогая. Рада тебя здесь видеть. Допивай давай, ужинать пойдем.
– Не уверена, что меня можно выпускать на улицу, – вздохнула Эва. – Я же буду идти вприпрыжку, беспричинно смеяться, показывать пальцем на все интересное и тянуть тебя за рукав, канюча: «Купи мороженое!» – «А где у вас такие штаны продаются?» – «Давай повернем туда!»
– Совершенно нормальное поведение взрослой самостоятельной женщины, – усмехнулась Кара. – У нас все примерно так себя и ведут.
Обещание Эва не выполнила. Даже шла не вприпрыжку, а словно бы плыла в невесомости, явственно ощущая постоянное ласковое прикосновение чего-то невидимого, словно это невидимое заключило ее в объятия и чуть-чуть приподняло над землей. Не смеялась, а только растерянно улыбалась. И молчала, слушая Кару, благо ее не надо было тянуть за рукав и расспрашивать, сама рассказывала, ее было не остановить.
– Здесь, – говорила Кара, – конечная остановка трамвая, того самого, которого у вас, видимо, для равновесия нет. Двадцать первый маршрут проезжает практически через весь город, отсюда и аж до Безлунной улицы, где я родилась и выросла, это самый край города, а в этом сезоне у нас там море и пляж; собственно, только с августа, перед этим море было за Заячьим парком, а еще перед этим практически в самом центре, где Большой Летний проспект. Я тебе уже рассказывала про наше Зыбкое море? Оно у нас странное, само решает, где ему быть, пляжи то в центре, то на окраинах, горожане постоянно заключают пари, когда и куда море в следующий раз переместится, даже специальный тотализатор есть, мой отец был везучий, часто угадывал, и тогда мы всей семьей шли кутить! А я никогда не угадываю; впрочем, не то чтобы часто пробовала. Только в юности, всего пару раз… Знаешь, в чем ужас? Никак не могу выбрать, где мы с тобой будем ужинать. Сама давно не была дома, соскучилась, хочется всего сразу, а тут еще и тебя надо удивить. И не просто удивить, а поразить в самое сердце. Поэтому давай сейчас я куплю нам блины в киоске, чтобы не скитаться голодными, а с удовольствием выбирать.
Блин из киоска оказался не только вкусным, но и на удивление достоверным. Эва даже удивилась, попробовав.
– Надо же, совершенно как настоящий. А я думала, тут у вас все невнятно-облачное, как твое вино.
– У нас все разное, – улыбнулась Кара. – Мы любим разнообразие. Я имею в виду, сама наша реальность больше всего на свете любит разнообразие. Были времена, когда тут вообще все ежедневно менялось… на самом деле, не просто ежедневно, а чаще. Непрерывно изменялось, всегда. Но теперь только Зыбкое море скачет с места на место. А улицы остаются где были. И сапожник с окраины не просыпается первым имперским министром, чтобы по дороге на завтрак оказаться прокравшимся в резиденцию вором, или еще кем-нибудь там.
– Вот настолько хаос творился? – изумилась Эва. – Невозможно представить. Как в таких обстоятельствах жить?
– Ну а как люди во сне живут? Пока спишь, кажется, все нормально. Если я правильно понимаю, в старину жизнь у нас была устроена по логике сновидения. Сколько людей, столько реальностей, некоторые иногда пересекались, а некоторые – никогда. Люди, которые умели навязывать свою версию реальности сразу многим, становились жрецами. Мир – хоть какое-то его подобие – держался их волей. Веселые были времена! Даже слишком. Некоторые романтики до сих пор о них грустят и мечтают однажды вернуть. Но, как по мне, зыбкость реальности хороша в меру. И определенность хороша тоже в меру. Сейчас у нас как раз торжествует она. Но нас с тобой это не касается – я меру имею в виду. Ужинать мы сегодня будем три раза. Возражения не принимаются. Я вспомнила три совершенно изумительных места, и выбрать между ними, хоть убей, не могу.
Ужинали действительно трижды. Ели изумительный, немного похожий на Тонин «Немилосердный» острый томатный суп в маленьком полутемном, опутанном какой-то светящейся паутиной погребке, потом – свежую, наскоро запеченную на углях морскую рыбу в освещенном яркими фонарями душистом саду, потом долго плутали по переулкам, подгоняемые внезапно поднявшимся сильным, но по-летнему теплым ветром, ныряли в темные подворотни, Кара смеялась: «Нет-нет, это не мир у нас снова стал зыбким, это я просто давно в «Звездном котле» не была, забыла, куда сворачивать!» – но в конце концов привела к трехэтажному дому, на крышу которого пришлось подниматься по винтовой лестнице. Усилия того стоили, на крыше обнаружилась закусочная, где подавали горячие пироги, порция – девять небольших кусков, чтобы перепробовать все имеющиеся в наличии начинки. После каждого кусочка Эва неуверенно бормотала: «Ну все, я пас», – и приступала к следующему. Случаются в жизни моменты, когда слово держать совершенно не обязательно. И даже крайне нежелательно бывает его держать.
– Самое время пропустить по стаканчику в «Злом Злодее», – решила Кара, когда они спустились вниз и вышли на улицу. – Смешное место и работает допоздна. И находится возле Темной Башни, я имею в виду, возле нашего Маяка, а это, как ни крути, достопримечательность номер один… Ой, смотри, трамвай. Двадцать первый! Нам крупно повезло, он по ночам остается один на маршруте и появляется редко, примерно раз в полтора часа. И остановка через дорогу. Раз так, поехали к морю! Ну его к черту, «Злого Злодея», в другой раз сходим. Первое, второе и третье правило моей жизни: удачей нельзя пренебрегать.
Ехали долго. Эва буквально прилипла к окну, за которым мелькали уличные фонари и неторопливо проплывали жилые дома. По мере приближения к окраине постройки становились все ниже, а окружающие их сады – все пышней. Кара сидела рядом, тоже смотрела в окно, рассказывала:
– Это Разноцветная улица, я тут когда-то почти три года прожила. Специально переехала в тихое место, когда писала диссертацию, чтобы меньше соблазнов было вот прямо под носом, с моим темпераментом трудно подолгу дома сидеть. Но цветущий сад оказался даже худшим соблазном, чем ярмарки, танцы и кабаки, я туда выходила на минутку покурить и проветриться, и, можно сказать, теряла сознание – хлоп! – ничего вроде не делала, сидела на травке, а три часа уже почему-то прошло; в общем, в библиотеке потом дописывала, в дальнем читальном зале, я – герой. А на этой остановке у меня случилось первое любовное свидание. То есть вообще самое-самое первое, нам было примерно по девять лет, я его чмокнула в щеку и убежала, даже имени не узнав. В следующий раз мы встретились почти через тридцать лет, но это уже совсем другая история… А вон там, где белые ставни, совершенно отличная лавка, она работает только по выходным, там можно купить бумажного воздушного змея и самому его прямо на месте расписать, хозяин дает краски и предоставляет место, ну и поможет, если руки не оттуда растут.
Кара говорила, не умолкая, Эва очень внимательно слушала, ловила каждое слово, но, на самом деле, мало что понимала. Просто больше не могла вмещать новую информацию, одновременно обыденную и невозможную, только самые яркие образы пробивались в сознание: разноцветные воздушные змеи, детский поцелуй на остановке трамвая, цветущий сад.
«Надо же, – думала Эва, обмирая от счастья и предпринимая вполне явственные усилия, чтобы нечаянно не взлететь к потолку. – Надо же, я сейчас на изнанке реальности. Я – на изнанке! В нее и поверить-то до конца невозможно, а я вся, целиком тут. Еду в трамвае к морю. К Зыбкому морю я еду в трамвае по изнанке реальности! Это все равно что в книжку живьем попасть. Или даже не в книжку, в легенду. В миф».
– Подъезжаем к конечной, – наконец объявила Кара. – Ты как вообще?
– Счастлива, – коротко ответила Эва. И, помолчав, добавила: – Оказывается, никогда этого не умела. Все, что раньше принимала за счастье, знаешь, как в том анекдоте, «жалкое подобие левой руки».
– То, что тебе сейчас кажется счастьем, естественное следствие состояния материи, – серьезно сказала ей Кара. – В момент перехода с одной стороны на другую материя, из которой мы состоим, трансформируется; кстати, нечто подобное происходит, когда мы заходим к Тони в кафе. У них же там тоже иная реальность. Не такая, как здесь, а вообще ни на что не похожая. За что, собственно, и люблю… А у нас – вот так. Я хочу сказать, мы тут всегда примерно так себя чувствуем. Это считается нормой. Даже в горе, в душевном раздрае, или в моменты сильной усталости фоново присутствует бесшабашная легкость, которая кажется тебе счастьем. Ну, у тебя, конечно, сейчас ощущения гораздо острей, чем у нас, но это просто с непривычки, по контрасту с обычным для тебя состоянием. Прожила бы здесь хотя бы полгода, привыкла бы. И уже с трудом представляла бы, что когда-то было не так. Специально это говорю, чтобы ты знала: не в тебе дело. Не в том, что ты чего-то там всю жизнь не умела, и потом, дома, снова не будешь уметь. Просто свойства материи здесь такие. А у вас, на Другой Стороне, – иные. А нашим базовым психофизическим состоянием командует, в первую очередь, она.
– Значит, мы самим состоянием материи на уныние обречены? – вздохнула Эва. – Нечестно получается.
– Нечестно, – легко согласилась Кара. – Но тут ничего не поделаешь, мир устроен не справедливо, а интересно. И в этом смысле мы все неплохо устроились: интересно везде. И у нас, и у вас, на Другой Стороне. И в совершенно иных невообразимых реальностях, не имеющих к нам отношения. С этой точки зрения, справедливость, получается, все-таки есть.
Трамвай остановился не то чтобы даже на площади, скорей на лесной поляне, освещенной одиноким сиреневым фонарем, под которым стояли две деревянные лавки с резными спинками. Перед тем как выйти, Кара спросила водителя, когда трамвай снова вернется. Водитель, оказавшийся совсем юной курносой девицей с копной белокурых волос, что-то ответил; Эва не разобрала. Да и какая разница, если есть Кара. Она разберется, вовремя назад приведет.
По дорожке, усыпанной мелким гравием, добрались до края поляны, перешли улицу с вымощенной булыжниками мостовой, свернули в узкий проход между домами, почти сразу снова свернули, Эва еще ничего толком не разглядела в темноте, но услышала рокот прибоя. И, глупо улыбаясь от уха до уха, спросила:
– Так ваше море – настоящее море? Оно правда есть?
– Еще как есть, – заверила ее Кара. – Сейчас выйдем на берег. Надеюсь, в последний момент Зыбкое море не решит исчезнуть специально, чтобы нас подразнить. А то, знаешь, случается. Люди такие приходят на пляж с полотенцами, полными торбами пива и несгибаемым намерением хорошо посидеть, а море у них на глазах – бдымц, и нету, привет. Было бы довольно обидно – с учетом, что наш трамвай уже уехал обратно в город и вернется только через полтора часа.
Зыбкое море, спасибо ему за это, проявило великодушие и не стало исчезать. Продравшись сквозь заросли цветущего буйно, как летом, шиповника, они наконец вышли на пляж, и пока Эва, не веря своим глазам и ушам, сомнамбулически брела по сырому песку, размазывая по щекам счастливые слезы, Кара деловито огляделась, торжествующе воскликнула: «Отлично! Еще не закрылся! Ромас Убийца Крабов – величайший из смертных и соль земли!» – и потащила Эву к пляжному бару-палатке с тентом в виде огромного пучеглазого краба, с непередаваемым энтузиазмом повторяя: «Будем пить!» В ее исполнении это обещание звучало натурально, как «будем жить».
– Вот как чувствовал, что не надо мне закрываться, – улыбнулся седой загорелый мужчина, увидев их на пороге палатки. И, подмигнув Каре, добавил: – На самом деле, просто ужасно лень было тент убирать. Знаешь, как некоторые не могут оторваться от компьютера, потому что слишком устали, чтобы дойти до кровати. Вот и я так. На гостей, честно говоря, уже не рассчитывал. Но на то и Граничная полиция, чтобы без предупреждения вламываться в нашу мирную жизнь. Пиво у меня уже теплое, сидр – скажи спасибо, что не вареный. А игристое кончилось еще на закате. И чем вас поить?
– А глинтвейн? – спросила Кара. – Я о нем уже полчаса мечтаю. С тех пор, как мы в трамвай вскочили. Ехала и представляла, что твоя палатка открыта и ты варишь глинтвейн.
Тот виновато развел руками.
– Слишком тепло еще для глинтвейна. Но ради тебя – ладно, могу сварить.
– Вари. А мы за это поможем тебе сложить тент, – пообещала Кара. – Ну что ты с таким ужасом смотришь? Я умею складывать тенты. Ничего не сломаю. Когда-то у меня был роман с твоим предшественником. Или даже пред-предшественником. Короче, с владельцем такого же пляжного кафе. Бедняга иногда был готов ночевать в палатке, лишь бы ее не складывать. А я близких в беде не бросаю, даже если беда – это всего-навсего тент.
Четверть часа спустя тент был сложен, киоск заперт, Ромас Убийца Крабов отправился домой, а Эва и Кара с огромными полулитровыми картонными стаканами, разувшись, брели по кромке прибоя. Вода была очень теплая. И соленая – Эва ее несколько раз попробовала. Настоящая морская вода.
Наконец Кара отошла туда, где песок посуше, села, выразительно похлопала ладонью рядом с собой – дескать, садись и ты. Достала сигареты, долго возилась с зажигалкой, гаснущей на ветру. Наконец закурила. Сказала:
– Поздравляю тебя, дорогая. Знаешь, сколько мы с тобой здесь находимся? Уже семь с лишним часов.
– Семь часов? – ахнула Эва. – Ничего себе время летит!
– Ну, время-то как раз вполне нормально идет, – отмахнулась Кара. – Мы сперва часа полтора в экстазе слонялись по городу, потом ели суп в «Страшном погребе» – это примерно час. Пока дошли до «Морского сада», пока нам рыбу готовили, пока мы ели, считай, два часа. Потом блукали в поисках «Звездного котла», плюс пироги – еще полтора часа, минимум. В трамвае ехали минут сорок, шли, болтали с Ромасом, возились с его тентом… В общем, понятно, на что время ушло. Но дело не в этом. А в том, что ты по-прежнему в полном порядке.
– А должна быть в неполном? – удивилась Эва.
– Обычно люди Другой Стороны так долго у нас не выдерживают, – сказала Кара. – Часа три-четыре – максимум.
– А потом что?
Эва не то чтобы испугалась, скорее просто не поняла, в чем может заключаться проблема. Чего тут не выдержать? Хотя, может, люди просто в истерику впадают от непривычного счастья? Наверное, так.
– Таять начинают, – обыденным тоном, словно обсуждая мелкую житейскую неприятность, сказала Кара. – Постепенно превращаются в так называемые Незваные Тени. У нас Незваных Теней традиционно побаиваются; на самом деле это просто глупое суеверие. Всех нас в детстве ими пугали, чтобы не убегали гулять по ночам. Незваные Тени совершенно беспомощны, нет от них никакого вреда. И они продолжают стремительно таять, обычно окончательно исчезают еще до утра. Но ты не беспокойся, я в этих вопросах опытный специалист. Слежу за тобой очень внимательно, если что, сразу отвела бы назад, благо у меня это быстро делается, почти из любого места буквально за десять шагов на Другую Сторону прохожу. Но до сих пор никаких тревожных признаков я не заметила. Скорее всего, их уже и не будет.
– Да я и не думала беспокоиться, – улыбнулась Эва. – Потому что я, во-первых, с тобой. А во-вторых, здесь. Этого совершенно достаточно, чтобы не беспокоиться. Я даже исчезла бы тут с удовольствием, если иначе нельзя. Вот честное слово, не жалко! Все равно самое невероятное со мной уже случилось. Но, конечно, круто, что можно не исчезать.
– Знаешь, что это означает? – спросила Кара. И, не дожидаясь ответа, сказала: – Эта Сторона тебя приняла.
Эва так обрадовалась, что все вопросы – как такое возможно? за что? почему? – слились в неразборчивый ликующий внутренний крик.
– Такое на самом деле очень редко случается, – заметила Кара. – Так редко, что, считай, почти никогда. Всего четырнадцать человек с Другой Стороны за последние двадцать лет смогли здесь остаться. А раньше, говорят, и этого не случалось. Ну, может, мы кого-нибудь проморгали, но совершенно точно не целую толпу. Но на твой счет я заранее была почти совершенно уверена…
– А почему ты была уверена? – встрепенулась Эва. И, вспомнив все, что слышала от подруги о здешних делах, ахнула: – Хочешь сказать, я на самом деле отсюда родом? Просто утратила память и обрела фальшивую биографию, а заодно маму и сестру? Или из моих предков кто-нибудь у нас заблудился и осел навсегда?
– Да вроде бы нет, – с сомнением покачала головой Кара. – Хотя предки – дело темное, кто их разберет. В любом случае, ты-то сама точно на Другой Стороне родилась. Дело не в происхождении, а в твоих занятиях.
– В каких занятиях?
– Я имею в виду вот это все, что ты с умирающими творишь.
– А при чем тут умирающие? – растерялась Эва. – Это же не имеет отношения к путешествиям между реальностями. Хотя…
– Вот именно. На самом деле у меня есть теория, что чем больше человек занимается, условно говоря, магией, то есть сознательным нарушением очевидных законов природы на свой страх и риск, и чем дальше на этом пути продвинулся, тем охотнее его примет любая реальность. Кто же в своем уме откажется от такого добра? Теория не просто так в моей голове не пойми откуда взялась, а основана на наблюдениях за коллегами из вашей Граничной полиции. Вот уж для кого не вопрос просидеть у нас, сколько захочется, хоть весь отпуск целиком провести. Но их одних для проверки теории мало, конечно. И у всех одинаковый род занятий. И общий шеф, да такой, что само его присутствие изменяет человеческую природу и вообще все вокруг. Поэтому я не просто для нашего обоюдного удовольствия тебя сюда пригласила – хотя и для удовольствия тоже! – а поставила эксперимент. Ты в Граничной полиции не работаешь. Вообще другими вещами занята. И Стефана только в Тонином кафе видела, да и то всего пару раз. Я решила, если с тобой все пройдет как по маслу, значит, я двигаюсь в правильном направлении. Надеюсь, ты не в обиде.
– Не в обиде, – заверила ее Эва. – Особенно если повторный эксперимент поставишь. А еще лучше, целую серию. Мы, лабораторные мыши, любим служить науке. В смысле, непрерывно кутить.
– Кутить – вообще не вопрос, обеспечим, – улыбнулась Кара. – Но эксперименты можно больше не ставить. И так все ясно. Эта Сторона тебя уже приняла, и это неотменяемый факт.
– То есть я смогу сюда еще приходить?
– Ты смогла бы даже здесь поселиться, если бы захотела.
– Если бы захотела? – переспросила Эва. – Если бы захотела?! Вот этого счастья, которое тут считается нормой? В рай угодить при жизни? Как можно такого не захотеть? – но тут же сама себя перебила: – Не захотеть невозможно, но будем честны, делать мне здесь, по большому счету, нечего.
– Ну как это «нечего»? – почти возмутилась Кара. – Интересных занятий у нас тут еще и побольше, чем на Другой Стороне.
– Не сомневаюсь, – улыбнулась ей Эва. – Но, по большому счету, все-таки нечего. Ты сама много раз говорила, смерть у вас тут хорошая, легкая. И всего одна.