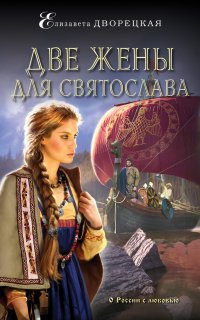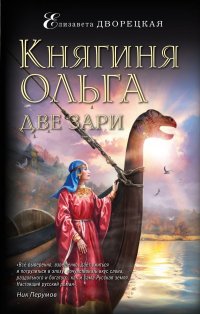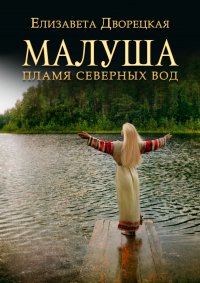Читать онлайн Княгиня Ольга. Сокол над лесами бесплатно
- Все книги автора: Елизавета Дворецкая
Часть первая
Весною свадеб не играют, да и не в обычае, чтобы вдова шла снова замуж, не выждав и полугода. Предславу Олеговну многие в Киеве осуждали: правнучка Вещего-де могла бы порадеть о родовой чести. Да и в мужья она себе выбрала варяга из заморья, никому здесь неведомого.
Княгиня Эльга пришла в изумление, когда Алдан с обычным своим дружелюбным и невозмутимым видом – как будто говорит с ровней, не выше и не ниже себя, – попросил у нее согласия на брак с ее младшей родственницей. Эльга знала его около трех лет. Поначалу он нанялся в гридьбу к князю, Ингвару, и отличился в достопамятном походе на Свинческ; потом перешел в оружники к воеводе Мистине Свенельдичу, с которым они состояли в отдаленном родстве через общих предков из Хейтабы. Его настоящее имя было Хальвдан, но среди киевских русов оно еще в прежних поколениях стало звучать как Алдан, и он быстро привык. Особенно Алдана прославили недавние заслуги при избиении деревских старейшин на могиле Ингвара и в битве при взятии Искоростеня. Нынешней весной Мистина решил сделать его воспитателем – кормильцем, как это называлось у славян, – своего второго сына, Велерада, которому исполнялось семь лет. И хотя среди носящих меч русов тридцатилетний Алдан пользовался уважением, все же нынешняя его просьба выглядела дерзкой.
– Может быть, люди скажут, что госпожа вдовеет слишком недавно для нового замужества, – добавил он, – но в первом браке ей уж очень не повезло, и несправедливо было бы томить такую хорошую женщину и заставлять ее долго дожидаться счастья.
Пораженная Эльга не сразу собралась с мыслями хоть для какого-нибудь ответа. Ей уже приходилось размышлять о будущем Предславы, и эта забота занимала немалую долю среди прочих ее забот. Предслава была правнучкой Олега Вещего, да и отец ее, Олег по прозвищу Моровлянин, тоже одиннадцать лет сидел в Киеве князем. А значит, и с ней в приданое шли некие права на Олегов стол. Еще почти год у Эльги будет предлог отклонять любое сватовство к ее младшей родственнице – срок вдовства. Но в дальнейшем Предслава и ее возможное замужество могли причинить княгине немало забот. «Для нас было бы проще, если бы она погибла в Искоростене вместе с Володиславом», – как-то сказал Мистина. Эльга тогда рассердилась на эти слова: она любила Предславу. Но понимала: по сути дела Мистина прав, внучатая племянница самим своим существованием несет угрозу ей и Святославу. Получи ее в жены человек родовитый, честолюбивый и отважный – иные сочтут, что ему уместнее занимать киевский стол, чем Ингоревой вдове и юному сыну. Виданое ли дело – столько земель в руках жены и отрока! Издалека стол киевский кажется пустым…
И вдруг объявляется Алдан! Пришелец, простой хирдман, человек, ни родом, ни положением не достойный такой жены. Первая мысль Эльги была: это невозможно! Но вторая – это наше спасение… Ведь за Алданом никто не признает прав на киевский стол, возьми он в жены хоть саму Зарю-Зареницу.
Эльга с сомнением взглянула на Мистину – своего первого советчика:
– Как по-твоему, будет дело?
– Алдан, ты наглец! – весело воскликнул Свенельдич, откидываясь к стене. – Ты, стало быть, уверен, что с тобой внучка пяти княжеских родов станет счастлива!
– Конечно, – датчанин двинул плечом. – Я ведь люблю ее и желаю ей счастья, а не пытаюсь с этим браком обрести права на престол, чтобы потом десять лет за него воевать и едва не погубить ее саму.
С Эльгой и Мистиной Алдан говорил родным своим датским языком, а они отвечали ему на «русском» – языке русов, чьи предки уже три-четыре поколения жили среди славян. С варягами, рожденными в северном заморье, русы еще понимали друг друга без большого труда.
– Шуму выйдет много. Но по сути дела… – Мистина подался вперед, опираясь о колени и оглядывая собственного оружника новым взглядом.
Он считал Алдана надежным и толковым человеком, иначе не доверил бы ему своего сына. Но муж правнучки Вещего – иное дело.
– Возьми твой меч, – велел Мистина, – и поклянись мне и княгине, что ты не задумал бороться ни за какой из престолов, которыми владели предки Предславы.
– Ты, хёвдинг, меня знаешь уже три года. Я похож на дурака?
– Такие возможности и умных людей сводят с ума.
По лицу Мистины нельзя было угадать, что через точно такое же искушение он прошел и сам. Но Эльга невольно бросила на него значительный взгляд – она помнила.
Алдан шагнул за порог – входя в жилую избу княгини, свой меч он оставил отрокам на крыльце, – и что-то сказал. В дверь всунулся Ольрек – один из телохранителей Эльги, с Алдановым мечом в руке; вопросительно взглянул на госпожу и по ее кивку протянул меч владельцу. Хирдман повернулся к Эльге и нарочито медленно вынул из ножен клинок. Это был очень хороший «корляг», с богатым набором золоченой бронзы. Ранее он принадлежал Сигге Саксу, старшему оружнику и правой руке покойного воеводы Свенельда. После смерти вождя Сигге изменил киевским князьям и был зарублен над могилой Ингвара среди деревской знати. Именно Алдан сумел отсечь ему голову и за это получил все, что нашлось на теле, в том числе меч.
Едва ли жилая изба княгини когда-нибудь видела блеск клинка – такие клятвы приносятся при послухах, в гриднице или в святилище. И не много было людей, кому позволили бы обнажить меч в присутствии княгини, ее маленькой дочери и воеводы.
– Я клянусь богами Асгарда, – Алдан поднял меч к лицу, – и честью моих предков, что прошу госпожу Предславу в жены ради любви к ней и чтобы оградить ее от всех бед, которые несет борьба за власть. Сам не желаю власти ни над чем, кроме себя, своей семьи и своей судьбы. Если я лгу – пусть не укроет меня мой щит и пусть буду я разрублен острым железом, как меч конунга разрубает золотое обручье.
Он коснулся губами основания клинка, потом приложился к нему лбом и поочередно обоими глазами.
Мистина снова откинулся к стене, потом взглянул на Эльгу. Княгиня была взволнованна, и он, хорошо ее зная, это видел.
Почувствовав его взгляд, она повернула голову; в глазах ее блестели слезы.
– Ступай, Алдан, – сказал оружнику Мистина. – Княгиня поразмыслит и передаст тебе свое решение.
– Я поговорю с ней, – немного сдавленным голосом добавила Эльга. – И…
Она осеклась, прикусила дрожащую нижнюю губу и замахала рукой: уходи. Алдан, уже убрав меч в ножны, почтительно поклонился обоим и вышел. Шаги его затихли на крыльце.
Эльга прижала ладони к лицу, пытаясь овладеть собой. Мистина встал, шагнул к ней и потянулся, желая ее обнять; она подалась в сторону, ускользая. Отвернулась, но непокорные слезы потекли по пальцам. Тыльной стороной ладони она поспешно вытерла глаза и щеки. Мистина снова придвинулся к ней, но она решительно отступила и подняла руки перед собой.
– Не подходи, – сдавленным от слез голосом сказала Эльга; не испуганно, не гневно, а почти деловито.
– Ты плачешь, а я буду смотреть, будто мне нужды нет?
– Да. Ты не можешь меня утешить. Только будет хуже.
Его объятия лишь оживят в ее памяти то счастье, какого она лишена.
Война в земле Деревской отняла мужей у них обоих – у Эльги и Предславы. Русы и древляне в короткий срок лишились своих князей, их жены остались вдовами, а дети – сиротами. Эльга после гибели Ингвара вдовеет уже полгода. Предславиному вдовству едва три месяца – и вот к ней в дверь уже стучится новая жизнь и, надо думать, более добрая доля, чем выпала в первый раз. Эльга желала счастья бывшей деревской княгине, но от мысли о нем щемило сердце. Никто не думал, что Эльга, еще не старая женщина, оставшись во главе огромной державы, остаток жизни проживет вдовой. Одни просто ждали, кого княгиня изберет, другие готовились побороться если не за свадебный рушник, то хотя бы против нежеланного для себя Ингорева преемника. Но сама она знала: ни старое, ни новое женское счастье к ней больше не придет. Княжеский стол державы русской высится стеклянной горой между нею и всеми на свете женихами.
Тот единственный, кто для нее много значил как мужчина, стоял в трех шагах, но был далек и недостижим, как солнце в небе. В глазах его она сейчас читала то же, что он не так давно сказал ей вслух. «Дай знать, когда передумаешь». Но подчиниться своему влечению к нему Эльга сейчас могла даже менее, чем при жизни Ингвара.
– Не знаю, как быть, – торопливым шагом Эльга прошлась по избе, вдоль длинной лавки, крытой тканым ковром. С усилием она отгоняла мысли о себе и старалась сосредоточиться на судьбе Предславы. – Если она выйдет за такого незнатного мужа, то мы уроним родовую честь, но зато избавимся от многих бед. Я не смогу заставить ее вдоветь до самой смерти – ей ведь едва за двадцать… двадцать два, мнится. Да, помню, у нее «краски» пошли перед тем, как ты от греков воротился, той самой осенью, а тому будет…
– Будет ровно десять лет.
Мистина ничего не добавил, но воздух между ними будто сгустился от воспоминаний, одинаково ярких для них обоих. Несущих и тоску, и отраду.
– Мужи нарочитые мне этого не простят, – Эльга замотала головой. – Они небось уже навострились к ней свататься, как срок подойдет. Ты веришь, что Алдан из любви ее хочет взять?
– Почему нет? – Мистина повел плечом. – Она красивая женщина, ее всякий хотел бы в жены. И Алдан ведь ее нашел в Искоростене. Он не такой дурак, чтобы лезть в огонь ради пяти гривен, которые Хакон обещал. Он полез ради нее, а это что-нибудь да значит.
– Тогда это наилучший выход. Отдать ее за высокородного человека невозможно. А с Алданом она и сама будет счастлива, и для нас не опасна. И дети ее вырастут детьми Алдана, а не Володислава деревского.
– Ее детям волю давать нельзя.
– Я и не дам. Пусть просто живут при ней, пока малы. Увидишь – она им еще братьев нарожает. И опять мы с тобой вдвоем будем отдавать ее замуж, – Эльга заставила себя улыбнуться.
– Нет-нет! – Мистина тряхнул головой. – Теперь при ней есть родной отец, и я больше не понадоблюсь. Пусть теперь у Олега наутро лоб трещит… Хотя, правду сказать, за Алдана я отдал бы ее с куда большей охотой, чем тогда отдавал за Володислава.
Эльга снова села; в мыслях ее прояснилось, лицо разгладилось, она уже готова была улыбнуться. Весеннее солнце лило лучи в отволоченное оконце, и при ярком свете ее глаза блестели, как зеленовато-серые самоцветы. Лишь глаза и того же цвета смарагды в ожерелье выделялись в ее облике, все прочее было белым: платье, хенгерок, шелковый убрус, обвивавший голову и шею. Без остатка растаяли снега той страшной зимы, когда русское войско шло по земле Деревской, разоряя веси и уводя жителей в полон в отместку за убийство Ингвара, князя киевского. Земля уже облеклась в зеленое платье новой юности, только в одеяниях Эльги, воплощенной силы и славы руси, задержалась зима. И грозила стать вечной.
– Если Олег будет против, его я не стану слушать! – с веселой решимостью заговорила она, будто не блестели на ее щеках остатки только что пролитых слез. – Предслава теперь не его, она моя! Он не ходил с нами Дерева воевать, и теперь его дочь и внуки – мои пленники, только я решаю, что с ними делать! Если Предслава и правда хочет Алдана, я и не подумаю ей мешать!
Эльга с вызовом взглянула на Мистину: она понимала, что ее решение возмутит очень многих. Но Мистина едва ли ее услышал: он смотрел на ее лицо, впитывая взглядом его красоту. Не может быть, чтобы эта женщина, понимая ценность чужого счастья, обрекла саму себя на вечную зиму. Ведь Эльга, хоть и приходится Предславе двоюродной бабкой, старше ее всего на восемь лет. Эта весна для нее тридцатая, да и этих лет никто ей не даст. Даже в белой вдовьей сряде, со следами слез на щеках она похожа на первый цветок среди тающего снега, подснежник, прохладный и свежий.
– Позовите Предславу, – княгиня взглянула на челядинку.
Предслава, знавшая о том, что Алдан пошел к Эльге, сидела в девичьей избе. Как ни хотелось ей узнать свою судьбу, она была в такой тревоге, в таком смущении, что в конце концов самому Мистине пришлось сходить и привести ее. Она вошла, едва ли не упираясь, с пылающим лицом. Не хуже других она понимала, какой шум и возмущение вызовет второй брак правнучки Олега Вещего, недавней деревской княгини; ее предки в северном заморье о таких делах говорили «скатиться с перины на солому». Но ее молодое, жаждущее жизни существо не могло долго томиться в печали. После восьми лет не слишком счастливого замужества и полного бед последнего года, после осады и падения Искоростеня, когда она и двое ее малых детей едва избежали гибели, ее неудержимо влекло к теплу души и тела, которое обещал ей рослый, сильный датчанин с добрыми глазами на лице умелого убийцы.
При виде нее Эльга лишь всплеснула руками, не находя слов. Высокая, голубоглазая и золотобровая Предслава была миловидна и привлекательна; в молодом крепком теле играла кровь, и любой честолюбец признал бы, что такая жена – счастье для мужа, каков бы ни был ее род.
– Моя родная! – стараясь справиться с собой, Эльга подошла к ней. – Что же ты мне не сказала, что уже хочешь снова замуж? Он правда тебе нравится? Ведь к тебе будут свататься куда знатнее женихи!
– Алдан правда мне нравится! – Предслава, с мольбой в глазах, взяла Эльгу за обе руки. – Еще тогда, когда они нас с жатвы увезли, я потом все о нем вспоминала… вот, думаю, дура я.
– Ты хорошо поразмыслила?
– Я не хочу размышлять! Я хочу, чтобы у меня был муж, который меня любит. Чтобы я могла ему верить и полагаться на него.
Ничего больше не сказав, Эльга обняла ее. Ужасно быть связанной с тем, кому не доверяешь, но у Предславы никогда прежде не было выбора. Родители обручили ее трехлетней девочкой; наступление ее женской зрелости стало целым делом меж Искоростенем и Киевом; два года русь и древляне торговались за нее, а потом она восемь лет прожила заложницей рода русского в чужом, враждебном племени, где не любил ее никто, даже мужнина семья. Так неужели сейчас, когда она таким страшным образом овдовела и едва не убралась вслед за нелюбимым супругом на тот свет, лишить ее права выбрать себе новую долю?
– Будь по-твоему, – Эльга вздохнула. – Я дам тебе приданое. Хочу, чтобы ты была счастлива… Не подведи меня!
Она разжала объятия и даже слегка оттолкнула Предславу; на глаза опять просились слезы, а как ей было объяснить, о чем они?
– Я не подведу, – Предслава взглянула на Эльгу с чувством вины и с благодарностью и еще с каким-то смутным ощущением, усиливавшим чувство вины.
В чем она должна не подвести – чтобы на Свенельдовом дворе без воеводы все шло хорошо? Для этого там Ута есть, жена Мистины, – при ней уже пятнадцать лет все идет хорошо. Или в том, чтобы все-таки найти счастье в новом браке, который многие сочтут безумием, а то и бесчестьем? Ей, единственной, кому судьба позволяет выбрать мужа по сердцу? Ведь в этом деле княжеская дочь куда менее свободна, чем простая девка-веснянка, выглядывающая себе парня на игрищах у реки.
А княгиня киевская? Та, в чьих руках судьба Предславы и еще десятков тысяч людей, не властна только над одной судьбой – своей собственной.
Когда обрадованная Предслава ушла, Эльга снова села. В груди теснило от радости и горя, навалившихся разом. Она не хотела завидовать. Ей это не к лицу. И бесполезно. Никакая царица, никакая богиня не может соединить ее с тем, кого избрала бы она. Мысли о собственной любви были для Эльги отравлены стыдом, необходимостью таиться от всего света и при том понимать, что весь свет-то прозревает истину.
Мистина – тот единственный человек, который мог бы, пожалуй, вслед за Ингваром занять киевский стол и не вызвать сильного возмущения в народе. Его матерью была ободритская княжна, отцом – прославленный воевода, да и сам он показал себя весьма достойным такой чести. Русь поддержала бы его, сторонников у него нашлось бы больше, чем противников. Но у него уже есть жена, и это тоже племянница Вещего – Ута, двоюродная сестра Эльги. Эльга не могла бы предложить развод двум самым близким людям, что у нее были. Так унизить сестру, которая всем жертвовала ради нее. Но и кроме того – что будет потом, в следующих поколениях? У Мистины пятеро детей, скоро будет шестеро. И как знать, не вздумают ли они в будущем бороться за киевский стол со Святославом? А ведь правами на южную Русь и на северную, объединенными в одно, владеет только Святослав.
Новый брак для Эльги был невозможен. И о любви она запретила себе думать. В первый год без Ингвара, когда сотни глаз пристально следят за каждым ее шагом, она должна быть безупречна, чтобы ни единая тень подозрения ее не коснулась. Теперь у чести ее появился новый неумолимый страж – ее сын, тринадцатилетний князь русский Святослав. Они делили киевский стол и были равны в правах. И насколько Эльга за эту зиму успела узнать свое повзрослевшее дитя, прощать ей оплошности Святослав склонен куда менее, чем его покойный отец. Женщина на княжьем столе, урони она себя хоть на волос – и сотни языков станут чернить ее и гнать. Святослав так юн – окажись он единственным обладателем киевского стола, многие увидят в этом удачный случай взлететь. Русь любит и почитает свою княгиню, наследницу Олега Вещего, но и мешает она многим…
Куда сильнее, чем недоброжелательство чужих, Эльгу ранило явное желание сына поскорее вырваться из ее тени. Но он слишком еще юн и неопытен, чтобы пускаться в самостоятельный полет.
– Совсем не худо выдать Предславу замуж так быстро, – подал голос Мистина. – Когда вдова Володислава получит нового мужа, никто уже не станет сомневаться, что прежний мертв.
– Сейчас ведь уже поздно его искать?
– Сейчас мы его уже не опознаем, даже если найдем. Искать следовало сразу после битвы, но ты помнишь – не до того нам тогда было.
Предслава считалась вдовой с того ужасного дня, когда сгорел Искоростень – с тех пор мужа ее, Володислава деревского, никто не видел ни живым, ни мертвым. Как оружники вспоминали после битвы, он с ближней дружиной прорывался от моста вдоль рва, и там пали многие его отроки. Искоростень на вершине скалы в то время уже полыхал, и те трупы, что валились в ров, оказались засыпаны падавшими сверху обгорелыми и еще горящими бревнами тына. В тот же день, еще до темноты, киевское войско отошло от Искоростеня – возле огромного кострища и нескольких сотен трупов под закопченной скалой было невозможно оставаться, нечем дышать. Через несколько дней повалил снег, погребая под собой следы побоища. Теперь же, весной, даже если бы и удалось разобрать завал во рву, едва ли кто сумел бы опознать среди разложившихся, изуродованных, раздавленных, обгоревших трупов тело деревского князя. За зиму об этом не раз говорили в Олеговой гриднице и решили: пусть лежат как есть. Сгоревший Искоростень остался заброшенным, его уцелевшие жители по большей части попали в полон. Бывшей столицей древлян владели одни волки да вороны. Для управления землей Деревской Эльга замыслила поставить новый город на чистом месте, а тот ужас постараться забыть навсегда.
* * *
Деревского боярина Коловея с дружиной бужанский князь Етон провожал из Плеснеска не так чтобы тайком – не утаить перемещение трех сотен человек, – но без большого шума. Он не давал пиров в честь древлян, не подносил прощальных даров, и хотя позволил им перед отъездом принести жертвы на Божьей горе, сам при этом не присутствовал и никого из своих бояр не прислал. Будто закрыл глаза на то, что почти триста древлян, мужчин, прошедших войну с Киевом и бежавшие от киевских полков на запад, за реку Горину, покидают его земли. Он и так много сделал для них, давая им приют с месяца сеченя. Плеснецкие женщины лечили раненых – а ранены в Коловеевой дружине были мало что не все. Те угощали бужан жуткими рассказами: о нашествии на землю Деревскую киевской руси, о битве на Размысловом поле, когда русскую рать впервые вывел под своим стягом юный князь Святослав, об осаде и сожжении Искоростеня, о последней встрече с русью в городе Туровце, где Коловей выкупил право себе и своим людям уйти, отдав Свенельдичу-младшему меч самого Ингоря.
Етон даже подарил Коловею бычка для жертвы. Сами древляне привезли в Плеснеск разве что свое оружие и непреклонный дух: здесь были только те, кто отказался жить под властью киевских русов и намеревался так или иначе продолжать бороться за свободу земли Деревской. Больше князь плеснецкий ничем не мог им помочь: с родом Олега Вещего он был связан договором о мире и дружбе, и юный Святослав считался наследником бездетного Етона. Это обеспечивало старому князю безопасность, однако на самих киян он тайком точил последний зуб и потому не гнал древлян прочь и тем более не выдал их своим союзникам.
Последняя священная трапеза древлян в Плеснеске была небогата, но торжественна. Три сотни древлян – только мужчины, частью средних лет, часть отроки, – чинно сидели в обчине Божьей горы за длинными столами. Было почти тихо: ни гудьбы, ни громких разговоров. Ели почти в молчании, отдавая дань уважения этому месту. Угощения выставили немного – мясо жертвенного бычка с толченым чесноком и медовой подливой да хлеб. Все до одного были одеты в белые «печальные» сряды – пребывали «в жалях», как здесь говорили. При виде этих людей сразу делалось ясно: это не отцы семейств с сыновьями. Мало у кого в этой же дружине имелись родичи. Большинство война оторвала от близких, от родного края, от дедовых могил. Их законные родовые владения остались там, где властвовали чужаки-русы. У многих просто больше не было рода: мужчины погибли в схватках, женщины и дети уведены в полон. За зиму едва ли кто по-настоящему привык к мысли, что возвращаться некуда. Даже и решись кто-то из них вернуться в родные края, в чем никто им не препятствовал, он не найдет там никого из ближников. Только родовые жальники. Но стыдно сыну рода деревского глядеть на дедовы могилы, зная, что опозорил их обязанностью покоряться чужакам и платить дань.
– Мы, мужи рода деревского, – начал Коловей, встав во главе стола и держа двумя руками большую резную братину с головой птицы, – и я, Коловей, Любоведов сын, благодарим богов сего места за приют и береженье.
Он повернулся к женщинам возле деревянных чуров близ очага и поклонился им; они ответили степенными кивками. Возглавляла женщин баба Бегляна – старшая жрица Божьей горы, руководительница молений богинь[1] и всех женских обрядов. По обычаю это место принадлежит княгине, но Етон похоронил третью жену много лет назад, а преклонный его возраст – ему пошел восьмой десяток – не позволял ждать, что он приведет новую госпожу в дом. Старая Бегляна Етону приходилась второй вуйной сестрой[2] и была таким образом самого знатного рода из всех плеснецких жен.
– Свято чтит земля бужанская покон гостеприимства, и наш за это ей низкий поклон, – Коловей еще раз поклонился. – Где был ваш хлеб, там и наш хлеб, и мы добра вашего не забудем, а боги вас вознаградят. Все мы, чада корня дулебского, должны заедино держаться. Одни у нас чуры, одни боги. Пью на вас, бужане!
Он приложился к братине и пустил ее вдоль стола. Одна из девушек пошла вслед за братиной с кринкой, чтобы долить меда, когда та опустеет.
Помогали Бегляне сноха и две младшие внучки, еще незамужние. За зиму девушки привыкли к суровым лицам древлян, к шрамам и увечьям. Сами же они и помогали лечить их ранения. И лишь на одного человека девушки косились с опасением. Он сидел возле Коловея, – мужчина невысокого роста, светловолосый, обычного сложения. Возраст его не удавалось определить на вид – его лицо сверху донизу пересекал глубокий шрам, уничтоживший правый глаз. Уцелевшая часть лица застыла, и хотя сломанная челюсть уже поджила, он едва открывал рот и говорил очень мало. В Плеснеске знали только, что его зовут Малко, что он был ранен в битве под Искоростенем, что вся семья его погибла. Зная это и видя его, многие думали, что судьба оказала ему дурную услугу, оставив в живых. Чем жить, потерять семью, родной край и даже глаз, не лучше ли было уйти вместе со всеми?
А ведь почти никто не ведал, что именно этот одноглазый потерял на самом деле…
– Далеко наши родовые требища, – поднялся с места Далемир, когда братина дошла до него, – далеко и могила отца моего, Величара Мирогостича. Но боги везде едины, и перед богами я клянусь: не будет мне ни мира, ни покоя, пока не отобью у русов земли дедов моих или сам в них не лягу!
И всякий, до кого вслед за тем доходила братина, кланялся в подтверждение, что присоединяется к клятве Даляты, пойдет вместе с ним к этой цели.
Проходя вдоль стола, внучка Бегляны незаметно для прочих коснулась рукой спины одного из сидящих. Долила меда в братину и пошла дальше, не оглядываясь. Берест невольно повернул голову ей вслед, но тут же отвел глаза. В досаде поджал губы. Видеть Летаву ему было почти мучительно, а она словно нарочно стремилась его терзать.
Он понял, чего она хочет, но нельзя же у всех на глазах встать и уйти. Нужно ждать, пока все съедят свою долю жертвенного мяса, пока другие после Коловея выскажут благодарность и принесут обеты. Князя Етона здесь нет, но баба Бегляна уж верно доложит все, что здесь услышит. Берест это знал по себе: зимой она выдала Етону, что он, Берест, после драки с киянами укрылся в святилище, хоть он и умолял ее никому не говорить. Но в итоге вышло не худо: не притащили бы его тогда к Етону, он не добился бы обещания помощи. Благодаря тому разговору они с Коловеем знали, куда вести дружину после того, как на родной земле им не осталось места.
Тогда казалось, они спасены. Ушли живыми, спасли от русов то, что еще можно было спасти. Но едва улеглась тревога за жизнь и свободу, пришлось думать: а дальше что? Они, почти три сотни мужей деревских разных родов и весей, не могли вечно оставаться в Плеснеске, на Етоновых хлебах. Иные предлагали попросить свободные участки леса под пал, заводить хозяйство и оседать на новую землю, но большинство возражало. Если смириться с тем, что разоренные Дерева под властью Киева, и вести жизнь оратаев, так лучше вернуться к дедовым могилам и обрабатывать родительские пашни.
Братина дошла до Береста, и он поднялся.
– Я был отроком простым, – начал он. – Жениться даже не успел. Только и хотел, что богов молить, на дедовой земле трудиться и семью кормить. Русы у меня рало отняли, против воли секиру в руки вложили. Русы меня из оратая воином сделали. Что мне судьба напрядет, я не ведаю… Но в том клянусь перед богами – русы об этом пожалеют.
По столам пролетел гул одобрения. Берест был не большой умелец говорить, но очень многие, если не все, могли сказать о себе ровно то же, что сказал он.
Пир, хоть и скромный по угощению, продолжался до вечера. В Плеснеске кто-то подарил Коловею новые гусли взамен оставшихся дома, и он пел о схватке Сварога со Змеем, о сыне Сварога – Дулебе, о том, как сыновья Дулебовы разошлись по свету искать себе доли и как двенадцать колен деревских осели на берегах своих рек. Все это неизменно пелось на осенних пирах, когда князь деревский объезжал с полюдьем свои земли, разделяя жертвенное угощение со всеми древлянами и тем заново объединяя людей и богов, предков и потомков в неразрывный круг рода. И даже сейчас, когда одинокие обломыши от всех деревских вервей слушали эту песнь так далеко от дома, этот круг по-прежнему казался им неразрывным. Он все так же прочно стоял где-то – в Ирье, так высоко, что русские мечи туда не дотянутся.
Когда расходились, уже темнело. На площадке святилища Берест Летавы не заметил. Тайком отстав от своих, завернул за угол обчины. Здесь к стене прилепилась клетушка: служительницы хранили в ней метлы, сухие травы, простую посуду и прочую нужную утварь. В этой клетушке Берест в начале зимы прятался, там его впервые обнаружила Бегляна с внучками.
Быстро оглядевшись, Берест толкнул дверь. Внутри было темно и почти так же холодно, как снаружи: печи здесь не имелось. Висел густой смешанный запах трав. Даже в темноте он почувствовал: тут кто-то есть. Чья-то маленькая прохладная рука взяла его руку и потянула в глубь клетушки. Летава бывала здесь так часто, что знала каждый горшок на каждой полке и легко находила что угодно даже в полной темноте.
– Ты бы хоть огонь засветила, – вполголоса сказал Берест.
В холодной темноте было неуютно. И хотя он тоже привык к этой клетушке, сейчас эта загадочная рука из тьмы его встревожила. Он и заговорил-то, лишь чтобы услышать ответ.
– Увидит кто-нибудь огонь, – донесся в ответ приглушенный голос. – Ты послушай, я вот что придумала.
– Что?
Они стояли в темноте почти вплотную друг другу: когда не видишь собеседника, хочется хотя бы его чувствовать. Летава все еще держала Береста за руку.
– Я бабке скажу, что меня богини на службу призвали. Даже могу жить здесь, на горе. Пусть мне здесь печку сложат. У нас давно никто на горе не живет.
– Не страшно тебе будет?
– Чего бояться-то? Кто меня тронет здесь, на Божьей горе?
– А чего тебе дома разонравилось?
– Ты глупый или притворяешься? – Летава выпустила его руку и отступила на шаг. – Если я буду на горе жить, меня не станут замуж отдавать. И я смогу ждать… пока ты не вернешься.
– Я не знаю, когда я вернусь! – отозвался Берест с досадой, за которой скрывалась тоска.
Летава ничего не требовала от него, но он не хотел, чтобы она брала на себя обеты и несла лишения, которые могут оказаться ненужными.
– И я не знаю. Пытались с бабкой ворожить – не дает судьба ответа. Но вроде долгая нить тебе напрядена. Вернешься же ты когда-нибудь. А я тебя дождусь.
Берест вздохнул. Он чувствовал на сердце неудобство, будто за ним вдруг обнаружился долг, какой он не в силах вернуть.
– Я вот тебе приготовила, – Летава вынула из короба полотняный сверток и расправила.
– Что это? – в темноте Берест лишь смутно различил у нее в руках нечто белое.
– Сорочка тебе, – Летава протянула ему расправленную на вытянутых руках сорочку. – На счастье-удачу. Возьми с собой. В добрую долю я тебя облекаю, – девушка приложила сорочку к его груди, – опоясываю красным солнцем, ограждаю частыми звездами.
Со стесненным сердцем Берест принял дар и поклонился – как поклонился бы старой Бегляне. Ему было неловко – Летава приготовила дар, будто невеста жениху. Но отказаться было никак нельзя: не отказываются от счастья-доли, выпряденной, сотканной и сшитой женскими руками. Особенно если потрудилась над ней внучка старшей жрицы, обученная всему, что умела делать та лягушка, которая потом превратилась в волшебную деву. Дар был очень завидный, Берест понимал это. Но не радовался: Летава пыталась соткать судьбу, которую Берест не мог считать своей.
– Зря ты это затеяла, – все же выдохнул он. – Не выйдет из этого добра.
– А ты что за вещун? – нахмурилась Летава.
– Какой я вещун… Я вовсе никто! У меня ни семьи, ни рода больше нет, ни верви, ни земли родной. Скитаюсь вот… полгода уже, будто волк.
– Но ты же веришь, что землю вашу вы вернете. Я слышала, какие вы обеты над чашей давали.
– Верим.
– А значит, будет у тебя и земля, и семья. – Летава вновь придвинулась и взяла его за обе руки. – А я дождусь. Я тоже обет такой дала.
– Бе-ерест! – закричали снаружи, во дворе. – Мары унесли?
– Пора мне, – Берест шагнул назад, повернулся и вышел из клети.
Темнота промолчала.
Далята и Мышица ждали его перед обчиной – уже последние.
– Ну что, идем? – Далята хлопнул его по спине.
Берест молча пошел вперед.
– А мы думали, ты останешься, – на ходу сказал Мышица.
Если Далята происходил от одного из самых знатных и уважаемых бояр деревских – Величар, его отец, в эту войну был воеводой, пока не погиб в схватке с братьями Свенельдичами, – то Мышица родился в какой-то мелкой веси незнаемого рода с притока Уборти, промышлявшего бортничеством. Жили они небогато, что им, пожалуй, и в холопстве будет не хуже. Мышица остался при войске, потому что здесь веселее. «А убьют – хорошо, работать не надо!» – смеялся он, если заходил разговор о том, как бы вернуться домой и снова жить как все.
– С чего мне оставаться? – сдержанно ответил Берест.
– К бабке во внуки пойдешь.
– Иди ты…
– Да я б пошел, не возьмут меня! А ты парень всем хороший – но дурак, я погляжу!
Берест не ответил. Может, он и дурак. Летава – красивая девушка, он сам любовался ее белым лицом с мягкими чертами, рыжим золотом косы, яркими губами – будто малина ягода. Реши он остаться – Бегляна нашла бы ему место в доме. Старуха уже много лет, после ранней смерти мужа, управляла восемью детьми, челядью и всем хозяйством; все ее дети уже имели свои семьи и половина жила отдельно, но и сейчас взрослые сыновья слушались ее беспрекословно. Все семейство в Плеснеске было известно как Бегляновичи. К Бересту бабка благоволила, хотя он, молчаливый и сдержанный, вовсе не старался ее милость заслужить.
Но к чему ему это благоволение? Даже отдай ему Бегляна внучку в жены и прими в дом, кем он станет? Еще одним из Бегляновичей? Он, сын Коняя из Малина, Световеков внук, Добромиров правнук? Тело-то его будет здесь жить, и нехудо. А душа? Тело каждый от родителей свое собственное получает, а душа у всего рода общая. Искра родового огня влетает в новорожденного и возвращается с его смертью к истоку, чтобы потом порхнуть уже в другого. И если гаснет родовой огонь – искра не горит, а дотлевает.
Только близ родовых могил душа Береста могла ожить. Только там он мог бы, вырастив семью, понемногу снова раздуть из своей искры мощное пламя. Но чтобы иметь право возвратиться с гордо поднятой головой, а не согнувшись по-рабски, сейчас он должен был повернуться спиной к Летаве и следовать за Коловеем прочь – на север, в землю волынян.
Он не мог подобрать слов, чтобы объяснить это девушке, но надеялся: она сама поймет.
* * *
День, когда назначили каравайный обряд, выдался пасмурным, и пришлось за полдень ждать, чтобы солнышко хоть проглянуло сквозь серые весенние тучи – иначе счастья молодым не будет. Свадьбу Предславы Эльга затеяла справлять пышно и шумно. Строго говоря, для невесты-вдовы, «совушки», такая не пристала, но Эльга отправила отроков с приглашениями ко всем боярам земли Полянской, надеясь щедростью притушить недовольство знати.
Караваи стряпать затеяли в княгининой поварне: здесь хватало места, а на дворе имелось несколько больших хлебных печей. Длинное бревенчатое строение с очагами украсили свадебными рушниками, снопами и венками из колосьев от прошлогоднего урожая. Пришел Олег Предславич – отец невесты; давно умершую ее мать заменяла Эльга. Сейчас судьба Предславы находилась в руках княгини, и именно она отдавала свою родственницу и пленницу заново замуж.
Втроем встали перед очагом – посередине отец невесты, по бокам Эльга и Предслава. Для рослого, уже почти седого Олега Предславича эта свадьба дочери была первой: когда ее, юную девушку, отдавали за Володислава деревского, ее отец был очень далеко и его замещал Мистина. Теперь на его добром лице с глубокими морщинами было волнение, в глазах блестели слезы. Он вспоминал Мальфрид, свою давно умершую первую жену, годы юности, даже собственную свадьбу; ощущение протяженности и полноты жизни наваливалось так, что щемило сердце. Давно ли, казалось, он вез молодую жену из Хольмгарда в Киев, чтобы занять дедов стол, и по пути узнал, что она беременна? Давно ли Мальфрид положила ему на руки новорожденную девочку? И вот…
– Благослови нас, матушка-княгиня, печь каравай на Предславину свадебку, высокий, веселый! – начала Ута, во главе стайки жен-каравайниц подойдя к Эльге.
– Благословит вас Сварог-отец, отцы и матери рода нашего, и я благословляю! – ответила Эльга.
– Сестры мои, красны девушки, тетушки, благословите и помогите каравай испечь! – поклонилась женщинам сама Предслава.
Чудный это был обряд – и невеста, и ее названая мать обе явились в белой вдовьей сряде. Но не только они были «в печали». В их ближнем кругу многие женщины потеряли мужей или родичей за минувшие полгода – в день гибели Ингвара или позднее, во время зимней войны в Деревах. И в лицах женщин, глядевших на смущенную Предславу, сияла надежда – отрадно было видеть, что для одной из них уже открылся путь к новой жизни.
Вокруг Уты толпилось пять-шесть молодых женщин и девушек, позванных в каравайницы: все из числа родни, здоровые, красивые. В нарядах их преобладали белый, голубой, синий цвет – цвета печали, но лица светились радостью. Это собрание знакомых лиц, радостное возбуждение, наполняющее всякую женщину на свадьбе, усиливалось памятью недавних горестей. Жизнь залечивает раны, и зрелище того, как обретает новую судьбу наиболее пострадавшая от войны женщина, всем казалось истинной победой над смертью.
Как положено, все вместе взялись за дело: Ута держала сито над квашней, Соловьица – пышнотелая жена боярина Честонега – сыпала муку, Дивуша замешивала.
- Расти, каравай, ровней!
- Расти, каравай, пышней!
- Чтоб крутой – как гора!
- Чтоб богатый – как земля! —
пели женщины вокруг.
Всего несколько слов тянулись, переливались на все лады, в бодром и торжественном токе, десятки голосов сплетались в искристую реку, и она сама несла на себе простое, но такое важное обрядовое действо.
Растревоженное пением сердце щемило – глядя на Уту возле квашни, Эльга тайком смахнула слезы. Сестра стояла такая спокойная и важная, сама как «квашня», внутри которой зреет живой «каравай». «Новое брюхо» Ута понесла уже после того, как вернулась к мужу после насильственной разлуки. Этим летом она едва не погибла безо всякой своей вины, из-за чуждых ей дел державных. Но никто не слышал от нее ни слова жалобы. Ута могла лишиться жизни, потерять четверых детей; у нее на глазах погиб Ингвар и его гриди, она была и на погребении его, и на поминальной страве, хотя при избиении древлян не присутствовала. Но стойкость этой женщины не уступала ее верности: сейчас ее худощавое лицо, осунувшееся из-за беременности, дышало покоем и довольством. Она умела принимать все, что нельзя изменить, даже самое худое, при том сохраняя чистосердечную, сильную веру в лучшее будущее.
Опару покрыли полотном, укутали новой медвежиной с гладкой густой шерстью, поставили к печи – подходить. Коротали время весело: пели свадебные песни, по очереди девушки и жены выбирались в середину меж очагов плясать. Рассказывали о прежних свадьбах в семье, вспоминали разные смешные случаи.
В поварне становилось все теснее, все гуще набивалось народу. Под громкий гул приветствий появился жених, и Предслава покраснела от радости. Глядя на Алдана, она сама не верила такому счастью: что можно заполучить в мужья именно того, кто кажется желаннее всех на свете, рядом с кем она впервые испытала теплое волнение тела и оживление души, которое не тревожит, а скорее умиротворяет. С самого детства вся жизнь ее прошла среди смут; мнилось, вот сейчас, когда свадебный рушник свяжет ее с этим человеком, она вернется домой, где ей уже никогда не будут грозить никакие беды.
Подходили и мужчины: все многочисленные свойственники княжьей семьи, бояре – приятели Мистины, оружники и гриди – приятели Алдана. На каравайном обряде и должно быть людей побольше – чем шумнее и веселее делается дело, тем больше счастья молодым.
Стол засыпали соломой и поверх нее покрыли скатертью; поставили большую деревянную чашу с вырезанным на дне крестом – знаком защиты и солнечного света. Чаша вся вытертая, выглаженная, очень старая, треснула и была залатана тонким серебряным листом, прибитым золотыми гвоздиками. Не только Мальфрид и ее свекровь, Венцеслава Олеговна, замешивали в ней тесто для обрядовых хлебов, но и давно покойные дочери Киева рода. И не Эльга, а Предслава через бабку Венцеславу получила их кровь – о том говорило само ее имя.
В чашу переложили тесто, добавили муки и стали месить все по очереди: каравайницы во главе с Утой, сама Предслава.
- Две дружки, Славунины подружки,
- Каравай валяли… —
пели женщины вокруг, наблюдая за работой.
Слаженный поток голосов звенел под кровлей просторной поварни, и уже казалось, именно здесь тот золотой покой Мокоши, где она и ее помощницы-судьбопряхи творят судьбу для новой семьи. Каждая мать в своем роду – внучка и наследница богини-матери, а обрядовые песни пробуждают в душах небесный дух и божественную силу – на те краткие мгновения, что определяют долгий предстоящий путь. Всякая дева или жена так или иначе переживет эти мгновения, принимая в себя богиню и ненадолго становясь ею. И эти отблески светлой радости, торжества, упоения своей жизнетворной силой долго еще будут согревать душу и давать силы для земных испытаний.
- Валю, валю сыр каравай,
- С правой руки на левую,
- С левой руки на правую…
Одна за другой каравайницы подходили к чаше, и под их руками первоначально рыхлое, жидковатое тесто делалось все более мягким и гладким, как щечка ребенка. Выпечка хлеба – всегда священнодействие, но эти женщины, княгини и воеводские жены, брались за это дело в особых, священных случаях. Они держались важно, двигали руками в лад пению, но то и дело переглядывались и улыбались.
- С золотого перстенечка
- По дубовому лоточку…
– У-у-у! – выкрикивала Соловьица в припев, и ее пронзительный голос был как копье, что пронзает пространство и со звоном ударяется о престолы богов.
Теста было много – всем хватило работы. После Уты к чаше подошла сама Эльга, подвернув белые рукава платья. Для подношений богам она несколько раз в год готовила караваи своими руками и умела месить тесто не хуже любой хозяйки в городе. Это ведь как опара, думала Эльга, глядя на свои руки, почти такие же нежные, как тесто в старинной чаше. Жены собираются и вместе с тестом месят и лепят судьбу будущей семьи, вкладывая в нее часть своего добра – красоты, здоровья, удачи, плодовитости, домовитости. Когда это делают все вместе, у каждой не убывает, а только прибавляется. Поэтому все женщины так любят свадьбы – дух этого действа питает их женскую силу, как топливо питает огонь.
- Каравай на лавку взлез,
- Каравай по лавке пошел,
- Он пошел, притоптывая, приговаривая:
- Нету меня, каравая, круглее,
- Нету меня, белого, румяней!
Девки и жены плясали вокруг стола, раскинув руки и притоптывая, то подскакивая, то приседая, – изображая, как растет и пляшет сам каравай. Особенно Соловьица, женщина крупная, полная, с румяным круглым лицом, очень походила на веселый каравай.
- Расти, расти, сыр каравай,
- Выше дуба дубова,
- Выше матицы еловой,
- Шире печи каменной!
И чем сильнее дух этого веселья раздувал женскую силу в самой Эльге, тем чаще взор ее почти против воли устремлялся к Мистине. В красивом белом кафтане, уверенный, веселый, разговорчивый, он сидел в дальнем конце поварни среди мужчин, и каждая деталь его облика – золотые перстни на пальцах, начищенная бронзовая отделка скрамасакса с белой костяной рукоятью на богатом поясе с серебром – без слов говорили: это не обычный человек, это тот, кто стоит над всеми. Он улыбался, лицо его дышало радостью, и даже первые морщинки в углах его глаз, от улыбки более заметные, сияли, будто солнечные лучи.
От непрошеных слез все немного расплывалось, и Эльга почти видела Ингвара – как он сидит на скамье рядом с Мистиной, с довольной улыбкой на простоватом лице, прикладывается к той же братине. Он должен здесь быть. Ведь выходит замуж его сестреница[3], а Ингвар всегда любил кровную родню. Даже тогда любил, когда поневоле наносил ей обиды.
Вдруг накрыло ощущение, Ингвар стоит прямо за спиной. Эльга вздрогнула и оперлась ладонями о стол.
– Устала, матушка? – окликнула ее Соловьица. – Давай я теперь поработаю!
Эльга улыбнулась и отошла от стола. Только потом глянула туда, где ей почудился муж. Конечно, она его не увидела – мертвые взорам живых недоступны, они если и сказывают себя, то иначе. Но ощущение его присутствия не проходило. Невольно они вызвали его сюда – где все, кто был Ингвару близок и дорог, собрались вместе по важному семейному делу.
И его присутствие Эльга ощутила не впервые. После смерти его ей стало мерещиться, что теперь он смотрит на нее непрерывно. И теперь ему, наверное, стало известно все то, что они с Мистиной при жизни исхитрились от него утаить. Все эти месяцы Эльга редко поднимала глаза к темноте под кровлей, опасаясь встретить суровый, невидимый для других взор. Но изменить уже было ничего нельзя.
Да она и не хотела ничего менять. Ей досталась непростая жизнь, и не раз приходилось выбирать из двух зол меньшее. Но ни одного из своих решений она не хотела взять назад и потому считала свою судьбу счастливой. Лучшее, что она могла дать Предславе, – как думала сейчас Эльга, глядя на гладкий ком теста под пухлыми и ловкими руками Соловьицы, – это чтобы она тоже ни одного из решений, принятых по своей воле, не хотела изменить. Эта доблесть, которой гордились еще витязи древности, равно доступна и мужчинам, и женщинам.
Но, видит покойный муж ее сейчас или нет, она не даст ему повода думать, будто она лишь дожидалась его смерти, чтобы устремиться в объятия его же побратима. Издали поглядывая на Мистину, Эльга быстро отводила глаза. Каждый взгляд на него как будто опалял ее – его красота казалась ей жгучей, даже сейчас, после стольких лет. Далеко на севере волховский Ящер взломал лед над своим ложем, открывая путь весне – в тридцать пятый раз после появления на свет Мистины, Свенельдова сына. Он сейчас в самом расцвете сил. Прямоугольный лоб, острые скулы, нос с горбинкой от давнего перелома, складки вокруг рта, когда он улыбается – при взгляде на него сердце Эльги пронзал огненный луч. Глаза так глубоко посажены, что когда они открыты, даже не видно верхнего века и ресниц, но и этот, по сути, недостаток придавал лицу Мистины суровое своеобразие и подчеркивал достоинства.
И неужели ей теперь всегда отводить от него взор? Сможет ли она когда-нибудь смотреть на него так же спокойно, как на других мужчин? А если нет, то сможет ли еще когда-нибудь дать волю своему сердцу? Может быть… со временем… когда ее положение без Ингвара упрочится, ей не придется оглядываться на каждом шагу… и ощущение незримого присутствия мужа утратит остроту… Говорят, это проходит года через три.
К счастью, веселое, шумное действо вокруг отвлекало Эльгу от печальных мыслей. Девки тем временем замешивали другое тесто, из муки и яичного белка, лепили из него колоски, цветы и венки для украшения караваев. Вот посадили каравай в глиняный поддон, украсили сверху «солнцем» из теста, рассадили вокруг него уток с яйцами, цветы из теста. Поставили на широкую доску – теперь Эльге и Олегу Предславичу полагалось обойти с ним печь, но огромный каравай был так тяжел, что еще две женщины им помогали его держать.
Вынесли наружу, где уже истопили самую большую хлебную печь, переложили на лопату.
- Каравай на лопату сел,
- Каравай в печку глядит,
- Ты пекись, пекись, каравай,
- Ты удайся, удайся, каравай,
- На удачу на весь век!
Под песню Олег Предславич вдвинул лопату с караваем в печь, потом вынул; потом еще раз так же!
– Неси меч, руби печь! – кричали вокруг женщины. – Каравай не лезет в печь!
– Давай еще разок! – вопили мужчины и добавляли разные замечания, от которых Предслава краснела и закрывала лицо краем убруса.
Движения лопаты в устье печи и обратно намекали на законное продолжение свадебного обряда, а в каравае этом заранее «выпекались» все будущие дети.
На третий раз каравай наконец уселся на место, девки поднесли каравайницам воду. Первый вымыла руки Ута. Потом обернулась, окинула взглядом толпу, с ожиданием следившую за ней. Шагнула к Люту Свенельдичу – своему деверю, и мокрыми ладонями провела по его щекам.
Лют заорал, будто его окатили ведром ледяной воды, под общий хохот отпрыгнул в сторону. Эльга вынула руки из лохани и мягко коснулась лица Олега Предславича, передавая ему благословение каравая. Одна за другой женщины мыли руки, потом «умывали» мужчин; одни принимали это смиренно, другие кричали и якобы пытались убежать, но их ловили, подталкивали, тащили назад. Расшалившись, каравайницы совали руки в воду заново и выискивали себе новую жертву; по всему двору поднялась толкотня и беготня.
– Вон у тебя тесто на бороде! – кричала Соловьица, наступая на воеводу Асмунда.
Тот со смехом отшатнулся, едва не налетел на Эльгу; увидев ее, метнулся в сторону. Смеясь, Эльга и Соловьица вдвоем погнали его по двору среди общего мельтешения. Под руками их проскочил Лют, убегающий от юной Миловзоры. Его все хотели «умыть» – младший сын воеводы Свенельда был почти так же хорош собой, как старший, но не внушал такого трепета. Многие дочери боярские, едва плахту надевшие, не сводили с него восхищенных и призывных взглядов.
Следя, как Взорка гонится за Лютом, Эльга отвлеклась и вдруг налетела на кого-то. Обернулась и увидела прямо перед собой Мистину. Он смотрел на нее с ожиданием, даже с вызовом.
– А меня что же никто благословить не хочет? – Мистина улыбнулся.
Понятно чего: никто не смел его тронуть.
– К жене поди, – Эльга кивнула на Уту возле печи; той, конечно, не до беготни было.
– Ее благословения недостоин я, – шепнул Мистина так, чтобы слышала одна Эльга, придвигаясь к ней.
И не успела она попятиться, как он сжал ее запястья и прижал мокрые ладони к своему лицу.
Эльга затрепетала, внутренние концы ее бровей приподнялись, будто от легкой боли. Уже месяца три, со времен возвращения войска, она не позволяла ему к ней прикасаться и теперь ощущала, как сильно на ней сказывается это прикосновение. Волна тепла потекла в жилы, и только сейчас Эльга поняла, как застыло все у нее внутри. Она была как береза, в чьем теле зимний холод заморозил все соки, а теперь они вдруг согрелись и побежали, разнося оживление по всему ее существу. Ее испугала сила этих ощущений. Всё каравайные песни виноваты: они в каждой женщине пробуждают жажду – жить и нести в мир новую жизнь. А что есть любовь, как не жажда жизни? Не влечение к живому теплу, спасению в последней беде и утешению во всяких горестях?
Мистина выпустил руки Эльги, и она быстро отошла на два шага. Остановилась, борясь с порывом прижать к собственным щекам ладони, только что касавшиеся его лица, еще хранившие ощущение его чуть шероховатой теплой кожи, бороды.
– А моего – достоин? – тихо спросила она, возвращаясь на шаг.
– Да. – Мистина на миг опустил веки, будто печать налагая. – Перед тобой я не виновен ни в чем.
«А перед нею?» – едва не спросила Эльга, но удержалась.
За любовь к другой женщине Мистина никогда не каялся – и сейчас тоже, в этом Эльга была уверена. Его глаза говорили ей: «Я жду». Ожидание это было как камень, что веками лежал на своем месте и будет лежать.
Беготня почти утихла, по двору носилась еще только молодежь: девки целой стаей гонялись за Лютом и Ильметом, а юные сыновья боярские, отирая друг друга, совались под руки к Святане. Женщины покатывались со смеху, отцы подбадривали юных соперников криком.
Эльга отошла к своей жилой избе. Трое отроков, из-под навеса у дверей наблюдавших за действом, почтительно вскочили. Но Эльга не пошла в избу, а села на скамью: ей нужно быть при том, как каравай станут доставать и заворачивать в особый рушник.
Мистина медленно подошел и сел рядом. Не касаясь его, она чувствовала, что он волнуется. Все эти полгода после гибели Ингвара они не так чтобы избегали друг друга, но прежней откровенности не было, и это молчание их обоих тяготило. Мистина знал, что Эльга не верит наветам на него, и она понимала, что он это знает. Но это не приносило облегчения, как ни странно, а напротив, делало отчуждение необъяснимым.
Но нет худа без добра. Весь Киев свидетель, что пятнадцать лет Мистина Свенельдич был близок княжьей чете, как родной брат, пользовался безграничным доверием и мужа, и жены, что случается нечасто. Если бы Эльга, овдовев, объявила его своим новым супругом, не удивился бы никто. Но сделать этого она никак не могла, и ей оставалось употребить все силы, чтобы не дать заподозрить себя в распутстве. Мистина – муж ее сестры, ее зять, отец ее племянников. И пусть хоть весь Киев на них смотрит: их близость не выходит за межи родственной ни на шаг.
Вечерело, воздух был свеж и нежен, как сливки с холода, и в нем ощущался привкус зелени. В это самое время десять лет назад Эльга, совсем еще молодая женщина, два года как ставшая княгиней руси, провожала в поход на греков мужа и всех его соратников.
– А помнишь, как на Царьград уходили в первый раз? – вырвалось у нее. – Такой же вечер был, когда провожали вас…
И осеклась: чем кончился тот давний вечер, она вспомнила только сейчас, когда уже произнесла эти слова. Не может Мистина не вспомнить о том, о чем знали только они двое.
– Да чтоб я когда об этом забыл, – вполголоса откликнулся он. – Я же только потому и жив.
В том походе Ингвар едва не погиб – в самом начале, когда на подступах к Царьграду их встретили хеландии, оснащенные огнеметами. И Мистина тоже – в конце лета, в битве под Ираклией Понтийской. В Боспоре Фракийском сгинул Эймунд, родной младший брат Эльги – никто даже не сумел рассказать ей как. А этим летом она могла лишиться сестры и четверых племянников. Эльга знала: у судьбы есть причины ее наказывать. И порой казалось, что судьба забавляется, нанося удары по дорогим ей людям, перед тем завязав себе глаза. Когда промахнется, когда заденет краешком, а когда и попадет.
Если бы Ингвар не отправился искать Уту, не очутился в глубине чужой земли с малой дружиной, мог бы избежать смерти… Но его вела и любовь к сестре своей жены, и желание помочь Мистине выпутаться из ловушки. И он помог: Мистине не пришлось давать ответ, выбирает он жену или князя-побратима. Но, хоть и не по своему выбору, одного из двоих он все же лишился…[4]
– А что выбрал бы ты сам – если тебе все-таки пришлось бы выбирать? – полушепотом спросила Эльга.
Легкий хмель этого дня придал ей смелости говорить с ним – но только не о том, на что сама же навела его мысли. Она смотрела на Уту и надеялась, что Мистина поймет ее без уточнений.
– Зачем тебе это знать? – Мистина повернул к ней голову. Тоже видя перед собой жену, он сразу понял, о чем княгиня говорит. – Меня заставили выбирать, кого предать – тебя и Ингвара или мою жену и моих детей. Что бы я ни выбрал, на мне на всю жизнь осталось бы пятно. На это и был их расчет. А ты возненавидела бы меня за любое решение. Кого бы я ни предал – твоего мужа или твою сестру, – сохранить твое доверие у меня не было надежды. Ты хочешь знать, как именно я бы предпочел его утратить?
Эльге казалось, что ответ ей известен. И от этого было неуютно.
– Но ты сам знаешь, что ты выбрал бы? – почти шепотом настаивала она, глядя на нарядных женщин у печи.
– Знаю, – Мистина тоже смотрел туда. – И с самого начала знал. Но подумай и скажи: а что выбрала бы ты? Не на моем месте, а если бы этот выбор предложили сделать тебе? Если бы ты должна была решить за меня, а мне осталось только исполнить?
Эльга подумала, потом повернула к нему лицо с расширенными от ужаса глазами. Ей стало так жутко, что пробрала дрожь.
Она знала свой ответ. И Мистина его знал.
– Но почему? – помолчав, почти прошептала она. – Ведь мы с Утой родились и выросли вместе. Мы были почти как двояки… то есть близнецы. Лежали в одной зыбке, ее мать меня кормила порой. Вместе учились ходить. Всю жизнь у меня не было никого ближе нее. Как я могла бы? Она отдавала мне всю себя… А я… готова была… принести ее в жертву?
– Вы не ровня. Она – просто женщина. Лучшая из всех, но просто женщина. А ты – гораздо больше. Ты – Русская держава. Ты защищаешь Уту, она служит тебе. Но если придет час, когда тебе понадобится ее жертва… Она принесет эту жертву, а ты ее примешь. Не наоборот. А я служу тебе. И делаю тот выбор, который нужен тебе.
– Но это ужасно!
– Это так. Как ни назови, суть не изменится. Эльга, ты же все про меня знаешь, – добавил Мистина, помолчав. – Я очень сожалел бы о твоей сестре, я мстил бы за семью, но другую жену мне найти несложно. Другого побратима у меня не будет, но люди смертны, а слава вечна, и Ингвар достоин скорее зависти, чем жалости. Он прославлен навек, а другой князь у меня есть. А вот другой княгини, такой, как ты, не будет и не может быть никогда. За тебя я отдам любую жизнь.
«Свою и чужую», – хотел он сказать. Это и восхищало, и ужасало Эльгу. За пятнадцать лет, несмотря на все виды существовавшей между ними близости, она так и не постигла этого человека. Он был умнее всех, кого она знала, он был очень чуток, но при этом безжалостен. Он отлично понимал других людей, но их чувства скользили по поверхности его железного сердца, не оставляя ни малейшей царапины. Она посчитала бы его бессердечным, но чем тогда объяснить эту преданность ей? Любить он умел, и этой любви хватило на вот уже более чем десять лет, а значит, боги одарили его не таким уж малым запасом. Но изливалась она почему-то только на двоих: на Ингвара и на нее, Эльгу. Теперь – только на нее.
Но сейчас она была не вправе принять столь пугающую любовь.
От печи замахали: каравай вынимать. Эльге – повитухе будущей судьбы – пора было браться за хлебную лопату. Уже встав со скамьи, она тихо сказала:
– Ты ошибался.
– В чем? – В глазах Мистины появилась настороженность.
– Я не возненавидела бы тебя. Что бы ты ни выбрал. Одно из двух решений я посчитала бы слабостью. Но я всегда знала: на слабость ты неспособен.
Он выдохнул и опустил веки. Тревога ушла из его глаз, взамен появилось выражение, будто он обнимает ее взглядом, у всех на глазах не смея коснуться ее по-настоящему. Но Эльга попятилась и закончила, собираясь сойти с крыльца:
– И это меня в тебе пугает.
* * *
Перед началом дела древляне три дня провели в устье Припяти. Место для стана было неудачное: слишком влажное, хорошо еще, комары и разная мошка пока не встали на крыло, а не то совсем беда. Костры разводить Коловей запретил: ни каши поесть, ни погреться. Но приходилось терпеть. Было неизвестно, сколько в точности русов сидит в городце, но все они хорошо вооружены, укрыты за прочными стенами, и лишь внезапность – даже больше, чем численное превосходство, – давала мстителям за землю Деревскую верную надежду одолеть. Выдать себя заранее означало бы все погубить. Было слишком близко до цели: угляди сторожа со своей Днепровской вежи хоть искорки костров – вышлют дозор, накроют…
– Первое ваше дело – вызнать, сколько в тверже[5] сейчас людей, – говорил Коловей, снаряжая Береста, Даляту и еще одного мужика, Радобыла, в развед.
«Было человек семьдесят», – подумал Берест, безотчетно относя его вопрос к Божищам.
– Как вооружены…
– Они хорошо вооружены, – почти перебил Коловея Далята. – У них в Царьграде всегда доброе оружие было, это их добыча, от хазар, от греков взято.
Городок взабыль назывался Перезванец – по имени воеводы, боярина Перезвана. Но в волости его полунасмешливо-полузавистливо называли Царьградом: все отроки его засады[6] бывали и в Хазарском, и в Греческом царстве и привезли оттуда столько добычи, что на взгляд одетых в домашнюю тканину окрестных древлян и дреговичей были баснословно богаты.
– Сколько людей постоянно в дозоре, где находятся, – продолжал перечислять их задачи Коловей. – На месте стоят или ходят? Как знак подают? Било у них там или что?
В Божищах, укреплении среди болотистых лесов, где прошлой осенью Миляева дружина спрятала угнанных у русов лошадей, дозор нес целый десяток отроков. Одни сидели у ворот, другие ходили по валу. Но это не спасло их той жуткой дождливой ночью, когда киевский воевода, Свенельдич-старший, пришел за своими конями.
Берест уехал из Божищей вечером перед той ночью и потому остался жив – один из всех. Но теперь, весной, ему и его врагам предстояло поменяться местами. Теперь древляне внезапно ворвутся в спящий русский городец и сделают так, чтобы живым не ушел никто!
О Перезванце первым подумал Далята. Киевская твержа появилась на берегу Днепра, чуть ниже устья Припяти, шесть лет назад. Сын деревского воеводы, боярина Величара, Далята в былые годы два раза ездил сюда с отцом. Тогда Дерева и Русь жили в мире, деревский молодой князь Володислав был женат на Предславе Олеговне, из русского рода, внучатой племяннице киевской княгини Ольги. Земли здесь были пограничные: в полуденную сторону вдоль правого берега Днепра тянулись больше деревские волости и веси, а в полуночную, за Припять – дреговичские. Собираясь поставить на мысу сторожевой городец, Ингорь киевский дал понять деревским князьям: русская твержа поможет им утвердить свои права на эти земли. Русы тогда брали дань с древлян, и чем обширнее их владения, тем богаче выход в Киев. Деревский боярин Величар не раз бывал в гостях у русина Перезвана; распивая меды, они вспоминали, как лет семь-восемь назад ходили на Греческое царство. Величар, единственный из деревских бояр, был в большом войске под началом Мистины Свенельдича и с ним прошел вдоль Греческого моря через всю Вифинию аж до Пафлагонии, участвовал во взятии богатейшего города Ираклии, а потом в битве с мощным царским войском у ее стен. Перезван в те же месяцы состоял в дружине Хельги Красного, сводного брата княгини Ольги; будучи оторваны от большого войска, они разграбили предместья самого Царьграда и ушли на Пропонтиду, в богатый город Никомедию, и месяца два жили там, как в Ирии. Величар тоже привез добычу из Ираклии и мог предстать перед любым русом, имея платье и оружие ничуть не хуже. В дни тех гостеваний они по три дня не могли наговориться, перебирая воспоминания и хвалясь былыми свершениями.
Казалось, они теперь как братья – древлянин Величар и полянин из русской дружины Перезван. Вместе они шли через греческий «олядный огонь», добывая честь для земли Русской, славу для князя и богатство для себя. Но не прошло и десяти лет, как деревский князь Володислав отказался дальше выплачивать Киеву дань. Началась война, и под стеной Искоростеня воевода Величар был убит Лютом Свенельдичем – младшим братом Мистины Свенельдича, который был вождем Величара в походе по греческой земле. И теперь Далята, Берест, Коловей и прочие уцелевшие от смерти, плена и упадка духа деревские мужи и отроки шли к Перезванцу уже не мёды распивать.
Далята хорошо помнил, что сторожевых веж имелось две: одна смотрела на луг и берег, другая – на Днепр. Но ворота были только в одной – со стороны берега и рва, она называлась Воротной. Вторая, Днепровская, предназначалась лишь для наблюдения за рекой; там частокол шел по краю мыса, а мыс круто обрывался к воде. Внизу, на отмели, лежали челны – русы брали их, когда закидывали сети.
Со стороны луга ворота защищал сухой ров, а над ним поднимался вал в три человеческих роста. Обсуждали, не заготовить ли бревно и не попытаться ли высадить ворота, но потом эту мысль отвергли.
– Нельзя дать им проснуться! – внушал Коловей. – Если они поднимутся, да снарядятся, да начнут по нам сверху с заборола стрелы садить – нам и число не поможет. Если и прорвемся, слишком много потеряем. Пойдем на стены, а ворота уж изнутри откроем.
Новому деревскому воеводе было лет двадцать пять или чуть больше, но за последние полгода он стал казаться гораздо старше. Отец Коловея, Любовед, состоял в числе первых бояр деревских – и прошлой осенью погиб, когда отроки Ольги над могилой Ингоря перебили упившихся старейшин и среди них самого князя Маломира. Тогда с полсотни лучших деревских родов осиротели разом. Коловей, человек толковый и умеющий к себе привлечь, стал одним из тех, на кого опирался молодой князь, Володислав, в борьбе с Киевом. Прежде веселый, разговорчивый и дружелюбный, Коловей оказался горд и упрям. Он не смирился, когда деревское войско было разбито, Искоростень сгорел, а Володислава посчитали мертвым. Он сумел вывести в безопасные края последние несколько сотен мужчин, оставшихся от деревского войска и не желавших покориться русам. Если от кого-то родная земля еще могла ждать освобождения, то лишь от Коловея и его дружины. Но путь к этому был долгим и пролегал не прямо. Теперь это понимали даже самые горячие и нетерпеливые – как Далята.
Сначала прикидывали, нельзя ли проникнуть в Перезванец и как следует осмотреться изнутри. В Коловеевой дружине нашелся местный уроженец – Радобыл, житель ближней деревской волости. Коловей надеялся, что русы получают что-то из волости и можно затесаться в обоз, но оказалось, что нет: скотина у русов была своя, огороды они развели свои, хлеб им привозили из Киева, рыбу они сами ловили в Днепре, на лов ездили сами. С местными жителями они почти не виделись. Лишь зимой, когда сюда вместе с дружиной, собирающей дань, прибывали купцы, весняки съезжались менять шкурки на кое-что из заморских товаров: красивую посуду, хорошие железные изделия, стеклянные снизки для женок, иной раз немного цветного шелка.
Оставалось присмотреться со стороны. В былые годы в Перезванце было около сотни человек, но Коловей опасался, что после зимней войны в Деревах засаду увеличили.
Пройдя вниз по Припяти, три сотни древлян устроились в зарослях близ устья. Пока все готовились, Берест, Далята и Радобыл отправились по реке к самому Перезванцу. Даже если их и приметят с Днепровской вежи, ничего страшного: худощавый бородатый мужик в челноке, при нем два светловолосых отрока, одеты как все весняки, с неводом и лукошками под рыбу, чего дивного?
Проплыли вдоль берега, за полпоприща до Перезванца присмотрели удобную отмель под высадку: не очень близко, чтобы из городца не приметили, но и не очень далеко, чтобы можно было быстро добежать с лестницами на плечах и щитами за спиной. Теперь у древлян имелись щиты: частые столкновения зимы научили их ценить дощатый блин с умбоном.
Там Далята и Берест сошли с челна и пробрались через лес к дальнему краю луга. Два дня, сидя на деревьях, наблюдали: как выгоняют скотину, как отроки ковыряются в огородах, как возят воду в городец. Радобыл в это время сидел в челне ближе к другому берегу Днепра. В итоге выяснилось, что людей в Перезванце даже меньше, чем до войны. Видимо, и здешние русы теряли людей в сражениях, а пополнить засаду киевским князьям было неоткуда.
Пока трое ходили на развед, остальные занимались делом: рубили осиновые жерди, прочными мочальными веревками навязывали на них короткие перекладины, чтобы получилась лестница. Важно было как можно быстрее, не давая русам проснуться и опомниться, преодолеть ров и частокол на валу, оказаться в городце. Тогда твержа станет ловушкой, и русов, уступающих числом в пять раз, не спасет ничто.
Когда трое разведчиков вернулись, уже все было готово. Последнюю ночь Берест и Далята провели вместе со всеми. Нарубив веток ольхи и осины, сделали подстилку, чтобы не ложиться на холодную влажную землю. Устроились, завернувшись в вотолы.
Но не спалось. Береста пробирала дрожь нетерпеливого, почти радостного ожидания. Как будто назавтра ему предстояло что-то очень хорошее, веселое… Сам на себя удивился: чего радуешься, глуподыр, будто свадьбы ждешь! И знал: он ждет боя. Не так, как в былые дни. Не как на дороге близ брода на Тетереве, где его родных, всех ближников и ужиков из разоренного Малина, Лют Свенельдич гнал в Киев. И не как на Моравской дороге, где они с Миляевыми отроками отбили у братьев Свенельдичей пять десятков лошадей. Не как перед сражением на Размысловом поле, не как в последнюю ночь перед пожаром Искоростеня. Тогда Берест думал, что наступающего дня не переживет, но не боялся, не жалел. Просто ждал, надеясь отдать жизнь не даром, прихватить с собой хотя бы одного-двух русов. Но он выжил, и теперь жизнь для него не кончалась в тот миг, когда придет пора пустить первую стрелу. Завтра будет бой, и он, Берест, этот бой переживет. Теперь важно не умереть достойно – а победить, взыскать с русов их кровавый долг.
– Что вздыхаешь? – Далята толкнул его локтем. – И без тебя не спится. Кончай мечтать: девок там мало, и тех Коловей велел кончать, не возиться.
– Я думаю, вот бы боги дали милости и там Свенельдич оказался… младший.
– Младший – мой! – привычно вскинулся Далята. Потом опять лег. – Да чего ему там делать, в этой дыре?
– Может, у него из родичей или приятелей там кто. Или из Киева прислали за чем-нибудь.
– Может, но надежды мало. Он, поди, в Киеве сидит, у княгини меды распивает.
– Скорее всего, так. Но помечтать-то можно?
– Свенельдича-меньшого не уступлю, – упрямо пробурчал Далята. – За мной месть за отца.
– За мной тоже.
– Ты не видел, чтобы это был он! – Далята полуобернулся к спине Береста. – А у меня сто человек видело! Он, гад, доспех отцов носит!
– К нам в Малин он раньше пришел.
– Да хватит вам! – с досадой оборвал их Мышица, которому их бессмысленная перебранка мешала спать. – Делят тут… шкуру неубитого руса!
– Ладно, мы его самого поделим! – Далята примирительно толкнул Береста локтем. – Пополам.
Каждый улегся в своей вотоле, перебирая в уме способы располовинить общего врага, чтобы никому не было обидно. Эти мысли грели Береста, как раньше, в той давно миновавшей жизни – мысли о будущей свадьбе.
* * *
Перед рассветом пробирал жуткий холод – костерок перед воротной вежей Перезванца, где грелись дозорные полдесятка, едва спасал. С заборола поглядеть – совсем лето, все кругом зеленое, трава свежая поднялась, лес весь в листве. И пахнет чем-то таким – свежим, будоражащим. А дозорные предутренней стражи сидели в толстых шерстяных свитах – в березень-месяц дыхание едва оттаявшей, еще не прогретой земной груди леденит. Размай торчал на веже, озирая окрестности; в нетерпении дожидаясь своей очереди сойти погреться, он то и дело поглядывал вниз, где горел костер. Трое дремали сидя, завернувшись в вотолы, а Велеб подбрасывал в огонь.
От Днепра поднимался туман, растекался по ближнему полю. Даже здесь, за стеной городка, Велеб ощущал его влажное, стылое дыхание. Приход тепла освободил не только людей. Вилы и навки проснулись, повылезли из студеной воды на солнце. Их тянет сюда – к пяти десяткам скучающих, еще не старых мужчин. Глядя в огонь, Велеб старался не думать о навках на берегу, но всей кожей ощущал, как их невесомые бледные ножки, холодные как лед, неслышно ступают по траве и под завесой тумана подбираются все ближе к стенам… Сейчас, когда забороло напоминало остров в белом озере, жутковато было думать о том, что там – на дне…
Если бы воевода спросил волхва, когда выбирал место для твержи, тот бы ему решительно отсоветовал это разорище. Нехорошо здесь было. На внешний-то взгляд удобно: мыс над высоким обрывом, внизу – Днепр, а между мысом и полем еще виднелись остатки старинного вала. Сразу ясно, что какой-то городец здесь уже когда-то стоял, но чей он был и как назывался – не знали даже окрестные весняки. А может, не хотели сказать. В этих местах, чуть ниже устья Припяти, обитали и древляне, и дреговичи. Древлян после зимы стало меньше: мужчин русы перебили в сражениях, жен и детей побрали в полон и увели в Киев. Дреговичи притихли. Они и раньше-то старались поменьше иметь дела с жителями киевской твержи. Если их расспрашивали, наводили тень на плетень. Боярин, Перезван, сам однажды слышал в гостях у Поведа, будто прежде был городец, а в нем жили волколаки. Дескать, в стародавние времена обитало в сих краях целое племя волколачье, и всякий его муж либо отрок каждый месяц по три дня волком бегал.
Оружники только смеялись, слушая об этом, а Велеб подумал: очень может быть и так. Кто бы ни были прежние обитатели городца на мысу, закончили они как-то очень нехорошо. Многие погибли прямо здесь, в своих жилищах, и остались без погребения. Кости их и сейчас лежали во рву и даже под землей прямо на площадке, перед дружинными избами. Он расспрашивал кое-кого: когда насыпали новый вал, не находили костей человечьих? Находили, оказывается. Старые, почерневшие. Даже топорик железный попался – узкий, с лезвием пальца в три. Только он был совсем ржавый, и его выкинули в ров. Велеб лазил, хотел найти, но напрасно рылся на дне сухого рва среди камней и всякого сметья. «Жабу, что ли, ищешь себе? – ржали наверху отроки. – Колдовать? Не, он невесту себе высматривает. Найдет лягуху и давай целовать! Он у нас ведун – знает, как лягуху девкой обернуть!»
Велеб смеялся с ними заодно, но жалел, что топорик не нашелся. А отрокам чего не смеяться – мало кто из них не согласился бы поцеловать лягуху, если бы ему верно обещали, что она превратится в девку. В Перезванце лишь четверо старших оружников, кроме самого боярина, имели семьи. Остальные только и мечтали, что о новом походе вроде греческого. Вот тогда опять все будет – и девки, и вино, и новые шелковые кафтаны.
Перезвановы оружники знали, о чем говорили. Все они были десять лет назад набраны из разных мест для войны с греками и попали в дружину Хельги Красного – сводного стрыйного брата княгини Эльги. После второго похода на греков, когда войско дошло только до Дуная, Хельги ушел сперва в хазарский Корчев, а потом еще дальше – на Гурганское море. Там он захватил богатый город под названием Бердаа и пытался остаться в нем, чтобы обрести собственные владения близ сарацинских стран. Удайся его затея – он скоро стал бы так могуч и богат, что все древние короли Севера в Валгалле сжевали бы свои бороды от зависти. Но судьба в очередной раз показала, что доблесть – это одно, а удача – другое. Хельги и часть его людей погибли во время вылазки, и лишь около сотни осиротевших оружников под водительством Перезвана сумели вернуться на Русь.
Иные из них после гибели вождя решили, что достаточно смотрели чужие края, и разбрелись по домам. Но большинство идти по прежним местам не захотели. Для них за несколько лет Сыр-Матер-Дуб не раз перевернулся вверх корнями и обратно: вставали и рушились чужие города, гремели битвы, гибли сотни и тысячи людей, наносились и заживали раны, появлялись товарищи, чтобы за короткое время стали ближе братьев, а потом умирали на руках. А дома, где-нибудь в Репьях на речке Ржавке, все осталось как было – только что прежние невесты стали молодухами, а девчонки – невестами. Совсем не тянуло под руку старейшин-дедов, во власть старинного обычая, определяющего каждый день человеческой жизни. За три-четыре года пережив столько превратностей, отроки теперь дикими глазами смотрели на обычный родовой уклад, где в день появления на свет ребенка уже точно было известно, как он проживет жизнь и как будет погребен. При князьях они были витязи, уважаемые, опытные люди, овеянные славой дальних походов, способные про каждую свою пряжку или пуговицу поведать целую песнь. Дома они стали бы переростками-отроками, негодными бобылями, за каких разве что хромая девка пойдет, а старые деды, дальше своей речки в жизни не бывавшие, станут наставлять на каждом шагу. Кто же такое стерпит? После путешествий по дальним теплым странам, сражений, городов с огромными палатами из белого камня прежняя жизнь казалась тусклой и скучной.
Но киевский князь, Ингвар, не знал, что делать с сотней опытных оружников, внезапно свалившихся ему на голову. Любви к Хельги, своему давнему сопернику, он не питал и людям его не доверял. Но потом надумал: поставить твержу на Днепре и поселить туда отроков покойного шурина.
Так появился городок под названием Перезванец. Выбрали место близ перемешанных древлянских и дреговичских селений, где было удобно присматривать за устьем Припяти. С той стороны могли появиться, кроме смирных дреговичей, и весьма воинственные волыняне. Киевский князь снабжал дружину хлебом, скотину они сами купили на остатки добычи из последнего похода. Углубили ров, подсыпали вал, поверх него поставили крепкий частокол с боевым ходом. На лугу пасли скотину, выращивали лук, репу, капусту, морковь, горох, бобы. В святилища ближних волостей чужаков не допускали, Перезван сам приносил жертвы за свою дружину. И вслед за братинами за богов он неизменно поднимал чашу в память о Хельги Красном – своем вожде, бессмертном в памяти. Для перезванской дружины Хельги значил больше, чем сам Олег Вещий. Вещего они на свете не застали – были для этого слишком молоды, зато его братанич для них стал тем богом, что навсегда изменил их мир, перековал, из оратаев сделал воинов…
Устав сидеть скорчившись, Велеб встал, сбросил тяжелую вотолу, расправил плечи, потянулся. От движения рядом очнулся Рогожа, захлопал глазами.
– Пойду пройдусь, – Велеб кивнул ему на вежу, где была лестница на забороло. – Посмотрю, Размайка не спит ли?
– Заснешь в такой холод волчий, – Рогожа дохнул белым паром на ладони. – Как зимой, глядь!
– Скоро солнце взойдет, потеплеет, – утешил его Велеб.
– Тогда я дальше спать пойду. Как сменят, так сразу и того…
Подхватив вотолу, Велеб поднялся на забороло. Здесь было светлее, чем внутри городка, свет бодрил, и от этого казалось чуть теплее.
– Постой, я похожу, – попросил его Размай, уставший торчать на одном месте.
Велеб кивнул и прислонился к столбу, где висел на ремне большой дудельный рог. За пронзительный рев дядька Ислив, их десятский, называл этот рог Сокрушитель Черепов. Теперь перед глазами Велеба раскинулся весь луг предградья. Дальнего леса в предрассветном мареве не было видно, да и длинные гряды, уже вскопанные и большей частью засеянные, Велеб скорее угадывал, чем различал. Репа уже взошла, со дня на день придет пора прореживать ростки. Эта работа Велебу напоминала о доме – на Ильмере, в Люботеше, он так же со стрыиней Межаной, с бабкой и дедом, с женками и чадами из числа ближников возился на грядах, ходил на выпас, ездил в лес. Все как здесь – только дома его не гоняли каждый день бить соломенное чучело дубовой палкой и не посылали в дозоры. Правда, дозоров было не так много: в Перезванце еще осенью жило семь десятков отроков, и каждому выпадал только один день из седьмицы. Зато в этот день они были свободны от всех работ по хозяйству.
Слева, со стороны Днепра, поднимался туман. По привычке Велеб старался не вдыхать глубоко и даже прикрыл рот и нос краем вотолы. Его еще в детстве бабка наставляла, как всех внуков: не разевай рот, вилу вдохнешь! И сам смеялся: поздно!
Отроки, когда надоедало пересказывать друг другу всем давно известные подвиги, часто приставали к Велебу: расскажи, как тебя вила кормила! Он отмахивался: десять раз уже рассказывал! Потом подчинялся и заново начинал главную повесть своего детства.
…Был такой же день поздней весны – когда гряды уже засеяны, пришла пора полоть и прореживать. Боярыня Драгоума, иначе баба Уманя, люботешская большуха, с утра вывела всю свою чадь – женок с детьми, девок, отроков – на огороды близ речки Псижи, где стоял городец. Род Люботешичей считался одним из старейших на западном берегу Ильмеря – десятки поколений сменились с тех пор, как прародитель их, Люботех, пришел сюда и срубил городец. За несколько веков потомки Люботеха расселились по Псиже и окрестностям, и сейчас их веси и верви насчитывали сотни людей. Прямой потомок Люботеха по старшей ветви по-прежнему жил в старинном городце и обладал священной властью над всеми сородичами. Как положено родовым князьям-владыкам, каждую осень после Дожинок он объезжал все веси, везде приносил благодарственные жертвы богам за посланное изобилие, благословлял новые семьи. Разделяя жертвенные трапезы, вновь подтверждал единство древнего рода.
В ту уже давнюю пору главой Люботешичей был Любогость, Мирославов сын. Его старший сын, Селимир, со временем должен был наследовать отцу, а Селимирова жена, Межислава, выходила на все полевые работы сразу следом за большухой. Межане, рослой худощавой женщине, с лицом не слишком красивым, но добрым, было тогда двадцать два года. За семь лет замужества она, не теряя даром времени, родила семь детей, да только все они оказались девочками. Сейчас четыре из них резвились вокруг нее, самая младшая ковыляла, цепляясь за подол материнской поневы. Межана несла на руках грудное дитя – единственного пока долгожданного Любогостева внука и наследника.
Когда женился второй Любогостев сын, Бранеслав, на свадьбу съехались все большаки Люботешичей, и разговоры о ней шли целый год. Веленега, Доброчестова дочь, считалась отличной невестой, одной из лучших в волости, потому и досталась старшему роду. Красивая, рослая, с косой до пояса, она только тела по молодости лет еще не набрала, была худощава и длиннонога, будто жеребенок. Немало знатных женихов дожидалось, пока она наденет поневу, и ее выдали замуж в первую же осень после того – в тринадцать лет. В свадебных уборах стоя под вышитым рушником, жених и невеста были молодой четой всем на загляденье: те самые лебедь с лебедушкой из песен, молодец с девицей из сказаний.
- Золото с золотом свивалось,
- Жемчуг с жемчугом сокатался,
- Да жених с невестою сходились,
- Под белый рушник да становились!
- Да еще наше золото подороже,
- Да еще наш жемчуг-то получше,
- Да и Веленега Доброчестовна получше,
- Она личушком покрасивее,
- Да она беленьким побелее,
- Да у нее ясны очи пояснее… —
пели женщины, прославляя новобрачную. И всякому, кто ее видел, было ясно: это не одни слова, за такую деву и впрямь можно истомить семь коней, истереть семь полозьев и истоптать семь подошв.
В пору жатвы Веленеге, как и земле-матушке, пришла пора рожать. Только через сутки, когда по всему городцу уже раскрыли все двери и развязали все узлы, на свет появился младенец, но молодая женка даже не смогла приложить его к груди – в тот же день она умерла. Молодец, Бранеслав Любогостич, сам всего шестнадцати лет, и привыкнуть не успел, что женат, как оказался вдовцом. Младенца отдали стрыине, Межиславе. Женщина добрая, она охотно взялась растить мужнина братанича. Вот только молоко у нее с последних родов уже почти иссякло, и новорожденный вечно орал, требуя еды.
На огородах баба Уманя каждой работнице указала ее урок – от сих до сих, мелким девчонкам – одну гряду на двух-трех. Самых малых оставили на краю поля, под березами, восьмилетним сестрам велели смотреть. Прореживая репу, Межана слышала плач маленького, слышала, как ее старшая, семилетняя дочка качает дитя и с досадой уговаривает помолчать. Потом он и правда замолк. Межана увлеклась работой, отмечала только краем мысли, что дитя не плачет, заснуло, слава Мокоши… Но вот мимо нее пробежали две девчонки, гоняясь друг за другом и швыряясь пучками травы. Опомнившись – кто же с младенцем? – Межана обернулась.
И увидела такое, что не поверила глазам: под березой на траве сидела незнакомая женщина в одной сорочке и кормила грудью ребенка. Чуднее всего было то, что у женщины длинные, светлые и густые волосы были распущены, ничем не покрыты и спускались на траву.
Изумленная Межана застыла. Откуда здесь чужая женщина? Хотела закричать, моргнула… и оказалось, что женщины никакой нет, а младенец лежит у ствола березы на траве в своих пеленках и овчинке, чтоб не застудился.
Не сразу Межана решилась подойти. Делая шаг, снова вглядывалась и пыталась понять: была женщина или у нее, от работы согнувшись, в глазах потемнело и она приняла березовый ствол за чужую бабу? Но откуда здесь быть чужой бабе, да в сорочке, да с неприбранными волосами – будто из бани?
Младенец молчал, спал и сыто причмокивал. Не проснулся даже, когда Межана взяла его на руки. Веяло от него крепким травяным духом – видно, слишком долго на земле лежал. Или от другого чего…
– Вила это была! – решила баба Уманя. – Пожалела дитя, подкормила, как раз они об эту пору своих чад приносят. Ты смотри, не обидь ее. Возьми гребень какой получше и под березой оставь. А то разгневается – мор нашлет.
О случае этом было много разговоров, а к младенцу прилипло прозвище Вилич – вилин выкормыш. Болтали бабы разное: что-де это сама Веленега покойная приходила, дескать, думает, будто за дитятей худо смотрят – чем очень обидели Межану. Болтали, что вила потеряла свое дитя и хотела унести чужое, что оно теперь станет болеть и быстро умрет, а не умрет – так вырастет без ума.
Межана поднесла дары вилам – молоко, белое полотно на сорочку, резной гребень. Сходила на могилу ятрови с ребенком, показала его, рассказала, что все с ним хорошо. И дурные предсказания не оправдались: мальчик и не думал умирать, был здоров, хорошо рос. Ходить и говорить начал в срок, нрава оказался ровного, не крикливого. И всем улыбался, еще не умея слова молвить.
К тому времени как Вилич стал подростком, ничего колдовского в его облике и повадке не проявилось. Он не был ни молчаливым, ни странным, ни злобным, не избегал людей. Напротив, всем он нравился: хороший рост, крепкое сложение, приятные черты лица, легкая улыбка. Только глаза его под густыми темными бровями напоминали глубокую воду – вроде бы темно-серые, они чем дольше вглядываться, тем сильнее отливали синевой. И никто не спорил, когда дед Нежата, в ту пору бывший старшим волхвов в Перыни, решил забрать отроча к себе на выучку. Так Вилич в семилетнем возрасте впервые простился с родным домом…
– Она красивая была? – снова и снова спрашивали его Перезвановы отроки про вилу.
И в рассказе Велеба вила раз от раза делалась все красивее и красивее…
На деле он, конечно, про вилу ничего не помнил и помнить не мог. Но невольно воображал свою мать как та женщина – в белой сорочке и с распущенными волосами. Все детство и отрочество он ждал: может, она вернется… снова покажется…
И лишь уже почти взрослым, очутившись не по своей воле в Киеве, Велеб увидел нечто, так ясно вызвавшее в памяти образ неведомой вилы, что пробрала жуть…
* * *
Стоя у заборола, Велеб пристально вглядывался между верхушек частокола в туман. Белые, как молоко земли, облака заполняли ров, в утренних сумерках растекались по огородам и лугу. В них будто что-то шевелилось. Он знал, что вилы недоступны взорам смертных, пока сами не пожелают показаться, но не мог не смотреть – сама мысль, что где-то здесь родня его давней кормилицы, не давала отвести глаза. И доносился из мглы легкий зов – минуя слух, проникал прямо в душу.
Туман шевелился, будто кипел. Доносился странный шум, какой-то громкий шорох. Велеба вдруг пробрала дрожь: казалось, где-то в тумане отворилась дверь Нави и что-то движется оттуда сюда… уже слышен шум шагов по траве… Он потряс головой: сплю, что ли? Кому здесь ходить, когда свои все дома, а местные весняки никогда у твержи не показываются?
Вот настолько явственно мелькнуло движение, что пропустить это мимо глаз было уже невозможно. Велеб вгляделся, крепче взявшись за бревно частокола.
Покажись ему тонкие девы в сорочках, с живыми струями светлых волос – он был удивился меньше и легче бы поверил глазам. Но он увидел мужчин – десятки фигур, выныривая из тумана, быстро, целеустремленно шагали к городку. За маревом их было трудно разглядеть, они все казались одинаковыми, белыми, как мертвецы. Ими была полна вся луговина, они уже миновали гряды огорода; теперь ясно было, что этот странный шум – шорох шагов сотен ног по мокрой от росы траве…
Белые плечи, почему-то черные лица… от этого дикого зрелища хватала жуть. Только одно отличало их от мертвых, которых, говорят, можно увидеть на жальнике в Дедову Седмицу: по пять-шесть человек несли на плечах какие-то длинные толстые жерди.
Велеб из Люботеша не ходил с Хельги Красным ни в Вифинию, ни на Гурганское море. Однако несмотря на молодость, совсем зелен в военном деле он все же не был. И что вот эти белые фигуры в тумане, так проворно и слаженно шагающие к рву, собираются напасть, не усомнился ни на миг.
Стряхивая оторопь, Велеб протянул руку к рогу на столбе. Рванул его к себе: пока он хлопал глазами, эти бесы прошагали шагов двадцать! Это не сон и не морок, а он уши развесил, когда надо трубить живее!
Над спящим городцом разнесся хриплый рев тревожного рога. Еще не отняв его от губ, Велеб увидел, как чужаки, шагов за пятьдесят от стены, перешли на бег. Отпрянул от переднего края вежи, вглубь, к лестнице. Хотел закричать – мимо уха свистнула стрела, другая вонзилась в кровлю вежи там, где только что была его голова.
– Будите всех! – заорал он вниз, где трое других дозорных уже вскочили, тряся головами. – Каких-то бесов там у рва, до хрена их! Бегут сюда, сейчас на стену полезут!
Раздался удар по дереву – совсем близко. Велеб обернулся – лешак твою мать! Между вершинами частокола просунулась снизу толстая жердь, и тут же над ней показалась лезущая голова. Размай, отошедший было по стене, бегом воротился и вдарил по голове топором. Лезущий молча упал в сторону – в ров. Но после мгновенной заминки там же показалась уже другая голова, да еще и в шлеме. А дальше по стене появились еще две жерди. Стрела ударила в бревно снаружи, почти сразу – еще две или три. Над частоколом виднелись уже чьи-то плечи.
Протрубив еще раз, Велеб схватил копье, прислоненное к тому же бревну на веже, ударил в плечо лезущего беса, попытался столкнуть – но понял, что не выйдет. Размай уже дрался с кем-то возле самого частокола, быстро отступая дальше по стене. Но вдвоем они тут не отобьются. Остальные спят! Услышали? Проснулись?
Велеб метнулся вниз по лестнице, выскочил на площадку. Двери двух дружинных домов уже были распахнуты, кто-то стоял в проеме, разбуженный звуком рога, спросонья хмурясь и пытаясь разглядеть, что здесь происходит.
Со всех ног Велеб устремился к дальнему краю – где стояли избы Перезвана, Ислива и еще троих десятских.
А у него за спиной, едва ли не по пятам, чужаки, проворно и густо, как муравьи, лезли через частокол и спрыгивали с боевого хода на вал…
* * *
Бересту и Даляте Коловей поручил самое важное – взять ворота и открыть их изнутри, чтобы хоть вся трехсотенная дружина, если понадобится, могла беспрепятственно войти в твержу. Каждый из них возглавлял десяток, несший лестницу. Каждая была рассчитана на то, чтобы со дна рва достать до верхушек частокола. Высоту эту Берест и Далята издали прикинули на глаз и, на удачу свою, не ошиблись.
Заранее поделив стороны, они устремились разом – одну лестницу приставили слева от вежи над воротами, другую справа. На забороле кто-то метался – те дозорные, что трубили в рог. Раздобыл, лезший первым, получил по голове и свалился вниз, но, когда Далята, с вымазанным сажей лицом, с диким криком перемахнул через верхушки частокола и спрыгнул на забороло, здесь уже никого не было.
С внутренней стороны высота боевого хода была менее человеческого роста. Древляне прыгали оттуда на вал, скатывались на площадку и бросались к веже.
Нижний сруб вежи имел два выхода – одни ворота на внутреннюю сторону, другие на внешнюю, ко рву и мосту. Перед вежей древлян встретили дозорные. Киян здесь оказалось всего трое, зато одетых и полностью вооруженных. Сомкнув щиты, те трое встали спиной к воротам. Но им не продержаться долго против двух десятков, что Коловей выделил на захват ворот. Сам он во главе основного отряда ждал снаружи на мосту через ров. Шлемов и кольчуг не было почти ни у кого, зато щиты Коловей всех своих за зиму заставил сделать по образцу русских.
Пока Берест и Далят продвигались к воротам, все новые и новые древляне преодолевали с лестниц частокол и горохом сыпались с вала. Десятки Зазноя, Взгоды, Еленца, Страхоты и Гостибора, даже не глядя в сторону ворот, выстраивались и бежали от вала через площадку городца, к дружинным избам – навстречу встрепанным, кое-как одетым, чем попало вооруженным защитникам Перезванца. Их задача была отсечь русов от вежи и дать Даляте и Бересту без помех сделать свое главное дело. Разбить дозорных и открыть ворота.
* * *
Именно потому, что вожак нападавших каждому заранее назначил урок, никто не погнался за Велебом и тот невредимым добежал до дальнего края площадки.
– Вставайте! – Велеб колотил в двери обухом топора, перебегая от одной избы к другой. Рвал двери на себя, кричал внутрь: «Вставайте, на нас напали!» – и бежал дальше.
От последней избы Велеб обернулся. Боярин, Перезван, уже стоял перед своим крыльцом – босой, неподпоясанный, в сорочке и портах, зато в шлеме и с мечом в руке.
– Ворота! – кричал он. – К воротам, братие, тролль твою в Хель! Все ко мне! Все, кто здесь – ко мне, жма!
На голос его спешно собралось десятка три оружников. Во главе их Перезван бегом устремился к веже – он не хуже древлян понимал важность той отчаянной драки, что шла перед воротами.
Выбегая из своей избы, Перезван еще видел перед стеной Рогожу и двоих его товарищей. Но пока он собирал людей, те трое исчезли среди спин нападающих.
Перезван был на середине площадки, когда из вежи вдруг хлынула толпа – десятки белых свит, вымазанные сажей лица, черные, покрытые дегтем щиты, многоголосый рев. Коловей с основным отрядом уже был в городце.
– Хотимир! – кричали они. – Перун!
Из всех дверей им навстречу бежали Перезвановы отроки – едва одетые, с непокрытыми головами. Зато почти все успели схватить свой щит, топор, копье.
У Нелюбовой избы Велеб спохватился: он сам с одним топором, а его щит остался у костра. Не взял его с собой, когда поднимался на вежу, а теперь туда не пройти, там враги. На миг замешкался: как же быть? «Человек без щита – покойник через два удара сердца!» – наставлял его дядька Ислив, и за время учебных схваток Велеб не раз убедился, что оно так и есть.
Тут же Ислив попался ему на глаза – с мечом с одной руке и топором в другой, он врубался в строй белых свит и черных лиц, отчаянно крича и вовсе не думая о защите. Мелькнуло в памяти еще одно давнее наставление: если твой первый удар пройдет, ты возьмешь щит у убитого; если нет, он тебе не понадобится.
Две волны – от изб и от ворот – уже смешались. Самая драка шла у ворот и вдоль стены над рвом. В тихий обычно предрассветный час зазвучали дикие крики, лязг железа, трест ломаемых щитов.
– Ру-усь! – кричал Перезван, и ему вразнобой отвечали десятки задыхающихся голосов. – За славу Ольгову!
– Хотимир! – орали чужаки, и этих криков было гораздо больше.
Белые свиты, зачерненные лица и черные щиты были уже по всему городку, только в самой середине еще дрался Перезван и два десятка вокруг него. Люди опытные, они держали строй и не давали нападавшим, явно уступавшим им умением, себя смять. Но из ворот появлялись все новые десятки чужаков. Казалось, эти чернолицые чудовища валят прямо из Нави – а она бездонна, и нет числа нежити, какую Навь способна исторгнуть.
На площадке между избами и воротами уже было тесно. Мельком глянув на забороло, Велеб и там увидел черные щиты чужаков – те даже не все сошли вниз. Оттуда в Перезванову малую дружину летели стрелы – не слишком густо, чужаки опасались в тесной свалке попасть по своим. Везде эти черные лица, крики «Хотимир!». Что за Хотимир такой, чтоб его Марена в ступе прокатила!
Белых сорочек становилось все меньше – они таяли, будто снег, растворяясь в толпе чужих свит. Перезван еще сражался. Во время походов Хельги Красного он сам был двадцатилетним молодцем, а теперь находился в расцвете сил и обладал богатым боевым опытом. Безудержная, веселая отвага Хельги Красного озарила его юность, показала ему путь в другую жизнь, и вот уже шесть лет, прошедших после гибели вождя, он шел все по тому же пути, в отблесках того же угасающего света. Он знал: жизнь – ничто, доблесть, верность и слава – все. И теперь рубился в веселом раже, как это делал Хельги, жалея лишь о том, что вождь уже не может разделить с ним эту забаву. Но был уверен: отроки его не посрамят. Ни враг, ни друг не посмеет сказать, что Ольговы отроки робки сердцем.
Нижним зубцом топора кто-то из противников зацепил Перезванов щит и дернул. Никто из оружников вокруг не успел прикрыть воеводу, и сразу два вражеских копья с разных сторон вошли ему под ребра. Кровь хлынула изо рта красной рекой, заливая бороду и грудь. «Ольг, иду к тебе!» – хотел крикнуть Перезван, но крик прозвучал лишь в мыслях – наружу не прорвалось ни звука. Тело рухнуло под ноги бьющихся, и чьи-то пальцы с торопливой жадностью вырвали из ладони рукоять меча-парамирия – в ней еще держалось тепло жизни той руки, что выпустила оружие только после смерти.
Разорванный строй отступал все быстрее. По одному, по двое чужаки теснили Перезвановых отроков к избам, к стене, загоняли в углы. На каждом шагу оставленной земли белели сорочки мертвых – красные от своей и чужой крови.
* * *
Битва разворачивалась так быстро, что Велеб едва смог опомниться. Как пожар, говорят, растекается по лесу – не успеешь оглянуться и сообразить, а вокруг уже сплошная стена огня. Из открытой двери избы мимо него пробежал Нелюб, тиун. В гурганском походе раненный в ногу, он больше не сражался, а заведовал дружинным хозяйством. Однако оружие и снаряжение у него было в полной исправности, и имелись и шлем, и кольчуга.
– Давай, сынки! – кричал он. – Навались крепче! За Ольга Красного, за отца нашего!
Увлеченный его порывом, Велеб побежал следом. Но через шагов пять Нелюб вдруг споткнулся и завалился на спину. В изумлении Велеб увидел, что из груди тиуна торчит стрела, оперение еще дрожит. Но осознал он только одно: щит. Можно взять, здесь он больше не нужен.
Быстро нагнувшись, он выхватил щит из руки Нелюба, прикрылся – и тут же ощутил сильный удар: другая стрела вонзилась в прочную сосновую доску. Нелюбов щит, с двумя слоями просмоленной кожи, для Велеба был, пожалуй, тяжеловат, но сейчас и это счастье. «Устать не успеешь!» – смеялся когда-то Ислив. Это только в сказаниях витязи бьются три дня и три ночи без отдыху – в жизни схватка может продолжаться лишь несколько ударов сердца.
Велеб успел сделать еще шагов пять, как на него наскочил кто-то из тех, чернолицых. Видя замах топора, Велеб быстро присел, рубанул над землей, подсекая ногу, попал, вскочил… Со всех сторон были только белые свиты. Где свои? Никого? Чтобы не дать себя окружить, стал быстро пятиться. Чуть не споткнулся о лежащее тело Нелюба – успел о нем забыть.
Глянув вправо, увидел наконец кое-кого из своих – человек пять, отбиваясь, бежали к двери Днепровской вежи. Велеб рванул было за ними, но между ним и вежей метался десяток белых свит. Не прорваться через эту стену черных щитов, воняющих дегтем. Его уже почти прижали к частоколу – с этой стороны вала не было, тын стоял прямо на земле. Боевой ход имелся и здесь, но на уровне груди.
Закинув тяжелый щит за спину, Велеб живо подтянулся и вскочил на боевой ход. Справа от него туда же лезли еще человек пять своих – тех, кто тоже был оттеснен к самому заборолу, но не смог прорваться к Днепровской веже. Краем глаза Велеб видел, как рядом подтягивается кто-то – но тут же срывается вниз, получив копьем в спину. Ни на миг не задержавшись, он метнулся к частоколу, ухватился за верхушки, подтянулся. Каждый миг ожидая удара сзади – копьем, стрелой, – перевалил частокол и спрыгнул на ту сторону. Земля ударила по ногам – с внешней стороны высота была больше человеческого роста.
И вот тут Велеб замер. Мельтешение схватки осталось позади, он стоял, прижавшись к частоколу, на узкой полосе земли, а почти под ногами был обрыв. Внизу Днепр, а за широкой полосой воды – луг и дальний сосновый лес левого берега. От внезапно навалившегося простора закружилась голова. Он был букашкой перед этим простором воздуха, земли и воды – и букашкой очень хрупкой.
По правую руку с частокола прыгали еще люди. Раздался треск, матерный крик – кто-то зацепился одеждой и чудом не приземлился головой вниз.
Из-за частокола доносились голоса, яростный стук по дереву – чужаки ломились в дверь Днепровской вежи. Будь у ее защитников луки, они могли бы обстрелять нападавших с верхней площадки, но теперь им оставалось только ждать, пока те выломают дверь и по одному полезут в дверь на лестницу.
– Живее, гын тя возьми! – Кто-то вдруг дернул Велеба за плечо.
Велеб обернулся и увидел Тешеня – рослого курносого оружника из Ждамирова десятка. Без пояса, в порванной на широкой груди сорочке, тот тяжело дышал и безотчетно стирал с брови кровь, текущую из глубокой ссадины на лбу.
– Сейчас на вежу прорвутся, обстреляют нас оттуда, и прощевай!
И впрямь – деваться больше некуда.
– Ну, помоги нам чур! – буркнул Чарогость, а потом присел и поехал вниз с обрыва.
Велеб снял с плеча щит, столкнул его, и только когда тот заскакал по уступам, сообразил… обрыв высокий и очень крутой… Лезть снизу вверх – было нечего и думать, и к реке попадали по длинной пологой тропе, начинавшей гораздо севернее. В животе ухнуло холодом, но чувство близкой гибели ощутимо толкало в спину. Привычно вызвав в памяти образ своей вилы, без слов попросив ее о помощи, Велеб присел и поехал по склону.
Он то скользил, то катился, то пытался придержать падение, цепляясь за корни, но те отрывались, и он вновь летел вниз. То жмурился, то приоткрывал глаза, пытаясь понять, куда направляться, и опять жмурился: песок тучей сыпал в лицо. Потом Велеб уже и не пытался смотреть – только всем телом ощущал удар по каждой кочке, по каждому корню. Казалось, падению этому не будет конца и остановится оно где-то у Ящера в подземелье… и тут он покатился уже по ровному, вцепился в землю, остановился и замер, пытаясь прийти в себя.
Все тряслось и кружилось. Кашляя и грязной ладонью пытаясь стереть с лица песок, Велеб приподнялся, встал на четвереньки.
– Ты как, живой? – позвал взволнованный знакомый голос. – Велебка? Очнись скорее!
Кто-то ухватил его за плечо и попытался поднять. Велеб охнул от сильной боли в боку и наконец открыл глаза.
На него вытаращенными глазами смотрел Размай – весь грязный и всклокоченный, но целый. Когда Велеб протер лицо и проморгался, Размай уже бежал по отмели под обрывом, чтобы помочь кому-то еще. Стояня сидел на песке, морщась и держась за стопу, а Чарога и Размай наклонились над кем-то. Видя вытянутое на песке тело в белой изгвазданной сорочке, Велеб не сразу сообразил, что это Тешень, и он почему-то не встает.
Сильно болело в левом боку. Придерживая его рукой, Велеб подошел. Тешень лежал на животе, а шея его была так неестественно вывернута, что лицо смотрело почти вверх. Раскрытый рот был в песке, песок густо желтел в растрепанных волосах, глаза стали как стеклянные.
– Что… с ним? – сглатывая, выдохнул Велеб.
– Шею свернул. – Чарога выпрямился и стиснул зубы. – Пошли! Живее! Ты чего? – Он обернулся к Стояне.
– Нога… не могу!
Размай и Велеб подбежали и подняли Стояню; он оперся на их плечи, не в силах встать на правую ногу. Велеб стиснул зубы от боли в боку: в ребрах трещины, это точно. А то и перелом… Но Чарога уже толкал в воду большой челн, они вдвоем тащили следом Стояню. Порты на Чароге были разорваны от пояса до самого низа, обрывки нелепо болтались, будто понева на бабе.
Несколько стрел полетело через реку и упало ближе к тому берегу.
– С заборола стреляют, прицелиться не могут, – Чарога быстро оглянулся туда. – Живее, парни, как выйдут на вежу, нам карачун!
Загрузив Стояню, втроем они столкнули челнок, стали выгребать.
В воду у самой кормы упала стрела.
– Прикрывай! – Чарога от весла обернулся к Велебу.
Тот поднял щит – успел подобрать и повесить на спину. По ним стреляли с заборола, но оттуда целиться было неудобно.
Чарога и Размай, налегая на весла, повели челн вниз по течению – прочь от городца.
В корму вонзилась стрела. Велеб выглянул из-за щита – на площадке вежи теснились люди. Прорвались, гады ползучие!
Но беглецам те уже не грозили – еще миг, и Перезванец скрылся за изгибами берега.
Велеб опустил щит и вытер лоб. Огляделся. В борте возле него торчали даже две стрелы – те гады почти успели пристреляться.
Утренний туман рассеялся, взошло солнце. Сорочка вся мокрая – хоть выжимай. Велеб развязал пояс и потянул с плеч свиту. На рукаве у локтя обнаружилось кровавое пятно, однако сорочка была чистой – не своя кровь. Голова гудела, казалось, не на челне он едет по Днепру, а по небу на облаке. Все промчалось как сон. Только что он стоял на Воротной веже, смотрел в туман и думал о невидимых девах-вилах, а позади него спал городец, где жили пять с лишним десятков отроков. А теперь… Перезван в руках неведомых бесов, с ним Размай, Стояня и Чарога из Визгушиного десятка. Был Тешень, но остался на отмели, со свернутой шеей. И все.
– Так я не понял, – подал голос Размай, не переставая работать веслом. – Что за бесы это были?
– Они кричали «Хотимир!», – вспомнил Велеб. – Кто это? Где-то есть такой князь?
– Где-то? – Чарога сердито оглянулся на него от весла. – Да здесь! – Он кивнул на берег. – У дреговичей. Их старый князь, пращур их, был Хотимир. Это мы их дреговичами зовем, а они сами бают: хотимиричи мы, дескать. Не слыхал разве?
– И правда…
– Но чего им от нас-то надо? – Стояня, опомнившись, заволновался. Он и так страдал от боли в ноге – вывих, перелом, пока было некогда разбирать, – а от горя и волнения на глазах его блестели слезы. – Набросились… всех парней перебили! Боярина… всех! Вот же гады! Такие гады, я не знаю… как так, а, Чарога?
– Я тебе кто – Костяная Баба, что в лесу живет, а все знает? – рявкнул Чарога. – Свои головы унесли, и то пока благо! А что, почему – пусть князь разбирается!
– Князь? – Размай взглянул на него с недоумением. – Его же убили…
* * *
Когда впереди, совсем близко, засерели бревна частокола, Берест наконец опустил щит и обернулся. Тяжело дыша, оглядел площадку между избами и вежей. Площадка была густо устлана телами. Лежали друг на друге – белые сорочки, непокрытые головы, раскинутые руки. Киян в тверже и впрямь оказалось не более полусотни: наверняка Святослав киевский брал отсюда людей для войны в Деревах, но не восполнил ее потери. Мальчишка, чего с него взять!
Однако и сами древляне без потерь не обошлись. Числом они превосходили киян в несколько раз, но те значительно опережали их опытом в воинском деле. У древлян за спинами была одна военная зима – сражение на Размысловом поле и прорыв из Искоростеня. А у этих – та же зимняя война в земле Деревской, а до того – несколько дальних заморских походов. Далята в прежние годы слышал, как Перезвановы отроки хвастали своими подвигами у хазар, греков и сарацин. И хвастали недаром. Не все успели обуться и подпоясаться, но каждый вышел с оружием в руках. Даже с численным превосходством смять киян удавалось не сразу. И на беглый взгляд было ясно: своих убитых десятка два-три, раненых не меньше.
Однако это победа. Перезванца больше нет. Не в первый раз за последние полгода Берест видел сплошной покров из мертвых тел – будто колосья на току, – но впервые при этом зрелище его наполнило сладкое торжество. У них получилось. Наша взяла. Не всегда русам выходить победителями – как было в Малине, в Божищах, в Искоростене. Теперь они на себе узнают, как это – когда от целой дружины в десятки человек не остается никого.
Из ближайшей избы доносились женские крики, детский плач. Женщин и детей в Перезванце оказалось совсем мало – только домочадцы боярина и кое-кого из его старших. Никаких иных жителей здесь не было, и невинным не пришлось страдать.
– Я сказал, всех! – слышался рядом хриплый, раздосадованный голос Коловея. – Договорились же!
Берест обернулся: Коловей стоял перед самой большой избой – надо думать, боярской, – опираясь на копье, а перед ним Лихарь что-то доказывал, кивая в открытую дверь.
– Хватит болтать! – оборвал его Коловей. Крупные черты его лица, обычно открытые и выражавшие дружелюбие, сейчас придавали ему особенно мрачный вид. Темно-русые кудри потемнели от пота и прилипли к широкому лбу. – Нет, не возьмем в полон. Ни одна душа живая не должна знать, кто здесь был. Нет, не уведем. Я сказал, всех кончать! – вдруг рявкнул он, выпучив глаза, и Лихарь в испуге даже отскочил. – В Волыни обговорили все, что ты мне здесь мозги молотишь! Жалко тебе их? А они твою Видунь пожалели? Ступай!
Лихарь ушел. Крики в избе взвились громче и отчаяннее, перешли в визг, но скоро стихли.
Коловей вытер лоб, обернулся и увидел Береста.
– Ну, вроде все. Пошли смотреть, что тут есть.
Нужно было торопиться. Коловей быстро раздал задания: одни перевязывают своих раненых и выносят убитых, другие собирают добычу. В укладках изб, в дружинных домах обнаружилось немало всякого добра. У всех здешних русов было хорошее оружие, нашлось даже с полтора десятка мечей – хазарских, однолезвийных, греческих – без перекрестья, пять или шесть рейнских «корлягов». Десятки шлемов – хазарских, пластинчатых доспехов – греческих. Десятки кафтанов – целиком из шелка или льняных, но с отделкой узорным шелком на всю грудь. Платье было не новое, потертое, засаленное, сильно поношенное, но это были шелка, какие Берест в прежней жизни видел только на Гвездоборе и прочих больших деревских боярах.
Лют Свенельдич, раздуй его горой, наверняка знает, как это все называется, мельком подумал Берест. Еще раз пожалел, что Люта не могло здесь быть. Он сейчас наверняка в Киеве сидит, при своем князе. Но очень может быть, ему доведется увидеть то, что здесь теперь. Может, у него здесь приятели были или даже родня. Пусть-ка поищет их среди этого трупья… как он, Берест, искал князя Володислава под стенами Искоростеня, среди уже замерзших, закоченевших тел его последних защитников.
Как искал он своих родичей – деда Миряту, стрыя Родиму – среди полсотни мертвецов близ Ингоревой могилы, прошлой осенью. Он, Берест, Коняев сын, чуть ли не единственный уцелел, остался жив и на воле, из двух с лишним сотен обитателей Малина. Теперь он наконец-то начал понемногу возвращать русам свой долг.
С делом покончили быстро. Взяли, что можно было взять, крупный скот оставили на месте, птицу и овец поволокли на берег.
Едва миновал полдень, как древляне покинули Перезванец. Позади них остались груды мертвых тел, разломанные укладки, распахнутые двери. Залитая кровью земля. Вонь и жужжание мух. Одно из тех разорищ, каких немало появилось в последние полгода на земле Деревской.
– Ну что, отроки, боги с нами! – Коловей, стараясь прогнать с лица мрачность и принять бодрый вид, прошел к нагруженным лодьям, хлопая отроков по плечам и спинам. – Удалось наше дело. Хоть самую малость, а отомстили мы за своих.
– И это только начало! – напомнил Берест.
Победа не вызвала в нем ликования: это была лишь малость, лишь первый шаг на долгом пути. Пути, который он был намерен пройти до конца, сколько бы лет на это ни понадобилось.
* * *
В конце речной дороги, уже в виду киевской горы, условились, что говорить перед князьями будет Велеб. Он удивился такой чести: и годами моложе всех, и в Перезвановой дружине всего два года. Не то что остальные, жившие в городце со дня основания. Чарога, годами старше всех, был еще в Самкрае с Хельги Красным и в их малой дружине всеми признавался за главного.
Чарога и решил перепоручить эту честь Велебу.
– У тебя язык подвешен лучше, и ты сам – княжого рода. Тебя там, в Киеве, все князья-бояре знают, тебе и веры будет больше.
Как не был Велеб захвачен мыслями о том ужасе, что остался позади, но, когда впереди над ровной гладью широкой реки открылись зеленые киевские горы, сердце забилось от волнения. Он возвращался туда, где целый год был его дом – хоть и жить там ему пришлось поневоле…
Прежняя жизнь Вилича закончилась в такой же страшный зимний день на льду реки Ловати, три года назад. Истомленный до крайности и напуганный, шестнадцатилетний отрок стоял на коленях, пытаясь отрезать полосу от подола своей сорочки, чтобы перевязать рану отца. Замерзшие руки дрожали. Бранеслав, раненный в бедро, лежал прямо на истоптанном ногами и копытами, испятнанном кровью жестком снегу; невольно кривясь от боли, пытался зажать рану ладонью. Кровь сочилась сквозь пальцы, сохла на них. Поблизости лежали два мертвых тела – один свой, люботешский отрок, а другой незнакомый – кто-то из Словенска. Прямо здесь на них налетели русы, опрокинули, погнали дружину назад по реке. Вилич вертел головой, надеясь, что кто-то из своих опомнится и вернется – но лес на берегу реки молчал. Следы на взрытом снегу уводили и в заросли, и назад, на полудень – все разбежались, ища спасения кто где смог. Дружина Ингоря ладожского выскочила им навстречу, когда ильмерские дружины отступали назад к озеру, домой. Прямо на реке разыгралось скоротечное сражение, скорее просто разгром. Ильмерские дружины уже были потрепаны и расстроены битвой близ Свинческа с Ингорем киевским, а сильнее всех не повезло Люботешу. Князь его, Селимир, был убит на глазах у всех своих.
Та зима выдалась тревожной. Ко всем малым князьям и великим боярам Приильмерья приехали послы от смолянского князя Свирьки. «Идите со мной на Ингоря киевского, – передал он им, – его одолеем, и вы дани Остров-граду платить более не будете».
Призыв его не остался без ответа. Ильмерские поозёры уже три-четыре поколения состояли в данниках варяжских князей из Остров-града и, ясное дело, жаждали сбросить позорное ярмо. Но островградские князья были очень богаты и могущественны, содержали многочисленную и хорошо вооруженную дружину, владения их ширились с каждым поколением. Почти за десять лет до того Ингорь, наследник Ульва остроградского, сделался киевским князем и тем вовсе похоронил надежды поозёр избавиться от зависимости. Но Сверкер смолянский – сильный союзник. Дай ему Перун удачи в войне с Ингорем, это принесло бы свободу и жителям Приильмерья.
Селимир люботешский первым призвал свой род собрать войско. Хельги Красный, под чьим стягом Селимир три года ходил в походы, в то время соперничал с Ингорем в борьбе за киевский стол. И хотя Хельги давно не было в живых, память его толкнула Селимира на новую борьбу с прежним недругом.
«Селяня по битвам соскучился, неймется ему опять, – ворчал тайком Бранеслав. – А мы с ним заодно погибай».
Однако военная удача Селимира, как видно, закончилась вместе с жизнью Хельги Красного. Вилич сам видел, как погиб его отважный и прославленный стрый. Во время битвы с киевской дружиной предательская засада обнаружилась в лесу, где должны были стоять союзники – смолянская рать. Селимир первым помчался туда, намереваясь отбросить врага; но на полпути стрела из зарослей попала прямо ему в грудь. Раскинув руки, словно желая взлететь, князь люботешский проскакал еще несколько шагов, а потом рухнул на шею коня и покатился с седла в истоптанный снег.
Бранеслав, оказавшись вдруг старшим в войске, повел остатки его назад. Но по пути наткнулись на Ингоря ладожского – племянник Ингоря киевского спешил на помощь родичу.
Поняв, что помощь не придет, Вилич взял себя в руки. За семь лет в Перыни его выучили врачеванию, в том числе исцелению ран. Нужно поскорее остановить кровь, потом пойти найти кого-нибудь из своих, лучше всего – с лошадью, и довезти отца хоть до какого-нибудь жилья. Кто бы ни был – не откажутся люди принять раненого!
Позади раздался шум движения, и Вилич вскинул голову. По реке с полуденной стороны приближался всадник в полном доспехе, за ним еще двое, а далее – десятка два пеших. Но это были не свои. Это были русы.
– Лешак твою мать… – пробормотал рядом отец и тяжело перевел дух.
Он с самого начала не одобрял этой войны, но был вынужден подчиниться старшему брату. И вот смерть, забравшая Селимира, пришла и за ними двоими. А он, нынешний глава старинного рода Люботешичей, не может даже встать на ноги, чтобы достойно ее встретить.
Вилич поднялся и подобрал со снега свой топор. В суматохе двух отступлений он все же не потерял оружие, даже вытащил чей-то щит взамен своего разбитого. У чужого щита болталась верхняя плашка, но он был еще пригоден. С топором и щитом Вилич встал, загораживая отца. Ни о чем не думал. Коли настал его последний час… малодушием он свой род не опозорит. Стрый Селимир увлеченно учил его боевым приемам, перемежая их рассказами о походах молодости, но это был первый настоящий поход шестнадцатилетнего отрока. Пусть он слабый соперник этим русам – но он умрет в бою, как Селимир.
Первый всадник остановился шагах в пяти, движением руки придержал своих людей. Внимательно оглядел сквозь полумаску шлема стоявшего перед ним рослого, крепкого отрока лет шестнадцати. Всадник и сам был всего лет на пять старше; очень высокий, в полном снаряжении, он казался слишком большим и тяжелым для гнедого черногривого коня. В руке у человека был боевой топор, на боку висел в ножнах меч с золоченой рукоятью.
– Ты кто такой? – по-славянски спросил всадник.
Теперь Вилич узнал его: это сам Ингорь ладожский. Неужели все отступившие совсем разбиты, не осталось никого?
– Чей? – Ингорь с коня глянул на лежащего за спиной отрока. – Как звать?
Вилич сглотнул пересохшим горлом. Они остались вдвоем перед целым вражеским отрядом. Отец пытался сесть, чтобы не говорить с русином лежа, но от потери крови у него не осталось сил.
– Велебран я, – ответил Вилич, чувствуя, что не время сейчас называть свое детское прозвище. Сама судьба пришла за ним, и ей нужно назвать настоящее родовое имя. – Бранеславов сын, Любогостев внук.
– Люботеш?
– Это вроде Селимиров братанич! – сказал другой всадник рядом с Ингорем, кивая на Вилича.
– А это… – Ингорь плетью показал на лежащего.
– Отец мой.
Отрок по-прежнему стоял, держа оружие наготове, по первому знаку собираясь броситься в бой. Лицо усталое, но видно, как растерянность борется с решимостью – умереть, но не сойти с места.
– Перевяжите его, – Ингорь кивнул своим людям и обратился к отроку: – Поедете с нами. Да бережнее, – добавил он, когда его люди двинулись к Бранеславу. – Это, я так понимаю, новый люботешский князь, и будет гораздо лучше, если мы довезем его до дома живым. А ты, отроче, положи оружие. Я, Ингорь сын Акуна, воевода ладожский, обещаю вам жизнь и уважительное обращение. Мы все хотим мира в наших краях, и мне ни к чему излишне восстанавливать словен против нас. Самые удалые уже сложили головы, а мы, люди разумные, скоро договоримся, как прекратить пролитие крови. Я на вас очень рассчитываю.
Отвезли их сначала в Остров-град. Туда же собрали прочих пленников, взятых в двух сражениях. Простых людей вскоре отпустили за малый выкуп, знатных оставили до конца зимы, пока не обговорили все условия нового мира. Сверкер смолянский был убит, как им рассказали, на поединке самим Ингорем киевским, в Свинческе сел другой князь, из местных смолян. В Поозёрье никто больше не помышлял о войне, и менее всего в Люботеше.
К весне наконец заключили мир: малые князья и великие бояре Поозёрья заново принесли клятвы покорности, а в подкрепление ее у всех забрали старших детей в тальбу и отослали в Киев.
Велебран в ту зиму больше не увидел родного дома: его увезли на юг прямо из Остров-града. Талей, с два десятка отроков и девиц, посадили на лодьи, на которых везли в Киев собранную с северных Ингоревых владений дань, по большей части шкурки бобров и куниц. Путь по воде – вверх по Ловати, потом через волоки до Днепра, потом вниз по Днепру – продолжался целый месяц. Все это время Велебу мерещилось, что он путешествует через тот свет – все дальше уходил родной дом, земля, с которой он был связан каждым своим вздохом, та береза, под которой его однажды покормила вила. Казалось, в отдалении от всего этого так же невозможно дышать, как под водой, и он невольно удивлялся, что еще жив. Так дивно было видеть вокруг незнакомые места, леса, реки, селения… Каждый день встречать совсем новых людей – которых не видел никогда раньше и не увидишь впредь. Будто это и не люди, а листья, несомые ветром мимо тебя.
Киев поразил его – высотой своих гор, обилием разбросанных по склонам и внизу дворов. Давно уже поселение перестало помещаться в укрепления на вершинах, выползло оттуда, как тесто из дежи, белой волной растеклось по склонам и берегу. Казалось, в этой теплой, светлой земле никто ничего не боится – взгляд свободно улетал в зелено-голубую даль над Днепром, грудь вдыхала весь простор до небокрая, мысль сама собой устремлялась туда же. Здесь была вершина земли, середина людского мира. Понятно, почему русы тянутся сюда из своего прежнего гнезда – Остров-града, что на Волхове не первый век уже олицетворял высшую власть. Почему рожденный в Остров-граде Ингорь отправился сюда и здесь нашел свой истинный стол.
И тут был еще вовсе не край света. Шкурки, привезенные из северных земель, сотни долбленок, присоединенных к обозу в Свинческе, вскоре отправятся с Ингоревыми людьми дальше – вниз по Днепру, за Греческое море.
А талей гриди повели от пристани у Почайны вверх, на Гору, как здесь называли княжий двор. Ввели в просторную палату. Такие же резные столбы, щиты и оружие на стенах Велеб видел и в Остров-граде, но здешняя гридница была еще больше. В дальнем конце стояло возвышение, а на нем сидели двое: мужчина и женщина. В мужчине Велеб признал самого Ингоря киевского – видел его издали, в день зимней битвы, когда погиб Селимир. Ничем на первый взгляд не примечательный мужчина: среднего роста, лицом не сказать чтобы красив. Но твердый взгляд серо-голубых глаз сразу говорил: этот человек привык добиваться своего. В нем чувствовалась такая сила духа, и при ней непримечательная внешность теряла значение.
Зато женщина слева от Ингоря была так хороша, что перехватывало дыхание. Едва взглянув ей в лицо, Велеб замер, пораженный. Эти глаза – дивного зеленовато-серого цвета, с голубым отливом… В них соединились красота неба и мощь земли, зелень трав, прохлада воды, блеск солнечного луча на речной волне… Накатило то же ощущение трепетного восторга и проникающей жути – сколько раз бывший Вилич испытывал нечто подобное, сидя под той самой березой.
Она? Неужели здесь… не может быть…
– А этот из Люботеша, Бранеслава сын, – сказал Тормод Гнездо – доверенный человек Ингоря ладожского, который привез юных заложников.
– Стало быть, Селимира братанич? – слегка улыбнулся киевский князь. – Непохож на Селяню!
На рослого, громогласного, рано располневшего Селимира ни Велеб, ни отец его не походили.
– Как твое имя? – приветливо спросила княгиня.
Велеб опомнился. Это не вила. Его вила никак не могла очутиться так далеко от той березы, от родной рощи, в чужой земле, да еще на княжьем престоле.
– Велебран… – ответил он, чувствуя волнение под ее дружелюбным взглядом.
– Хочешь служить мне? – открытое лицо отрока, смышленого по виду, понравилось княгине. – Будешь честен, и мы тебя не обидим. Я твоего стрыя, Селимира, хорошо помню, он брата моего Хельги был вернейший соратник.
– Благодари, дурень, – Тормод легонько толкнул его в спину. – Сама княгиня тебя в дом берет.
Велеб поклонился. О Селимире княгиня говорила с добротой, будто его память была дорога и ей, хоть погиб он в сражении с ее мужем.
В этой женщине жило нечто особенное. И это зыбкое чудо ее вилиных глаз нежданно дало юному заложнику опору в чужой земле, где ему предстояло жить ради мира в далеком родном доме…
И вот Велеб снова входит в ту самую гридницу – три года спустя и, кажется, уже совсем другим человеком. За эти три года он еще вырос, раздался в плечах, многое узнал и многому научился. Но, увидев на престоле княгиню, не смог подавить волнения. Теперь на ней не цветное платье, а белое – она «в печали» по мужу, убитому прошлой зимой. Рядом с ней сидит уже другой князь – не Ингорь, а сын, Святослав. Но те же остались глаза, будто зеленоватая вилина заводь. И при виде этих глаз накатило чувство привычного дома – ведь целый год княгиня Эльга отчасти заменяла Велебу мать, а он никак не мог перестать видеть в ней ту добрую вилу, что пожалела плачущее дитя.
И вот теперь ему пришлось вернуться к госпоже вестником беды…
* * *
– Это ты? – Эльга сразу узнала Велеба и улыбнулась. – Бранеславич? Снова здесь?
И даже засмеялась от удивления.
– Разонравилось у Перезвана? – усмехнулся воевода, Мистина Свенельдич, показывая, что тоже признал люботешского отрока, что целый год на пирах разносил в этой самой гриднице блюда и чаши.
Велеб знал его, как знал всех лучших мужей, окружавших княгиню. Новым лицом для него был только юный князь Святослав: когда Велеба привезли с берегов Ильмерь-озера в Киев, Святослав как раз отбыл туда же, на Ильмерь, строить княжеский городец напротив старого Остров-града. Увидел его Велеб лишь зимой, когда во время Деревской войны Перезванова дружина влилась в войско юного князя, наступавшего на Искоростень с востока, от Днепра. Под стягом Святослава Велеб побывал в сражении на Размысловом поле, а потом бился при прорыве Володислава из Искоростеня. Даже ранен был. На левой щеке, в самом низу, у него и сейчас был виден длинный красный шрам – в свалке у рва Искоростеня кто-то копьем чиркнул, что ли, Велеб этого не заметил и удивился, обнаружив, что с края челюсти на снег и на одежду капает свежая кровь. Но самого князя он видел лишь издалека и ни разу не говорил ни с ним, ни с его кормильцем, воеводой Асмундом. Поэтому сейчас он невольно обращался больше к княгине и к Мистине Свенельдичу.
– Будь жива, княгиня! – вспомнив, что соратники поручили ему держать речь, а не хлопать глазами, Велеб низко поклонился. – И ты, княже, и вы, мужи передние! – происходя из хорошего рода, он был научен вежеству и умел приветствовать знатных людей. – Не прогневайтесь, что не званы перед очи ваши ясные мы явились, да еще и с вестью нерадостной. Нечаянно-негаданно налетела туча черная, принесла беду-невзгодушку. Разорили наш Перезванец неведомые люди… Отроков убили… и боярина нашего с ними вместе.
– Разорили мой городец? – Святослав аж привстал на своей половине престола от изумления. – Кто? Дреговичи? Благожит?
– Неведомые люди, – повторил Велеб. – Но кричали они «Хотимир!».
– По порядку рассказывай, – велел Мистина. – Сначала.
Серые глаза его из веселых стали очень сосредоточенными, и этот взгляд, как блеск клинка, вернул мысли Велеба к оставленному за спиной. Он принялся рассказывать с самого начала: как стоял утром на веже и первым увидел неведомых врагов. Он говорил среди тишины, хотя чувствовал, как за спиной его гриди теснятся все ближе, чтобы ничего не пропустить. В глазах слушателей – Ольги, Святослава, Мистины и других бояр возле них – он видел изумление и недоверие.
Велеб и сам с трудом себе верил. В дороге четверо уцелевших Перезвановых отроков провели два дня и одну ночь. Проснувшись утром, Велеб первым делом подумал: ну и жуть приснилась! И лишь потом, шевельнувшись и ощутив боль в ребрах, осознал: все это ужасная правда. И не живой Перезванец, который они так хорошо помнили, остался позади, а жуткое избоище. Прочие их друзья и приятели, десятские, сам боярин, – все мертвы.
– Они что – и пленных не брали? – первым задал вопрос Мистина, когда Велеб умолк.
– Я не видел, – Велеб вопросительно оглянулся к троим своим товарищам, но те покачали головами.
– Не слыхал я, чтобы кому сдаваться предлагали, – подтвердил Чарога.
– Я видел, как раненых добивали, – тихо добавил Размай. – С заборола видел.
– Вы хоть кого-нибудь узнали? – спросила княгиня. – Из тех людей?
Все четверо замотали головами.
– Мы из местных весняков только Поведа знаем, старейшину из Размиличей, его точно не было, – ответил Велеб. – К нему боярин ездил порой.
– А он к вам? – быстро спросил Мистина.
– Ни разу не был.
Княгиня и ее бояре переглянулись.
– Как они посмели? – с возмущением и гневом воскликнул Святослав. – Разорили мою твержу, убили моего боярина! Они думают, что если киевский князь еще молод, им все позволено? А я все стерплю, как дитя?
Гриди загомонили.
– Вы ссорились с дреговичами? – Мистина пристально взглянул на Велеба. – С окрестными весняками?
– Нет. Мы с ними и не видимся. До ближних весей поприща с три, мы туда не ходим.
– Сейчас весна, – с намеком напомнил Мистина. – Гулянья, пляски на лужку. Может, кто-то из ваших… не вы четверо, а кто-то из тех, кого уже нет, позарился на местных девок?
Бояре с ожиданием смотрели на Велеба: для столь жестокого и наглого нападения должна быть причина.
– Нет, – Велеб опять помотал головой. – Мы к ним не ходили на игрища никогда. Никто из наших не ходил.
– А скотина? – спросил Острогляд. – Может, ваша корова к ним забрела или их – к вам?
– У нас выпасы свои.
– Не было у нас никаких раздоров с ними, княже, – поддержал Велеба Чарога. – Хоть клинок поцелуем.
– Может, не теперь, а раньше? Зимой?
Все опять помотали головами. Весь путь до Киева четверо выживших без конца обсуждали это дело между собой, пытались выяснить причину такой беды. И сошлись, что если причина и была, то в дружине о ней не знали.
– Если б был у нас с весняками какой раздор, нас бы так врасплох не застали, – добавил Велеб.
Это поражало его больше всего: полная внезапность нападения. В обычное утро поздней весны, одно из череды точно таких же.
– Это верно, – кивнул Острогляд. – Перезван хоть был и не мудрец великий, но и не растяпа. Было б от чего беречься – он бы берегся. Сколько походов прошел – научился.
– Покормите их, – княгиня взглянула на своего тиуна и ключницу, стоявших у стены поодаль в ожидании приказаний. – Ступайте, отроки. Отдохните.
– Вы подумайте еще! – крикнул им вслед Асмунд. – Может, вспомните чего.
Насчет покормить было очень вовремя: за всю дорогу Перезвановы отроки поели толком всего один раз. Приметили на берегу костер каких-то рыбаков и напросились на уху. Причем рыбаки, увидев четверых незнакомых мужчин, вооруженных, грязных и с очень мрачными лицами, едва не убежали, бросив костер, котел, улов и челн. А утром и вечером путники питались испеченными в золе корневищами рогоза: Велеба дед еще дома научил их есть, иначе пришлось бы красть какую-то скотину с прибрежных луговин. А от рогоза у бедняги Стояни, в придачу к вывиху ноги, еще расстроился живот.
Совершить кражу, кстати, все же пришлось. Какие-то бабы вымыли платье и развесили на ветках ив у берега, а сами ушли; причалив, беглецы утащили порты для Чароги. Не мог же он явиться к князю в разодранных сверху донизу, будто баба в поневе! «Повезло мне, что старые порты натянул, ветхие, – ворчал Чарога. – Не разорвись они, меня бы там и прибили, как щуку острогой!»
Выходя из гридницы, четверо отроков слышали позади волну возмущенных голосов. Велеб невольно поежился. Направляясь сюда, на гору, от причала близ Почайны, он торопился принести свою весть, и казалось, что как только князь, княгиня и бояре обо всем узнают, это как-то исправит дело. Теперь же, поглядев в лица тех, кто правил Русью, уловив смесь их чувств – недоумение, возмущение, гнев, – он понял: дальше будет только хуже…
* * *
После ухода вестников в гриднице еще долго стоял шум.
– А мы не то ли говорили? – встал с места Честонег, едва те четверо вышли. – Прознали по всем землям, что мы без князя…
– Я не позволю смотреть на меня как на дитя! – возмущенно воскликнул Святослав, перебивая его. – Я уже древлянам показал: я русский князь, хоть и молод, и всякий, кто пойдет против меня, сильно об этом пожалеет!
– Древляне Ингоря не убоялись, а нынче, когда у нас на столе жена и отрок, и дреговичи за ними потянулись! Ждите, всякий пес теперь на нас зубы оскалит!
– Это не наши земли! – напомнил Асмунд. – Благожит нам дани не дает.
– Теперь будет давать! – крикнул Святослав. – Теперь он на коленях приползет, пес лживый, в зубах принесет все, что у него только есть, даже детей своих! Он мне заплатит за такую подлость! За убийство моих людей!
– Мы еще толком не знаем, что произошло! – Мистина возвысил голос, чтобы перекричать возмущенный гул. – Может, не все убиты, кто-то в плену. Может, Благожит сам пришлет к нам.
– Да это что же сотворить надо, чтобы пятьдесят человек без разговоров в отместку вырезали? – восклицал Себенег.
– Всех местных баб перевалять, – шепнул его сын Ильмет.
– И скотину в придачу! – хмыкнул Лют.
– Да Перезван небось дров наломал, а признать не хотел! – ворчал Честонег.
– Пусть только Благожит здесь покажется! – негодовал Святослав. – Я прикажу его послов зарубить! Не будет никаких переговоров, пока он нам не отдаст своих пятьдесят человек за моих!
– Но это может быть вовсе не Благожит! – напомнила Эльга, чувствуя, что своей местью за мужа – в те дни необходимой, – преподала сыну не очень-то добрый урок. – А окрестные весняки. Парни не говорят, но у них ведь могла выйти какая-то ссора!
Эльга с трудом держала себя в руках. Ее трясло от негодования, гнева и боли. Среди бояр, да и простых киян не первый месяц ходили разговоры, что-де без мужа на киевском столе развалится вся держава. Она стремилась показать, что справится сама – она и Святослав. Так неужели недоброжелатели ее были правы, а она – ошибалась? Неужели многовато взяла на себя, высоковато взмостилась? И даже миролюбивые дреговичи сочли, что в Киеве некому держать меч?
Мечей-то у нее в достатке. Но держава стоит на удаче своего господина…
– Они кричали «Хотимир!», – напомнил Асмунд. – А Хотимир был Благожитов пращур.
– Он вовсе не хотел воевать! Вы же сами с ним виделись зимой близ Припяти: когда вы шли к Искоростеню, Благожит сам приехал и уверял в дружбе, лишь бы не трогали его земель!
– Он мог испугаться, видя, что сталось с Деревами. И подумал, что назавтра придет его черед.
– Непременно придет! – поддержал кормильца Святослав.
– Испугался и полез в драку? – не поверила Эльга.
– Как раз так и есть. Кто боится, от того жди беды.
– Мы им этого не спустим! Сейчас же пойдем туда и покажем им, как разорять мои городцы и убивать моих людей, да? – Святослав с вызовом взглянул на мать, потом на Асмунда. – Я требую! Боги требуют воздавать…
– Святша, погоди! – Эльга положила руку ему на плечо. – Сперва нужно выяснить, что произошло и почему. Мы не должны очертя голову ввязываться в драку еще и с Благожитом, когда едва усмирили древлян!
– Если он напал на моих людей, я должен ответить! Может, ты, женщина, не понимаешь…
– Я понимаю! – Эльга вдруг встала во весь рост перед престолом: Святослав невольно тоже встал, но так ему пришлось смотреть на нее немного снизу вверх – он быстро догонял мать ростом, но еще не обогнал. – Я понимаю, что такое месть! – с нажимом напомнила Эльга, и все разом вспомнили, как она отомстила за смерть мужа – очень быстро и очень жестоко. – Никому, пусть он хоть трижды мужчина, не придется меня учить! Но ты забыл: только трус мстит сразу, будто боится, что решимость его остынет и робость вытеснит сознание долга. А твой долг – беречь и укреплять землю Русскую. Простой муж заботится о своей чести – у него ничего дороже нет. Дед твой мог заботиться только о славе рода. Но ты – владыка огромной державы меж двух морей. Судьба вручила тебе столько земель, сколько было лишь у кагана аварского. Ты не можешь, не имеешь права очертя голову лезть во всякую драку, пусть даже задета твоя честь. Перед благом нашей державы и этот городец, и твоя обида – мелочь, прах! И никто не возьмется за оружие, пока мы с дружиной не обдумаем как следует все это дело и не поймем, в чем истинное благо нашей державы.
Все молчали, будто расшалившиеся дети, которых пристыдила строгая хозяйка. Каждый из мужчин, от старого Кари Щепки до юного Святослава, с детства знал, что такое честь и какими средствами ее защищают. Но Эльга требовала чего-то иного – чтобы князь отделял честь державы от своей мужской чести и ставил благо державы на первое место. Это шло вразрез с привычными представлениями дружины, которые вполне успел усвоить Святослав. Эльга была душой этой державы и требовала заботы о ней.
– Мы обдумаем это дело, – уверенно произнес Мистина среди общей тишины. – Благо земли Русской требует защитить ее честь, и мы сделаем это. Но хорошая месть должна быть подготовлена как следует. Княже, как быстро ты сможешь поднять твою гридьбу?
– Я сейчас пойду и займусь этим, – Святослав шагнул с возвышения и взглянул на Асмунда. – Моя решимость не остынет… ни за сколько дней, – он бросил отчасти вызывающий взгляд на мать. – Я знаю мой долг как мужчины… и я не отступлю от него, скорее умру!
* * *
Эльга ушла к себе в избу, бояре разошлись, на ходу обсуждая новости. Мистина помедлил в гриднице, прикидывая, не позвать ли снова Перезвановых отроков или все же дать им как следует отдохнуть и собраться с мыслями. Ему еще о многом хотелось с ними побеседовать. Но тут вошла Черень, служанка Эльги, и молча ему поклонилась. Сердце стукнуло: при виде этого знака, столь желанного и так хорошо ему знакомого в былые годы, волнение едва не вытеснило тревожные мысли.
Когда он вошел, Эльга сидела, уронив руки, и даже не подняла глаза. Мистина неспешно приблизился. Остановился, но она продолжала сидеть опустив голову. Сейчас ей, разбитой пришедшим известием, отчаянно требовалась опора, и никто иной не мог ей дать ее, но даже с Мистиной она не сразу решилась заговорить. Лишь почувствовав, что он готов сделать последние два шага и обнять ее, она подняла взгляд. И при виде смятения на ее лице Мистина замер, будто натолкнулся на черту зачарованного круга.
– Это что же… – тихо начала она – совсем не таким голосом, каким только что в гриднице усмирила возмущение сына, – снова меня мое проклятие достало? Я уж думала – все, заплатила я свою дань… Ингвар… Уты я чуть не лишилась, детей ваших… Предслава едва не погибла… и ты! Только я думала, все наладилось, будет у нас мир и согласие! Так нет же, опять нам на кривое веретено напряли! Что же это такое? Какие жертвы приносить, какому богу?
Редко когда Мистина не знал, что сказать. Но сейчас понимал, каким ударом разорение Перезванца стало для Эльги, и не мог подобрать слов для утешения.
И это было не просто горе. Не просто обида, требующая отмщения. Это снова была опасность для державы – признак слабости владык, грозящий всеобщим раздором и развалом.
– Неужели Благожит и впрямь решил, что мы со Святшей не удержимся на столе и ему можно попытаться откусить себе кусок? Что мы не постоим за свои земли?
– Если и решил, то сильно ошибся, и скоро он узнает об этом, – заверил Мистина. – Мы быстро с его удалью покончим.
– А с ненавистью и страхом? Вы мне говорили – напуганные люди опасны. Но мы не причиняли дреговичам никакого вреда! Зачем они это сделали – ты мне можешь объяснить? – Эльга взглянула на него почти с мольбой.
– Пока нет, – был вынужден признать Мистина. – Я не вещун.
– Ладно бы древляне, ладно бы уличи опять отказались дань давать. Или Етон передумал и ряд разорвал. Но дреговичи, их Благожит миролюбивый! Он вот зимой уверял, что не пойдет против Киева, и лишь просил не трогать его волости на Припяти! – Эльга встала и всплеснула руками. – Неужто обманул, прикинулся овечкой? Асмунда провел, Тородда, всех других? Просил мира, а потом, и полугода не прошло, взял да и вырезал наш городец? Чем им помешал Перезван?
– Не Перезван, а мы ему помешали. Благожит понимает: из-за этой войны мы лет на десять потеряли деревскую дань. Нам понадобятся другие данники. А из непримученных – он сосед наш ближайший.
Эльга в замешательстве посмотрела на своего первого советчика. Мнению Мистины она привыкла доверять и теперь не находила возражений.
– Он надумал… напасть первым, потому что ждал нападения от нас?
Мистина кивнул с сокрушенным видом: дескать, увы, это так.
– Но мы…
– И к тому же, – добавил Мистина, – в ожиданиях своих Благожит не ошибается. Древляне, кто уцелел, теперь начнут разбегаться в порубежные земли, пытаясь уйти от наших сборщиков. Как уличи от Днепра ушли, помнишь? Нужно сделать так, чтобы им было незачем сниматься с насиженных гнезд, иначе наши труды окажутся напрасны.
Эльга тревожно смотрела на него, стараясь постичь смысл его слов.
– Подожди денек-другой, – попросил Мистина, видя, что в нынешнем смятении она его не поймет. – Мы будем знать больше. Дело прояснится, и станет понятно, как нам быть.
Эльга видела: он-то для себя уже что-то понял. Но отвернулась, не желая сейчас проникать в его мысли. Судьба не давала ей передышки. Гибель Ингвара разрушила ее прежнюю жизнь. Как бы ни складывались дела раньше, он все же оставался между нею и небом – ее муж и соправитель, русский князь, воин, отец ее ребенка, тот, кто должен был сохранить власть над сыном до самой своей смерти… Он и сохранил – вот только смерть эта пришла слишком рано. Святослав был достаточно взрослым, чтобы иметь свою волю, но слишком юным, чтобы мать могла положиться на него как на мужчину. Ей приходилось бороться с ним, чтобы его же защитить. И ни один человек на свете не мог, не имел права снять с нее тяготы этой борьбы.
Ей придется принять этот вызов. Нельзя позволить, чтобы ее считали слабой, а киевский стол при ней – пустым. Ни чужие, ни свои. Дай она сейчас слабину с чужими – и раздор перекинется прямо сюда, в землю Русскую, в Киев. И все труды Олега Вещего, Ингвара, ее самой пойдут прахом.
– Не огорчайся так, – мягко сказал Мистина. – Может быть, парни что-то скрывают и они все же попортили на Ярилиных гуляньях местных девок. Или Перезван поносил местного старейшину, козлом вонючим ругал. И это как началось, так и закончится.
– За пятьдесят трупов они не расплатятся. – Эльга покачала головой. – Прощать такое нельзя, в этом Святша прав. У нас уйдет на это дело все лето. Теперь кому-то же нужно туда ехать, в Перезванец?
– Да. Толковому человеку нужно съездить и все осмотреть на месте. Даже если иным… – он явно подразумевал Святослава, и Эльга это поняла, – не очень-то любопытно, из-за чего все случилось, глупо закрыть глаза на правду.
Не сказать, чтобы в этих словах заключалась вся мудрость источника норн, однако от них Эльге стало легче. Сколько лет она знала Мистину – и всегда он, умея скрывать в случае надобности правду от других, сам предпочитал знать ее как есть. Он по-прежнему был с ней, со всей его отвагой и изобретательностью, с размахом целей и решительностью в средствах. А главное – верностью, скрепленной пролитой кровью. Своей и чужой. Пока он на ее стороне, какой-нибудь выход найдется всегда.
Само присутствие Мистины успокаивало Эльгу. Уже долгое время они виделись часто, но всегда на людях, и она соскучилась по нему – по возможности смотреть ему в глаза, касаться руки. Хотелось побыть с ним подольше, поговорить, и пусть бы он снова рассказал что-нибудь о былых походах, а она бы слушала, мысленно возвращаясь в те времена, когда слышала это в первый раз. Когда они были молоды, а мир вокруг – ярок и свеж, и казалось, что все в нем происходит в первый раз.
Вот только теперь все не то, как десять лет назад…
– Тебе же пора идти? – полувопросительно произнесла она, помня, что он обещал ей заняться делом о резне в Перезванце.
– Я могу остаться, – Мистина приобнял ее и потянул к себе.
Она взглянула ему в глаза, и как всегда, когда она смотрела в них с такого близкого расстояния, в груди что-то оборвалось и забилось. Во взгляде его отражалось все то, что связывало их в эти пятнадцать лет. Незачем было говорить об этом, чтобы помнить.
Эльга подалась к нему и мягко поцеловала в губы. Он не шевельнулся и даже не ответил ей, понимая, что это не страсть, а только признание их неразрывной связи. Все то, что между ними было, не обесценивалось с течением лет. Но сейчас для этого не время.
– Ступай, – тихо сказала она, но так, что он понял: она и правда хочет, чтобы он ушел. – Благодарю тебя, – добавила она ему вслед, когда он уже двинулся к двери.
Этого было слишком мало, чтобы описать ее чувство к человеку, который, по сути, сделал ее тем, что она есть. Мистина возвел ее на киевский стол, и он не жалел ни себя, ни других, лишь бы она сияла над своей державой, как Утренняя звезда.
Но и это не было самым важным. И могучей властительнице невыносимо тяжко ее бремя, когда некого любить. Мистина тем и внушал Эльге благодарное чувство, что умел быть достойным ее любви и наполнял жизнь смыслом. Но как это объяснить? Нет таких слов.
Мистина оглянулся. Коснулся белой костяной рукояти скрамасакса на поясе, напоминая о данной клятве, и вышел.
* * *
Устроили беглецов из Перезванца хорошо. Дали место в дружинной избе – здесь ее называли варяжским словом грид, – кормили сколько влезет, выдали кому чего не хватало из пожиток. Это было кстати: Чарога и Стояня ушли из городца, спросонья не успев даже обуться. Но благополучие это мало их радовало. Чем больше они привыкали к мысли, что потеряли свой дом и соратников, тем сильнее ощущали свою потерю. Даже Велеб ходил оглушенный: ему мерещились лица и голоса отроков, среди которых он прожил целый год. А Чарога, прошедший с теми людьми через столько битв и опасностей, и вовсе не хотел смотреть на белый свет и весь день лежал, отвернувшись к стене. Кровных родичей Перезвановы отроки покинули более десяти лет назад – кто сам пожелал какой-то другой жизни, кого старшие сдали в ратники, не ожидая от парня дома особого толку. Дружина стала для них новой семьей, боярин – единственным отцом. Утратив всех разом, они ощущали такую же боль, как те, кто лишился всего кровного рода.
Велеба вновь окружали знакомые строения княжьего двора, да и в челяди два года спустя были почти те же люди – кроме двоих, погибших осенью, во время резни на могиле Ингоря. А вот в гридьбе обнаружились большие перемены. Живя среди челяди, с гридями Велеб общался мало, но в лицо всю ближнюю дружину знал. От прежних знакомцев осталось меньше половины. Два десятка погибли на Тетереве вместе с Ингорем. Еще десятка полтора ушли после его смерти: по большей части переместились к Мистине Свенельдичу, не надеясь поладить с юным наследником. Недостаток частично восполнили за счет людей, приведенных Святославом из Хольмгарда, но полной численности в пять десятков ближняя дружина еще не достигла. Юные соратники Святослава, составлявшие его круг, задирали нос перед «стариками» – гридями его отца, а те презирали молокососов, которые ни с кем страшнее соломенного чучела еще не сражались.
Если бы челядь и даже гриди, помнившие Велеба в лицо, не расспрашивали его о Перезванце, он мог бы подумать, что эти два года ему приснились. Как будто вчера это было…
…Через год после того как Велеб водворился на княжьем дворе, Ингорь, вернувшись из зимнего похода в дань, пышно отмечал имянаречение новорожденной дочери – долгожданного их с Ольгой второго ребенка. В княжьей гриднице поднимали чаши – за богов, предков и потомков, – ели, пили, пели и вспоминали былые походы. Челядь от такого множества хлопот сбивалась с ног. И вот однажды ключница отыскала Велеба в поварне, велела быстро вымыть руки, пригладила ему волосы и повела в гридницу. Он поначалу думал, что ему велят петь – в искусстве этом он уступал княжьим певцам, братьям Гордезоровичам, но и его песни, вывезенные с Ильмеря, наследие деда Нежаты, княгиня порой слушала с удовольствием.
Но дело оказалось вовсе не в пении. Велеба поставили перед плотным мужчиной среднего роста, лет тридцати, одетым в хазарский кафтан – из отбеленного льняного полотна, выше пояса обшитый узорным шелком. В ухе висела хазарская серьга, похожая на длинную серебряную каплю. Темные волосы острым мыском спускались на лоб. В лице его ничего примечательного не было, но оживленное выражение в довольно резких чертах делало его ярким.
– Ты Селимиров братанич? – воскликнул он. – Правда? А непохож!
От возбуждения лицо его чудно перекосилось: левая бровь поднялась выше правой, и, будто в противовес, правый угол рта под темными усами – выше левого.
– Лицом непохож, но одарен таким же отважным сердцем! – сказал Хрольв, Ингваров десятский, и похлопал отрока по спине. – Нам рассказывал Тормод Гнездо: его взяли в плен, когда он остался один, без своих людей, но с раненым отцом, и не бросил оружия, был готов защищать его до самой смерти.
– Тогда верю! – Перезван, заметно пьяный, встал и потянулся через стол обнять Велеба. – Ты знал бы, какой храбрый человек был Селяня! Мы с ним были почти как братья! Мы шли через Боспор Фракийский, со всех сторон по нам палили огнеметы, из нас только половина дошла до Килии! Но когда я Селяню там увидел, он даже в лице не переменился, будто не было ничего! Иди сюда, я тебе расскажу!
– Это Перезван, – пояснил Хрольв. – Он был в дружине Хельги Красного вместе с твоим стрыем, когда Хельги ходил на хазар и греков.
О заморских походах своего стрыя Велеб знал от него самого: в те шесть лет, что княжил в Люботеше, Селимир очень любил рассказывать родичам о своих странствиях и сражениях. Но слушал, как полагается, с почтением; сердце щемило от мысли, что для этого чужого человека, полянина родом с Роси, его, Велеба, родича память так же близка и дорога, как ему самому.
– Мы с ним были как братья! – не раз повторял Перезван. – Все зарубы вместе прошли: и в Самкрае, и в Корсуньской стране, и у греков, и у сарацин! Мы с Ольгом Красным с самого начала, с Самкрая. Никто тогда не верил, что он добьется славы, он тогда был просто бродяга, еще один варяг, только и радости, что сводный брат княгини, и то – побочный сын! А мы верили в него! Он был братанич Вещего – и доказал, что получил его удачу!
– А Селимир тебе рассказывал, как он в одиночку причал в Сугдее захватил? – подхватывали боярские ближние отроки.
– С десятком парней и двумя потаскухами!
– Врешь, там еще вина с ним было две корчаги!
– Песаховы конные трижды на перевал приступом ходили!
– Мы в первый раз тогда сражались в поле, я сам тогда был отроком вроде тебя!
– А против нас вышли Песаховы лучшие всадники! В железе с ног до головы!
– И было их раза в три больше, чем нас! Но мы стояли повыше, перед нами вот так стояли рогатки, – Перезван выложил из обглоданных костей на столе некое подобие полевого укрепления, – а по сторонам на склонах еще стояли эти греческие подсилки, «скорпионы», они метали по сорок сулиц разом. К третьему заходу там было уже столько их трупов перед рогатками, что кони спотыкались на скаку…
О Хельги Красном и его походах Перезван мог говорить без конца. Велебу он так обрадовался, будто нашел своего собственного братанича. Расспрашивал и о Селимире – о его жизни после окончания походов, о недавней гибели.
А когда пиры закончились, Велеба позвал княгинин тиун, Богдалец.
– Собирай пожитки свои, – велел он. – Княгиня тебя отпускает с Перезваном.
– Отпускает? – изумился Велеб. – Куда?
Первым делом он, конечно, подумал о доме, но никаких оснований для такой милости вроде не было.
– В твержу его, к Припяти. Перезван тебя в дружину берет. Поручился за тебя. Княгиня сказала, отрок честным себя показал, она ему верит. Ступай, поблагодари госпожу.
Поскольку сам Перезван состоял на службе у киевского князя, то и Велеб, переходя к нему, менял занятие, но не положение. Однако обрадовался перемене: вынужденно пребывать в услужении было унизительно для отпрыска столь знатного рода. А к тому же Перезван, часто повторявший, что они с Селимиром были как братья, и правда стал казаться кем-то вроде дальнего родича, а Велеб очень тосковал по родне среди чужих.
В Перезванце все тоже хорошо помнили Селимира. Сначала говорили, что Велеб, мол, непохож на родича, но потом привыкли к Велебу к такому, какой он есть. Особенно его полюбили за гусли – благодаря им всякий в дружине считал Велеба наравне с ближайшими своими друзьями. В Перезванце были и другие гусляры, но таково свойство этого искусства – оно располагает каждого к тому, кто им владеет.
Перезван Велебово пение очень ценил, любил слушать сказания о Волхе и Ящере, о Князе Морском, об острове Буяне, о деве Ильмере и прочие, что Велеб перенял от деда Нежаты. Охотно угощал его пением своих гостей, хвастал Велебом, будто родным сыном. Два года Перезван был Велебу вместо отца. Отзывчивый и благодарный, тот привязался к боярину и теперь с трудом верил в то зрелище, что запало в память, пока он бежал через двор с топором и тяжелым Нелюбовым щитом: сперва видно знакомую спину Перезвана в белой сорочке, а потом эта спина дергается, и боярин падает… на боках его огромные красные пятна на полотне… Он мертв… И при мысли этой Велеб невольно поворачивался и утыкался лицом в чужую старую подушку, пытаясь спрятаться от душевной боли.
Долгом их, уцелевших, теперь была месть.
Вот только кому мстить и как это сделать? Гриди рассказывали, что юный князь потребовал немедленного похода, чтобы покарать убийц, и многие из бояр его поддержали. Но еще не сказал окончательного слова Мистина Свенельдич, а поэтому и княгиня не говорила ни да, ни нет.
* * *
На другой день после приезда беглецов в грид явился светловолосый парень, которого Велеб не знал, но вчера приметил среди нарочитых мужей вокруг княгини. Для такого высокого положения тот был чересчур молод – не старше самого Велеба, а то и моложе на год-другой. Однако одет он был в белый кафтан с шелковой отделкой и серебряным тканцем[7] на груди, сшитый умелыми и заботливыми руками, на мизинце сидело витое золотое колечко, а держался он так уверенно и повелительно, словно сам был из князей.
– Вы как – вернуться туда не побоитесь? – спросил он, остановившись перед беглецами.
– Побоимся? – ощерился Чарога.
– Если все так, как вы сказали, то там сейчас такое… – Щеголь поморщился. – Кости на костях… Но делать нечего. Вы мне нужны.
– Тебе? – угрюмо глянул на него Чарога.
Ему было за тридцать, но перед этим парнем, вдвое моложе, он почему-то ощущал младшим себя, и это очень досаждало.
– А кто ты? – с дружелюбным любопытством прямо спросил Велеб. – Я лицо твое вроде бы знаю, а имени не припомню.
– Ха! – Тот дернул плечами, будто услышал очень смешную глупость. – Мой брат хочет расспросить вас еще раз, как все это было.
– Но кто твой брат?
– Мистина Свенельдич! – с таким выражением пояснил наконец щеголь, будто его спросили, кто повелевает громами небесными, и вынудили объяснять, что Перун. – А я – Лют.
«Дураки совсем, что ли?» – без слов договорили его выразительно поднятые ровные брови.
И Велеб сообразил, почему это лицо кажется ему знакомым. Лют походил на Мистину, как только могут быть похожи два человека с разницей в возрасте лет шестнадцать-семнадцать. Те же длинные светло-русые волосы, правильные черты, острые скулы, глубоко посаженные глаза, лишь у старшего брата имелась на носу горбинка от перелома, а у младшего лицо было более продолговатым и худощавым. И если Мистина источал повелительную уверенность, не делая лишних движений, то весь облик Люта дышал неудержимой гордостью – собой, своим родом и высоким положением.
– Вы пойдете со мной, поживете пока у нас на дворе, чтобы под рукой были, – продолжал он.
– И будьте благодарны! – добавил другой парень, стоявший у него за плечом. Темноволосый, со степняцкими глазами, внешностью он напоминал печенега-полукровку, но по-славянски говорил чисто и свободно, как на родном языке. – У нас многие думают, что от вас толку не будет. Вы же дважды выжили там, где погиб ваш вождь. Вы бросили на поле боя тела уже двух своих вождей! У нас таких назвали бы трусами.
– Что ты сказал? – Чарога с искаженным от злости лицом подался к нему.
– Тихо! – повелительно бросил ему Лют, одновременно плечом загораживая своего спутника. – Ильмет, закрой пасть. Если бы они не сбежали, у нас теперь не оказалось бы ни одного видока, и пришлось бы трупье допрашивать, что там случилось и почему.
– А если бы они не сбежали с Хазарского моря, мы бы не знали, как закончил Хельги Красный, – насмешливо дополнил Ильмет.
– Княгиня же хотела знать, как погиб ее сводный брат. Кто-то из вас был с Хельги на Хазарском море? – полюбопытствовал Лют.
– Мы трое были, – Размай кивнул на Чарогу и Стояню.
– У нас был такой князь, что ты… – Чарога бросил на Люта вызывающий взгляд. – Тебе за десять лет столько не содеять, сколько он за три года успел.
– Чего я не спешу совершить – так это погибнуть за тридевять земель. Я пока что возвращался из своих походов. И ходил в них не зря! – Лют многозначительно поднял мизинец с витым золотым колечком, видимо, знаменовавшим какие-то деяния, которыми он гордился. – Ну, так вы пойдете со мной или будете ждать, пока Хельги Красный родится вновь?
– Я в талях, – напомнил Велеб. – Моей судьбой князья владеют.
Несмотря на самый высокий род в этом гриде – не исключая и Люта Свенельдича, – Велеб менее всех имел право распоряжаться собой. Он не был рабом, но не был и вполне свободным. Род Люботешичей передал свои права на него киевским князьям. Завоевал это право Ингорь, но унаследовал Святослав. И теперь тот, тринадцатилетний отрок, имел над Велебом права родного отца.
– Ты же сын князя люботешского?
Велеб отметил: что-то не так. Потом сообразил: Лют не назвал его, как все, Селимировым братаничем. Видимо, Люту имя Селимира ничего не говорило, а вот родство Велеба с нынешним главой Люботешичей было важно.
– Княгиня мне позволила взять вас. Вижу, от тебя толк будет, – благосклонно кивнул он Велебу. – А вы? – обратился Лют к остальным беглецам.
Чарога отвернулся. Стояня насупился. Они знали, что за боярина и товарищей нужно мстить, но признать своим новым господином парня, лет на десять моложе их обоих, пока было не под силу. Если бы они знали, как Свенельдич-младший отличился на Деревской войне и за что получил свои награды, то примирились бы с ним легче. Но зимой он вместе со своим братом находился в другой части войска, шедшей к Искоростеню с юга. А рассказывать о своих подвигах Люту не приходило в голову: он был уверен, что о них и так знает весь свет.
Размай взглянул на Чарогу, потом на Велеба. Потом вздохнул:
– Я с тобой. Коли будут мстить за наших парней, за боярина… я пойду хоть… со всяким, кто поведет.
Они с Велебом оба были из десятка Ислива, потому и оказались в одной страже. Десяток в дружине – все равно что семья в роду, и Размай не хотел потерять то, что у него осталось.
– Берите пожитки ваши, и пошли, – не удостоив двоих оставшихся взглядом, Лют кивнул двоим уходящим на дверь.
Какие там пожитки – все на себе. Следуя за Лютом и тремя его спутниками через княжий двор, Велеб вздохнул. До чего же неровную, узловатую нить выпряли для него Рожаницы! Мать умерла при родах, стрый-князь погиб в сражении, самого взяли в полон, увезли сперва в Остров-град, потом в Киев, потом в Перезванец. Мотает по свету белому, как щепку в волнах. Потом опять на княжий двор попал, а теперь вот еще куда-то ведут, едва для приличия согласия спросив. Живут же люди всю жизнь на одном месте, только с ним такая незадача!
И что-то там впереди? Конечную цель свою Велеб видел в возвращении домой, но за три года привык к мысли, что это случится не скоро… Когда? Даже и загадать не на что.
Старый Свенельдов двор – он все еще назывался так, хотя сам воевода переселился из Киева в землю Деревскую лет десять назад – размерами и богатством почти не уступал княжескому. При Ингоре Свенельд занимал должность киевского воеводы, а потом передал ее старшему сыну. Им приходилось и содержать собственную дружину, и постоянно принимать гостей, поэтому, кроме нескольких жилых изб для хозяев и челяди, на дворе стояла гридница, немногим меньше княжьей, просторная дружинная изба. Поварня, хлебные печи, большой погреб-ледник, многочисленные клети, помещения для скотины говорили о немалом богатстве. Во дворе суетилась челядь, мелькало множество женщин, детей. Иной городец был беднее и размерами, и населением, чем этот воеводский двор.
– У нас даже поруб свой есть, – хмыкнул Лют, когда Велеб с ним поделился этим наблюдением, и кивнул куда-то клети, в сторону тына. – Отец еще устроил.
– Вы имеете право лишать свободных людей свободы? – вырвалось у Велеба. – Мой стрый был князем, мой дед, мой прадед… но никто из них никогда такого не делал!
Лют посмотрел на него с недоумением в ореховых глазах: он не понял, отчего паробок возмутился. Сам он своих дедов и прадедов знал понаслышке – и то лишь с отцовской стороны. С единственным братом он полжизни прожил в разных краях, и весь его род в привычном понимании составлял он, отец и сводная сестра Валка – от другой Свенельдовой хоти.
– Так у вас там все родичи, да? – спросил он потом, сообразив, в чем разница. – Деды старые указывают, а молодые слушаются.
– И как не слушаться – деваться некуда, – заметил Размай. – Если совсем кто от рук отбился, то изгнать могут.
Среди его товарищей в Перезванце таких было немало.
– А у нас тут дедов нет, только князь и воевода, – с непонятной Велебу гордостью ответил Лют. – А чужие наставлений не слушаются. Должники опять же… Что нам их, в зыбке качать?
Что такое долги, Велеб знал, хотя сам, конечно, сроду ни у кого не одалживался.
– Ну вот, здесь будете спать, – тем временем Лют завел их в дружинную избу с широкими помостами внизу и полатаями наверху, указал место. И поманил Велеба: – А ты – пойдем со мной.
Уже вдвоем они направились по деревянным мосткам через двор в гридницу. Еще с порога Велебу бросился в глаза среди оружников сам хозяин дома – Мистина Свенельдич. Одетый в простой белый кафтан (братья еще носили «печаль» по погибшему прошлым летом отцу), тем не менее воевода сразу был заметен даже в гуще людей. Но не только из-за высокого роста и мощного сложения. Что-то чувствовалось в нем, некая внутренняя сила; непонятным образом он привлекал взгляды, как огонь среди мрака.
Завидев Люта с его спутником, Мистина прошел в дальний конец гридницы и сел на высокое резное кресло хозяина дома. У Велеба что-то звякнуло внутри от ощущения, что внимание первого среди киевских бояр сосредоточилось на нем, но он велел себе успокоиться. Вины на нем никакой нет, и он может не робеть под чужим взглядом, встань тут хоть сам Ящер волховский.
Двое оружников последовали за Мистиной и привычно опустились на скамью по обе стороны от хозяина. Навидавшись русинской знати, Велеб сразу подумал, что это, видимо, бывшие телохранители: примерно ровесники Мистины, один по виду варяг, другой славянин, рослые, крепкие, хорошо сложенные мужчины с простыми смышлеными лицами и внимательными глазами. Надо думать, они сохранили полное доверие господина, хотя от прежней службы их отставил возраст. В телохранителях, ежечасно оберегающих жизнь вождя, держат людей в возрасте от двадцати трех до двадцати семи лет – когда уже есть сила и опыт мужчины, но еще сохраняются юношеские выносливость и быстрота.
Лют тоже сел на скамью слева от Мистины. Здесь он сразу переменился: самоуверенность исчезла с его красивого лица, уступив место сосредоточенности. О Велебе он будто забыл, теперь все его внимание было устремлено на брата: Лют прямо-таки смотрел ему в рот. Поглядывая на Свенельдовых сыновей, Велеб улыбнулся про себя: удивительно, как при почти одинаковых чертах в лицах этих двоих – Лют даже волосы носил такие же длинные, в подражание брату, зачесывая их назад и связывая в хвост, – отражается совершенно различный нрав и склад ума.
– Садись, Бранеславич, – Мистина в ответ на поклон кивнул Велебу на скамеечку, поставленную напротив, и окинул гостя быстрым пристальным взглядом.
Тот заслуживал внимания и своим высоким родом, и судьбой, и тем, что оказался чуть ли не единственным видоком при таком значимом деле. Лет восемнадцати или девятнадцати, выше среднего роста, крепкий, с простым продолговатым лицом, высоким широким лбом. Заметно подрос и возмужал за два года в Перезванце. Темно-русые волосы, густые черные брови, а глаза под ними… Взгляд вроде бы спокойный и твердый, но если присмотреться – затягивает, как в глубокую воду. И даже дружелюбное внимание – верхний слой – начинает казаться немного опасным.
Сидя перед хозяйским креслом, Велеб мог отвечать на вопросы, не повышая голоса. В этой половине помещения почти никого не было: только сам хозяин, его младший брат и двое оружников.
– Мы с тобой почти из одних мест, – Мистина слегка улыбнулся ему. – Ты из Люботеша, а я в Хольмгарде родился. Давай-ка, расскажи мне еще раз, что запомнил. Все с самого начала, что и как ты видел.
Велеб принялся рассказывать все сначала. Он заметил, что воевода слушает его, одновременно думая о чем-то, но какие чувства вызывает рассказ, угадать было нельзя. Взгляд Мистины, устремленный прямо ему в лицо, имел отстраненное выражение, будто эти серые глаза изнутри закрыты стальными заслонками.
Проведя семь лет в Перыни, Велеб повидал волхвов и теперь начал понимать, почему Мистину опасаются, хотя тот держится дружелюбно. В нем было нечто общее с волхвами: наверное, привычка смотреть глубже, чем внешняя видимость. Велеб почти чувствовал, как тот пытается мыслью проникнуть прямо ему в голову и увидеть то, о чем Велеб, возможно, не говорит. Отчасти было досадно: ему нечего скрывать. Но Мистина не так чтобы подозревал его в сокрытии истины – по злобе или боязни. Он привык не доверять почти никому. Даже самая страшная клятва сказать правду не означает, что ты эту правду услышишь. Поневоле, обманутые собственными глазами и мыслями, люди лгут чаще, чем нарочно.
Время от времени Мистина задавал вопросы.
– Перезван выставлял дозоры – как же те бесы сумели подобраться так быстро и незаметно?
– Я сам в дозоре и стоял, – Велеб не видел за собой вины, но с невольным стыдом опустил голову. – Я и видел, как они вдруг из тумана выскочили. Лестницы у них были. В ров попрыгали, оттуда лестницы под тын поставили и полезли, как муравьи.
– Лестницы? – казалось, Мистина с трудом в это верит. – Сколько?
Велеб подумал, вспоминая, с каких концов стены чужаки прыгали во двор:
– Примерно сказать, пять-шесть. Две первые – по сторонам вежи, остальные вдоль стены, где ров.
– Как они выглядели?
Велеб описал – и лестницы, и как чужаки несли их, по шесть человек каждую, на плечах. Все это было у него перед глазами, пока он брался за рог и трубил, и сейчас ясно стояло в памяти.
– Даже я это в последний раз видел, когда в Вифинии брали города, – заметил Мистина. – Это умели делать… Перезван и его люди умели, но кто еще? Ты не слышал, чтобы Перезван кому-то рассказывал про лестницы в Вифинии или еще где?
– Нашим… мне рассказывал.
– А чужим? Благожиту? Дреговичам?
– Благожит у нас не был ни разу, а дреговичам… Боярин раза три в гости ездил, к Поведу на Карачун и к Назоричам на Дожинки, но я не слышал, чтобы он там про Вифинию говорил. И потом, когда они к нам пировать приезжали… про добычу он рассказывал, а про лестницы чтобы – я не слышал.
– И часто они к вам ездили?
– Да каждый год раза по два. Как боярина к себе приглашали, так потом сами к нам ездили. А большой дружбы не было меж нами. Так – мир подтвердить.
– Ты когда-то бывал при их беседах?
– Всегда бывал.
– С чего так? – Мистина поднял брови.
– У меня гусли, – Велеб невольно оглянулся, будто искал свой «гудебный сосуд»[8] рядом с собой. – Были. Боярин при гостях мне всегда петь приказывал, а когда сам в гости ездил, тоже с собой брал.
– А, помню. Ты и нам тут раньше про Волха и деву Ильмеру пел. Где ж гусли твои?
– Там остались, – вздохнул Велеб.
О гуслях своих он очень жалел. Из дома привезенные, дедом Нежатой подаренные, они были ему дороги, как живой друг. Но где там гусли искать – голову едва унес. Пристыдил мысленно сам себя – сколько людей сгинуло, а ты о гуслях сокрушаешься!
– Ладно, давай дальше, – велел Мистина.
Велеб рассказывал дальше: как метался меж изб, пытаясь скорее разбудить товарищей, а тем временем у него за спиной чужаки убивали всех, кто выбегал им навстречу.
– Точно ли всех перебили?
– Может, вы так быстро бежать пустились, что не видели, кто еще остался? – дополнил Лют.
– Нет, – Велеб качнул головой. – Мы последние были живые. Я, прежде чем на забороло лезть, весь двор оглядел. Никого на ногах не осталось.
– И Перезван истинно мертв?
– Я видел, как его убили, – Велеб на миг опустил глаза. – Два копья… Щит ему нижним зубом цепанули и в сторону отвели, – по сложившейся в дружине привычке он изобразил руками, как это было, и по глазам слушателей видел, что перед ними это зрелище встает очень ясно. – А прикрыть его из отроков некому было…
– Что это были за люди, опиши, как они выглядели, – предложил Мистина. – Славяне, варяги, хазары?
– Да какие хазары? – Велеб чуть не засмеялся такому нелепому предположению. – Не варяги. Славяне, по всему видно, свиты обычные, из опоны, в руках копья, луки, топоры…
– Мечи были?
– Я ни одного не видел.
– Шлемы?
– Два… или три. Щиты были, вот что странно. У всех. Сделаны как обычно, но дегтем вымазаны. Черные и воняли.
Мистина переглянулся со своими людьми. Значение этого известия они оценили. В быту славянских оратаев щиту не находилось ровно никакого применения, а сделать его – и умение требуется, и лишние средства, ведь нужен умбон из железа, его под кустом не найдешь. В случае большой войны собираясь на рать, оратаи брали копья-рогатины, луки и обычные рабочие топоры, пересадив их на рукоять подлиннее. Щиты, как и шлемы, имелись только у оружников состоятельного вождя, способного содержать постоянную ратную дружину.
– Готовились, – обронил сидевший слева от Мистины мужчина с желтыми острыми глазами, резковатыми чертами лица и рыжеватой бородкой.
– И они умели с ними обращаться? – спросил второй – с продолговатым варяжским лицом и очень светлыми волосами. По-славянски он говорил свободно, но слышно было, что язык этот ему не родной. – С щитами?
– Как тебе показалось, у них был опыт? – уточнил Мистина. – Сражений, я имею в виду.
Велеб задумался. Чем опытный в обращении с оружием человек отличается от неопытного, он за эти два года хорошо уяснил.
– Д-да, – не совсем уверенно отозвался он. – Они были в бою… не в первый раз. Они… все делали быстро, словно все знали, куда бежать и что делать… Не суетились, не метались, но и не мялись, от трупов не шарахались. Но бились… – он еще раз заглянул в свои воспоминания о скоротечной битве, – наши лучше бились. Наши были опытнее. Даже я, – он чуть улыбнулся, вспомнив свою единственную мгновенную схватку с кем-то из чужаков, которого толком не успел разглядеть из-под щита. – Но тех оказалось уж очень много. На каждого нашего – человека по четыре, по пять…
– Ваших было с полсотни, значит, этих…
– Сотни две с половиной – три, – Велеб еще раз вызвал в памяти, как видел с заборола надвигающуюся на городец волну.
Тогда-то ему показалось, что чужаков с две тыщи.
– Три сотни с щитами и опытом! – повторил Ратияр. – Чьи же это могут быть? У Благожита разве есть оружники? И с кем он воевал, откуда им было взять опыт?
– Они кричали «Хотимир!», – напомнил Велеб. – А это, говорят, Благожитов пращур.
– Боевой чур у них был?
– Нет. Я не видел.
– И стяга не было?
– Не было.
– Кто у них был главный?
– Я видел перед воротами, когда уже все они вошли, одного в шлеме. Впереди бежал и орал. Но я его не знаю. Да и знал бы – они же морды себе все сажей вымазали.
– Чего? – Мистина переглянулся со своими людьми; это известие их поразило. – Сажей?
– Ну да. Будто ряженые в Карачун.
Мистина еще раз глянул на своих товарищей.
– Хрена се Карачун… – обронил Ратияр.
– И свиты на всех белые. Я еще подумал: будто из Нави выползли.
– Так, значит… без сажи вы могли бы их узнать? – сообразил Мистина.
– Они боялись, что вы их узнаете! – подхватил за братом Лют.
Велеб лишь развел руками. Он лишь видел, но не брался истолковать увиденное.
Ему задавали еще вопросы: кто был в городце из жителей, кто где находился, какое было добро, какая скотина… Он добросовестно отвечал, стараясь все припомнить. Когда его наконец отпустили, на смену ему в гридницу ушел Размай. Потом рассказал, что и его спрашивали почти о том же – с поправкой на то, что мог видеть он, почти все время сражения остававшийся на забороле.
– Завтра еще с теми двумя поговорим, но едва ли они что добавят, – сказал Мистина, отпустив Размая. – Это двое и потолковее, и лучше настроены на разговор.
– Дай я пойду тех двоих еще потрясу, – предложил Лют. – То-то и чудно, что говорить не хотят – а должны хотеть мстить за своего боярина любимого!
Мистина взглянул на Ратияра. У него была мысль, по какой причине двое других Перезвановых отроков не хотят говорить с киевскими боярами, но он сильно сомневался, что те двое тоже могли до нее додуматься.
– Но по всему выходит – дреговичи! – продолжал Лют. – Иначе к чему им рожи мазать?
– Чтоб страшнее было, – хмыкнул Ратияр.
– Людей Хельги Красного хотели напугать чумазыми мордами? – усмехнулся Альв. – Они ж не дети малые, они видали и похуже. На Боспоре заживо сгоревших…
– А те бесы об этом знали?
– Но они не охренели, а? – воскликнул Лют. – Вот так, ни за что, взять и вырезать чужую засаду? Если мы теперь вырежем у них три-четыре веси, то будем правы.
– Святослав жаждет крови, – напомнил Мистина. – Или славы, но тут обое рябое[9]. Эльга хочет от войны его удержать. Он еще слишком юн, чтобы воевать непрерывно. Если так бойко начать, то можно и до пятнадцатилетия не дотянуть. А другого сына у нее нет. Случись с ним что – и ее наследниками станут дети Тородда.
– Но что же поделать? – Альв развел широкими ладонями. – Кровь пролилась, пятьдесят четыре отрока да сам боярин с домочадцами – это не еж нагадил. Князь не может просто взять и утереться.
– Нет. Я вам больше скажу. Нам нужны новые данники, пока древляне не оправятся от разгрома, не выйдут из лесов, не разведут заново скотину и не засеют делянки. И здесь такой подарок – повод для войны с Благожитом. Я был уверен, что мне придется его придумать – а мне сами же дреговичи его на рушнике шитом поднесли.
Лют напряженно смотрел в лицо старшего брата. Его ум внушал Люту восхищение и робость – он не верил, что даже семнадцать лет спустя сам станет настолько умным. Понимание замыслов брата давалось Люту с трудом, и это было особенно досадно в таких случаях, как сейчас – когда он чувствовал, что от успеха зависит судьба державы.
– Жаль Перезвана, – вздохнул Альв, – и дренгов его тоже. Самкрай взяли, против конницы Песаховой выстояли, половину Вифинии прошли, огнеметы дважды прошли… и вот так вырезаны у себя дома невесть кем, какими-то йотунами с чумазыми рожами, не пойми за что и почему…
– Судьба! – развел руками Ратияр. – И похуже бывает, помнишь Радульва? Через какие хрипеня прошел человек, в сорока сражениях уцелел, а погиб от руки девки, и то по собственной же дури?
– Вот именно – судьба сама ничего не делает, – подхватил Мистина. – Все людскими руками. А люди просто так других людей не убивают, да в мирное время. Поссорься Перезван с местными из-за дичи или из-за девок…
– Если двое-трое сбегали тайком на игрища и попортили пару девок – это не повод вырезать полусотенную засаду, – Ратияр покачал головой. – Ну, прислали бы старейшины просить выкуп за обиду. Перезван бы заплатил. А так – это же война. Благожит хотел войны?
– То-то и странно, – Мистина взглянул на него. – С чего Благожиту такие подарки нам подносить?
– Да если бы он понимал, что это подарок!
– А мы хотим с ним войны? – тихо, с неловкостью из-за своей недогадливости уточнил Лют.
«Мы» – это круг русской и полянской знати, для которой война означала сегодня добычу, полон и ратную славу, а завтра – ежегодную дань мехами, медом, воском, полотном. Это было ему очень даже понятно: свою Деревскую войну Лют начал с удачного налета на Малин, привел скотину и полон.
Война подарила ему двух молодых жен знатного рода, за которых не было уплачено вено.
Мистина ответил не сразу, и Лют, за полгода совместной жизни успевший его узнать, видел, что брат отчасти раздосадован. Он еще не мог точно оценить положение дел, но уже знал – решению будет мешать борьба различных людских желаний. Войны хотела дружина и многие бояре, но не хотела княгиня. А с желаниями княгини Мистина должен был считаться больше, чем с желаниями бояр и даже своими собственными.
Мистина посмотрел на Люта, и взгляд его смягчился. У него всегда теплело на сердце, когда он видел это свежее лицо, этот наморщенный лоб, пушистые русые брови, приподнятые в отчаянном усилии мысли, эти ореховые глаза, в которых тоже отражалось мучительное желание поскорее все понять. Отважный, решительный, его младший родич отлично исполнял поручения, даже сложные и опасные, на него можно было положиться в любом деле – где ему заранее подробно объяснили, что и как. Надежных и храбрых людей Мистина всегда ценил, кто бы они ни были. Но вместе с Лютом в жизнь его вошла очень редкая гостья – любовь. И этим Лют помогал Мистине тащить тяжеленный воз всех его дел и обязанностей в куда большей мере, чем сам думал.
Мягким движением Мистина наклонился к нему ближе, будто хотел поведать нечто очень доверительное.
– Если бы, – понизив голос, начал он, – дреговичи не разорили Перезванец, мне пришлось бы самому устроить нечто в этом роде. Благожит – если это был он – избавил меня от мерзкой грязной работы. А теперь у нас есть законный повод пойти на Благожита и обложить его данью. Князь будет рад. Но прежде чем он поднимет своего «сокола»… Мы должны понять, что же там произошло.
Он выпрямился и откинулся к спинке резного сиденья.
– Из видоков уже много не выжмешь, надо самим смотреть. Поедешь?
– Я? – Лют даже приподнялся, едва веря в такую честь.
– Да. Ты справишься.
На самом деле Мистина, уже убедившийся, что в сражении его брат не теряется, хотел дать ему возможность поучиться работать головой. И возможность вполне безопасную. Правильно разгадает Лют эту загадку или нет – на дальнейшее, как Мистина уже понимал, это повлияет мало.
– Нужно осмотреть, что сейчас в городце: что взято, что оставлено, чьи стрелы, какие следы, – Мистина перевел взгляд с Люта на Ратияра и Альва, которых собирался отправить с братом вместе.
– Да не тянуть, – подхватил Ратияр, – сейчас ведь не зима, а там с полсотни трупов. Вилами придется собирать…
Все четверо невольно поморщились, вообразив зрелище, ждущее их в городце. Уже третий день тела лежат – и пока из Киева к ним доедут…
– Если подтвердится, что это были дреговичи, – продолжал Мистина, – Святослав возьмет свою месть с полным правом.
– А если… – осторожно уточнил Альв; он не произнес слова «нет», но все его услышали.
– Я, – Мистина голосом нажал на это маленькое слово, – должен знать, как все было на самом деле. – А князь… будет делать то, что нужно для блага его престола. Я собирался о дреговичах подумать позже… через год-другой. Нам нужно время, чтобы уладить все дела по-новому… и Эльга хочет заново ряд положить с данниками. Мы рассчитывали на пару лет без новых войн. Она очень хотела… Но что уж. Судьба с одним гостинцем дважды не приходит.
* * *
Прошлой весной об эту пору Лют собирался в Царьград с большим княжеским обозом – продавать отцовскую долю деревской дани. Но за этот год все так переменилось, что он не узнал бы собственную жизнь – если бы выбрал время оглядеться и осознать перемены. Год назад он, сын прославленного воеводы и миловидной челядинки, под надзором опытных оружников ездил по отцовским торговым делам. Правду сказать, тысячи людей проживают всю жизнь и умирают, повидав меньше земель, чем он успел к семнадцати годам. Теперь он носил белый кафтан в знак скорби по отцу, зато стал свободным человеком, вернулся из Деревов в Киев, приобрел прекрасный «корляг», греческий доспех-клибанион – добычу с убитого деревского воеводы Величара, – золотое колечко в награду от самой княгини, двух жен-полонянок и ратную славу. С воеводской долей добычи в Царьград поехали Рыскун и Евлад, а для Люта брат и княгиня нашли совершенно иное дело…
Еще зимой княгиня решила лето посвятить объезду земель и тогда же начала приготовления. Благодаря этому Святослав с ближней дружиной смог выступить сразу после прихода вести о гибели Перезванца. С ним шел его кормилец Асмунд и Лют Свенельдич с двумя десятками отроков. В Вышгороде к ним присоединился Ивор с тамошней частью большой дружины. Шли по Днепру на лодьях.
Дружина у сыновей Свенельда пока была общая, вернее, Мистина выделял брату нужное число людей. В этот поход Мистина отправил с ним два десятка – Ратияра и Владара. Зато у Люта имелись свои собственные телохранители, как у всякого боярина: свей Сигдан и полянин Искрец. Причем Искрец явился на смену Сварту, одному из первых телохранителей Люта, погибшему прошлой осенью в Плеснеске: какие-то древляне пытались убить Свенельдича-младшего. На походной свите Люта из белой орницы небесной молнией блестел очень дорогой меч на ременной перевязи – настоящий рейнский «корляг». На булатном клинке имелось «пятно» знаменитой мастерской, рукоять и перекрестье были украшены тонким узором из вбитых в бороздки кусочков серебряной и медной проволоки. Для такого юного молодца меч был невероятно богат. Но за время дороги вверх по Днепру Искрец и Вальдар кое-что рассказали Велебу о событиях прошлой осени и зимы. Люту, конечно, очень повезло родиться в семье прославленных воевод. Но когда судьба спросила, покажет ли он себя достойным этой чести, он делом ответил ей «да».
Вверх по Днепру шли на веслах два дня. За пару поприщ до Перезванца остановились и выслали вперед пять отроков под началом Ратияра – разведать, что в городце. Ведь те чумазые бесы, что его захватили, могли и не уйти, а остаться, засесть за стенами. Тогда киянам уже самим пришлось бы ладить лестницы и готовиться к приступу.
– Вот еще! – презрительно сказал Святослав, когда об этом упомянули. – Была охота! Мы просто сожжем их, как Искоростень. Пусть жарятся, если хотят, а если побегут, мы тут же их и возьмем.
– Если они сами Перезванец не сожгли! – воскликнул Ивор. – А могли, когда уходили.
– Сожгли его едва ли, – качнул головой Асмунд. – Я всю дорогу смотрю: если бы городец сгорел, тут у берега полно бы головешек в воде болталось. А вроде не было такого ничего.
Вернувшись на стоянку уже в сумерках, Ратияр рассказал: городец стоит целый и пустой, ворота открыты.
– И все трупье внутри, – закончил он, дернув носом и давая понять, что определил это по запаху.
– Так мы и не зря так далеко встали! – хмыкнул Ивор. – Туда теперь так просто не войдешь!
Ночь прошла спокойно, но Велеб почти не спал. В дозор Лют велел его и Размая не ставить: сказал, что утром они будут нужны ему бодрые, – но чувство жути не давало спать. Даже в Киеве, сколько бы ни говорили с Велебом о разорении Перезванца, в глубине души сохранялась детская надежда, что все это дурной сон. Но уже завтра утром от надежды и следа не останется. Он увидит их мертвыми – Перезвана и всех своих товарищей. Живой в его памяти городец превратится в разоренное место, залитое кровью, заваленное трупами, пропахшее мертвечиной. Что-то в душе упиралось: не хочу, не пойду! Но куда тут денешься – хотела курица нейти, да за крыло волокут. Не в том даже дело, что Лют Свенельдич теперь его господин и может приказывать. За погибших нужно мстить. А значит, вернуться на то место, где все случилось, и идти дальше.
Утром снялись не сразу. Поднялись до рассвета, всем было приказано снаряжаться, но дружины Ивора и Люта остались на месте. Пять десятков оружников Асмунд разослал по округе – убедиться, что никаких вооруженных людей поблизости нет. Вернулись они к полудню, не заметив ничего опасного. Местные весняки, виденные издалека, занимались пахотой, где-то уже сеяли, бабы возились в огородах.
– Ну, отправляйся, – выслушав их, Асмунд кивнул стоявшему рядом Люту. – У Ивора возьми в дозоры десятка два, а то накроют вас, как в верше…
– Благо тебе буди, свояк, я не дитя, – Лют ухмыльнулся и низко поклонился, будто хотел почтительным поклоном смягчить дерзость своих слов.
Как Велеб уже разобрался, эти двое состояли в близком свойстве: Ута, жена Мистины и, стало быть, невестка Люта, приходилась Асмунду родной сестрой. Поэтому они общались между собой по-родственному: Асмунд наставлял Люта, полушутливо пытаясь сбить с него лишнюю спесь, а Лют держался с подчеркнутой внешней почтительностью, сквозь которую просвечивало убеждение, что ума и своего хватит.
Но, сколь ни уступал Лют другим воеводам опытом, беречь себя и людей он был приучен очень строго, и самоуверенность его никогда не рождала легкомыслия и пренебрежения должной охраной. Два вышгородских десятка шли вместе с ним, чтобы держать подступы к городцу с луга и с реки, пока Лют со своими людьми будет находиться внутри.
Лютова дружина первой высадилась на той самой отмели, откуда отплыли беглецы. Тут же попалось и первое подтверждение их рассказа: тело Тешеня так и лежало под обрывом, на том месте, где его оставили. Над ним густо роились мухи.
– Мы же его похороним… потом… – спросил Размай, горюя о товарище, так глупо погибшем в шаге от спасения.
Не зацепись Тешень рубахой за какой-то выступ, не упади вниз головой – сейчас был бы с ними…
– Со всеми вместе похороним, – ответил Лют, глухо из-под полотняной повязки на нижней части лица. – Пошли.
Без влажных повязок дышать вблизи городца уже было нелегко…
Лют был сосредоточен, но не сказать чтобы опечален. Перезвана и его людей он совсем не знал, и перед ним это внезапное избиение лишь поставило задачу, какой ему еще никогда не доводилось решать.
По длинной тропе поднялись к луговине. Как и сказали передовые дозоры, ворота стояли нараспашку, но створки выломаны не были – их открыли изнутри. И ясно, каким образом: шесть лестниц, как говорил Велеб, стояли на дне рва, поднимаясь до верхушек частокола. Две по сторонам вежи, еще по две дальше вдоль стены. За воротами, на площадке вежи или на забороле не виднелось никакого движения. А смрад, разлитый над луговиной, яснее всяких слов говорил: там внутри только смерть…
* * *
К княжьему стану Лют со своей дружиной вернулся под вечер. Не говоря ни слова, отроки побросали вещи на берегу и полезли в воду: смывать трупный запах с кожи и волос. Уборкой тел они еще не занимались, но полдня ходили между ними и пропахли так, будто сами в Кощеевом подземелье побывали. Лица у всех были вытянутые и бледные. Оружники Мистины из десятков Ратияра и Владара были людьми опытными, но среди полусотни почерневших трупов, пролежавших в теплое время шесть дней, мало кто сможет прохаживаться невозмутимо.
Отроков отпустили отдыхать, а Лют и десятские отправились в княжий стан. Вожаки войска с нетерпением ждали, что покажут разыскания; Святослав горел желанием немедленно двинуть дружину на битву ради мести, воеводы скрывали тревогу. Они понимали, почему Мистина настоял на этом разыскании: все еще могло оказаться не так, как на первый взгляд, и тогда им предстояло принимать решение. Выбирать, чьей воле следовать – юного князя или его умудренной жизнью матери.
Перед княжеским шатром горел костер, окруженный бревнами для сидения. Лют пришел с влажными волосами, зачесанными назад; он не надел сорочку, и на выпуклой мышце правого предплечья был виден багровый шрам примерно полугодовалой давности.
– Откуда? – заметив это, вопросительно кивнул Велеб.
– Искоростень. Мы за рекой стояли, лес сторожили, а оттуда Величар со своими и ударил. Но я и не заметил – Лют засмеялся. – Мне потом уже Ратияр говорит: а что это у тебя рукав висит? Я смотрю: а там кольчуга прорублена, рукав в крови…
Места на бревнах больше не было, и Велеб с Размаем сели прямо на землю. Велеб принес в заплечном мешке рог – он нашел Сокрушитель Черепов прямо там же, где и бросил, на площадке Воротной вежи. Рог, что пробудил Перезванец в его последнее утро и поднял оружников на их последний бой, победителям не понадобился. Подавленный всем увиденным, Велеб смотрел на него как на уцелевшего друга, и его все тянуло положить ладонь на костяной бок – будто руку соратнику пожать.
Но еще больше его порадовали гусли. Он все-таки отыскал их – завалились за лежанку в дружинной избе. Одна из пяти струн порвалась, но еловое корытце и верхняя дубовая доска, приклеенная рыбьим клеем и по очертаниям похожая на длинное крыло, с головкой ящера на узком конце, а коня – на широком остались целы. Бесам в белых свитах, кто бы они ни были, гусли оказались без надобности. Играть пока было нельзя, но Велеб держал их на коленях и украдкой поглаживал; с сердца упал камень, как если бы родной человек был в смертельной опасности, но уцелел. Пропади они – как бы он пережил такую потерю, как бы потом деду в глаза взглянул? Велеб далеко не первый на них играл – когда Нежата подарил их внуку семь лет назад, они уже пережили три человеческих века. На верхней стороне их, под струнами, были вырезаны лебеди, а с тыльной – змеи и ящеры. Резьба наносилась в разное время и разными руками – прежние владельцы оставляли свои знаки.
– Сыграешь? – даже Лют, увидев их, взглянул на Велеба с новым любопытством.
– Струну достать надо, – Велеб показал порванную.
– А они из чего? Жилы?
– Нет, от жил звук короткий и тихий идет. У меня бронза золоченая. Звук совсем другой – громкий, мягкий. Слышишь? – Велеб осторожно тронул уцелевшие струны. – Будто у Князя Морского в бороде водяные струи играют. Самые лучшие из золота делают, да это не по мне пока.
– Золота? – Лют недоверчиво поднял брови. – Свистишь?
– Нет. Золото с примесью – железо, серебро, медь. Это хитрость настоящая. Но это у истовых умельцев, у старших волхвов. А я что… и поучился всего ничего.
– У Олстена спроси, – с сомнением посоветовал Лют. – Он тоже играет, у него должны быть. Хотя чтоб золотые – это едва ли.
Только эта находка и утешила Велеба. Все остальное… Отгоняя воспоминания, Велеб с усилием сглатывал. Желудок давно был опустошен, но принять что-то внутрь, кроме глотка воды, не хотелось.
Не то что Лют. Он этих людей не знал и, обладая, как и брат его, довольно прочным сердцем, после мытья достаточно пришел в себя, чтобы сейчас налегать на кашу и жаренную на углях рыбу.
– Так все и было, – рассказывал Ратияр. – Ворота не взломаны, те бесы в городец попали по лестницам через стены и ворота отворили уже изнутри. Перед воротами у них случилась драка с местными дозорными, но тех было всего трое. Пока воевода на подмогу подошел, они уже все полегли.
– Перезван до середины двора только добежал, – вставил Лют. – И люди его все там. В той половине, что ближе к воротам, почти никого нет.
По расположению трупов рисунок боя в городце был виден довольно ясно и в целом подтверждал рассказ уцелевших.
– Убиты все, кто в городце был, – Лют отложил миску с ложкой и вытер рот запястьем за неимением рукава. – Даже бабы и мальцы воеводские.
– Да ну! – в изумлении охнул Ивор.
Гриди и отроки вокруг зароптали.
– И полона не брали? – воскликнул Святослав. – Даже баб?
– Все бабы на месте, там и лежат, – Лют кивнул на Велеба, который точно знал, сколько и каких женщин было в доме у боярина. – Жена Перезванова, три ее челядинки и трое чад. Все, – быстрым движением он провел большим пальцем под горлом, чем очень напомнил Мистину. – Даже сорочки не драны, похоже, и не отжарили. Сразу зарубили, и все.
– Торопились… – дополнил Альв.
– Взято все добро, что подороже, – продолжал Лют. – Все укладки взломаны, вытряхнуты. Забрали все платье, порты, вплоть до исподних. Про кафтаны хазарские я уж молчу. Вынесено оружие все, щиты, шлемы. Из этого ни пряжки не оставлено.
– Трупы раздеты? – уточнил Асмунд.
– Оружие и пояса сняты. Что из платья на телах было, то не тронули.
– Да все наши почти в исподнем и побежали, – добавил Велеб. – Нас только пятеро одеты были. Мы с Размаем и те трое, что у ворот полегли.
– А припасы?
– Смотри! – Лют оживился. – Чудное дело. Из припасов почти ничего не взято. Рожь осталась! – выразительно подняв брови, он оглядел озаренные светом костра лица слушателей. – Репа лежит, бобы, горох! Хоть жабой ешь!
Богатство Перезвановых запасов он слегка преувеличил, но дело и впрямь было странное. В эту пору зерно прежнего урожая обычно кончается везде – у иных весняков его только до середины зимы и хватает. Запасы овощей тоже подходят к концу, и многие дотягивают до жатвы только на речной рыбе и лесных кореньях. Чтобы в конце весны бросить репу и рожь?
– Птица взята. Скотина была в загородке, загородка разломана…
– Да здесь эта скотина! – перебил Ивор. – Мы пять коров за день нашли. Сами гуляли, без пастухов, без ничего.
– И тут на берегу овчин свежих, содранных, шесть штук в кустах валялось, – добавил Асмунд. – Мои парни нашли. Они, видать, птицу взяли, овец зарезали на пожрать, а коров бросили.
– И это значит, что уходили они отсюда водой, – сказал Ратияр. – И пришли, и ушли по реке.
– Как викинги, – дополнил Альв. – Это называется «береговой удар»: сойти с корабля, поймать скотину на ближних пастбищах, забрать мясо и уйти.
– Но что это за чертовы викинги завелись у меня здесь? – с негодованием воскликнул Святослав. – Здесь им не Норейг!
– Стрелы нашли? – спросил Асмунд.
– Да, – Лют кивнул своему оружничему, и тот выложил тоненькую связку из четырех стрел.
У двух почерневшее от крови древко было обломано – из тел вынули.
– Стрелы как стрелы. Я вот не знаю, чьи они могут быть, – Лют покрутил головой, дескать, может, поумнее кто найдется.
Стрелы пошли по кругу; воеводы и гриди брали их в руки, осматривали и качали головами. Наконечники не варяжские; две были из тех, что назывались «аварскими», но о хозяевах они не говорили ровно ничего. У киян имелись такие же.
– А вы не видели, – держа в руках обломанную стрелу, Асмунд глянул на Люта, – они городец поджечь не пытались?
– Нет! – оживленно ответил Лют и глянул на Альва и Ратияра. – Мы искали, нет ли где следов поджога. Там вторая вежа, которая над рекой, в нее дверь топорами вынесена, внутри четыре трупа. Но они даже эту вежу поджечь не пытались! Теряли своих людей – там кровь на ступенях и под дверью, – но не подожгли! И все остальное тоже. Утром печей еще не топили, огня в городце не было, потому само ничего не загорелось.
– Я же говорил. Сгорел бы – весь берег в головешках был бы.
Вокруг костра помолчали. Каждый в уме складывал в кучу добытые сведения и пытался понять, что все это может означать.
– И надо думать, ни одного трупа с черной рожей не нашли? – Ивор полувопросительно глянул на Люта.
– Своих они всех до одного забрали.
– А ты как думал? – хмыкнул Асмунд.
– Ну мало ли… пропустили второпях.
– Почему они городец не сожгли? – Лют выразительно оглядел бояр. – Сейчас тепло, снега нет, дождей не было, дерево сухое. Там две крыши соломенные – большое ли дело подпалить? И теперь хрен бы мы там чего разглядели. А так, смотри, – он повернулся к Асмунду, – бабы и чада перебиты, хотя их можно было бы в челядь взять или продать. Рожь и овощ на месте – а на дворе не осень, время не сытое. Коровы не угнаны. Пришли и ушли водой.
– Ну так что все это значит? – подался к нему Святослав.
– Не местные, да? – Асмунд вопросительно глянул на Ивора, потом на Ратияра и Альва. – Тяжелый груз в челны не возьмешь. Потому взяли только платье и оружие – что подороже.
– А баб чего не взяли? – почти перебил его Лют. – И зачем было рожи чернить? Никого не взяли, убили всех, чтоб видоков не осталось. И то – рожи зачернили, чтобы если кто сбежит, – он кивнул на Велеба, – узнать их не мог бы. Тогда, выходит, кто-то, кого они знали. Из местных.
– Я говорил! – Святослав хлопнул себя по колену.
– Местные взяли бы и овощ, и скотину! – возразил Асмунд. – Местным нынче голодно, они рожь так просто, как песок речной, не бросят. И коров угнали бы к себе, не оставили бы по лесу гулять. Да и баб тоже…
– Баба – она птица такая, – усмехнулся Ивор и подмигнул молодым оружникам. – Всегда на что-нибудь да сгодится!
– Куда они могли отсюда уйти по воде? – спросил Святослав. – Не вниз же по Днепру – мы бы тогда их встретили.
Между Перезванцем и Киевом обремененная даже небольшой добычей трехсотенная неведомо чья дружина скрыться не могла: на такие случаи тут стояли городцы вроде Вышгорода. Не могла она прийти и с верховий Днепра: тогда на пути ее встал бы хотя бы Любеч. Оставалась Припять, уводящая в южные окраины дреговичских земель.
– И не вверх, – дополнил Лют, – тогда бы их в Любече видели. Мистина к Ведославу посылал, спрашивал: раз нет ответной вести, значит, не встречали там таких людей.
– А не сожгли, чтобы об этом деле как можно дольше никто не знал, – сказал Альв. – Полыхни тут городец до неба – со всех сторон бы народ сбежался, и кто-нибудь на них бы да наскочил.
– Ему же было бы хуже! – хмыкнул Ивор. – Вон удалые какие!
– Они хотели прийти и уйти скрытно. И у них получилось. Остался единственный след…
– Добыча их! – перебил Альва Лют. – Платье, оружие. То, что взяли в городце. Хазарских и греческих кафтанов в этих краях не водится. Где что всплывет…
– Я не буду ждать, пока само всплывет! – горячо воскликнул Святослав. – По всему же видно, что это местные! Черненые рожи!
– Они не взяли припас и скот, – напомнил Асмунд. – Местные уж верно взяли бы.
– Чтобы со следа сбить! Вот и не взяли! Но они хотели, чтобы их не узнали…
– Потому и кричали «Хотимир»? – напомнил Альв.
– Давай-ка, княже, утром еще на свежую голову поразмыслим, – Асмунд положил руку на плечо воспитаннику, пытаясь остудить пыл. – Не сейчас же, ночью, бежать.
– Мы можем ударить уже на заре!
– Ударить недолго, да как бы не промахнуться.
– Это местные! По всему видно! Благожит решил, что если в Киеве молодой князь, то ему все позволено! Он думает, что я побоюсь мстить за моих людей! Если бы мать это видела, – Святослав махнул рукой в сторону Перезванца, – и она сказала бы, что нужно мстить! Она знает, что значит месть!
– Прежде чем новые трупы делать, надо старые прибрать, – с необычной для него мрачностью сказал Ивор. – Завтра, княже, прикажи Перезвановых отроков хоронить. Это были наши люди.
Все притихли.
– Они и так уже все лисами погрызенные, воронами поклеванные, – негромко добавил Велеб среди тишины.
Было так больно в груди, будто один из тех наглых воронов оторвал кусок его собственного сердца. Иных мертвецов они с Размаем из-за изгрызенных лиц даже узнать не смогли. Потрясенный всем увиденным, он и сейчас еще имел подавленный и растерянный вид, покрасневшие глаза влажно блестели.
При мысли о трупах Святослав тоже остыл и притих. Вспомнилось Размыслово поле – грязь, размешанная со снегом, тела везде…
– Завтра придется их выносить, – подвел итог Асмунд. – Там и решим…
– Утро вечера удалее! – пословицей докончил Ивор.
Куда уж быть удалее, подумал Велеб, глядя на неохотно идущего к своему шатру Святослава. Его не оставляло впечатление, что юный князь не столько озабочен местью за своих людей, сколько просто жаждет поскорее победить кого-нибудь.
Юность видит только себя; чтобы начать думать о других, надо хоть немного зрелости…
– Ну, пойдем-ка спать! – Альв поднялся и сделал знак зевающему Люту.
Тот помотал головой:
– Заснешь тут! Глаза закрою – трупы вповалку лежат.
– Хагни рассказывал, на Ингваровой могиле то же самое было – полсотни мертвецов, все лежат, где упали…
– Да мы в том городце болотном такое же видели, – напомнил Владар. – Помнишь, как у нас на Моравской дороге коней угнали. Там тоже было с полсотни, или поболее чуть, да, Сигдан?
– Там полсотни, здесь полсотни… – пробормотал Лют. – Кабы не дреговичи, я бы подумал…
Велеб шел позади, прислушиваясь к негромкому разговору оружников. И вдруг наткнулся на спину Люта – тот застыл посреди тропы, глядя куда-то в темноту.
– Что там? – глянув ему в лицо, Альв насторожился.
Телохранители привычно заняли места по сторонам от молодого господина, напряженно вглядываясь в озаренное кострами пространство стана с белыми пологами шатров.
– Да нет, – заметив это, Лют махнул рукой. – Ничего такого. Я подумал просто…
– Что подумал?
– Да нет, – повторил Лют, но сосредоточенный на какой-то мысли, напряженный взгляд его противоречил успокаивающим словам. – Не может такого быть…
* * *
Никаких мертвецов Люту не снилось – не до них было. С трудом погружаясь в дрему, он ворочался и снова просыпался. В голову, как мураши на сладкое, лезли воспоминания о зиме, заснеженном русле реки Случи, городе Туровце на западной окраине земли Деревской.
И среди ночи Лют вдруг сел на медвежине, служившей подстилкой.
– Белые свиты! – потрясенно выдохнул он в темноту.
– Что такое? – Альв у другой стены шатра проснулся от движения. – Что случилось?
– Ничего… я смекнул… белые свиты! «Печаль»! Они, эти бесы, не навями притворялись, чтоб страшнее было. Они были «в печали!» А кто сейчас в печали-то ходит?
– Мы все, – Альв имел в виду киевское боярство, где почти в каждом роду с прошлой осени появились погибшие.
– А еще – они. Древляне, жма…
Минувшей зимой, уже после разгрома Искоростеня, пока Святослав с войском ждал возле Веленежа подхода угорской конницы, Лют и Хакон, младший брат покойного Ингвара, поехали в Туровец, чтобы привезти к Святославу Будерада – главу малого племени случан. И внезапно обнаружили, что в Туровце засел Коловей, Любоведов сын, а с ним три сотни древлянских ратников, ушедших живыми из-под Искоростеня и не намеренных сдаваться. Лют был готов к бою – в ту зиму удача не отворачивалась от него ни на миг. Но Коловей предложил такой выкуп за позволение ему с людьми уйти на Волынь, что Лют и Хакон согласились на эту сделку. Благодаря тому случаю Лют отлично знал о существовании трехсотенной древлянской дружины с весьма решительным вождем. Та, что уцелела, когда вся земля Деревская была побеждена и покорена.
Не будучи так умен и проницателен, как старший брат, глупцом Лют тем не менее не являлся и мог связать два конца не хуже всякого другого. Если Перезванец разорили древляне под началом Коловея, это объясняло почти все странности. Они пришли к городцу по воде, на челнах, куда не могли взять скотину и припасы. Они убили всех, кого достали: пленники могли бы их выдать. Они не подожгли городец, чтобы не созвать к нему всю округу и не дать местным вервям вовремя заявить о своей невиновности. Но они хотели, чтобы в Киеве узнали о гибели Перезванца и приписали ее дреговичам – отсюда крики «Хотимир!». «Они нарочно видоков живыми отпустили, – сказал Альв, когда уже укладывались в шатре спать. – Иначе там на отмели тоже ждали бы. У них люди есть: оставь десяток, и готово, всех бы постреляли, не дали уйти».
Оставалось неизвестным, чего древляне – если это все же были они – хотели этим добиться. Просто отомстить русам, нанести им ущерб, какой получится? Стравить с дреговичами? Мистина говорил, что случай удачный и что повод для раздора пришелся кстати. Но чтобы древляне доставили киянам удачный случай? Кто кого перехитрил? Лют отчаянно жалел, что Мистины нет рядом. Цена ошибки могла оказаться слишком высока.
Утром Лют первым делом поделился своей догадкой с Альвом и Ратияром. Этим двоим Мистина доверял, и Лют переносил на них часть своего уважения к брату.
– Но чем мы докажем? – сказал Ратияр, выслушав о новом обороте дела. – Белые свиты, припас, видоки перебитые… Если б хоть кого-то из них узнали!
– И это тоже! – Лют ткнул в него пальцем. – Были б местные, Перезвановы отроки могли бы хоть кого-то узнать. А древлян им знать откуда? Только на Размысловом поле и встречались! Рассказать? – Он кивнул в сторону княжеского стана. – Ведь если оно так – это все меняет. И тут у нас не начало новой войны, а продолжение прошлогодней!
Оружники переглянулись и дружно покачали головами.
– Не спеши, – посоветовал Альв.
– Ты ведь виноват окажешься, – дополнил Ратияр. – Ты Коловея с дружиной отпустил живыми.
Лют и сам ощущал свою вину. В тот зимний день это решение казалось наилучшим: ни он, ни Хакон не хотели терять в бою людей, уже когда вся война, по сути, была окончена, а в обмен на свою жизнь и свободу Коловей предлагал то, что Святослав очень хотел иметь – меч его отца, Ингвара, потерянный в час гибели. Древляне уходили куда-то на запад, на Волынь, и тогда было не важно, что станется с ними дальше. Чем могли угрожать могучей земле Русской эти три сотни израненных, оборванных изгоев, утративших свою землю и роды?
Но вот не прошло и полугода, как обозначились перемены. Прими он тогда, близ Туровца, другое решение – и разгрома в Перезванце могло бы не случиться и были бы живы все те люди, которых он вчера видел мертвыми. От этой мысли Люту стало зябко.
Он лишь недавно получил право и возможность сам принимать решения. А цену его ошибкам жизнь сразу назначила высокую…
– Там со мной был Хакон. – Для других этот довод мог снять с него вину, но самого Люта не очень убеждал. – То есть я был с ним. Он – княжьего рода и князю стрый. Он был главным.
– Хакона здесь нет. Винить будут тебя, а через тебя – Мистину.
Подвести брата Лют вовсе не желал – ему было отлично известно, каким сложным стало их положение в Киеве после гибели Ингвара. Но ценой молчания могла оказаться война, которой не хотела Эльга, да и Мистина, в общем, тоже. Сейчас не хотел.
– Все равно же это только твои догадки? – попытался утешить его Ратияр.
– Чем больше думаю, тем сильнее верю. Вот… чуйкой чую!
– Чуйку к присяге не поведешь. Князь тебе не поверит. Ты только даром себя виноватым выставишь, но Святослав своего решения не переменит.
«Князь жаждет крови», – вспомнились Люту слова брата. Он и сам каждый день наблюдал боевой задор юного князя. Одними догадками его не перебить.
«Нам нужны новые данники… повод для войны – подарок… я был уверен, что придется его придумать», – говорил Мистина. Выходит, что догадки Люта о древлянах шли вразрез с желаниями его брата.
Почему же Мистина был так недоволен? «Эльга не хочет войны…»
Какое место княгиня занимает в жизни Мистины, Лют разобрался еще зимой. С ним самим Эльга тоже была очень ласкова, и Лют, хоть и не очень много об этом думал, считал ее солнцем своего мира – повелительницу Руси, прекрасную, как Утренняя звезда, и любимую его братом. Ее поцелуй перед дружиной он считал главной своей наградой за возвращение Ингварова малого стяга – а данное вместе с тем золотое колечко лишь памятком. И Лют вспоминал о том поцелуе каждый раз, как колечко на собственном мизинце попалось ему на глаза. Если бы виновниками беды оказались древляне, княгиня огорчилась бы, но и вздохнула с облегчением – это избавило бы русь от немедленной новой войны. Лют, как и Мистина, хотел бы ей угодить, утешить…
Однако… Кроме блага Эльги, еще было благо ее державы. «Судьба с одним гостинцем дважды не приходит»…
– Благожит все равно виноват! – видя мучительное раздумье на подвижном лице Люта, Альв утешающе похлопал его по плечу. – Он ведь обещал Перезвану мир на своей земле, когда Ингвар с ним ряд клал про городец. А ряд порушен. Благожитова вина.
– Потому что, – Ратияр поднял палец, – коли ты князь, то какой ни выйди раздор меж землей твоей и небом, крайний – ты!
Часть вторая
От Невидья до Перунова камня идти было с два поприща. Яра проделывала этот путь каждое утро: такой урок ей определила сама Толкун-Баба. При жизни многих поколений здесь ходила только одна женщина или дева; если же марушкам, «белым» дочерям Толкун-Бабы, приводилось навещать камень полным числом – девять, – то они шли одна за одной, след в след, издавна сложившимся порядком, и каждая знала свое место в этой череде. Плотно набитая, но очень узкая тропинка приводила на ум сказки о путеводном клубке: тонкой нитью она тянулась через рощи, сосняки, склоны оврагов, то петляя средь бурелома, то устремляясь прямо вперед. Она выходила к броду через ручей, и приходилось перебираться по камням, торчащим из воды, чтобы на том берегу вновь поймать кончик этой едва видимой нити. Пролегая через заросли «Перуновой травы», она совершенно скрывалась под пышными зелеными перьями высотой Яре по пояс. Чтобы видеть, куда ступаешь, она осторожно раздвигала их тонким посохом из еловца. Часто хотелось ускорить шаг – поймать или хотя бы увидеть этот вечно убегающий с глаз чудесный клубок.
Тайную эту тропу знали только свои, близкие к Невидью люди. Пути, которыми к Перунову камню ходили жители Хотимировой волости, с нею не пересекались. Только однажды, две осени назад, в пору, когда выбирают соты, Яра повстречала здесь пчеляра-бортника: тот шел с коробом на спине, источавшим запах меда. Завидев юную деву в белой свитке, он не кивнул, не поклонился – для его глаз она считалась невидимой. Зато остановился, снял короб с плеч, вынул половину хлеба – вторую половину оставил под бортевой сосной – и кусок медовых сот. Дары он положил на подвядший лист лопуха, а сам сошел с тропы и двинулся дальше по кустам. Яра подобрала хлеб и мед – это было оставлено для нее, как другая половина хлеба – душе дерева. К тому времени она прожила в Невидье уже пять лет и выросла с мыслью, что отличается от обычных людей. Привыкла, замечая их краем глаза, смотреть будто сквозь них, не встречаясь глазами. Она тоже «не видит» пчеляра, что горбится под тяжестью короба. Но хорошо видит дары, оставленные им за проход по «кудесовой тропке».
Жители Хотимировой волости поляну посещали часто, и тропы, ведущие сюда с другой, человеческой стороны, были куда шире, чем от Невидья. Трава здесь не росла, вытянутый серый валун лежал на подстилке из прошлогодней листвы. От Яры требовалось каждый день обметать его метелкой из можжевеловых ветвей, убирать трехдневные подношения и выбрасывать в ручей, очищать от налетевшего сора три чаши – углубления на поверхности камня. Вода из них считалась целебной, и люди приходили сюда, чтобы промыть ею больные глаза.
«Эти чаши Перунова коня копытами выбиты, – давным-давно рассказывала Яре мать, когда приносила ее, двухлетней девочкой, на поляну. – Гнался Перун за Змеем, скакал во весь опор, а Змей юркнул под камень и у себя в норе укрылся. Проскакал Перун по камню, конь его три раза копытами огненными ударил да и прямо на небо взвился. А следы остались».
«Так, значит, змей здесь, под камнем, и живет?» – спросила у матери Яра, когда была уже постарше, лет шести.
Шероховатая, чуть зернистая, прохладная поверхность серого камня наводила на мысль о жесткой шкуре Змея, и смотреть на нее было страшно.
«Живет он в подземелье глубоком, – мать приобняла ее. – Лазеек туда много. Здесь – одна».
«А еще где?»
«Под камнями большими. В водах глубоких. В ямах, под пнями, под кореньями. А бывает, – мать вздохнула, – у иного человека сердце – лаз в подземелье Змеево».
Яра тогда очень испугалась этих слов. Ходила, присматривалась к чужим людям – в Хотимирль к отцу часто ездили чужие с разными делами, которые мог разрешить только князь, – и если кто ей не нравился, то мерещилась в груди у него черная дыра, ведущая прямо к Змею. Если рубаху снимет – будет видно. От таких людей она старалась держаться подальше.
Переселившись в Невидье, однажды Яра рассказала про эти дыры в сердцах Толкун-Бабе. Та улыбнулась и погладила ее по голове.
«Придет час, – сказала она, – научу тебя эти дыры и через платье видеть».
«А нельзя сейчас?» – на всякий случай спросила Яра.
Без особой надежды: она уже знала, что всякому знанию свое время.
«А коли Змей на тебя из норы глянет – знаешь, что делать?»
«Нет», – со стыдом призналась Яра.
«Прежде чем Змея глядеть, надо с ним управляться выучиться. А это в один раз не выйдет».
Ученье было делом долгим. Отправляясь в Невидье, Яра знала: она проведет там семь-восемь лет, а выйдет назад в белый свет уже невестой. Если она пыталась вообразить себя взрослой и умеющей справляться со Змеем, то видела совсем другую деву, похожую скорее на Кариславу, чем на себя саму. Взрослая жизнь – совсем другая жизнь. Путь туда лежит через тот свет. Яра отправилась в Невидье восьмилетней девочкой, и путь ее обратно к живым продолжался вот уже почти семь лет. До конца его оставалось не так долго…
Яра шла не торопясь – была та пора года, когда сама земная грудь с каждым вздохом источает блаженство и человек с каждым шагом наполняется им. Вдоль тропы цвела земляника, а на прогалинах меж берез зеленовато-белые продолговатые ягоды зарумянились с одного боку. Не удержавшись, Яра срывала такие ягодки, бережно прижимала к губам, стараясь перенять с них поцелуй солнца, и тот долго еще держался на них. Теплое, немного тревожное, будоражащее томление растекалось по телу, хотелось бежать через лес, навстречу кому-то, неся ему этот поцелуй, как драгоценный, божественный дар… Вот только кому? Кто встретится ей там, впереди? Кому она передаст в поцелуе это томление, саму душу и судьбу свою?
Этого Яра не знала, но невольно ускоряла шаг. Молодое существо ее стремилось навстречу неведомой судьбе с бесстрашием, свойственным только ранней юности, верящей, что жизнь припасла для нее лишь добрые дары. И березы, как подружки в игре, бежали вместе с ней; листва уже полностью распустилась и заливала зеленым шорохом ветви. Кроны беспрерывно волновались, и казалось, при сильном порыве ветра они могут оторваться и полететь, будто ветрило, сорванное с мачты. А что, если успеть уцепиться и полететь в зеленом облаке – высоко над лесом, выше и выше, к синим небесным полям, к белизне пушистых Перуновых овечек… Яра прямо видела, как летит, как расстилаются внизу леса, поля, реки… Дух захватывало, перед глазами мелькали солнечные пятна, и она останавливалась на тропе, опустив веки, медлила, чтобы прийти в себя.
Такие полеты опасны – сумеешь ли воротиться? Найдешь ли в небе обратный след?
* * *
Толкун-Бабе не приходилось убеждать Яру в том, как сильна власть рода над человеком. Яра с детства знала это немногим хуже, чем сама Толкун-Баба. Навь показала ей себя во всей мощи и навсегда отбила охоту противиться своей доле. Яре шел седьмой год, когда при родах умерла ее мать. Княгиня до того рожала пять раз, но в живых остались только двое чад: Яра, первый плод утробы, и Будим, ее брат. Отец все надеялся, что Мокошь пошлет еще хотя бы одного-двух сыновей, но мальчики умирали почти сразу, как появлялись на свет. Видно, тяжко им было на том свете без матери – последний увел за собой и княгиню.
Тогда Яра впервые увидела Толкун-Бабу – ранее девочку не допускали до тех обрядов, где появлялась старшая из вещих женщин Хотимирова рода. Но знать она о ней, конечно, знала. Самые маленькие слышали, если слишком шалили: придет Толкун-Баба, заберет и в ступе столчет! И вот она пришла. Но не за Ярой. Принесла лишь помело – одно из трех своих священных орудий, служивших к тому же и знаком власти. Два других – ступу и пест – обычным людям даже видеть не полагалось. И теперь она пришла, чтобы пустить помело в ход – смести останки сожженного тела с прогоревшей и остывшей крады.
С Толкун-Бабой явились три ее «белых» дочери, и Яра в изумлении смотрела заплаканными глазами, как три незнакомых женщины в белой одежде прибираются в доме и разбирают материну скрыню. Толкун-Баба достала сорочку из запасов княгининого белья, туго свернула ее, приговаривая что-то, опоясала черной нитью, потом отрезала часть белого плата и повязала на скрутку из сорочки – получилась лелёшка, вроде тех, которые нянчат девочки, но совсем другая…
Поначалу Яра смотрела на лелёшку с ужасом – Толкун-Баба своими руками сотворила ей новую мать взамен умершей и сожженной на краде. Слепым полотняным лицом та смотрела из чурова угла за ходом поминальной стравы. Яру послали отнести ей угощения, и она повиновалась дрожа. В лелёшке теперь пребывала часть души матери, но какой ужасной была эта перемена! Девочку и тянуло к лелёшке, и отталкивало.
Толкун-Баба подозвала девочку к себе. Яра подошла с решимостью отчаяния. Она знала, что эта небольшого роста морщинистая старуха во всем белом – самая мудрая, самая могущественная в земле хотимиричей. Толкун-Баба ведает, как сироте дальше жить. Оставшись без родной матери, Яра тем самым перешла под крыло к старшей матери всего рода и с покорностью ожидала ее воли.
Глаза у Толкун-Бабы оказались светлые, серовато-голубые, будто разбавленные весенней водой. Но добрые и грустные, и Яре снова захотелось плакать.
– Матушка твоя добрая и честная женщина была, у дедов ее с почетом примут, – сказала ей Толкун-Баба. – Как душа с телом расстается, то идти ей до дедов и бабок ровно сорок дней. И покуда идет она, нужно лелёшку-материнку кормить, поить, чтобы душеньке сил на долгий путь достало. А как минует сорок дней, ты эту материнку возьми себе и спрячь получше. Береги ее, а как будет печаль на сердце, достань, покорми и скажи: матушка моя, покушай и моей беды послушай. Расскажешь ей свое горюшко – она и поможет тебе.
Яра заливалась слезами от острой боли потери, и поначалу только об этом она и могла лелёшке рассказать. Но становилось легче: мать не ушла совсем, огненные ворота крады и желтые пески родовой могилы не отделили ее от дочери совсем.
Близилась осень, и Яра стала понимать из разговоров, что после Дожинок у отца вновь появится жена. Князю Благожиту не было еще и тридцати – не старый человек, отец всего одного сына, он не мог жить остаток жизни вдовцом. Роду Хотимирову нужна хозяйка, мать живой чади.
– Вы не тужите, не бойтесь, княгиня новая вам не чужая, – утешал Яру и Будимку перед свадьбой отец. – Она матери сестра родная меньшая. Пятая дочь Истимирова. Ей как раз срок замуж идти, дед Истим и дает нам другую дочку взамен первой. Вот нам всем какая судьба вышла.
Дед по матери, Истимир Будимыслович, жил не так далеко и несколько раз в год навещал старшую дочь с зятем. Но всю его чадь, особенно женскую, дети не знали. Было им тревожно: а вдруг новая княгиня окажется злой? Мало ли сказок они знали – о том, как мачеха после смерти родной матери берет детей и уводит в дремучий лес. А там будешь идти через чащи дремучие и болота зыбучие, пока не придешь к избушке, где вокруг стоит высокий тын. А на каждом колышке – по голове человечьей…
Но того, что оказалось взабыль, они никак не ожидали. Яра увидела новую княгиню на второй день свадьбы. Вот родичи двумя печными ухватами воздели покрывало перед лицом новобрачной, та подняла глаза… И Яра вскрикнула. Перед ней стояла мать – живая, и не бледная, с запавшими глазами, как девочка видела ее в последний раз, а свежая, румяная, с веселым блеском в очах.
Яра едва не упала: от потрясения будто пол содрогнулся под ногами. А потом пошла вперед – как во сне, стремясь прикоснуться к видению, пока не растаяло. Мать увидела ее; в глазах мелькнула улыбка, она протянула руки навстречу Яре и обняла ее. Девочка прижалась к ней и зарыдала от облегчения: случилось то, чего, как ей говорили, никогда не может случиться. Мать откликнулась на призывы встать, звучавшие над могилой, вновь явилась приветить своих детушек… Яра и Будимка не сироты, их родная мать воротилась к ним из Нави…
Девочке даже казалось поначалу, что так всегда и бывает: стоит любому вдовцу жениться, как в новой жене вернется прежняя. Для того и нужны все длительные, сложные обряды погребения, поминальных страв и призывов на могиле мертвой проснуться, делаемых через девять, двадцать и сорок дней после смерти. Немудрено, что для этого приглашают саму Толкун-Бабу: вся мудрость живых и мертвых нужна для такого сложного дела!
Поначалу мать плохо помнила прежнюю жизнь: не признавала ни людей в Хотимирле, даже отцовых родичей, не находила, где что лежит. Яра сама ее водила по двору и по веси, показывала, гордясь, что может помочь. Эти маленькие странности ее не смущали: уж очень большим счастьем было то, что закрылась та холодная пропасть одиночества и бесприютности, в которую она было рухнула зимой. Отец ходил веселый, и казалось даже, что весь мир вокруг посвежел и помолодел вместе с новой Благожитовой княгиней.
Однако дива еще не закончились.
– Послушай, что скажу тебе! – Однажды весной мать посадила Яру близ себя и взяла ее руку в ладони.
Яра тогда уже ловко умела прясь очесы, как полагается в ее годы, но на руки матери смотрела с восхищением и почтительной завистью к ее умениям. Поначалу Яра видела разницу: теперь у матери было немного другое лицо, и могила заметно омолодила ее. От невест, что еще ходили на девичьи попряды, ее отличал только женский плат, сложным образом обвивавший голову, шею и плечи. А походка у нее стала легкая, девичья, движения порывистыми, смех звонким. Но это ничуть не мешало Яре. Глядя на обновленную мать, она часто видела у нее за спиной как бы дерево – или тень дерева. Чудное это было дерево: оно вроде бы здесь, совсем рядом, можно рукой коснуться, но верхние ветки его уходят на небеса. Прежде мать была не такая – добрая, но слабая здоровьем, быстро устававшая, почти всегда – с «брюхом», из-за чего ей то и дело недомогалось, и Яра привыкла ее беречь и не утомлять. Из Нави она воротилась женщиной-деревом, неутомимой и легкой, и даже зубы у нее теперь были все на месте…
Яре казалось, что ни с кем в семье мать не чувствует себя так хорошо, как с ней вдвоем. И девочка радовалась тайком: новая мать принадлежала ей полнее, чем прежняя. А глаза ее, голос остались прежними, и спустя немного времени Яре уже казалось, что та всегда такой и была.
А теперь Яре пришел срок узнать, чем ее радость была оплачена.
– Отпустила меня Навь, но взамен службы требует, – сказала мать. – Пришел твой срок ей послужить.
– Как это? – Яра слегка оробела, но не так чтобы испугалась.
Она куда меньше стала бояться Нави, всего, что связано со смертью, после того как столь страшное горе, как потеря матери, разрешилось ее возвращением.
– Толкун-Баба желает, чтобы ты к ней пришла и пожила у нее, послужила ей, а она тебя всякой мудрости обучит. Зато как вырастешь ты и настанет тебе срок замуж идти, ты уже будешь сама мудрой девой: будешь ведать всякие зелья, всякие клюки чародейные[10] превзойдешь.
– И меня тоже выучат… с того света обратные следы находить?
– Это уж как Толкун-Бабе поглянется. Угодишь ей – она такому научит, что мы сейчас и вздумать не можем.
Собрались они в первое же погожее утро. Никому не сказали – мать предупредила Яру, что дело у них тайное и о нем нельзя говорить ни с кем. Разбудила ее чуть свет. Крадучись они двигались по избе, чтобы не потревожить отца и брата. Мать хотела ее покормить, но Яра не могла есть – ее трясло от волнения и предчувствия какой-то очень большой, очень важной перемены. Она видела, что мать тоже волнуется и притом ей весело – как будто они затеяли тайком от ближников некую шалость. В эти мгновения мать едва ли не казалась Яре почти такой же девочкой, лишь выше ростом и во взрослом уборе.
Вдвоем они вышли со двора; держась за руки, пробежали по тропке через луг и углубились в лес. Свет весеннего утра казался особенно ярок и живителен, свежий воздух был напоен силой; так и хотелось прыгать, и мнилось, он сам поднимет над землей. Но Яра не прыгала, захваченная предчувствием перемены. Вот-вот она сделает важный шаг от дитяти к взрослой деве…
Миновали знакомую рощу, где Яра гуляла, сколько себя помнила, и собирала ягоды, еще пока мать не умирала… Прошли, поклонившись, поляну с Перуновым камнем. Перебрались по камням, едва видным из высокой весенней воды, Каменный брод на Смородинном ручье. Уже возле того берега Яра все же поскользнулась и соскочила одной ногой в воду. Пришлось садиться и менять мокрый чулок на сухой из запаса в коробе.
Дальше начался другой лес: здесь было больше сосен, чем берез, а сосны ведь не то, что подружки березки – такие рослые и важные, что Яра посматривала на них с благоговением. В каждой из них теперь живут чьи-то деды, наблюдают тайком, и Яра шла ровно, степенно, чтобы не осрамиться под этими испытующими взорами.
Шли они долго, как показалось Яре, она устала, ноги заново промокли по весенней сырости. Но девочка не ныла. Толкун-Баба живет со своими дочерьми в самом Закрадье, а туда дорога долгая – сорок дней. Яра не удивилась бы, если бы столько и пришлось идти, но у матери не было с собой никаких пожитков и припасов. Да и у нее самой лишь коробок за спиной, а в нем две сорочки, гребень, рушник и лелёшка. Поминальную лелёшку Яра кормила и сейчас: так велели. Иногда у нее мелькала пугавшая ее мысль: мать вернулась, потому что душа ее задержалась в лелёшке, а если лелёшку не кормить и не беречь, то мать снова исчезнет. Навь была сложна для понимания, но Яра и не пыталась охватить ее мыслью, как не пытаешься увидеть разом все небо. Чтобы понимать все, надо быть такой седой и морщинистой, как сама Толкун-Баба, а до того ей предстояло прожить еще не одну жизнь.
– В Невидье народу множество, но ты как войдешь, поначалу никого не приметишь: они для тебя незримы, – наставляла ее по пути мать. – Как ступишь за порог – по левую руку увидишь лохань и на краю рушник. Ты лицо умой, рушником оботрись. В лохани будет мертвая вода – как ты очи промоешь, и откроются у тебя глаза по-иному. Увидишь перед собой стол накрытый. Ты с хозяевами поздоровайся, попроси позволения сесть. Тебе голос ответит, но хозяев ты не увидишь. Не бойся, садись и ешь. А как поешь – тогда увидишь, что будет…
Мать находила дорогу там, где не было никаких тропок, вела девочку по мощенным среди топи гатям, в обход бурелома. Но вот она остановилась и взяла Яру за плечи.
– Дальше мне нельзя, ты одна ступай. Вот туда, – она показала рукой, – увидишь глубокий овраг, стало быть, близка уже Навь. Спускайся и иди, пока не увидишь высокий тын…
– А на нем головы человечьи?
Как ни крепилась Яра, но сейчас, когда мать вот-вот готова была опять оставить ее одну, да еще среди дремучего леса, ей вновь захотелось плакать.
– Там коровьи черепа, – шепнула мать, будто украдкой, хотя кто здесь мог их слышать. – Не бойся. Навь нужно знать, а не бояться. Для знающего человека страха нет.
– Но я не знаю ничего! – Яра в отчаянии вцепилась в ее белую свиту с широкой красной полосой.
– Пока что за тобой бабки приглядят. В роду у нас мудрых матерей довольно – их мудрости тебе на первое время хватит. Увидишь мышку – угости ее чем-нибудь, значит, бабки пришли. А дальше будешь учиться – и знание придет. Главное, учись прилежно – и никогда уже не будет тебе страшно. Ведь страх – он от слепоты, а вежество очи в душе отворяет.
Мать прижала к себе девочку, поцеловала в лоб, повернула и легонько подтолкнула. Яра обернулась, но лицо ее спутницы стало строгим. И вдруг ясно вспыхнуло понимание – это не мать, это совсем другая женщина! Пусть и похожая, но другая! Недаром же все в Хотимирле называют ее Кариславой, а раньше она была Даромила… И это открытие так напугало Яру, что она вновь повернулась и поспешила вперед.
Шагов через десять она обернулась – но на том месте, где они простились, уже никого не было.
Белый свет, мир живых, покинул Яру. Кругом расстилался темный лес – межа Нави, мира мертвых. Навь ждала ее, желала службы, обещала одарить мудростью.