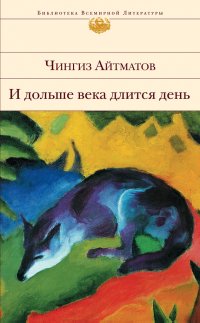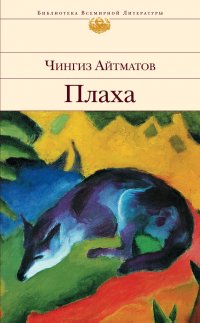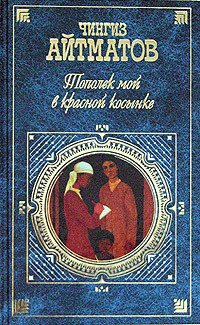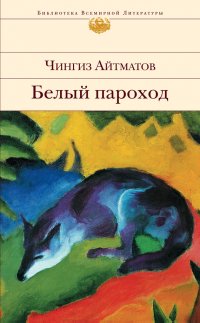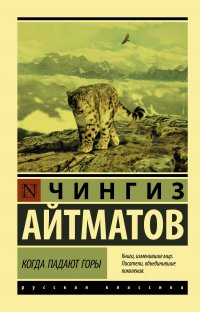
Читать онлайн Когда падают горы бесплатно
- Все книги автора: Чингиз Айтматов
© Ч.Т. Айтматов, наследники, 2021
© ООО «Издательство АСТ», 2021
Тавро Кассандры
Из ересей XX века
Когда Кассандра отвергла любовь Аполлона, он наказал ее тем, что никто не верил ее вещим предсказаниям…
Из древнегреческой мифологии
А блаженнее их обоих тот, кто еще не существовал, кто не видал злых дел, какие делаются под солнцем.
Екклесиаст
I
И на сей раз – в начале было Слово. Как когда-то. Как в том бессмертном Сюжете.
И все, что произошло затем, явилось следствием Сказанного.
Многие, однако, кому суждено было первыми столкнуться со столь неожиданным происшествием, никак не предполагали, что со временем им предстоит наперебой описывать в мемуарах именно эту историю как самое потрясающее событие в их жизни. Причем все они, очевидцы, были обречены начинать свои воспоминания расхожей фразой: «Невероятные события того дня развивались, как в детективном романе».
Впрочем, так оно и было. Сотрудники газеты «Трибюн» вдруг получили распоряжение главного редактора, согласно которому на время экстренного заседания редколлегии, спешно собравшейся на руководящем этаже, строго запрещалось звонить куда бы то ни было, отвечать на звонки и факсы и, более того, пропускать в помещение редакции посетителей.
С этого экстренного заседания все и началось.
Опубликовать на страницах газеты подобное заявление – такое разве что во сне могло привидеться! Но надо было решаться и надо было действовать. Вопрос стоял неумолимо: или – или. И «Трибюн», достаточно энергично и ревностно поддерживавшая свой имидж «властительницы дум на всех континентах», не удержалась-таки от искушения (разумеется, дьявольского, как утверждали потом оппоненты), слишком велика была ставка – сенсация мирового масштаба. Редакция получила эксклюзивное право на этот материал и решила крупно рискнуть, пошла ва-банк, пошла на молниеносную публикацию неслыханного в истории человечества документа.
Вот тогда-то, в начале событий, один из редакционных обозревателей бросил запомнившиеся многим слова: «Ну, все, ребята, – сказал он, держа в руках сырой оттиск полосы, – историю зашкалило за пределами мыслимого! И ведь благодаря нам, нашей “Трибюн” эту планку теперь никому не одолеть. Выше не прыгнешь, а все остальное, как говорится, увидим – жизнь покажет. Чем все это кончится? Посмотрим! – Он покачал головой и добавил многозначительно: – Впрочем, коллеги, извините, должен предупредить, теперь пусть каждый подумает о себе – что будет через час, неизвестно».
Откровенно говоря, было чего опасаться. Каждый это понимал. Настроение в редакции в тот день менялось час от часу, то полное отчаяние всех – от главного редактора до стажеров с журналистского факультета, набивавших здесь руку для будущих репортажей, – все скрывались за дверьми, не выходили из-за столов и избегали говорить друг с другом, то, напротив, – безумный ажиотаж, когда все носились по коридорам и кабинетам, галдя и блестя глазами от возбуждения. Однако впору было подумать и о другом – не кинуться ли баррикадировать двери и окна на случай натиска разъяренной толпы, которая, вне всяких сомнений, не должна была заставить себя долго ждать, ибо налицо были все причины, чтобы прихлынувшая уличная публика (ее не удержала бы никакая полиция) била вдребезги стекла, расшибала об пол телефоны, крушила мебель и оргтехнику и под объективами телевизионщиков, подоспевших на скандал, свирепо трясла за грудки газетчиков, посмевших буквально в одночасье смутить весь мир, столкнуть человека воистину с самим Богом…
Но покуда ничего не ведавшие гудящие толпы людские привычно катились по улицам великого американского города, привычно протекали живыми реками вдоль стеклянных небоскребов, а рядом так же беспрерывно двигались по улицам сияющие потоки машин, над головами пролетали ослепительно блестевшие вертолеты. Еще никто не пришел в ужас, не вскричал на площади, потрясая крамольной газетой, кощунственно вторгшейся в таинства миропорядка, никогда не вызывавшего прежде никаких сомнений, еще никто не бросил подстрекательного клича, чтобы всколыхнуть всех вокруг и двинуться на исчадие ада…
«Трибюн» спешила, опасаясь конкуренции. Задержись выпуск номера, переверстываемого буквально на ходу, хоть на полчаса, материал этот, прибывший из космоса, опубликовала бы другая газета в любой другой части света, чем бы это для нее ни обернулось. «Трибюн» не могла упустить своего шанса, даже если это вызвало бы всемирный потоп, который смыл бы в пучину все живое на земле, после чего никакая газета никому и нигде уже не потребовалась бы…
А океан, это хранилище всемирного потопа, грядущего и скорее всего неизбежного, в тот день могуче зыбился меж материками, неуловимо покачивая всей своей подвижной массой земной шар, играл гигантскими течениями, самовозбуждаясь и вскипая мгновенными грядами волн, мерцал и блистал на всем своем огромном пространстве.
Футуролог смотрел на кипящую магму океана с высоты, любовался ею в иллюминатор авиалайнера, летевшего над Атлантикой. И то, что он созерцал, восхищало его в тот солнечный день, хотя ничего необыкновенного не было, – обыденное и, более того, вынужденное зрелище для сотен авиапассажиров – внизу океан, вода, волны, однообразие, пустынный горизонт. Ему же думалось о том, как прекрасно, что крохотное око человеческое способно обозреть безграничное мировое пространство. И это не случайно. Никому, даже подоблачному орлу, не дано такое панорамное виденье. Да, благодаря техническим достижениям, ставшим порой рукотворной реальностью, человек обнаруживает в себе все новые ресурсы вселенской приспособляемости и достигает божественного могущества. Ведь только Богу дано целиком обозревать землю, несясь над миром незримым вихрем на незримой высоте. Вот о чем думалось Футурологу на досуге, под устойчиво равномерный гул самолета. Как хорошо остаться наедине с собой… Слегка захмелевший от выпитого виски золотисто переливавшегося на дне большого бокала со льдом, он не сопротивлялся приятному возбуждению в крови, напротив, ему хотелось подольше сохранить столь редкое чувство вольной принадлежности самому себе. И то, что кресла рядом пустовали, соседей, которые могли бы отвлечь его разговорами, в ряду не было, тоже было редким везением.
Футуролог возвращался из очередной поездки в Европу. Опять международная конференция, сбор интеллектуалов, опять нескончаемые дискуссии, ставшие образом жизни этой космополитической среды, дискуссии, перетекающие одна в другую в круговороте мнений и предреканий. Речь снова шла о перспективах мировой цивилизации, об опасности монополярности развития и тому подобном – всегда актуальных проблемах, на осмысление которых уходила, можно сказать, вся жизнь гарвардского ученого мужа, и чем глубже, казалось бы, постигал он с годами эту науку оракула, тем сильней становилось ощущение сизифовой неизученности упорно изучаемого – перспектив живущего изо дня в день рода человеческого. И думалось порой, что за докука – вечно стремиться упреждать судьбу, вечно маяться в поисках смысла жизни, того, что никогда никому не откроется – ни сегодня, ни завтра, ни через тысячу лет?! Но попробуй откажи себе в этом неизбывном забеге мысли в будущее, возможно ли не изводиться, не отчаиваться, не пытаться разглядеть то, что еще только маячит на горизонте?! Судьба без образа будущего – бесплодна. Но насколько трудно временами, призывая себя к научной невозмутимости, к позиции «над схваткой», решаться объективно прогнозировать, предсказывать куда, в какие пропасти норовит закатиться так называемое колесо истории, да и колесо ли это, возможно, нечто иное, что-нибудь вовсе не способное катиться, что-нибудь вроде сплющенного от страшного удара велообода с разлетевшимися спицами, – ведь этой форме движения так и не находилось емкого определения в науке. Приблизительность, эскизность, декларативность – вечные признаки «колокольной» футурологии, эмпиричной и драматичной одновременно, и тем не менее берущейся все истолковывать и предугадывать. От иных прогнозов, сделанных с той высоченной, но шаткой «колокольни», попросту хотелось бежать, как от черной дождевой тучи, самому становилось страшно от своих же прогнозов, от ощущения роковых круговертей истории и, прежде всего, от наступления неукротимых сил, открыто домогающихся везде и повсюду власти и только власти, порождая новое зло взамен старого, ибо всякая власть, что бы она ни заявляла о своих целях, кровообращением своим имеет повелевание. Для души, вопреки всему алчущей истины и недостижимого идеала, футурология в этом смысле была заведомым терзанием и мукой. И, однако, отказаться от извечных попыток предугадать будущее, что пытался делать еще бессловесный первобытный человек, отказаться от этого совершенно бескорыстного занятия, возможно, из мессианских побуждений предрекать суматошным отродьям людским пути предполагаемого развития, Футурологу уныло трудно, все равно что отречься от самого себя. Сколько лет отдано этому! Удержаться же на высоте в современном прагматичном обществе «предсказателям» не так-то просто. Прошли те славноантичные времена, когда дельфийские пифии прорицали и гибель, и триумфы от имени богов. Увы, в XX веке отношение к оракулам куда как надменнее и язвительнее. Однако и это не так страшно. Футуролог и его коллеги жили в своем кругу, своими профессиональными интересами. К примеру, его нынешняя поездка в Европу была связана не только с симпозиумом, но и с презентацией его новой книги, изданной во Франкфурте-на-Майне. Кто-то на приеме полушутя сказал по этому поводу, обыгрывая немецкое слово «майн», что, мол, великий город на Майне опубликовал великую книгу «Майне Хераусфордерунг» («Мой вызов самому себе»), которую вряд ли кто может опровергнуть, кроме разве что самого автора. А в той книге он поотряхнулся от левачества, как от липучего репья. Это действительно был вызов самому себе, вернее, былым увлечениям молодости. Преодоление экстремистского поветрия века приходилось начинать с самого себя.
После презентации он провел пресс-конференцию, раздавал автографы, затем состоялась непродолжительная поездка по Рейну, там же, на прогулочном пароходе, он дал интервью «Шпигелю». Фотографировали стареющего апостола футурологии на фоне медленно проплывающих прибрежных рейнских скал. И опять любезная шутка – старые скалы, мол, очень подходят к его облику, и сам он значителен, как старая скала. На что он ответил с усмешкой: «Можете так и озаглавить интервью – “Размышления Старой скалы”». И пришлось Старой скале порассуждать вслух. А вопросы были всякие. Что значит – бросить вызов самому себе в науке и, стало быть, в жизни? Не есть ли это ревизия собственного опыта и убеждений? Что думает апостол: пессимизм – всегда фатальный итог жизни? Что он думает об авантюризме в футурологии? И, наконец, насколько хорошо он себя чувствует? Как ему это рейнское вино?! Ну, это здорово! Американцы всегда такие. Особенно немецкого происхождения!
И вот теперь, как спортсмен, спешащий в раздевалку после напряженного матча, чтобы поскорей отключиться от всего, сбросить накопившееся напряжение, Роберт Борк пытался в самолете отвлечься, не думать о том, о чем размышлял постоянно. И однако же думалось. О новой, быть может, итоговой монографии. Предстояло завершить незавершаемое – свою «Песнь песней». Если удастся, конечно. Если удастся на основе многолетних исследований вывести мысль к порогу новых научных предвидений. По мнению Роберта Борка, современному человечеству предстояло столкнуться с совершенно новыми проблемами, его ожидали неведомые прежде, общие для всех испытания, как если бы вдруг охладилось солнце или, напротив, стало горячее, это коснулось бы всех и всюду. Осмысливая эти новые проблемы, человечество должно будет обнаружить в себе способность не только осознать трагическую возможность своей гибели, но, что чрезвычайно важно, это осознание должно послужить толчком к обнаружению новых способов выживания и отысканию дальнейших путей и форм развития, что, в свою очередь, должно привести к новому образу жизни, к новому типу мышления. Написать об этом, предсказать путь грядущего развития – это и была бы его, Роберта Борка, «Песнь песней»… но удастся ли? Работа огромная… А время неумолимо…
Океан под крылом все так же бескрайне зыбился, мерцая бликами, играющими на волнах. Солнце, безоблачная высь, простор, стремительный полет – движение, как бы застывшее навечно над океаном… Часа через полтора должна была показаться береговая линия материка, и тогда начнется посадка, и тогда кончится эта небесная пауза, и снова, с первых шагов в гомонящем аэропорту, он окунется в людской омут.
А пока полет продолжался, и Футуролога ждало в пути нечто неожиданное и необычайное.
Он был неважнецким фотографом-любителем, но тем не менее всегда носил с собой фотоаппарат и щелкал всякий раз без разбору все что вздумается. Особенно злоупотреблял он разного рода небесными пейзажами. Жена его Джесси приходила в отчаяние от количества никудышных фотографий, заполнивших их дом. В минуты раздражения она называла его фотомусорщиком и грозилась устроить хороший костер, но это не охлаждало его пламенного увлечения. Иронизируя над собой, он говорил: «Я стратосферщик и в науке – в абстракциях витаю, и в фотографии – облака ловлю в объектив!» Вот и в этот раз, подумав, что стоило бы что-нибудь такое снять, пополнить свою коллекцию каким-нибудь причудливым облачком, вольно гуляющим по небосклону, словно дитя в хорошую погоду, он прильнул к окну, изготавливая фотоаппарат. Ничего достойного, к сожалению, не обнаружилось, небо вокруг было чистое, лишь несколько бродячих тучек слонялось далеко внизу.
И тут, на развороте самолета по курсу, он вдруг увидел с накренившегося борта большое стадо плывущих в океане китов. Он увидел их настолько отчетливо, настолько единообъемно в пространстве и движении, это было столь ошеломительно, что дух захватило. А ведь они, киты, ему часто снились. Да, снились смутными видениями, плывущими в океане. И вроде бы, звали его с собой. И вот теперь киты наяву. Невероятное зрелище! Киты плыли клином, как журавли в небе. Голов двадцать. Самолет выровнялся, но киты внизу были еще видны. Могуче вспарывая волны, извергая бушующие над головами фонтаны брызг, то погружаясь в пучину, то вновь всплывая гороподобными телами, они шли в единой устремленности, не отклоняясь и не нарушая сложившегося хода.
Забыв обо всем, увлеченный силой и волей движения китового стада, Роберт Борк вдруг представил себе, что и сам он плывет в этом гигантском заплыве, среди китов, что он кито-человек, что вода стекает сверкающими потоками с его спины, как грозовой ливень с холма. И он плыл в бушующем океане, понимая проснувшимся вдруг чутьем бездонным, что отныне будет связан с китами до конца дней своих; и открылась в душе его тайная суть этой встречи: то, что постигнет китов, постигнет и его, то, что произойдет с ним, произойдет и с китами…
Стало быть, снились они ему не случайно? Нет, совсем не случайно. Но куда они плыли в этот час так поспешно? Куда они звали его с собой, с каким умыслом? Совсем не уверенный, что что-нибудь получится на таком расстоянии, он все-таки щелкнул фотоаппаратом.
В следующее мгновение он выхватил из выемки кресла трубку авиателефона – позвонить домой. Быстро набирая на телефонном табло банковский счет, код города, номер домашнего телефона, он сбился на какой-то цифре, снова начал набор. Ему необходимо было рассказать жене о том, что он видит. Он был в таком состоянии, когда человек не может молчать, не может с кем-то не поделиться. «Ну что же Джесси так долго не снимает трубку?! Где она? Может быть, выехала? Едет встречать, так рано? Надо позвонить в машину!» Именно ей, жене, спешил он рассказать об увиденных китах, точно не мог сделать это по приезде. Недаром близкие друзья посмеивались над Футурологом – он даже во сне ей верен.
А киты в океане уже скрывались, уже исчезали из виду…
– Джесси! – вскричал он, когда та откликнулась в трубке. – Помнишь, я говорил тебе, что мне снились киты?!
– Да, а что? Что с тобой? Где ты?
– Я только что видел их! Я встретил китов в океане! Ты понимаешь, это было, это было что-то грандиозное, такого я никогда в жизни не видел… Это…
– Постой, постой, что ты так возбужден? Ради бога, успокойся… Расскажешь потом, дома. Киты!.. Тут у нас такое творится, что и не знаю, что тебе сказать! Все в шоке. Все читают «Трибюн»! Есть у вас в салоне газеты сегодняшние? Хотя, конечно, откуда… Пока вы летите, тут такое творится! Это экстренный выпуск «Трибюн», о нем только что объявили по радио и телевидению… Все кинулись читать…
– А что такое? Политическая сенсация?
– Да нет. Если бы! Я не знаю, как тебе объяснить. Я еще читаю. Это – совсем иное.
– Но все-таки о чем речь? Что это?
– Послание космического монаха папе римскому! А вообще-то обращение ко всем, ко всем людям…
– Что-что? Что это за космический монах? Не смеши, пожалуйста. Разве существует институт космических монахов?
– Я не могу объяснить. Это огромный материал. Все читают.
– О чем это послание? В чем его суть? Ну, в двух словах!
– Этот космический монах утверждает, что он совершил великое научное открытие. Получается, что люди теперь, вроде бы, сами смогут решать, рождаться им на свет или нет.
– Да ты что, Джесси?! – Футуролог опешил. – Ничего не понимаю. Бред какой-то. Как можно подобное утверждать?! А где же Бог?
– Не знаю. Возможно, и Бог согласен с этим.
– Ничего себе! Что ты говоришь?! Ты понимаешь, что ты говоришь?! Что там у вас творится?
– Приедешь – прочтешь. Все звонят друг другу… Все в растерянности, многие так возмущены, что готовы стереть «Трибюн» с лица земли. Друзья говорят, что именно ты должен высказаться. Разобраться, сказать, что все это значит и что будет дальше…
– А кто он, этот космический монах? Кто-нибудь из астронавтов, спятивших на орбите?
– Да это тот самый невозвращенец, помнишь, промелькнуло как-то в печати, что один член экипажа космической научной станции отказался возвращаться на Землю?
– Помню, конечно. Писали, что он русский, летал с американцем и японцем. Не помню только, как его зовут.
– В послании он именует себя Филофеем.
– Филофей? Это его настоящее имя?
– Не знаю.
– Это русское имя. От русских сейчас всего можно ожидать. Они такого навидались на своем веку… Отшельник, стало быть, уединился в космическом скиту и кидает оттуда идеи?! Это ново!..
II
ПАПЕ РИМСКОМУ!
Ваше Святейшество, прежде чем извиниться за беспокойство, причиняемое Вам из столь отдаленных мест во Вселенной – с околоземной орбиты, где я нахожусь в экспедиции на космической научно-исследовательской станции вот уже третий год, мысленно преклоняю перед Вами колени, святой отец, и истово целую Вашу руку. Простите грешную душу мою и, если сочтете возможным, выслушайте мои, могущие показаться на первый взгляд абсолютно абсурдными, более того, вредоносными – с точки зрения нравственно-исторического опыта – выводы из практических наблюдений и идеи, кровно выстраданные мною, быть может, по воле и внушению – осмелюсь предположить – самого Провидения. Иначе я не стал бы тревожить Вас, святой отец, прекрасно понимая, сколь большой дерзостью выглядит мое обращение к Вам. Надеюсь, однако, что в контексте письма мотивы моего обращения станут понятны.
Итак, начну сразу с сути. Судьбе угодно было сподвигнуть мою скромную особу на познание прежде неведомого свойства зарождающегося духа – рефлексии человеческого эмбриона, открытие и осознание существования которой, весьма возможно, приблизит нас к таинствам Божественного Промысла. Мне выпала удача экспериментально выявить скрытую до сего эту рефлексию, и я рассматриваю это как новый шанс совершенствования эволюции рода человеческого.
И потому покорно прошу Вас, святой отец, выслушать меня.
Повторяю, мне удалось совершить величайшее открытие, последствия которого, несомненно, скажутся на дальнейшей жизни человечества. Я вынужден говорить о себе подобным образом потому, что никто другой пока не в состоянии оценить того, что достигнуто, поскольку никто не имеет представления о характере открытия, не имеющего каких-либо аналогов.
Я утверждаю, что в первые недели внутриутробного развития человеческий зародыш способен интуитивно предугадывать то, что ожидает его в грядущей жизни, и проявить свое отношение к потенциальной судьбе. Если это отношение негативно, у эмбрионов возникает сопротивление грядущему появлению на свет Божий.
Мною выявлен знак-сигнал, которым эмбрион выражает это свое негативное отношение к рождению. Этот знак-сигнал проявляется в виде небольшого пигментного пятна на лбу у женщины, вынашивающей такой плод. Я назвал это пятно тавром Кассандры, а зародыш, подающий негативные сигналы, – кассандро-эмбрионом.
Поразительная способность проявлять свое отношение к грядущему и подавать сигналы бедствия свойственна человеческому эмбриону лишь в первые недели после зачатия. Затем эта способность угасает, что связано с тем, что плод постепенно примиряется с ожидающей его неизбежностью.
Неприятие кассандро-эмбрионом предстоящей жизни, безусловно, имело место на протяжении всего бытия человеческого. Но никто никогда не придавал, да и сейчас не придает значения пигментному пятнышку на лбу у некоторых беременных женщин. Я не только расшифровал значение подобного пятна, но и нашел способ более явственно выявлять его, делать его более заметным. Для этого и провожу сеансы облучения, посылаю на Землю из космоса зондаж-лучи. Направленные с орбитального модуля, они усиливают импульсы кассандро-эмбриона в чреве матери. И небольшое пигментное пятнышко, которое раньше люди принимали за прыщик, под воздействием зондаж-лучей начинает пульсировать и мерцать. Зондаж-лучи незримы в атмосфере и совершенно безвредны для организма. Они направляются мною из космоса практически на все континенты, на всю планету. Цель этого облучения – тотальное выявление кассандро-эмбрионов. Идет «космический опрос» эмбрионов. Суть того, что сообщает кассандро-эмбрион, можно передать примерно так: «Будь на то моя воля, я предпочел бы не рождаться. В ответ на ваш запрос я посылаю сигналы, которые вы можете разгадать как предчувствие рока, беды, ожидающей меня, а значит, и моих близких, в будущем. И если вы эти сигналы разгадаете, то знайте, я, кассандро-эмбрион, предпочитаю исчезнуть, не родившись, не принеся никому лишних тягот. Вы запрашиваете – я отвечаю: я не хочу жить. Но если, невзирая на мою волю, меня принудят родиться на свет, я приму судьбу такой, какой она мне выпала, как и все люди во все времена. Как быть, решайте сами и, прежде всего, зачавшая меня мать. Но сначала постарайтесь меня услышать и понять. Я – кассандро-эмбрион! Пока еще не поздно распрощаться со мной, и я к этому готов. Я, кассандро-эмбрион, буду много дней давать о себе знать, я, кассандро-эмбрион, буду посылать вам свои сигналы. Я, кассандро-эмбрион, не хочу родиться, не хочу, не хочу, не хочу… Я – кассандро-эмбрион!»
Разумеется, такая интерпретация сигнала кассандро-эмбриона в каждом отдельном случае никого ни к чему не обязывает. Мерцающее на челе забеременевшей женщины тавро Кассандры скоро потускнеет и исчезнет бесследно. И все забудется, если пожелать забыть, если пожать плечами и потом ни о чем не думать…
Но наука не может пожать плечами. Статистические данные, полученные на космическом компьютере, свидетельствуют о том, что количество кассандро-эмбрионов с каждым годом возрастает.
Чем вызвано такое нарастание незримого бедствия – готовности эмбрионов уклониться от потока жизни, исчезнуть в небытии, не вступать в борьбу за существование – и что оно предвещает? Есть ли смысл извлекать уроки, собственно, из мистической стихии, лежащей за пределами нашего обыденного опыта? И если да, то правомерно ли экстраполировать страх едва зародившегося организма на реальную жизнь вовне? И не эта ли жизнь и является первопричиной апокалиптического самоощущения плода в материнском лоне? Мать – это слепок мира. Не становится ли она, мать, невольным проводником фатальных влияний окружающей действительности на плод?
Все эти вопросы требуют ответа.
Но прежде чем продолжить, я попытаюсь объяснить, почему я обращаюсь в данной ситуации именно к Вам, Ваше Святейшество, к главе римско-католической церкви.
Побудило меня обратиться к Вашей равноапостольной особе не только то, что Вы наместник Иисуса Христа, преемник святого Петра, что Вы обладаете в силу этого мировым авторитетом, это само собой, но и то, что Ваша личность интегрирует в себе нравственные убеждения и духовные ценности огромного числа людей, населяющих Землю. И, обращаясь к Вам, я обращаюсь ко всем современникам своим и, кто знает, возможно, и к потомкам нашим.
Разумеется, Вы вправе счесть мое обращение неуместным, дерзким и прочее и прочее, но в любом случае рассмотрение затронутой выше проблемы «эмбрионального пессимизма» невольно коснется чувствительной темы католического ви`дения чудесного проявления Божественной воли – таинства рождения…
Я не католик, но это обстоятельство нисколько не умаляет моего искреннего уважения к католической вере. В моем представлении любая религия, не закосневшая в упоении собственной исключительностью, может служить резонатором для множества голосов, как небо служит простором для полета разных птиц… Окажись я в этом смысле птицей перелетной под католическим небосклоном, был бы счастлив…
Да, я всегда разделял в душе католические нравственно-этические догматы, находя в них общеприемлемые для всех нормы, наилучшим образом отвечающие логике жизни и в силу этого обладающие универсальной значимостью. В особенности когда речь идет о том, что постоянно терзает наши души сомнениями и муками, – о проблеме абортов. Не эта ли радикальная акция, ставшая столь же банальным делом, как открывание консервной банки, оборачивается для нас всякий раз мучительной наглядностью судьбы – так несложно, так запросто, значит, решается, быть или не быть человеку! Родиться или не родиться, жить или не жить ему! Все зависит от разного рода привходящих причин, от превратностей, подчас сугубо житейских. И – говорят многие – при чем тут Бог? Бог тут ни при чем. Бог дал начало благословенной жизни. А дальше все решаем мы сами, люди, имеющие право сохранить или, напротив, уничтожить завязь. На том многолюдном «толковище» неутихающих споров позиция католической церкви, отстаивающей безусловный запрет абортов, мне представляется наиболее верной, я бы сказал, соответствующей изначальному устроению жизни, какова она от сотворения, ибо в каждом крохотном зародыше, в каждом возобновляющемся варианте заключен неповторяющийся шифр движения вечности, каждое зародившееся существо закодировано в череде времен с последующим воспроизведением себе подобного, и все это изначально заложено Творцом в конструкции мироздания…
Да, потому и хочется напомнить вслед за католиками, что аборт означает прямое разрушение Божественного замысла. Много раз сказано о том, что аборт – насильственный акт, равносильный умышленному убийству, что аборт находится в прямом противоречии с первозаповедью «Не убий!», с библейским благословением «Плодитесь и размножайтесь!».
Все это, разумеется, так. Но есть ведь и другая позиция. Разве не раздаются повсеместно голоса, призывающие не вмешиваться в решение зачавшей женщины, а то и прямо агитирующие – якобы в интересах личности и общества – прибегать к абортам без лишних сомнений… И трудно возразить что-либо, когда будущая участь еще только зачатого существа заранее обусловлена поджидающими его в мире невзгодами – беспросветной нищетой и болезнями, насилием, пороками и унижениями… И потому категоричные транспаранты над головами участниц женских шествий, вроде «Мой живот – мой!», что означает попросту: «И катитесь все от меня подальше!», мало кого шокируют, как мало кого отвращают циничные заявления спившихся женщин на сносях, что, мол, выпью еще, а завтра выкину из себя эту гадость, тунеядца, и буду гулять, буду шиковать, и никаких проблем… И что мне ваш Бог, и что мне ваш грех?! Да плевать мне на все, коли на меня все плюют!.. Будущего человека выкидывают в момент, как некий отброс… И тому находятся многочисленные оправдания, не лишенные самой жесткой логичности.
Массовые выступления против деторождения повсюду множатся, заявляя о себе самым вызывающим образом, напирая декларациями в парламентах, шумя в феминистских движениях, на площадях и улицах, в толпах… Во многих странах свобода от продолжения рода не только затребована, но и вырвана. Не тупик ли это жизни?
И в то же время наглядна жуткая участь беременных женщин, бросаемых повсюду на произвол судьбы. Кому нужны вынашиваемые ими дети? Так думают многие, очень многие и в пустынях Африки, и на улицах сверкающих городов. Все больше углубляется пропасть между необходимостью и возможностью. И в то же время… И в то же время не утихают в нас сомнения и терзания – так ли мы живем, все ли делаем, чтобы не пресекался род человеческий?
Но сколько же можно в самоистязаниях мысленных жалобно сетовать и беспомощно вопрошать – остановить ли нам продление потомства, поскольку счастья на Земле не находим, или перекинуться на другие планеты, если бы вышла на то соответствующая Санкция? Настолько все безысходно!
Обо всем этом много толковалось, и много истрачено полемического пыла, и все уже пресыщены мазохизмом; я же вынужден об этом говорить заново, точно я действительно свалился с Луны. Я вынужден обращаться через Вас к человечеству, потому что на всех обрушилась новая, неведомая прежде беда: мы узнали, что эмбрионы взывают к нам, и теперь нельзя не думать об этом!
Возможно, это не только беда, а и новое испытание духа, ниспосланное нам свыше в провиденье дальнейшего пути рода человеческого. Но куда выйдем мы на пути этом неизведанном? Что ждет нас впереди? Куда нам деться от гласа кассандро-эмбрионов, говорящих в нас о нас?
Открылась бездна, о которой мы не подозревали. Наступил срок мировой… Будем ли мы жить вне истины?
Именно поэтому я обращаюсь к Вам, святой отец, с этим посланием, чтобы вы могли, если сочтете нужным, со всей определенностью оценить открытое мною явление, для человечества столь же неожиданное, как если бы в небе появилось вдруг из глубин Вселенной второе солнце рядом с первым…
Я в большом смятении. Оптическое оборудование станции сближает меня с Землей, казалось бы, настолько, что расстояние почти не играет роли в восприятии земной действительности, и все же физически – я в космосе. И как бы мне хотелось в этот момент внезапного осознания человечеством подлинного положения вещей находиться непосредственно на Земле нашей грешной, среди людей. Но мой долг – находиться на посту. Я обязан быть на орбите, на научной станции, поскольку я, космический монах Филофей, несу полную ответственность за свои действия, а именно – за неуклонно и систематически проводимые мной сеансы облучения зондаж-лучами, направленные на выявление флюидов кассандро-эмбрионов. Метод этого, провоцирующего появление тавра Кассандры, облучения, разработанный мной, целиком на моей совести.
И я очень обеспокоен возможной реакцией землян. Люди еще никогда не сталкивались с такого рода безапелляционным вызовом. И люди столкнутся с собой внутри себя…
Я боюсь за психическое состояние людей. Я боюсь, что, когда они узнают, что означает эта крохотная точечка мерцающего эпителия на лбу у будущих матерей, это обернется для всех великим шоком.
В минуты слабости я мысленно взываю к Богу, плача и сетуя, что именно мне суждено было первым понять тайну эсхато-эмбрионов, распознать знак Кассандры, сей проклятый знак беды, затаившейся в генетическом подполье и лишь теперь обнаруженной. Даже Фауст, заглянувший в глаза изощренной дьявольщине, и тот не позавидовал бы мне. Я прошу Господа сжалиться надо мной, освободить меня, слабого человека, от непосильного труда. Никому и никогда такого не выпадало. Но почему же именно я?..
Никто и ничто не принуждает меня к тому, что я совершаю сейчас, обращаясь к Вам, Ваше Святейшество! Может быть, стоило бы мне умолчать, унести с собой в могилу эту открывшуюся мне тайну? Поступи я так, кто бы знал о ней, кто бы мог бросить мне укор и обвинения?..
Так зачем же я несу эту неслыханную ересь людям? Не затем же, чтобы породить бессмысленный переворот в умах, анархию и смуту духа, чтобы искалечить семьи, посеять тяжкие сомнения в каждом, кто призадумается и ужаснется, – есть ли смысл в продолжении бытия в потомках, а стало быть, и в самой юдоли земной? Как быть дальше? Чем компенсировать утрату незыблемости устроения жизни, унаследованного еще от Адама и Евы?
Много раз спрашивал я себя и много раз отвечал себе… Ни при каких обстоятельствах ни из каких соображений не имею я права умалчивать о том, что открылось мне в скрытой эмбриональной стихии, – ведь, повторяю, число кассандро-эмбрионов непрерывно растет. Причина этого – в эскалации в подкорке мирового сознания ощущения порочности и гибельности вечно экстремального людского бытия. Тавро Кассандры – закадровый голос эмбрионального эсхата, напряженно и отчаянно ожидающего уже в утробе матери приближения конца света. Эго убивает в нем естественную тягу к жизни.
И разве можно теперь, в наши дни, в условиях постиндифиального общества, скрывать от мира подобное положение вещей?! Нет, безусловно, такое сокрытие было бы преступлением против человечества, против самих себя.
Мы находимся в преддверии нового скачка нашего самосознания, ибо отныне мы, как бы ни хотели, не сможем закрывать глаза на тот факт, что эмбрион не безучастен к тому, в какой генетической ойкумене он возникает в качестве будущей личности, на то, каковы мы: мы – жизнеобразующее начало, мы – эпоха, мы – личности. Он тревожно глядит в перископ своей судьбы – зазеркальной подводной лодки, носимой в зазеркальном море будущей жизни. А не стоит ли нам самим вглядеться в этот перископ кассандро-эмбриона? Не мы ли сами причина сокрушающих нас штормов?
Страшусь думать не есть ли кассандро-эмбрион проявление нашего самоотречения от своей предназначенности в мире? Как же могли мы, по идее богоподобные существа, докатиться до такого состояния? Сколь же надо было «преуспеть» людям, в какого свойства делах и мыслях, чтобы подвести эволюцию к подобным апокалиптическим сдвигам же на стадии зародыша! В этом факте даст о себе знать все то, что годами, веками накапливалось, суммировалось в генах, как в компьютерной памяти. Сегодня нам дано обнаружить экранное отражение этой рефлексии эмбриона – тавро Кассандры. И велением судьбы именно я посылаю из космоса выявляющие это тавро зондаж-лучи. И поэтому слово сегодня за мной. И я, космический монах Филофей, хочу высказаться до конца. Это мой долг.
Позвольте, Ваше Святейшество, принося извинения за злоупотребление Вашим временем, продолжить свое, возможно, излишне многословное послание.
Как же нам быть дальше, зная, что являет собой тавро Кассандры? Чтобы понять это, надо, наконец, открыто признать что совершенное субъектом не уходит физически вместе с ним, с кончиной его века, а остается в генетическом лесу фатальным семенем, ожидая вероятного часа икс, когда оно даст о себе знать подобно мине замедленного действия.
Кстати о мине замедленного действия, уже реальной, а не в переносном смысле. Происходило это в Афганистане, когда туда был брошен так называемый ограниченный контингент советских войск. Политическая подоплека недавних событий достаточно хорошо известна, а я веду речь конкретно о том, как устраивались воюющими пришельцами так называемые «трупные» ловушки. Тело врага подбрасывали в окрестностях его селения, где-нибудь поблизости от дороги, на приметном месте, подложив под убитого специальную мину на боевом взводе. Сами же «контингентщики» залегали в засаде с кинокамерой, чтобы заснять то, что произойдет. Стоило людям кинуться к убитому, чтобы унести труп для погребения, как раздавался взрыв, и пришедших убивало на месте. А на пленке высокой чувствительности запечатлевались со всеми подробностями последние мгновения… Вот к убитому афганцу подбегает жена. Соседи пытаются удержать ее, но она в слезах, с криком кидается к трупу мужа, и мощный взрыв накрывает ее и пришедших с ней. И не стало людей. И все подробно заснято. А в другом кадре – перепуганные дети. Они бегут с плачем к распростертому на земле отцу, и снова взрыв раскидывает окровавленные тела по сторонам… Случайный путник, не посмевший равнодушно проследовать мимо убитого при дороге. Слезает с седла, склоняется, переворачивает убитого за плечо, чтобы глянуть, кто бы это мог быть, и снова ослепительный взрыв. И снова смерть. И лошадь с раскроенным черепом убегает прочь нелепым скачем, потом валится с ног, дергается судорожно, храпит. И все это снято… Таким образом фиксировались наиболее выразительные из операций по устройству «трупных» ловушек. И то, что было таким способом запечатлено, засчитывалось как выполненное боевое задание и где-то в штабах оценивалось соответствующим образом. Какие-то люди, просматривавшие пленку, видели в этих эпизодах воплощение своих указаний и целей. Но кто они, с профессиональным удовлетворением следившие за событиями на экране? И те, кто преступно подстраивал такие ловушки смерти, тщательно фиксируя результаты своей работы на кинопленке, кто же они, откуда они? Их родословная неизвестна, их предков не сыскать. Остается только гадать по следам, уходящим в туманную размытость минувшего.
И напрашивается вопрос – откуда они, вечно живущие впрок и всегда в пику самому Господу, на которого мы, злоупотребляя Его неиссякаемой милостью, неизменно полагаемся, как на высший гарант, вознося в душе молитвы в надеждах, – так вот откуда они, те, от кого тянется неистребимый генетический задел стартующих в нас злодеяний? Откуда? От кого они сами?! Риторический, разумеется, вопрос… Но от этого не легче. Откуда все это тянется? То ли от первобытного пращура, сжигавшего в пещере заживо замурованных, то ли от сладострастного маньяка, вымещавшего свою садистскую патологию на муках задушенной жертвы, то ли еще от кого-то, да мало ли от кого в той сатанинской бездне мрака и жестокостей, накопленных за тысячелетия; и как не вспомнить в этом вековечном списке о тех, кто был палачом у подножия восседавшего на троне такого же палача, или о тех, уже знакомых нам по опыту, одержимо-яростных глашатаях в стаях партийных, кто клекотал с балконов и трибун, возжигая революции и войны с тем большим остервенением, чем слаще предвкушал чудовищно, эротически желанную власть.
Кровь и власть – вот тот гумус, на котором семена зла всходят во лжи… Зло сменяется злом, оставляя семена свои для следующего зла…
Так стоит ли ходить по дебрям прошлого с факелом, высвечивая мертвенные лики, когда в памяти многих еще жива эпоха, способная сказать нам немало в этом смысле, – эпоха Сталингитлера, или же, наоборот, Гитлерсталина. Двуединая сущность их стоила человечеству столько крови, что мировая статистика все еще, спустя многие десятилетия, не может подытожить истинное число жертв, вовлеченных в их междоусобную войну, кровавую, мировую, когда сцепились в противоборстве не на жизнь, а на смерть две головы физиологически единого чудовища. Мог ли быть фашизм без большевизма? Мог ли быть Гитлер без Сталина и наоборот? Леденеет кровь живущих в XX веке при мысли о разнорожденных, но единоскрестившихся в карме преисподней Сталингитлере и Гитлерсталине.
И кто знает, не пытался ли в свое время кассандро-эмбрион, которому грозило явиться на свет то ли Гитлером, то ли Сталиным, не пытался ли он, несчастный зачаток будущего некрофила, оповестить внешний мир, и прежде всего вынашивавшую его во чреве мать, о своем предощущении будущего через тавро Кассандры, не испытывал ли он инстинктивного содрогания, желания уклониться от той зловещей роли, которая ему предстояла?!
Трудно сказать, что было бы, не появись они на свет… В таких случаях обычно говорят – историю не переделаешь. И, однако, обречена ли она была развиваться непременно по кровавой кривой, вычерченной Гитлером и Сталиным для восхождения на кровавую вершину жестокости и античеловечности, не виданных ни в какие предыдущие времена? Эти двое побратимов во зле сумели столкнуть миллионы людей между собой и, в конечном счете, человечество с самим собой, как если бы население планеты той поры поставило себе целью самоликвидироваться, самоуничтожиться, исчезнуть навсегда, продемонстрировав напоследок бездны человеконенавистнических деяний. И если не вдаваться во все причины, приведшие историю к такому кромешному исходу, стоит подумать над тем, насколько соответствующими оказались для успешной реализации зловещего тиранического комплекса, безусловно, депонированного в наследственности субъектов, о коих идет речь, тогдашние люди, тогдашнее мировое сознание, вскормившее и взлелеявшее сталинизм и гитлеризм себе же на беду.
Те воды утекли. Никто не скажет, какие невосполнимые шансы прогресса и благоденствия были упущены историей, сколького людского горя, скольких несчастий можно было бы избежать, предотвратить в истоках, обладай люди научным методом провиденья и, в частности, знай они о кассандро-эмбрионах, подающих сигналы через тавро Кассандры. Увы, о том, что таится в собственной генетической структуре, человечество узнало слишком поздно…
Но вот сказано новое слово на пути познания трансцендентальных способностей эмбрионов. Ожидают ли нас вслед за этими открытиями чудеса? Нет. Никому не изменить изначально предпосланных человечеству энергии Добра и, наряду с ней и вопреки ей, – энергии Зла. Они равные величины. Но человеку даны преимущества разума, заключающего в себе неисчерпаемое движение вечности, и, если человек хочет выжить, если он хочет достичь вершин цивилизации, ему необходимо побеждать в себе Зло. Ведь вся жизнь людей протекает в беспрестанных к тому попытках, и в том главное наше предназначение.
Вот приоткрылась неизвестная прежде тайна, существующая в нас самих. Кто скажет, не совершен ли в данном случае колоссальный прорыв в ранее незатребованные пределы живого духа? Не обнаружены ли новые кванты внутреннего мира?
Так ли это или нет – трудно сказать, но я хотел бы еще раз обратить внимание общества на то, что открытие кассандро-эмбрионов привносит в нашу жизнь ряд новых проблем, с которыми мы никогда не сталкивались.
Кто скажет, как следует относиться к сигналу кассандро-эмбриона? Как вести себя родителям? Придавать ли тавру Кассандры фатальное значение? Или, напротив, выкинуть из головы? Махнуть рукой, благо, через недели две странная точечка, тихо мерцавшая особенно заметно по ночам, когда зачавшая мирно спит, исчезнет, угаснет сама по себе, и все, Бог даст, забудется.
Да, можно, наверное, и так. И все равно невольно вспомнится родителям об этом, когда новорожденный появится на свет в положенный срок, вспомнится. И в дальнейшем, не исключено, припомнится; возможны различные критические ситуации в детстве, в судьбе матери, в жизни семьи, и всякий раз сердце будет больно сжиматься от напоминаний непрошенных, и будут являться всякие мысли о том эфемерном пятнышке, порождая неизбежные вопросы. Странно, мол, подумается, почему этот знак коснулся только их дитя, ее дитя. Был ли подобный знак у других матерей, а если был, то так же ли скрывают они это от всех и от себя, стараются не вспоминать, забыть как нечто мистическое? А что, если каким-то образом и ребенок подозревает об этом, пусть это таится лишь в его подсознании, смутно, как зыбкий сон, и вообще, отражается ли это как-то на его психике?
Но ведь это только первая волна вопросов и сомнений. На дальнем горизонте их куда больше, и они куда сложнее. Разве не подумают родители при этом о себе, о своей прямой или косвенной вине? Может быть, они, она, он во всем были виноваты? И это самое тяжкое, поскольку самообвинения всегда гипертрофированы. И тут неизбежно возникает мучительный вопрос, что именно могло повлиять, чем объяснить, что именно их плод подавал сигналы бедствия, – вот о чем будут думать родители. И нетрудно представить себе, как они обреченно будут включать в круг всевозможных факторов, воздействовавших каким-то образом на эмбрион, не только себя как биологических зачинателей, но и все, с чем связан их быт, их жизнь в обществе: их социальное положение, претензии, амбиции, убеждения – все, что обусловливает, формирует и сотрясает жизнь человека, со всеми вытекающими отсюда житейскими понятиями – что справедливо, что несправедливо, что хорошо, что плохо и т. д.
Подобная взаимосвязанность самых различных проявлений бытия следует из того, что зарождение плода есть центральное событие в Пространстве и Времени, это завязь истории в архетипах природы.
Кассандро-эмбрион обладает необыкновенно обостренной интуицией, особым предощущением эпохи. Поэтому осмысление его импульсов – это прежде всего повод для нашего собственного осмысления мира, который мы хаотически сооружаем вовне и внутри себя. В этом смысле тавро Кассандры, возможно, открыто нам по замыслу Всевышнего как толчок к новому проникновению в суть действительности, к анализу прежде не доступного нам. И каждый волен делать выводы сообразно своим понятиям и устремлениям души.
Пользуясь этим правом в данном случае, говорю и я, космический монах Филофей, находясь на орбитальной станции и ведя отсюда свои наблюдения. Обращаюсь к землянам. Задумаемся ради искомого смысла жизни, дарованной нам Творцом, о том, что порождает эсхатологический комплекс у кассандро-эмбриона в его начальном приближении к миру, в котором мы живем.
Всякие предположения могут быть на этот счет. Есть они и у меня. Совершенное оборудование космической станции позволяет мне принимать телевизионные передачи, которые ведутся в разное время на разных континентах. Оптические приборы дают возможность видеть все на поверхности Земли с разных точек и в разных ракурсах. У меня перед взором панорама повседневной жизни землян, более широкая, чем если бы я находился на Земле. Я не праздный наблюдатель, моя программа космически-земная, я – экспериментатор, взявший на себя, не побоюсь этого сказать, величайшую ответственность перед нынешним и будущим человечеством. И это не громкая фраза, так оно и есть. А потому я не могу позволить себе ни единого слова, не отвечающего, насколько мне дано судить, исчерпывающей истине. Я верю, что мои исследования направлены на предупреждение от рукотворного, творимого нами самими в душах наших конца света. Я пытаюсь сказать во всеуслышание то, что не позволяют нам сказать самим себе вечно доминирующие над нами эгоизм и ханжество.
Я провожу эксперименты по системному выявлению тавра Кассандры, не оповещая об этом ничего не подозревающих женщин. Это все равно как если бы все попадали под один дождь. И хотя эти незримые зондаж-лучи совершенно безвредны для здоровья, всякий раз при мысли о том, что я причиняю людям душевную боль, мне становится не по себе.
Но я не могу избавить их от переживаний в тех случаях, когда в ответ на космический «запрос» будет иметь место явственная мета сигнальной реакции кассандро-эмбриона. Тут уж судьба, и от этого никуда не деться. Важно понимать, что судьба эта, будучи конкретно-индивидуальной, в то же время обнимает всех, все общество в целом, поскольку причины этой беды – мировые.
Хотим мы того или нет, кассандро-эмбрионы и тавро Кассандры – реальность. И потому я буду неуклонно продолжать свои космические исследования, о чем объявляю открыто, сострадая тем, кого это коснется или уже коснулось на Земле. Люди должны знать правду о себе. В этом мой долг перед Богом. Но здесь начинаются и мои адские тревоги, святой отец, о которых я не могу умолчать, и потому выношу их на общий суд.
Повторяю, я осознаю, что несу ответственность и перед кассандро-эмбрионом, тайну которого я открыл и разглашаю (но ведь он сам добивается разглашения!), и перед матерью, его зачавшей, ибо, не знай она значения тавра Кассандры, жила бы себе спокойно.
И даже сейчас, когда я набираю на компьютере вот эти живо бегущие строки, мне тяжко; мысль о том, имею ли я право поступать таким образом, мучает меня.
Я оглядываюсь в стенах орбитального корабля, отлетаю в невесомости подальше от компьютера, растерянно блуждаю взором, как бы ища нечто такое, что отвлекло бы меня, сохранило бы мою внутреннюю уверенность в том, что я прав, сообщая о своем открытии миру, и взгляд мой падает на телеэкраны по обеим сторонам станционного корпуса. Все экраны светятся, живут, идут телепередачи из разных стран, на разных языках. Вот она, земная действительность, во всех своих ипостасях и неповторимой разности, от рекламы до спорта, от судебного репортажа до встречи в аэропорту официального лица и т. д. и т. п.
Среди этого глобального пейзажа мое внимание приковывает к себе экран, на котором какая-то шумная, наэлектризованная уличная демонстрация. И почему-то полицейские, их немало, идут вместе с протестующими демонстрантами. Все улицы запружены, съемка ведется с разных точек, в том числе и с высоты, звучат взволнованные голоса. Голос репортера, передающего с места событий, голос диктора студии тонут в уличном гуле и криках. Где это происходит? Кажется, в Италии. Так далеко и так близко – все рядом: блеск глаз, жестикуляция, нервное выражение лиц. Да, это на Сицилии. Наспех написанные транспаранты над головами. Ну, конечно! Опять мафия! Опять террористы! На этот раз убит главный судья, вслед за прокурором! Коварно, наглядно и беспощадно. Дистанционно управляемым взрывом на проезжей части улицы все разнесено в клочья и сожжено – всё и все, кто оказался в тот роковой момент рядом, когда проезжали тут на автомобиле судья и его охранники. Сработано все безупречно и на виду у всех.
Демонстранты в отчаянии… Они прут рекой. Но против кого они выступают? Что может эта масса людей? Не находятся ли сами мафиози среди демонстрантов, смеясь в душе над ними? Демонстрация схлынет через час-другой, а они останутся при своих интересах, называясь громко мафией, картелями, синдикатами и даже империями. Под их невидимым диктатом находятся уже целые страны, колонии мафии!..
Демонстранты идут… А над ними вдруг появляется стремительно летящий вертолет, густо разбрасывает листовки и тут же исчезает за крышами. Это происходит на моих глазах. Люди хватают листовки, падающие им на головы. На листовках изображена смерть – череп с костями… О смерти нагло уведомляет мафия. Всем смерть, всем, кто против мафии! Взрыв ревущего негодования сотрясает людей. На глазах у многих слезы. Я останавливаю взгляд на молодой женщине в полицейской форме, в берете, сбитом набок, с развязавшимся галстуком. Женщина-полицейский с видеокамерой, судя по всему, ведет оперативную съемку. Она успела заснять вертолет. Хотя что это даст? Мафиози не так глупы – вертолет будет перекрашен, искрошен, все что угодно. Вот ее помощники с микрофонами. Они о чем-то быстро, возбужденно говорят. Я их понимаю. Сколько полицейских гибнет ежедневно в мире от рук мафии! И им это грозит. И ей тоже. Но что я вижу: на лбу ее обнаженном характерное пятнышко – тавро Кассандры! Да, как знал! Я приближаю и укрупняю этот кадр и убеждаюсь, что не ошибся. Боже мой, хотя ей, сотруднице полиции, сейчас не до этого, но знает ли она, что глубинное ее неприятие мира, против которого она сейчас вместе с демонстрантами протестует, передалось ее будущему ребенку. Вот он, сигнал бедствия на лбу ее. Да, это практический результат одного из моих орбитальных сеансов по выявлению ответной реакции кассандро-эмбрионов на зондаж-лучи.
И я думаю о том, что если этому или какому-либо иному кассандро-эмбриону суждено будет появиться на свет, то со временем именно он (или она) может оказаться одним из самых ужасных преступников. Многим людям, всему обществу принесет он страдания и несчастия, пойдет на уголовные преступления по той, помимо всего прочего, причине, что в нем скажется подспудный комплекс врожденной мстительности – его вынудили родиться, его вынудили принять этот мир! Сам он впоследствии ничего не будет помнить о драматическом начале внутриутробной жизни своей, но комплекс мстительности даст опасные всходы. Хорошо, если повезет, если он, этот кассандроноворожденный, окажется впоследствии в такой среде, которая сможет интегрировать его негативный генетический задел, нейтрализовать его; в других же обстоятельствах для развития зла никаких усилий не потребуется, – так же, как камень сам катится под гору, все больше набирая скорость, так и при этом исходе судьбы – все катится само собой.
Вслушиваясь в сигналы кассандро-эмбрионов, я думаю об их будущем и сострадаю им. То, что исходит от них, – это бумеранг, это мы сами, перевоплощенные в нашем беспрерывном грехопадении в импульсы нарастающего страха. И потому эти сигналы – голоса кассандро-эмбрионов – должны быть услышаны на Земле, а смысл их взываний воспринят с пониманием.
Нет, это не сиюминутность, речь идет о вечности. Вечность вечна сама по себе, а человеку положено добиваться, продлевать кредит на вечность из рода в род единственным способом – нравственным самосовершенствованием. Прогресс – лишь техническое приложение к идее. Ядерное оружие в руках фанатичного диктатора, готовящегося уничтожить, если потребуется, весь мир, – яркая тому иллюстрация.
Будут ли земляне озабочены сигналами кассандро-эмбрионов, воспримут ли их как предвестие генетического заката и, стало быть, заката человеческой цивилизации?
Боюсь предсказывать. Боюсь, что сомнения и терзания замкнутся в пределах каждого частного случая и каждый знак Кассандры вызовет соответственно свою развязку, свой финал…
Опасаюсь, что большинство женщин – и вряд ли мужья станут им препятствовать – постараются быстрее избавиться от такого не совсем обычного плода. Первое, что придет им на ум, – аборт как самый радикальный выход. И моральное оправдание тому, можно сказать, бесспорно – к чему, мол, плодить заведомо несчастных людей? Их и без того хватает на свете. И кто посмеет осудить их, прибегнувших к аборту?! Кто? Общество? История? Мораль? В истории общества – истоки зла, оседающего генетическим страхом, а мораль так часто уклончива перед циничным натиском действительности.
И вот тут, Ваше Святейшество, я считаю своим долгом уточнить свою позицию. Будучи убежденным сторонником католического запрета на аборт, я, тем не менее, не мог бы высказать категорического осуждения в адрес тех, кто, обнаружив тавро Кассандры, предпочтет прибегнуть к аборту, при том, кстати, что такой исход отвечал бы и стремлению самих кассандро-эмбрионов.
В результате мы сталкиваемся с чрезвычайно сложным противоречием. Радикальные действия (аборты) не решают, а скорей, напротив, усугубляют ключевые проблемы мирового сознания – остаются незатронутыми причины, порождающие эсхатологический комплекс у зародыша.
Вот череда невзгод, о которых не может не думать будущая мать:
– голод,
– трущобы,
– болезни и среди них СПИД,
– войны,
– экономические кризисы,
– социальные штормы,
– преступность,
– проституция,
– наркомания и наркомафия,
– межэтнические побоища,
– расизм,
– катастрофы экологические, энергетические,
– ядерные испытания,
– черные дыры,
и т. д. и т. д.
Все это рукотворно, все это порождено самими людьми. Масштабы бедствий людских приумножаются из поколения в поколение. И все мы в том соучаствуем. И вот, наконец, Провидение останавливает нас на краю бездны, дает о себе знать через тавро Кассандры…
Я еще раз заявляю, что мои космические исследования по выявлению сигналов кассандро-эмбрионов не преследуют никаких целей, кроме как помочь понять людям – дальше так жить нельзя, дальше грядет вырождение!
Только искоренение бед и пороков каждым человеком, начиная с себя, и всеми вместе, всем родом людским, может обновить перспективу жизни. Утопия? Опять утопия?! Нет, это не очередная утопия. Это стезя выживания духа живого, иного пути нет…
Верю, что найдутся мужественные люди, которые не отступят, не кинутся немедленно избавляться от кассандро-эмбрионов; этим людям фатальные сигналы скажут о многом: об ответственности всех и каждого за образ жизни, за судьбу потомков, о том, что предстоит невиданное борение человека с самим собой… Такие люди будут добиваться лучшей жизни.
В это я верю.
А теперь очень коротко о себе.
Разумеется, никто меня не постригал в монахи, я самозваный, иначе говоря, условный космический монах, и имя условное я себе выбрал сам, нарек себя Филофеем, были монахи с таким именем на Руси. Я сам избрал для себя отшельническую жизнь в космическом скиту. Когда наш международный экипаж – американец, японец и я (до недавнего времени советский ученый и научный руководитель космической лаборатории), завершив свою программу, должен был возвращаться на Землю, я отказался покидать орбитальную станцию, перейти в прибывший за нами многоразовый космический «челнок». Я сделал заявление на этот счет и настаивал на свободе личного выбора. Держа опасную бритву у горла, я вынудил моих коллег оставить меня в покое. И добился своего…
Вот уже пятый месяц, сто тридцать седьмой день, нахожусь я в полном одиночестве на орбите, проводя свои исследования. Запасы жизнеобеспечения на станции позволяют мне находиться здесь еще очень долго. И если верно, что нет худа без добра, то это относится и к моему случаю. Распад Советской империи, от чего больно содрогнулся весь мир, оказался мне на руку. В хаосе событий бывшие советские наземные службы забыли обо мне и об орбитальной станции, именовавшейся прежде «Восход‐27». Боюсь, что нескоро вспомнят, боюсь, им не до меня, боюсь, что они, возможно, будут еще долго заняты нелепым дележом космического имущества между новыми государствами, возможно, попытаются разделить и орбитальную станцию, на которой я обосновался, а возможно, будут делить и сам космос… Но это их дело. Я сделал свой выбор и выполняю свой долг. Я буду опрашивать человечество – выявлять сигналы кассандро-эмбрионов – до последнего часа своего…
На Земле меня никто не ждет. Никого у меня нет на свете. Сам я подкидыш, воспитывался в детдоме. Подбросить младенца на крыльцо детдома мою мать, судя по всему, вынудили крайние обстоятельства. О том, как складывалась моя жизнь, что побудило меня отправиться в космос, сейчас рассказывать не буду – это особая тема, особый рассказ.
Ваше Святейшество, еще раз преклоняю голову пред Вашим Светлым Ликом. Не обессудьте. Единственное, чего я хочу, обращаясь через Вас к людям, – чтобы они знали истину.
Филофей, космический монах.
В миру – Андрей Крыльцов.
К тексту послания папе римскому, переданного с орбитального компьютера, была приложена записка, адресованная редакции газеты «Трибюн»:
«Уважаемый редактор!
В соответствии с нашей договоренностью предоставляю редакции «Трибюн» эксклюзивное право на публикацию послания.
Я прекрасно понимаю, какую тяжкую ношу берет на себя «Трибюн», решившись на такой шаг. Ценю Ваше мужество.
Был бы признателен, если бы редакция передавала мне наиболее интересные отклики на мое обращение. Мне необходимо иметь представление о реакции землян.
С благодарностью
Филофей, космический монах, орбитальная станция РХ».
III
Ему опять снились киты. Он долго плыл среди них в океане. Он смотрел им в глаза, заливаемые волнами, и понимал выражение китовых глаз. Он и сам был китом. И плыли они клином, как тогда, когда он увидел их с самолета. Необъяснимая сила влекла их вперед, к черте горизонта, словно там что-то ждало их. Горизонт удалялся, а они все плыли, рассекая волны могучими телами. Вода в океане становилась все горячей. Накаты волн обжигали. И, чем дальше, тем трудней и страшней было плыть в горячих волнах. И он увидел и понял вдруг, почему так нестерпимо закипал океан. Над океаном появилось сразу два солнца. Два огненных багрово-коричневых шара жарко пылали в небе, как спаренные прожектора. И какое солнце было истинным, вечным, а какое – откуда-то приблудшим, но, может быть, соперничающим с настоящим, трудно было понять. Он сильно перепугался. И стал кричать рядом плывущим китам: «Смотрите, смотрите, киты, братья мои! Два солнца в небе! Сразу два солнца! Вы слышите?! Это плохо! Океан вскипит, и мы погибнем! Два солнца – страшно!»
Роберт Борк еще долго кричал в бушующем океане среди мечущихся китов и проснулся в горячем поту, с оглушительно бьющимся сердцем, отдающимся эхом в ушах. И не сразу поверил, пока приходил в себя, что это был сон. Два солнца, ослепительно пылавшие над океаном, запечатлелись так, точно он видел их наяву. Киты ему снились не раз, но чтобы такое, чтобы два солнца изжигали сверху! Жутко, жутко!..
И тут он понял, откуда явилось во сне второе солнце. Осенило тревожно и ясно. И удивился даже, что не сразу сообразил. «Надо же!» – усмехнулся Футуролог и глянул на часы у зеркала. Был уже седьмой час утра. Жена еще спала в соседней комнате. Борк вышел на открытую веранду, где обычно делал утреннюю зарядку. Но в этот раз мысли были отвлечены другим. И все, что окружало его в их загородном доме, утратило для него обычный интерес. Даже каменный сад на площадке возле бассейна, любовно устроенный по японскому образцу (хотелось верить – согласно расположению звезд), где по утрам Футуролог любил – по слухам, распространяемым Джесси комически-ужасным шепотком, – колдовать, а по его словам, вычерчивать на песке магические знаки, сегодня был начисто забыт. Не до забав было сегодня. Предстояло просмотреть всю прессу, а ее было навалом, предстояло звонить разным лицам по разным вопросам – ухватывать ситуацию на лету.
Страсти по поводу кассандро-эмбрионов уже поднимались повсюду. В том, что этого следовало ожидать, Роберт Борк нисколько не сомневался. Сам он испытывал прилив будоражащей энергии, как в былые, молодые годы, когда то и дело возгорались в университетских кругах шумные дискуссии по проблемам современной цивилизации, когда и впрямь казалось, что будущее человечества можно сконструировать в моделях почитаемого в ту пору интеллектуального «Римского клуба», стоит только переубедить консервативных оппонентов. События вокруг тавра Кассандры пробуждали в Борке забытый азарт, готовность идти на риск, на открытые столкновения ради идеи.
А события захватили Борка еще в аэропорту. Джесси встречала его в толпе у выхода с увесистой газетой в руке и помахивала ею над головой, как букетом, странно улыбаясь, с каким-то и виноватым, и озорным, и тревожным выражением лица. Но выглядела она даже помолодевшей, будто омытая внезапно прихватившим ливнем. Джесси была на девять лет моложе Борка, но побаливала временами, с давлением, случалось, тягостно маялась и тускнела от этого, а в тот час в аэропорту она показалась мужу наэлектризованной, динамичной, как в молодые, далекие уже годы. О, как мешал он ей в те дни пробиться в великие музыканты! А ведь она была виолончелисткой не из последних. И не будь его, чокнутого Борка, намертво прилипшего к ней, возможно, карьера Джесси не ограничилась бы оркестровой ямой. Но у всех своя судьба.
Среди первых слов, сказанных ею в аэропорту, в толчее у турникетов, была бесшабашная, отчаянная фраза, выражавшая одновременно и радость от встречи:
– Не знаю, Роберт, какие магические знаки ты начертил перед отъездом среди своих дурацких камней, но как иначе объяснить случившееся? Никак, Роберт, никак, хоть лопни! Этому нет объяснения. Но это неслыханно! Поверь мне, от этого кинет в дрожь весь мир!
– Значит, мои иероглифы чего-то да стоят?! – ответил ей в тон Футуролог.
– Ну, в общем, доигрался, мой дорогой Футуролог, доигрался в магию… Теперь вот разбирайся.
Уже в машине – Джесси была за рулем – Борк развернул газету, но, проглядев полосы, тут же отложил:
– Нет, это надо дома, в спокойной обстановке внимательно прочесть, – и сложил очки.
– А ты думал! – понимающе усмехнулась Джесси. – Если бы не из космоса, а на углу кто-нибудь вещал такое, ему бы просто морду набили! Представляешь: эмбрион, зачаточек, чуть ли не мыслит! Что-то предполагает! И сообщает, что не хочет рождаться на свет! И об этом всерьез! Как можно?!
– Ну, не совсем, наверное, так, – озадаченно шевельнул плечами Борк. Ему показалось, что жена судит с налета, что с ней редко когда бывало, и почему-то захотелось, чтобы она на этот раз оказалась не права. – Возможно, имеется в виду сам факт существования зачаточной рефлексии. Но как бы то ни было, есть повод для размышлений. Если бы, допустим, открылась непорочная форма восприятия нашего грешного мира как контрольная точка отсчета… Понимаешь, мне об этом сейчас вдруг подумалось. А такое действительно могло бы быть только на эмбриональном уровне. Да и то в фантастических представлениях. Хотя как сказать. Впрочем, не будем сейчас об этом. Приедем, я прочту, тогда поговорим, если всерьез… А ты знаешь, я сейчас тебя рассмешу.
И Футуролог принялся рассказывать жене о немецкой дотошности и педантичности и в то же время о внутренней раскованности европейцев, что роднило их с американцами. Однажды рано утром он увидел на пустынной рейнской набережной в Дюссельдорфе человека, едущего вдоль реки на велосипеде и распевающего во весь голос как ни в чем не бывало знаменитую арию, причем велосипедист был при галстуке, белом воротничке, в лаковых туфлях и чуть ли не в цилиндре, точно он только что с оперной сцены. И никого не было в тот час на набережной, ни души, кто бы мог оценить его пение. Но велопевцу никто и не требовался. Он был сам для себя, и при нем был полноводный Рейн, по которому двигались с утра пораньше грузовые баржи и пароходы… И солнце летнее всходило. Борк в восхищении готов был бежать за чудаком-вокалистом, до того это было экстравагантно, смешно и величественно. Полная раскованность, полное счастье. Хотелось кинуться в Рейн, плыть навстречу тому поющему велосипедисту, что катил себе по бесконечной набережной, помахать ему рукой, прокричать из воды что-нибудь веселое, хотелось бежать рядом с ним и забыть все заботы на свете.
Они посмеялись чудаку, мчась по автобану.
«Теперь домой, домой. Теперь работать, работать, черт подери!» – говорил себе Борк в предвкушении того, что скоро снова будет дома, в кабинете своем, за письменным столом. Думал об этом, испытывая ставшее уже привычным двоякое чувство – облегчения, как всегда бывало по возвращении, при встрече с Джесси в аэропорту, и в то же время с определенным укором в душе самому себе за отсутствие на неделе, за упущенные дни. А сколько их было, таких упущенных дней, цену которым человек познает слишком поздно.
На сей раз, однако, к привычному настроению примешивалось нечто иное, вызванное тем, о чем он узнал еще на борту самолета. Казалось бы, это странное известие обречено было на обычную участь сногсшибательной сенсации – вспыхнуть и угаснуть. Но чем больше Борк думал об услышанном, тем больше удивлялся, улавливая в себе непонятное ощущение причастности к тому, что произошло, и причем в такой степени, что не мог уже устраниться, выкинуть из головы эту совершенно не касающуюся его историю. Как если бы он очутился случайно в судебном зале, где был оглашен неожиданный и неслыханный приговор, по которому не только подсудимый, но и все, кто в тот момент находился на слушании дела, были признаны виновными только за то, что присутствовали на судебном процессе. И отменить этот вердикт нельзя было только потому, что он был уже оглашен…
Поистине странное состояние порождало соприкосновение с космической новостью, поистине странное, неожиданное и необъяснимое. Вот и Джесси за рулем, судя по всему, находилась под впечатлением космической новости. Это он видел по ее лицу, по ее глазам. Природа наградила Джесси сияющим взором, неуловимо меняющиеся переливы и оттенки которого так много говорили Роберту Борку. С первого дня их знакомства на каком-то благотворительном концерте, когда он увидел ее среди молодых музыкантов, а она его сидящим близ сцены среди зрителей, после чего они стали встречаться, с того первого дня он научился читать по ее глазам «зиму и лето жизни» и знал все, что у нее на душе, и она знала о нем все. И эта их способность понимать друг друга с полуслова, с полувзгляда определяла их согласие и семейное счастье.
Он решил не отвлекать жену болтовней – сосредоточенную, умолкшую, что на нее было не похоже. Особых причин для озабоченности у нее не было. Как нередко бывает в таком возрасте, уклад их жизни был привычно прочен; единственное, чего они не могли рассчитать и предопределить, – того, что от Бога, ведь каждому отпущен свой срок, свой век. А пока они старались посильно реализовывать свои творческие возможности, насколько хватит «квоты» времени и здоровья. И Борк понимал: если Джесси сейчас не по себе, то только потому, что она ошарашена этим посланием космического монаха Филофея. «Дома поговорим, – думал Роберт Борк. – Может, позвонить сейчас кому-нибудь из университетских друзей, потолковать, пока едем? – И хотел было уже поднять трубку, но передумал. – Не сейчас, надо сначала внимательно прочесть этого космического оракула, а уж потом…»
– Включить радио? – отгадывая мысли мужа, спросила Джесси.
– Не стоит. Зачем мне галдящее радио? Мне с тобой и так хорошо.
– Охотно верю, очень охотно, – с мрачноватой насмешливостью откликнулась Джесси, ловко обгоняя очередную машину.
– А если то, о чем нам сообщили оттуда, – поднял глаза Борк, – действительно существует, то, конечно, никто не останется в стороне.
– Неужели ты думаешь, что такое действительно возможно?
– Не знаю. Но если это так, может последовать обвальная реакция.
– Типун тебе на язык, Футуролог! – вполне серьезно обеспокоилась Джесси. – Это же страшно, когда массы!
– Если люди увидят себя в беспощадном свете, генетика из таинства биологии может превратиться в политику.
– Ну уж ты чересчур, Роберт, – попыталась Джесси как-то приглушить усиливавшуюся тревогу. – Но кто его знает, – стала она рассуждать, – вот звонили перед моим отъездом в аэропорт Шнаеры, Артур и Элизабет, они тоже очень обеспокоены. А Джон наш, Кошут, звонил из Атланты, спектакль там ставит, тот вдруг припомнил, что-де на дискуссии по фукуямовской теории конца истории ты предрекал новую трагедию, новое испытание на пути человечества. Вот, говорит, и накаркал твой футуролог, извлек из ресурсов мирового зла, как из мешка с барахлом, взамен мировой войны войну в самом себе, в человеке, проблему – стоит ли ему родиться. Помолчал бы, говорит, твой футуролог, может, и не было бы такого оборота. А то открыл ворота вслепую, вот оно и явилось. Я ему говорю – что оно? А он – оно и есть оно. Ему и названия нет.
– Ну да, узнаю, узнаю Кошута, – Борк иронически пожал плечами. – Хохмит, как всегда, сам в театре ставит трагедии, мир переворачивает вверх дном: Шекспир, Эсхил и прочее, а я, видишь ли, ворон, каркающий на заборе. Спасибо. Хорош мой лысый дружок…
– Ой, не говори, чудной он. Помнишь, как однажды вдруг говорит: завидую тебе, у тебя и жена прелесть, и шевелюра еще та. А у меня, мол, что? А ты ему: жену ты можешь еще отобрать, а вот шевелюру, пусть и седую, и косматую, никак! А у него аж слезы на глазах, вроде, и смеется и плачет, артист!
Борк задумчиво кивал в ответ. Впервые он возвращался домой с непривычным, а точнее, с неслыханным грузом на душе, свалившимся извне, невидимым, ничем не обозначаемым и все равно постоянно присутствующим.
– Боб, а ты действительно видел китов в океане? – прервала его мысли Джесси.
– Ну как же! Я потому тебе и звонил, – оживляясь вновь, заговорил он. – Ты представляешь? Этого словами не передать. В океане, вообрази себе, движутся, как корабли, грандиозные животные, плывут, как журавли в небе, треугольником. Зрелище! А тебя рядом нет. Но, хорошо еще, дозвонился. – Борк помолчал и затем продолжил, увлекаясь: – И как бы тебе объяснить, понимаешь, я сейчас думаю, что это было вовсе не случайно. Вот послушай. Во Франкфурте в этот раз кроме знакомой публики был один новый участник, из Австралии. Из Мельбурнского университета. Все-таки австралийцы отличаются чем-то особенным от всех нас, не знаю почему, может, потому, что они на окраине мира? Или просто этот человек такой? Я его про себя дельфинологом называл, потому что он увлекается дельфинами. Это его хобби. Он живой, с пытливым умом, говорит интересно. Так вот, зашел у нас разговор, случайно, конечно, о китах, начали с дельфинов. И этот разговор о китах, пусть тебе покажется смешным, очень сблизил нас. Мне было так интересно! Ведь наука до сих пор не может ответить на вопрос, что означает феномен группового самоубийства китов.
– Это когда они выбрасываются на берег? Ты это имеешь в виду?
– Да, именно это. Так вот, что заставляет китов, полных сил и, надеюсь, умственного здоровья, вдруг, ни с того ни с сего, как сговорившись, подплыть ночью к берегу и швырнуть себя на отмель, где воды по щиколотку, на издыхание? И там, не делая даже попытки рвануться назад в океан, киты погибают. Зачем они это делают, отчего, почему?
– Но постой, – перебила его Джесси, увлеченно засияв глазами. – Сколько раз об этом писали в газетах. И что, твой австралиец знает, отчего это происходит?
– В том-то и дело. Ведь мы с ним как рассуждали? Что это явление – самоубийство китов – противоречит биологическому закону самосохранения вида. То есть – природе вопреки. Такого нет в животном мире.
– Зато среди людей сколько угодно.
– Это совсем другое. Категорически другое. И не об этом речь. Тут совсем иная картина, Джесси.
Роберт Борк замолчал, окидывая взглядом выбегающую из леса на бугор мощную автостраду с броскими придорожными знаками и табло на обочинах и невольно безотчетно любуясь знакомым, столько раз виденным пейзажем. На какую-то долю минуты он почувствовал себя очень счастливым – на пути домой, с Джесси за рулем, готовый открыть ей великую, как полагал он, тайну китов, предвосхищая заранее, как поразится она услышанному, как потом, увлеченные открытием, они будут снова и снова возвращаться к этой теме, обсуждая ее с разных сторон. И это будет счастьем. Ведь счастье – в единении душ. И ему захотелось, приехав, посидеть вдвоем на веранде, послушать поставленную Джесси музыку (она неисправима – классика для нее превыше всего) и позволить себе любимого белого вина… Но мелькнула мысль о космическом монахе, и он подумал, что идиллии сегодня может и не быть.
– Что ты замолчал, Боб, я жду. Решил меня заинтриговать?
– Да нет. Просто собираюсь с мыслями. Вот ты спрашиваешь – знает ли он, этот австралиец Киффер, причины самоубийства китов. Как тебе сказать. Он предполагает то, чего другие не могут себе даже представить. Понимаешь, это не какое-то логическое умозаключение. Я бы сказал, это особое нравственно-философское видение. Да, да. Не улыбайся и не удивляйся. Именно так. Австралиец выдвигает версию мирового плана. Понимаешь, среди всех млекопитающих киты, наряду с дельфинами, – самые умственно развитые существа. К сожалению, они не обладают даром речи, и это создает непреодолимый пока барьер между нами и ними.
– Боже мой, ты привык читать доклады, Роберт. Но я не совсем понимаю, о каком нравственно-философском видении ты говоришь?
– Ни один ученый не мог объяснить природу этого странного явления. А Киффер вдруг приоткрыл передо мной картину вселенского характера.
– Так в чем же суть его гипотезы?
– Он пришел к потрясающему выводу. В акте группового самоубийства китов он видит реакцию мирового разума на земные события.
– Ну, это совсем фантастика, Роберт!
– Не скажи, не скажи, дорогая моя. Я захвачен этой гипотезой. Ведь человеку дана некая абсолютная привилегия на обладание разумом, на вселенскую миссию, а если мы не в состоянии совершенствоваться, не в состоянии активно осваивать универсум, что от нас требуется и для чего мы и существуем на свете, то, стало быть, мы – паразиты, не оправдывающие своего назначения, никчемные твари. Но извини, я несколько увлекся. Мне просто хотелось сказать о том, что, сколько нам, человеческому роду, дано, столько же на нас и возложено. И прежде всего возложено: гармонизировать, совершенствовать бытие, а сюда включается все, что исходит от нас – и в помыслах, и на практике. Гармония бытия! Сколько, однако, на этот счет великих и ничтожных мыслей рождается, сколько злорадства и пошлости выявляется в нас почти на каждом шагу, а ведь гармония – это еще и самоограничение, борьба с духовной распущенностью. И тут возникает естественный вопрос – а что есть совесть, о которой во все времена каждый лукаво толкует по-своему, когда и как ему удобно, а что она значит сама по себе перед природой, перед историей, перед будущим мира и перед Богом, наконец, который нас сотворил и которого мы творим?
– Роберт, – не утерпела жена. – Воистину, в тебе пропал пламенный проповедник, жить бы тебе в Средние века. Но очень возможно, что инквизиторы с удовольствием сожгли бы тебя на костре за ересь твою. Как можно творить Бога?
– Ах, вон оно что? Вот и ты, Джесси, становишься дотошным догматиком. Как можно?! Как можно?! Спалить бы меня не удалось. Творить можно словом. Да, да. На то нам и дано свыше слово. Все, что происходит в нас и с нами, вершится через слово. И все, что рукотворно, в конечном счете – это реализация слова. Мост через реку – вначале это было словом. Я больше скажу, слово – потенциал вечности, заключенный в нас. Мы умираем, но слово остается. И потому оно – Бог. Вот и мечемся мы в слове, в словах – то на крыльях летим в бесконечность, то под уздцы неизбежности ведомы словом, как мулы… Но я ведь о другом. О другой, как раз диаметрально противоположной ипостаси бытия – об изначальном отсутствии слова. А это – вся природа. К примеру, те же киты. В этом смысле трагические создания. Лишенным дара речи, им дано обладать уникальной интуицией, особым, только им свойственным мышлением и духом, особым энергоинформационным биополем. Об этом можно судить хотя бы по их младшим братьям-дельфинам.
– Но все-таки, Роберт, что же тебе, допустим, открылось?
Роберт Борк замолчал, приостанавливая себя перед тем как высказать то, что было для него столь важным. И поймал себя на мысли, что всякий раз по пути в аэропорт или из аэропорта почему-то возникает желание говорить о вещах необыденных, о которых меньше говорится в домашней обстановке.
– Понимаешь ли, – продолжил он, – Киффер утверждает, и мне это кажется небезосновательным, что киты – это живые радары в открытых океанах, это улавливатели подспудных сигналов космоса; быть может, именно они, киты, первыми узнают, когда назревает извержение вулканов, и безмолвно ревут от напора внутриземной энергии, но, должно быть, самое трагическое для них, несокрушимо выносливых в таких штормах и бурях, что не всякому кораблю по силам, самое страшное для них, когда обрушиваются на них сигналы людских стихий, людских злодеяний, вызывающих не постижимый для нас дисбаланс в состоянии мирового духа. Вот что, вероятно, наиболее мучительно для них, как альпийский фен, дующий с гор, – ты знаешь, о чем я говорю, об этом существует целая литература, – ветер, изнуряющий психику горных жителей. Ведь как бы ни был страшен вулкан, он извергнет лаву и затем утихнет, угаснет. А ветры зла людского не угасают. Вот в чем суть. Так уж устроено в нашей жизни: добродетели – всегда дефицит, зла – всегда в избытке, всегда через край. И вот представь себе, когда совершается на земле нечто такое, что мы не в силах остановить и чему даже находим оправдание в потемках душ и разломах сознания, убивая, истязая, подавляя, омерзительно обманывая самих себя, киты плывут к нам в отчаянии и страхе. Потому что разум мировой грозит рухнуть, самоликвидироваться, а значит, кануть в бездну, исчезнуть. И это страшит всякую тварь безмолвную концом света. Этого живые существа интуитивно боятся. Почему, думаешь, крысы бегут с тонущего корабля? Именно поэтому. Лишенные дара речи, киты не могут выразить, насколько они страдают за нас, и как это давит, душит, разрывает их изнутри, требуя разрядки. Ты пойми, как это мучительно! Помнишь, кто-то нам рассказывал, как увидел на улице немую девушку. Мать ее убил отец-мерзавец, а она, несчастная, бегала, не могла объяснить людям, что произошло, и хотела кинуться под трамвай. Нечто подобное, только в иных, вселенских масштабах, происходит, видимо, с китами. Они, наверное, стойко переносят в океане тревогу за полыхающие лесные пожары, содрогаются от оползней в горах, когда ледники движутся, утюжат все по пути, но сдвигов в человеческом поведении, злодеяний, садистских и неискоренимых, – вот этого они не в силах превозмочь, – такого, понимаешь ли, нагнетания губительных страстей человека, носителя мирового разума. Думаем ли мы о том, что нам доверен мировой разум, субстрат, а вернее, ипостась вечности? Сомневаюсь. Где-то среди нас, в стихии нашей, происходит срыв, обвал, извращение нравственности, незримая радиация зла и страха распространяется из того обвала по миру, нарушается космическая справедливость, думаю, что существует такая справедливость, искажается гармония бытия, и тогда киты не выдерживают и тоже срываются, плывут к берегу и выкидываются разом, выбрасывают себя на погибель, совершают самоубийство. И вот, представь себе, лечу только что над Атлантикой и смотрю, вдруг на развороте под крылом – стадо китов в океане. Я обомлел, когда увидел, как шли они журавлиным клином среди волн, дух захватило, и в то же время я подумал почему-то: куда они, какая сила гонит их, куда и зачем?
– Ну теперь-то понятно, отчего ты вдруг кинулся звонить мне с борта самолета. А я не могла сообразить: какие киты, что происходит? Конечно, после того, что ты себе вообразил, как не позвонить?!
– Думаю, что не просто вообразил.
– Ну-ну, – снисходительно улыбнулась жена. – Футуролог мой дорогой! – Она смотрела на него с легкой иронией. – С тобой такое бывает. Но занятно, ничего не скажешь, очень даже занятно. А вдруг и на самом деле это своеобразная форма протеста? Как знать. Ой, Роберт, нам надо заправиться, смотри – бензин на исходе. Пока мы с тобой мчались и про китов гадали…
Они свернули к бензоколонке, и все вернулось в привычное русло повседневной жизни, враз отступили и космический монах, и киты, и всякого рода абстракции. Потом они двинулись по улицам предместий, до дома оставалось уже совсем немного.
Почувствовав вдруг нахлынувшую усталость, Борк сказал:
– Джесси, сегодня не будем отвечать на звонки. Поставь на автомат, запишется. Устал. Отдохнуть надо с дороги…
– На один звонок я уже дала санкцию. Извини, но тебе сегодня вечером будет звонить Оливер Ордок. Я ему сказала, что ты прилетаешь. А то ведь он собирался звонить тебе в Европу.
– Оливер Ордок?
– Ну да. Он же выставил свою кандидатуру в президенты. Ты это знаешь?
– Знать-то знаю. Сейчас они все по первому кругу стартуют. Ну, от него не открутишься. Это настойчивый человек. Будет звонить до упора.
– Ну, извини, Боб. Я не могла отказать.
– Позвонит так позвонит. Ради бога. Оливер Ордок. Давненько мы с ним не созванивались. Помнишь, он ведь был вице-губернатором, занимался наукой, образованием штата, занятостью населения. Помогал в организации у нас международных научных конференций, вместе ездили, если помнишь, в Москву в первые годы горбачевской перестройки. Тогда там собирали политологов, футурологов со всего света. Ордок участвовал как политолог и как представитель администрации штата. Да, перестройка, перестройка! Все мы было встрепенулись и на Востоке и на Западе, что и говорить! Романтическое время. Он-то помоложе меня, хотя и ему уже, пожалуй, порядочно.
– Пятьдесят шесть, – подсказала Джесси. – В газетах так и пишут: пятидесятишестилетний Оливер Ордок.
– А, ну вот. Примерно так я и думал. Выходит, отважился наш Оливер Ордок, решил судьбу испытать. О, магия высшей власти! А вдруг да получится?.. Избирательная кампания, что море открытое, пойдет волнами, глядишь, и вынесет к берегу. Если суметь вызвать общественный прилив. Чутье проявить. Ордок в этом смысле вполне в своей стихии. Человек он хваткий, не глубокий, но и не глупый.
– Да, помню я то время. Хорошо помню. Тогда в Москве, когда мы там были, а, да, это в восемьдесят шестом, когда ты выступал в Кремле, в том огромном зале старинном, на форуме, Горбачев сам вел встречу. Ордок тоже был с нами. Помнишь? И недурно выступил, кажется, удачно.
– Недурно. Совсем недурно. В нем энергия, энтузиазм оратора. Он всегда был человеком момента. Хотя, повторяю, капитальных знаний у него нет. Да они, наверное, и не нужны в таких случаях. Для массового сознания важна прежде всего актуальность программы кандидата. И харизматизм личности.
– Ой, Роберт, довольно, что это мы – то про китов, а теперь вот на Оливере Ордоке зациклились. Будто у нас других забот нет. Скоро уже дома будем. Заболтались: Ордок да Ордок…
– А в этом и суть современного популизма, Джесси. Все сходят с ума по одной личности, а она как бы за всех сходит с ума. И мы с тобой в Америке не исключение.
– Ясное дело. Только чего он кинулся вдруг звонить тебе срочно в Европу? С чего бы?
– А тут и гадать нечего. Думаю, этот космический монах у многих уже вызвал головную боль, враз, так сказать, с панталыку сбил. Думаю, что именно в этом причина. Хотя трудно сказать.
– А ты тут при чем? С таким же успехом и ты, Боб, мог бы позвонить Ордоку по поводу космического феномена. Привет, мол, старик, как насчет послания папе римскому из космоса? Помнишь, в Москве у русских в таких случаях говорят: известно ли вам, с чем едят этот вопрос? Так и ты мог бы – с чем будем кушать сенсацию, дорогой Ордок? Почему бы и нет?
– Конечно. И все-таки ты сама говоришь, что многие мне уже звонили. Почему люди решили, что именно я должен давать объяснения по поводу этого сумасброда космического? Надо мне побыстрее разобраться, что это все-таки такое. А если это просто фейерверк?
– Коли фейерверк, подурачимся, повеселимся.
– Ой, не скажи, Джесси. Такие фейерверки до добра не доводят.
– Ну вот, тебе только дай повод. Не зря жизнерадостные французы прозвали тебя глобальным пессимистом. Забудем пока все это, хотя бы на подъезде к дому. Слишком много на один раз – и монах Филофей на орбите, и киты твои в океане, а у меня завтра серьезная репетиция с оркестром… О боже…
– Мне самому хочется сегодня спокойно побыть с тобой, Джесси… Вот мы и приехали.
IV
Спокойно отдохнуть не получилось. Уже в восьмом часу вечера раздался телефонный звонок. Бодрый женский голос поинтересовался, принося извинения за столь позднее беспокойство, может ли мистер Борк поговорить с кандидатом в президенты мистером Ордоком. Затем в разговор вступил сам Ордок. При том, что ему всегда были свойственны словоохотливость и подчеркнутая открытость, в этот раз он к тому же был явно возбужден. Приятельски-непринужденный разговор растянулся минут на сорок с лишним. Роберту Борку пришлось выслушать по ходу дела много нужного и ненужного, пришлось высказаться и самому.
Началось все с шутливого захода:
– Хелоу, Роберт, с приездом, и должен сказать тебе: в этот раз я ожидал твоего возвращения как никто другой на американском континенте, за исключением, разумеется, твоей замечательной половины, и уже готов был сам двинуться в Европу, надеясь обнаружить тебя на рейнских берегах где-нибудь среди прекрасных франкфуртянок!
– Спасибо, Оливер. Франкфуртянки действительно хороши. Но думаю, что разыскивал ты меня не только поэтому. Что-нибудь происходит? Давненько не виделись.
– О да. Происходит слишком многое, больше, чем хотелось бы. Сам понимаешь, черт меня дернул, – кстати, по поводу черта я еще расскажу тебе поразительную историю, случившуюся со мной на днях, – так вот, пока ты ездил по Европам, пустился я во все тяжкие в предвыборной кампании.
– Знаю, знаю. И надеюсь, это всерьез.
– Очень даже всерьез. В сопровождении финансирующих аккомпаниаторов, довольно солидных и, главное, кровно заинтересованных. Но не об этом речь, как-никак то – оркестр, а арии-то петь – твоему самоуверенному другу, то бишь мне! Что это значит, не тебе рассказывать. Только будет ли толк? Серьезный вопрос. Однако отступать я не собираюсь. В общем, не стану долго распространяться. Ты сам прекрасно представляешь. Нарабатываю рейтинг на встречах с широкой публикой (толпой называть не хочу, ни-ни, ни в коем случае, да, конечно, коллективный интеллект, я это подчеркиваю на всех встречах, я за развитие коллективного интеллекта на всех уровнях). Но все-таки скажу тебе по-свойски, кстати, у тебя в статьях я как-то вычитал о бифуркационных стихиях, так вот, популизм равносилен вхождению во взрывоопасную зону: не так наступишь, не так ответишь, не так среагируешь, одних удовлетворишь, других – нет, и все от тебя чего-то ждут, и надо быть готовым ко всему. Но главное – доходчиво изложить публике свое видение проблем. Вот чего они ждут, избиратели, – решения проблем. Да-да, решения проблем. Алло, алло, ты слышишь меня? Так вот, Роберт, извини, что рассказываю тебе, ученому, про все это, самому даже неудобно. Но такова теперь участь моя. Я должен быть понятен каждому прохожему на улице.
– Не волнуйся, Оливер. Я слушаю, слушаю тебя.
– Спасибо. Главное, я пытаюсь донести до избирателей свою, так сказать, стратегическую программу американского будущего, как она представляется мне на фоне нынешней кризисной обстановки в мире. Кризисной, подчеркиваю! А когда, собственно, жизнь была не кризисной, говорю я себе. Всегда, во все времена. И всегда кто-то должен был взять на себя риск повести за собой других. Кризис в этом смысле – необходимое условие, чтобы за тобой пошли, чтобы тебе поверили. Дай бог здоровья конституции и существующим законам, но, будь на земле тишь да благодать, кто кого стал бы слушать? Кто за кем бы пошел, не будь кризиса? Я так понимаю. Ну вот, ведущая концептуальная идея моя исходит из вечной проблемы – как устроить жизнь на завтра для всех и для каждого. Ясно, конечно, каждый жаждет для себя изменений к лучшему и не столько думает, как это сделать, как ждет немедленных благ небесных. Пусть тебе не покажется смешным, но люди, понимая, не понимают, их надо убеждать и убеждать. Они этого жаждут.
Пока Ордок излагал свои суждения и переживания на этот счет, Борк чутко улавливал в потоке его речи не только знакомые мотивы предвыборной маяты претендующего на президентский пост, но и нечто пока скрытое в подтексте, некую цель, к которой тот осторожно приближался, как плот к берегу.
Судя по всему, Ордок стремился и произвести приятное впечатление на собеседника, и подчеркнуть тот риск, на который он-де отважился ради интересов граждан и принципов демократии, и выяснить под завесой словоизлияний что-то, волнующее его. С тем он и звонил, так надо было понимать.
Борк живо представил себе его на другом конце провода, в просторном кабинете с большими овальными окнами, который тот занимал в последнее время в помещении партии в качестве лидера ее местного отделения, за столом, среди телефонов и прочей выразительной оргтехники, во вращающемся черном кожаном кресле, сидящим, чуть откинувшись, как встрепенувшаяся птица, глядящим отсутствующим взором в окна пятнадцатого этажа на такие же стеклянные этажи высотных зданий, стоящих напротив. При всей общительности и открытости Оливера Ордока существовали о нем самые разные мнения – за и против, не обходилось и без досужих разговоров о его чрезмерной скупости и т. п. И что у него собачий нюх политика-популиста. А о ком подобных разговоров не бывает? Тем более когда человек, начавший с адвокатской папки, вдруг молниеносно привлекает к себе общественное внимание, набирает, на зависть другим, очки, делает карьеру, казалось бы, из воздуха, вопреки критическим представлениям о нем близко знающих его.
Ордок выдвинулся вначале на профсоюзном поприще, затем в экологическом движении, замелькал на телеэкранах и страницах прессы, проявляя при этом немалые способности, вполне отвечающие расхожим запросам времени, или, как он сам любил подчеркивать, запросам человека с улицы. Он безошибочно угадывал, поистине как собака, бегущая по следу зверя, общественное настроение низов и воздействовал на эту стихию, стоически относясь к элитарной критике. На том и выигрывал. Безусловно, успех обнадеживал, придавал уверенности, преображал человека. Ордок даже внешне как-то вдруг неузнаваемо изменился. Куда-то исчезли даже странные серо-белые пятна, которыми были покрыты его птичье лицо и жилистая шея. А ведь еще недавно иной раз возникало впечатление, что лицо его с характерными темными кругами под глазами, чем-то напоминавшее лицо экзальтированного Геббельса, нечаянно обрызгано супом. Так вот, один его недруг, врач по профессии, в свое время утверждал, что пятна на лице Ордока – психический показатель его честолюбивых вожделений, жажды власти. Что если бы судьба не улыбнулась Ордоку наконец-таки, такими «кричащими» пятнами покрылось бы все его тщедушное тело, с головы до пят, и таким он ушел бы в могилу. Но так ехидствовали злые языки. Понимающие же люди, напротив, сочувствовали Ордоку, так как эти пятна были проявлением редкой болезни на нервной почве, которая называлась «витилиго». Чудесное же исчезновение с лица Ордока суповой пятнистости объясняли резким внутренним преображением его благодаря удовлетворенности, достижению, наконец, долгожданных целей. Смешно, конечно, но получалось, что избавление от косметического дефекта действительно произошло в связи с успехами Ордока на политической арене. Впрочем, житейская мелочь эта уже и забылась. Теперь Оливер Ордок выглядел на экранах вполне нормально, без каких-либо даже намеков на былую пятнистость. Он был энергичен, со всегда напряженным выражением юрких черных глаз, постоянно словно ищущих что-то. По собственному признанию Ордока, ему всегда хотелось увидеть того, кто ему противостоит. И тогда он шел напрямую и брал того на абордаж. К тому же Ордок прекрасно говорил: хорошо поставленный голос, четкая дикция, эффектные жесты, то есть то, что и требовалось трибуну, алчущему внимания толпы.
Но больше всего занимала Борка в Ордоке одна совершенно немыслимая и, должно быть, редчайшая его способность, которая поражала настолько, что в нее трудно было поверить. И действительно, расскажи кому-нибудь, – ни за что не поверит, скажет, что такого не может быть. Борк же знал об этом не понаслышке, а лично, поскольку они с Оливером Ордоком были выпускниками одного университета, хотя и учились в разные годы, – Борк чуть пораньше, а тот чуть попозже, Борк на историческом, а Ордок на юридическом факультете. С тех пор прошло немало времени, не один десяток лет, но романтическая принадлежность к университетскому братству, как водится, сближала их. Редчайшая же способность Ордока заключалась в том, что он помнил буквально все телефонные разговоры, которые когда-либо вел в своей жизни! Именно телефонные разговоры и только телефонные разговоры! Он мог сказать с точностью до дня и часа, с кем и когда он общался по телефону десять – пятнадцать лет тому назад, даже по незначительному поводу; предположим, звонил в справочное бюро аэропорта, или ему позвонили вдруг с бензоколонки в одна тысяча девятьсот семьдесят первом году, 12 августа в среду, в три часа дня. Объяснение такой особенности памяти, такому несусветному накоплению мусора в голове никто не находил. Роберт Борк даже не скрывал того, что он то завидовал странной способности Ордока, то приходил от нее в ужас. Думал по этому поводу то совершенно серьезно, то со смехом и страхом, ведь зачем-то человеку дана такая нелепая способность, а зачем? Дана свыше как награда или, напротив, преподнесена как наказание из преисподней? Кто знает?
Об этом вдруг вспомнилось Роберту Борку и в этот раз, когда он вслушивался в телефонное многословие однокашника. И подумалось: «А возможно, если будем живы лет через десять, вспомнит он и этот наш разговор, а я уже, конечно, не буду об этом помнить ничего, но чем черт не шутит, а вдруг запомню и я… А зачем?..»
Между тем Ордок перешел к тому, что и было целью его звонка:
– Так вот, Роберт, к чему я веду разговор, ты уж прости, что приходится начинать издалека; произошло событие, в котором мне чрезвычайно важно разобраться, как говорится, с ходу. Разумеется, ты уже в курсе дела, об этом уже вся Америка гудит. Этот космический монах, как его там именуют, – Филовей, кажется? Филовей?
– Филофей, – поправил Борк. – Его зовут Филофей. Я прочел его послание час назад.
– Я так и предполагал, Роберт. Так вот, лично на меня эта проблема кассандро-эмбрионов как кирпич свалилась. Лучше бы землетрясение случилось. Лучше бы не знаю что… Я в полной прострации, извини меня. Никогда со мной такого не бывало. Я не понимал до сих пор, что такое бездна, а теперь стою на краю. Я привык искать оппонента и сражаться с ним на виду у всех, а тут неизвестно, как вести себя, с кем иметь дело, с кем, если потребуется, скрестить копья? То есть я хочу сказать, это что-то абстрактное. И в то же время оно касается, по сути дела, всех и каждого, и все мы застигнуты врасплох, быть может, допускаю, только ты и такие, как ты, суперинтеллектуалы, не дрогнули в мыслях.
– Извини, Оливер, – перебил его Борк, – я в таком же положении, как и ты, как и все. И скажи откровенно, почему ты решил обратиться по этому поводу именно ко мне? Мы с тобой из одного университетского инкубатора, я готов тебя слушать сколько угодно, но все-таки?
– Я буду откровенным. Мысль эта возникла не у меня. Первым высказал идею обратиться к тебе за разъяснением и советом мой помощник – Энтони Юнгер. Это молодой парень, не только деловитый, но и начитанный, интересуется философией. Я его ценю. Так вот, когда сбежались с вытаращенными глазами, и каждый с «Трибюн» в руках, все мои советники и помощники, обалдевшие, что называется, мне стало не по себе. Завтра у меня в округе большая встреча с публикой, с народом. Сам понимаешь: демократия и народ – суть единая. И я готов к чему угодно, готов к любым вопросам, но когда я представил, что меня спросят об этих кассандро-эмбрионах, знаешь ли, на душе стало как-то так, как будто тигр стоит за углом. Кто мог предположить, что грянет вдруг гром из космоса?! А впереди – целая серия уже запланированных встреч с избирателями. Вот и прикидываю, как быть? Наш избиратель американский, сам знаешь, крайне дотошный, а то и просто скандальный. Да об этом знают все, весь мир следит за нами и, бывает, давится со смеху от неуемности нашей американской. Демократия – как самоцель! Вот именно! Но извини, ради бога, опять отвлекся. Так вот, о чем я? Да, завтра мои избиратели непременно захотят узнать не только, все ли коренные зубы у меня на месте, и получить подтверждение от моего дантиста, но и мое мнение по поводу послания этого самого космического монаха. А что мне сказать? Руками разводить – ни да, ни нет? Для политика это совсем негоже!
– Ты уверен, что тебя обязательно будут спрашивать об этом?
– Не сомневаюсь! И гадать не стоит!
– В таком случае напрашивается одно – принять открытие Филофея к сведению как своего рода пароксизм нашего самосознания, как корректирующую поправку к самим себе, выявленную через космос. Как новый ракурс внутреннего видения, обретаемый через космическое зондирование. Не так ли?
– Наверное, так, но не знаю, я пока не готов к подобным заявлениям. Хорошо говорить с тобой, но как объяснить людям, что предполагается подобная поправка, добавка, пароксизм, ракурс. Какая разница? О чем толкует этот монах с небес – о каких-то кассандро-эмбрионах, об их отказе рождаться, в общем о таких неслыханных вещах, которые для нас за гранью опыта. Но если бы это касалось только научной области, то еще полбеды. А ведь Филофей обращается к папе римскому, а по сути – ко всему человечеству. Да и что еще скажет сам папа? И станет ли вообще отвечать? Не завидую я ни папе, ни себе тем более. Папа в Ватикане, монах в космосе, а я перед толпой!
– Позволь, позволь, Оливер, во‐первых, не ты один, – попытался было Борк уточнить положение вещей. – Тут все…
– Понимаю, понимаю, но извини, я доскажу. Я знаю, о чем ты хочешь сказать. О том, что это проблема сугубо личного характера, что, мол, каждый человек сам и только сам должен решать, приемлет ли он такой, с позволения сказать, пароксизм. Да, но это так кажется на первый взгляд, Роберт. Мы не должны забывать, наше время – время уличных апелляций и требований толпы, перекладывания личных забот на административную систему. СПИД и тот ставится в вину административной системе. Нынешний человек – такое существо, чуть что не так – винит прежде всего не себя, а систему. А тут такая новость прикатила от космического монаха, куда ее валить, на кого повесить? И как быть? В общем, тут есть над чем подумать. Но ведь многие изловчатся и в этот раз – я имею в виду собратьев своих, политиков, – изловчатся так, чтобы это дело поставить себе на службу предвыборную. Даже кровопролитную войну можно повернуть себе на пользу. Я вот о чем.
– Да, друг, сегодня ты в ударе. И я тебя понимаю, Оливер. Не думай, однако, что послание Филофея для меня не загадка. Я тоже в шоке. Хотя должен сказать, если оппоненты не сумеют опровергнуть, развенчать утверждения Филофея, если поистине все это так и действительно сделано феноменальное открытие, касающееся биопсихологического фактора зарождения духа, интуиции у эмбриона и, в частности, эсхатологического комплекса, я бы назвал его «филофеевым комплексом», то отныне это будет в жизни человека занимать такое же место, как воля и страх, как рождение и смерть.
– Даже так? Ну ничего себе, ничего не скажешь! Радикальный подход! – В голосе Ордока послышалось неподдельное изумление и огорчение. – И что же в таком случае дальше?
– Что ты имеешь в виду?
– А что я могу иметь в виду? Высокие материи, о которых мы с тобой толкуем, – это само по себе, но мне ведь надо будет отвечать на вопросы избирателей вполне конкретно, высказать свое отношение к «филофееву комплексу». Не хотелось бы недоразумений на этот счет.
– Ну да, я тебя понимаю, – согласился Борк. – Следует подумать…
– А может быть, я просто перезвоню тебе через часок? Право, Роберт, не по себе становится, и не стал бы я тебя беспокоить, но тут одной моей амбициозности – я этого в себе вовсе не отрицаю, амбициозный я человек – и самоуверенности моей, с которой я держусь перед аудиторией, будет явно недостаточно. Ведь это, как я начинаю соображать с твоей подачи, абсолютно новый постулат человеческой данности. А ведь мы, американцы, сам понимаешь, во всем должны быть пионерами и обо всем иметь свое, независимое и ориентирующее всех других мнение. И если сегодня нагрянут из галактики, не дай бог, инопланетяне, то завтра мы должны опубликовать наши с ними совместные фотографии в обнимку. А иначе мы не американцы!
– Да, уж это точно, так и есть, – посмеялся Борк и добавил: – Конечно, тут требуется не телефонный разговор, а нечто большее, какой-то форум, во всяком случае, специальная конференция, и не одна, и не только у нас в Америке, но и в других странах, особенно остро откликнутся густонаселенные регионы, в первую очередь Россия, Китай, Индия, Япония. Могу себе представить, какие там пойдут круги по воде от филофеева камня. Но вернемся к нашему разговору. Что делать, как быть завтра? Ведь ты, Оливер, собирался выступать со своей предвыборной программой? Так ведь? У тебя уже были встречи с избирателями, у тебя свои приоритеты, свои доводы, свои способы влияния, как оно и должно быть у каждого претендента. В прессе промелькнули данные о рейтинге кандидатов. Прикидки. Прогнозы. У тебя вроде совсем неплохо. Знаю и твоих конкурентов.
– В том-то и дело. Фигуры очень сильные, энергичные. О них никак нельзя забывать, тем более сейчас, когда включается в игру такой неожиданный фактор! Филофеев комплекс!
Борк попытался его успокоить:
– Но я думаю, что сейчас, пока не осмыслена ситуация, говорить об этом напрямую рановато. Ведь как кандидата в президенты тебя эта тема непосредственно не касается.
Оливер Ордок тяжело повздыхал.
– Ты не совсем прав, Роберт, – возразил он. – Разумеется, я не несу за всю эту историю никакой ответственности. Но меня волнует, как эта ситуация может отразиться на моих предвыборных делах. Теперь послушай меня, Роберт. Что касается моего обращения к тебе, как я уже говорил, я делаю это с подачи моего молодого советника Энтони Юнгера, а это свидетельствует, кстати, о том, что нынешняя молодежь тебя хорошо знает и духовно ориентируется на тебя. Я отнял у тебя много времени, так ведь и звоню я тебе не случайно, а потому, что ты известный футуролог и прочее, и кому, как не таким, как ты, интеллектуалам, консультировать нас, практиков от политики. Мои соперники на выборах бывалые политики, я среди них новичок. Сейчас, ты знаешь, первый тур, и, если не предусмотреть заранее верные политические ходы, я вылечу из игры. Кого предпочтут в этой ситуации избиратели? Какую, собственно, занять позицию? Откровенно говоря, я не хотел бы прослыть консерватором, совсем ни к чему, но и революционность – всегда опасная крайность. Скатиться с беговой дорожки в самом начале по причине какой-либо нелепицы, недоразумения, скажем, в связи с этой космической историей – совсем обидно. Казалось бы, я ко всему готов, просчитаны все варианты предвыборной борьбы, все возможные осложнения на пути к Олимпу. И тут на тебе – такая оказия: привет от космического монаха! Что сказать – что я с ним, или послать его ко всем космическим чертям? Честное слово, во сне не привиделось бы! Но деваться некуда. Я хотел бы знать твое мнение на этот счет не из праздного любопытства, как ты сам понимаешь, а по необходимости. Не потерять бы голоса ненароком. Вот в чем проблема.
– Хорошо, Оливер, я, кажется, все понял, – отвечал Роберт Борк, удивляясь энергии и напору Ордока. (Борьба за политическое выживание – чего-то ведь стоит?!)
Кровь прилила к голове, в ушах зашумело, когда Борк представил себе на мгновение, какие лихие страсти спровоцированы в мире, какая брешь оказалась пробита отныне в сознании людей неожиданным, как комета, явлением из космоса монаха Филофея. К добру ли все это обернется, к худу ли? И надо было отвечать на прямо поставленный вопрос.
– Если бы ты, Оливер, и не участвовал в предвыборной гонке, – проговорил Борк, машинально покачивая головой, точно его собеседник на том конце провода мог его видеть, – то все равно было бы что в этой ситуации обсудить. Дело не только в том, что я нахожусь под впечатлением послания Филофея. Дело в том, что, как ни пытался я пробудить в себе голос сомнения, пока не нахожу оснований для опровержения его выводов. Наоборот, начинаешь верить.
– Верить?.. Но к чему это приведет, Роберт?
– К тому, чему пришло время. Вопрос стоит отныне так – принимаем ли мы к сведению открытие Филофея, или опровергаем с фактами в руках, или делаем вид, что ничего особенного не происходит, и отмахиваемся от Филофея, как от надоевшей мухи. И то, и другое, и третье – пока не в нашей власти. Да, если уклониться от проблем, поднятых Филофеем, жизнь в общем-то будет протекать так же, как протекала вовеки, но одно дело, когда мы не знали о тавре Кассандры, когда мы понятия не имели о генетической трагедии кассандро-эмбрионов, и совсем другое, когда мы знаем об этом и можем в этом убедиться. Как быть? Пренебречь, прикинуться, что ничего нам не грозит от самих себя, или глянуть правде в глаза, предощутить апокалиптический исход, услышать голоса кассандро-эмбрионов? Как быть? Вчера еще человечество об этом ничего не подозревало, сегодня оно оповещено. То есть – диагноз поставлен. И вследствие этого, человек как бы заново открывает себя в себе – кто он есть в прорастающем семени своем, в зарождающемся духе, куда влекут его пороки прежних поколений, переданные по наследству, в какую генетическую темь. Разглядим ли мы себя в том страшном зеркале? Или закроем глаза и будем загонять себя все дальше и дальше в угол? Я так понял трактат Филофея.
– М‐да, – натужно промычал в телефонной трубке Оливер Ордок и тяжело замолчал.
– Я понимаю тебя, понимаю, почему ты молчишь. Но мое мнение совсем не обязывает тебя ни к чему. Ты слышишь?
– Да. И все-таки мне важно было узнать твое мнение, Роберт. Деваться мне некуда – я могу или выиграть, или проиграть, в зависимости от того, сумею ли занять нужную позицию. Понимаешь? Проиграть никак не желательно. Ради чего, спрашивается? Я понимаю, допустим, я встал на сторону забастовщиков или, напротив, пошел в первых рядах демонстрантов против апартеида или, наоборот, не нашел нужным этого делать, и так далее. То есть тут ясно, за что горишь, черт возьми! За дело! А тут за что? За химерическую гипотезу какого-то сумасшедшего с космической станции рисковать карьерой, возможно, будущего президента страны? Какая нелепость! И надо же случиться такому именно сейчас, не раньше, не позже! Извини, что изливаю свои сомнения и огорчения.
– Я тебя слушаю, Оливер. Вот только мне кажется, что напрасно ты относишься к открытию Филофея как к химерической гипотезе. Дело твое, конечно. Боюсь, что это уже не гипотеза, а реальность. А в таком случае – это явление, которое касается буквально всех людей на земле. Что там забастовка в той или иной отрасли, что там демонстрации на улицах городов и прочие политические события по сравнению с тем, что грядет в связи с открытием Филофея. Так что мы обязаны дать себе отчет, что тут к чему.
Они оба замолчали, одновременно задумавшись. И снова заговорил Оливер Ордок:
– Стало быть, ты, Роберт, предлагаешь поддерживать послание Филофея?
– Видишь ли, Оливер, ты привык к чисто политическому подходу. Это и понятно. Но я в данном случае исхожу не из субъективных побуждений. Невозможно не считаться с фактами и логикой Филофея. Открытие космического монаха говорит о том, что человечеству предстоят новые испытания. Поэтому пойми меня правильно. Ты – политик, твоя цель – уловить актуальность проблем. Тенденцию настроений. А я – ученый, футуролог. Ты интересовался моим мнением. Буду рад, если в чем-то оказался полезным.
– Большое спасибо тебе, Роберт. Буду следить за прессой. Ведь тебе, безусловно, предстоит выступать в печати и на телевидении по этому поводу.
– Слава богу, Джесси догадалась пока не сообщать журналистам о моем приезде.
– А вот от меня, докучливого Ордока, выходит, Джесси тебя не уберегла. Но не сердись. Я уж на дружеских правах прорвался. Нагловатый, в общем-то, я тип и болтун хороший. Да, кстати, я же обещал тебе рассказать насчет черта.
– Насчет черта? А, да, вспомнил. Так что там насчет черта?
– Забавная история. Представляешь, недавно я проводил первую предвыборную встречу. В огромном зале народу битком. Тысяч пять! Волнуюсь. Изложил программу. Пошли вопросы. Посыпались. О чем только не допытывались, как говорится – от и до! Диапазон – от сексменьшинств до международных отношений. Занимаюсь ли я спортом, как семья, какое хобби и прочее. И вдруг возникает у микрофона один тип и задает мне такой вопрос: «Мистер Ордок, будьте любезны, скажите, пожалуйста, какое отношение имеете вы к черту?» Я опешил. Зал замер! – «К черту? О каком черте идет речь?» – «О вас, мистер Ордок. Вы – черт!» – «То есть?» – «Вы, мистер Ордок, венгр по происхождению. На венгерском языке “ордог” означает “черт”! Вам не стоило бы этого забывать, мистер Ордок!» Зал так и грохнул от хохота. С меня горячий пот полил. А этот тип добавляет: «Простите, мистер Ордок. Ведь я не случайно. Я очень хочу, чтобы вы стали самым популярным чертом в Америке!» И опять смех в зале до потолка. Как тебе нравится, Роберт?
– Такое не придумаешь! Я и Джесси расскажу.
– Расскажи, расскажи, пусть посмеется.
– О’кей! Звони в случае чего.
– Непременно, – живо откликнулся Ордок, показалось, что он собирается попрощаться, но тут в разговоре возник совершенно неожиданный поворот. – Слушай, Роберт, в моей наивной голове мелькнула сейчас бесшабашная мысль, – сказал Ордок, хмыкнув в трубку. – А что если, представь себе, допустим, да-да, допустим такое: в связи с тем, что неожиданно возник на пути нашем этот космический монах и как быть с ним, никто не знает, так вот, не стать ли тебе в нашей команде главным консультантом по этой части? На период кампании, конечно. Ну, соответствующая тому оплата. Но не в этом суть, извини, ради бога, это и оговаривать не стоило.
– Спасибо, Оливер, спасибо за предложение, – заторопился Борк, чтобы не вдаваться в ненужную тему. – Но скажу сразу: столько своей работы – не поспеваю. С тобой должны быть на бегу молодые, расторопные, толковые ребята, чтобы с утра и до вечера рядом. Ведь это кампания, погоня за голосами. А я уже стар для этого.
– Не стоит, Роберт, не стоит. Не так уж ты стар, как тебе кажется. Ты себя преждевременно старишь. Поверь мне. Я ведь от души. Подумай при случае. Авось! На космического Филофея нужен соответственно земной Филофей! А?
– Ну тут сообща, сообща думать будем, – смущенно проговорил Борк. – В принципе ничто не мешает нам созваниваться, если потребуется.
– О’кей! Ты прав. Спокойной ночи! Джесси привет от меня.
– Она у телевизора сейчас.
– Ну ясно, сейчас все у экранов телевизоров. Все слушают рассуждения комментаторов. Но что будет завтра? Каким ветром потянет? Пока, Роберт!
V
Положив, наконец-то, телефонную трубку, Роберт Борк покачал головой – вот как оно раскручивается – филофеевское послание действительно задевает всех. Мало ли было на земле проблем, вовеки неизбывных. А теперь вот – загадка кассандро-эмбрионов, как снег на голову! И вспыхнет мировая истерика. И сколько душ будет сбито с толку! Настал час! Не уклониться, не избежать! Что-то грядет! Уже висит в воздухе! Пышет из алчущей пасти назревающих событий! Реакция на космическое послание Филофея последует незамедлительная и яростная, как если бы на многолюдном базаре кого-то обесчестили, оскорбили в религиозных чувствах и вмиг поднялся гвалт несусветный. Идеи Филофея скорее всего будут подвергнуты мощной обструкции, осмеяны, опорочены и прокляты, как это всегда бывало в исступленные эпохи, при многих великих и малых хождениях к новым богам, к новым спасительным истинам, к утопическим далям идеального устроения жизни. Так было всегда. Но неужели история снова, снова слепо повторится и на сей раз? И, как всегда, захлебнется в себе, ничего не открыв и не постигнув ни сиюминутно, ни впрок? Ведь отрекающиеся от жизни кассандро-эмбрионы как следствие все возрастающей концентрации зла в поколениях, накопления зла из века в век, не исчезнут, с открытием Филофея знание о них предопределит мучительную участь человечества – ожидать конца света. И другого исхода на горизонте не видно.
Думая обо всем этом, Роберт Борк невольно задавался вопросом, откуда такая страсть в нем самом, почему так близко к сердцу принимает он поступок столь отдаленного в пространстве космического монаха Филофея, почему так волнуется за него, почему оказался горячим сторонником, единомышленником автора кассандро-эмбрионального учения? Чем все это объяснить? И больше всего поражало Борка, что вся предыдущая жизнь его, все, что сумел он постигнуть, весь его опыт и знания как бы обнаружили свое подлинное предназначение именно теперь, именно в связи с открытием Филофея. Сознание этого рождало в нем и недоумение, и в то же время чувство небывалого внутреннего удовлетворения, ощущение неожиданного выхода на искомый след – на искомую сверхзадачу, о которой мечталось, быть может, всю жизнь, и отсюда являлась готовность отстаивать открытие космического монаха как свое кровное дело. Он уже обдумывал свое выступление. Всплыло название – «О чем гласит фобия кассандро-эмбрионов?».
И подумалось ему в тот час, что в жизни бывают верховные минуты бытия: годами накапливаемое, обогащаемое изо дня в день являет вдруг молнию прозрения. Этому, несомненно, способствуют привходящие обстоятельства – согласие в семье, признанность в своем научном кругу, то есть все то, что повседневно сказывается на состоянии, на дееспособности человека, что принято называть, если без ханжества и пусть весьма банально, – счастьем. Обывательским счастьем, отчего оно не становится менее ценным.
Был уже поздний вечер; несмотря на усталость, Роберт Борк устроился в кабинете и включил компьютер. Того, что посетило душу в тот час, нельзя было упустить. Все это должно было найти свое выражение на бумаге, в слове.
В раскрытую дверь кабинета был виден горящий в гостиной камин. Круглый год, в любой сезон Джесси умудрялась разводить в камине огонь. Она любила музыку огня.
Первые летучие фразы родились легко. На чисто светящемся экране строки ложились наглядно, одна за другой, как пласты, опрокидываемые в поле плугом. В полуосвещенных боковым светом окнах кабинета отливала густой синевой плотная осенняя ночь. Знакомые силуэты деревьев в саду лишь угадывались. Луна шла краем неба, то и дело зарываясь в кучевые облака и вновь выныривая.
В тот час, отрадный для работы, предстал пред мысленным взором Роберта Борка целокупный мир, как бы обозреваемый с высоченной горы, затаившейся в мареве за экраном компьютера. В тот час Борк писал о неизбывной проблематичности пребывания человека среди себе подобных, целиком поглощавшей человеческие существа от рождения до смерти, и о попытке постижения главной сути бытия – человек не сотворен изначально добродетельным, отнюдь нет, для этого требуется неустанно прилагать душевные усилия и всякий раз, с каждым новым рождением, заново приступать к этому – для достижения недостижимого идеала. И все в человеке должно быть направлено на это. Только тогда он – человек.
Размышляя над жизнью человеческой, Роберт Борк, однако, не предполагал, насколько та самая жизнь, которую он, под впечатлением письма Филофея, пытался аналитически осмыслить, чревата необъяснимым, непредвиденным, насколько она противоречива, коварна, крута. Не предполагал он, в частности, что с того часа, как он в разговоре с Оливером Ордоком, боровшимся за президентское кресло, высказал свое отношение к открытию монаха Филофея, судьба его была предрешена. С этого часа судьба его оказалась зависимой от судьбы Ордока. А, с другой стороны, также совершенно немыслимым образом оказалась увязана с судьбой Филофея, находившегося в тот час на орбите, в космическом уединении, в свою очередь ничего не ведавшего о Борке – ни сном ни духом.
Но как бы то ни было, случилось то, чему следовало статься. И узел судеб был уже нерасторжим. Об этом в ту лунную ночь еще никто не знал. Ни один из повязанных – ни тот, ни другой, ни третий… Но узел судеб был уже жестко стянут… И катилась Луна в чреве ночи, неуклонно проделывая свой извечный путь над Землей в отведенные на то неукоснительные часы и минуты. И много зачатий, состоявшихся той ночью, были тотчас вовлечены лунным притяжением во вселенскую субстанцию, в продолжение круговорота вечности – рождения и смерти. Вечность жизни возобновлялась в чревах, в новоявленных оплодотворениях. И в каждом зачатии той ночью уже были обозначены в перспективе персонажи будущего. И всем им, зародившимся, были открыты двери свободы, двери рождения. И всякий зародившийся той ночью мог явиться со временем на свет кем угодно – и палачом, и казнимым, и безупречным безбрачным богослужителем, и прочим, и прочим в этом ряду. Но, вопреки закону вечности, уклоняясь от зова жизни, объявились в череде зачатий той ночью и генетические нигилисты – кассандро-эмбрионы. Объявились, чтобы дать о себе знать свечением знака Кассандры на челе забеременевших женщин, объявились, чтобы бросить вызов уготованной судьбе-мачехе, объявились, чтобы с помощью филофеевых зондаж-лучей передать изнутри внешнему миру свою безмолвную просьбу – просьбу разрешить им удалиться от жизни.
И плыли киты той ночью в океане мимо мигающего во тьме маяка на далеком обрывистом побережье. Перламутрово-лоснящееся стадо китов в играющем лунном свете плыло во мраке упорно и безостановочно. Куда они плыли? Что их влекло? Что их гнало? И что хотел сказать им маяк на обрыве, отражавшийся в океанской воде и в китовых глазах?
И сидел той ночью у компьютера Роберт Борк в тревогах, сменявшихся надеждами, в надеждах, сменявшихся тревогами. И плыл он среди китов в океане, и киты знали, что он плывет вместе с ними. И так они плыли вместе, ибо судьба его и судьба китов все более переплетались… Плылось ему в океане так же, как и китам в бурлящих волнах, и так же отражался свет далекого маяка в его зрачках, как и в китовых…
А ровно в три часа ночи по московскому времени вместе с боем знаменитых кремлевских курантов, всякий раз громогласно напоминавших всем четырем сторонам света о державном величии, устремившись круто вниз, слетела с гнезда на Спасской башне тамошняя сова. И полетела вдоль Кремлевской стены как тень, бесшумно взмахивая широкими крыльями, неуловимо вращая на лету огромной головой с магнетически светящимися округло-пристальными глазами. Так летала она каждую ночь в одно и то же время, когда из Спасских ворот в полном безлюдии вокруг выходил, чеканя ударную поступь, отсчитывая ровно двести десять торжественно-ритуальных шагов, очередной наряд часовых к мавзолею Ленина. Мавзолей возник здесь уже на ее, совином, веку, и она пережила уже многих и многих молодых солдат, истуканами отстоявших свой срок в дверях мавзолея, охраняемого ежесекундно, круглосуточно, круглогодично, всегда.
Облетев площадь по всему периметру, покружив несколько раз над мавзолеем, мерцавшим в лунном свете гранитными гранями, покружив заодно и над сакрально-государственными захоронениями, располагавшимися в тылу мавзолея, под ельником, под самой Кремлевской стеной, и убедившись, что ожидаемые ею двое здешних призраков, одинаковых с виду, одинаково приземистых, одинаково башкастых, появлявшихся обычно в глухую заполуночную пору, судя по всему, и на этот раз не намерены возникать (куда они запропастились, никак опять поссорились?!), сова подалась прочь, неуловимо взмыв перед лицом каменно застывших на посту часовых. Сова улетела разочарованная, что-то давно уже неразлучная пара одинаково приземистых, одинаково башкастых фантомов, шептунов-собеседников не наведывалась побродить по Красной площади, потолковать о жизни, посудачить. А чем еще оставалось им заниматься, этим потусторонним субъектам?
И в самом деле, уж очень любили они поговорить, порассуждать о том о сем, о политике – непременно. И случалось, что призраки увлекались, горячились, до скандала доходило, спорили, ругались очень. Один в сердцах заявлял, что никогда больше не встретится с другим, что он его ненавидит, презирает, не желает быть рядом; другой отвечал, что деваться тому некуда, что история теперь им неподвластна, не то что прежде, а потому совершенно напрасно он так горячится, после смерти они, что опавшие листья, куда ветер понесет, и прочее в этом роде. Волею Проведения только сове дано было видеть и слышать этих неуживчивых, неугомонных призраков в их потусторонней, эфемерной зыбкости… Сова уже привыкла к ним за долгие годы, без них ей было скучно, вроде чего-то не хватало. Но она знала, никуда они не денутся, рано или поздно появятся. Вот вскоре должны состояться на площади большой парад и шествие, и ночью вслед за этим призраки непременно появятся, возбужденные, с фанатически блестящими, пьяными от увиденного глазами. Очень их будоражат гремящие барабаны, строевая музыка, солдатские шаги, отбиваемые по плацу, точно по сердцу. А лязг военной техники! И шествия, шествия как будоражат – многолюдные, громогласные, ликующие, с лозунгами и портретами тех, что стоят в тот час на мавзолее. И протекают толпы, как нерестовое движение, – все в одну сторону, голова к голове, – с криками «Ура-аа!».
Но призракам не дано появляться в дневную пору, на свету, а не то захотелось бы им переступить ход времени, вернуться из небытия в сиюминутную явь и самим включиться в действо, самим стоять на верхней трибуне мавзолея над экзальтированной людской рекой внизу… И все бы это вдруг остановилось, замерло, как в стоп-кадре, застыло бы в немой сцене навсегда, на века в неизъяснимо сладостном восторге истории… И застыли бы на лету самолеты, проносившиеся над Кремлем, и стаи вспугнутых голубей застыли бы в воздухе, и горение глаз, и орущие рты, и даже мысли, преданные и наичистейшие, застыли бы в извилинах мозгов… И солнце остановилось бы стоять навсегда в одном месте…
А в будни, особенно в ненастье, в затяжные дожди, в метельную поземку, когда на площади негде укрыться от ветра, когда часовые у мавзолея стоят в валенках с калошами, в ушанках, в руковицах и выдыхают морозный пар, тут же оседающий белой изморозью на воротниках, на дулах парадного оружия, башкасто-приземистые фантомы-призраки, возможно, от непогоды становились ворчливыми, неуживчивыми, все больше жались по углам, искоса кидая взгляды на луну, перечили один другому, и тогда частенько доносились до слуха совы раздраженные возгласы: «Перестань меня убеждать в том, что не подлежит объяснению! Не существует аргументов против смерти, их не может быть, смерть – естественна. И я не хочу быть бессмертным, будучи умершим, не хочу эрзац-жизни! До каких пор будет это продолжаться?! Нет мне исхода, нет мне покоя, нет покаяния! Прежде не думал, а теперь из головы не выходит – зачем я родился, зачем только меня мать родила?! Ведь я не хотел, не хотел рождаться! А теперь я заложник гробницы! И это все дело твоих рук! Это твоя архисатанинская, архиковарная идея! И никогда я с этим не примирюсь, никогда, никогда, запомни!» На что напарник отвечал ему сиплым голосом, невозмутимо посасывая навсегда угасшую трубку свою: «Слушай, я много раз объяснял тебе. Это была воля партии. Я объяснял тебе: ты нужен был партии в наглядном виде, в наличии, понимаешь, для мировой революции, для классовых клятвоприношений, ты нужен был партии после смерти и вопреки смерти. Ты – фараон революции, и тебя берегут, тебе в твоем саркофаге поклоняются!» – «А я категорически не хочу этого! Я категорически протестую! Никому, категорически никому не дано игнорировать смерть. Это – абсурд!»
И летала сова над ними, и диву давалась, как яростно спорили они о том, о чем нигде в мире не услышишь…
Но сегодня их не было, полуночных призраков-спорщиков…
Площадь пустовала…
Сова взмыла над зубчатой стеной Кремлевской крепости и, держа перед немигающим взглядом глаз своих всю округу, полетела дальше над обширно-пустынными крышами в дворцовые парки. Здесь она тихо ухала среди густых ветвей осенних, неподвижно оглядывая с высоты холма излучину реки внизу, темные крыши спящих домов. Под мостом скулила приблудная собака. Зябла, должно быть…
Сове казалось, что она слышит из великого отдаления, откуда-то с другого края света, как в ночном океане плывут киты, как движутся они гуртом, раздвигая гороподобными телами надвигающиеся волны. Вода гудела в бурлении вокруг китов. Вода сопротивлялась их движению, но они плыли, поспешая невесть куда. Тревогой веяло от их вулканически-горячего дыхания.
Сова на взгорье кремлевском чуяла – что-то должно произойти на земле. Всегда так бывало – киты впадали в отчаяние перед тем, как случиться в мире великой беде.
И тягостно ухала сова в Кремлевском парке, и уже близился рассвет…
То, что произошло на другой день, не явилось для Роберта Борка некой неожиданностью, подобное развитие событий можно было предвидеть. И все же такого крутого оборота он не ожидал…
С утра, когда он отправился в университет читать лекции, он еще принадлежал себе. А потом…
Во второй половине дня Борк возвращался домой. Возвращался, с трудом сосредоточиваясь за рулем машины. Хотелось поскорей оказаться дома, отыскать у Джесси аппарат для измерения давления, как он там называется… Она иногда измеряла давление себе, а заодно и ему. Обычно у него все было в норме, жаловаться на здоровье пока было грешно, он соглашался измерить давление со смешком, снисходя к причудам любимой жены. А теперь ему самому хотелось убедиться – все ли в порядке? Что-то не по себе было. Странное, ранее неведомое ощущение зыбкости окружающего мира охватило его. Жизнь как бы сместилась в чем-то, потеряла устойчивость, как на ветру, даже в выражении глаз и в голосах людей, с которыми он общался многие годы, что-то изменилось, а может быть, это происходило и в нем самом?
Даже автобан, прекрасно распланированный для скоростной езды, освоенный до мельчайших деталей, и тот показался чуть ли не малознакомым. Ехалось почему-то с опаской. Все стало вдруг иным, не совсем таким, как было… Все оставалось на месте, и все вокруг вроде бы утратило прежнее значение… И трудно было объяснить себе, что все это значило…
Машина Джесси стояла перед домом. На душе полегчало. Стало быть, жена еще не уехала на репетицию.
– Ну что, как дела? – Джесси поднялась ему навстречу. Она, как всегда, светилась улыбкой. – Что-нибудь еще случилось? Что-то ты непонятный какой-то. – Джесси глянула в лицо мужа, и ее взгляд, насмешливо-улыбчивый поначалу, невольно изменился. – Ты неважно себя чувствуешь?
– Да, в общем, ничего. Джесси, ты себе не представляешь, люди сошли с ума! – проговорил Борк, бросив портфель на диван и скидывая пиджак.
– Хочешь кофе?
– Да, не прочь. Были звонки?
– Были. О них потом. Расскажи, что там происходит, в городе.
– Что происходит? Да то, чего и следовало ожидать. Паника. У всех на устах Филофей. Вот что происходит. Я уж не говорю о газетах, радио и телевидении. Там ажиотаж, тщетная попытка разобраться что к чему.
– А они уже звонили, Си-эн-эн, «Голос Америки», радио «Свобода». Я сказала, что ты возвратишься только поздно вечером. Но продолжай.
– В университете – невозможно шагу ступить, все взбудоражены до предела. Пожар на лицах. Все толкуют только об одном. И оказывается, это страшно, когда все зациклены на том, что волнует буквально всех одновременно. Бешеные мысли идут вразнос. Теперь я понимаю, что умел делать Гитлер на площадях, какие вызывать стихии.
– Возможно, ты прав. Но что ты хочешь, Роберт, это же студенты. Они молоды, кипучи, страсти через край. А тут – Филофей!
– Пожалуй, что да. В день убийства Кеннеди, помню, было нечто подобное. Сегодня какая-то дикая разноголосица, сумятица, сумбур. Одни, к примеру, утверждают, что Филофей недопустимо вторгся в тайну природы, и тут же опровергают себя – а разве могут быть тайны, вторгаться в которые недопустимо. Другие – чего тут переживать, пусть себе монах космический морализирует на орбите, а нам, мол, плевать. Подумаешь, какой-то прыщик на лбу. А в ответ: плевать потому, что ты мужчина, а как быть женщине, узнавшей, что ее будущее дитя не хочет рождаться? И вообще, как быть дальше? Что делать со знаком Кассандры? Как заставить себя забыть, не замечать того, что существует? Третьи несут что-нибудь несусветное. И четвертые, пятые, десятые и так далее. И наконец, все вопиют: зачем вторгаться в генетический код – это запрограммированная судьба, не подлежащая вмешательству. Тысячелетиями люди жили по коду судьбы, и теперь вдруг ревизовать то, что неподвластно воле нашей. И так далее, и тому подобное. Всего не передать. Для кого-то это прыщик, пустячок, а для кого-то катастрофа. Да, всего не передать. Но самое жуткое – Кассандра уже в действии. Говорят, одна студентка с юридического факультета глянула на лекции в зеркальце и с криком кинулась прочь из аудитории. У нее выступило на лбу то самое пятно, сигнал кассандро-эмбриона. А в другом случае и того хуже. Дорожная авария, и женщина, сидевшая за рулем, призналась, что загляделась в смотровое зеркальце – ей показалось, что на лбу у нее появилась подозрительная примета. Хорошо еще, обошлось без большой беды.
– Бог ты мой! – Джесси опустилась на стул. – Вот свалилось всем на голову! Как же быть дальше? Должен же быть выход какой-то?!
– Не знаю, Джесси, не знаю. Что ты хочешь от меня? И потом, тебе ведь пора собираться на репетицию. Вернешься, поговорим. У меня тоже тяжело на душе.
– Никакой репетиции! Какая тут репетиция, когда творится черт знает что!
– Ну вот, начинается. И ты тоже! Весь оркестр тебя будет ждать, а ты тут будешь дома терзаться страстями по Филофею.
– А я позвоню, скажу, что заболела. В конце концов, я самая старая среди них. И вообще, я скоро буду бабушкой. Ты-то это прекрасно знаешь.
– Меня ждет та же участь, но только бабушка в мужском роде, – пытался рассмешить ее муж. – И буду очень рад, когда мы полетим к Эрике в Чикаго уже в качестве бабушки и дедушки. А сейчас, поверь мне, не стоит. Джесси, не срывай репетицию. Напрасно.
Джесси заколебалась.
– Ну, хорошо. У меня еще целых полчаса, даже больше. Но что же будет теперь со всеми? Эрика уже на седьмом месяце беременности. А может быть, и у нее тоже была на лбу метка Кассандры? Ведь никто не знал тогда ни о чем. Представь, а если бы Эрика забеременела недавно?! Я бы ночи не спала. – Джесси замолчала и, немного успокоившись, добавила: – Сейчас приготовлю тебе кофе, Роберт, а потом уже поеду.
– Я и сам могу, не беспокойся.
– Нет, я сейчас. Кстати, звонил среди прочих некто Энтони Юнгер от Ордока.
– Юнгер? А, понимаю. Ну, и что он сказал?
– Сейчас приду, расскажу.
Пока жена готовила на кухне кофе в старой кофеварке, действующей на пару и потому прозванной паровозом, Роберт Борк устало сидел в кресле, откинув обвисшие руки, и пребывал в странном состоянии, точно он был здесь посторонним. Он даже огляделся вокруг. Оглядел, как будто впервые, большую гостиную, обставленную массивной мебелью, в том же стиле были когда-то приобретенные Джесси в Венеции люстра и большое зеркало над камином. Рояль, виолончель. Золоченые корешки книг в стеклянных шкафах (основная часть книг находилась в библиотеке, на втором этаже, рядом с кабинетом). И весь этот дом, и сам он, отражавшийся в старинном венецианском зеркале, мосластый и седогривый, как старый конь, некогда выделявшийся крупной статью, воспринимались им в тот час с чувством некой отчужденности; он как бы отстраненно видел свою былую жизнь, вещи, связанные с той жизнью, самого себя, малознакомого, замкнувшегося, погруженного в непривычные размышления. Он даже подумал: «Неужели мне надо больше всех, отчего я так переживаю, точно действительно пришел конец света?! Но может быть, вся предыдущая жизнь моя была всего лишь прологом, чтобы теперь ткнуться в неведомое? Шарить, как незрячий в поисках скрытой двери? И что я постиг, подвизаясь в футурологии, прожив в общем-то спокойную, упорядоченную жизнь преуспевающего ученого мужа? И вот последний акт судьбы в лице космического Филофея. Что это значит? Момент истины? Расплата за аванс? Так ли это? Кто для меня Филофей? Никто, если подумать. Но что же я не уймусь? Значит, что-то меня с ним связывает? То киты снятся, а теперь…»
И отделаться не мог от этих мыслей, не мог уйти от сомнений. И о чем бы теперь ни подумалось, приходилось исходить из открытий космического монаха. Приходилось все сопоставлять – все, что было до, и все, что стало после…
Джесси принесла кофе, и опять разговор вернулся к прежней теме. Оказывается, Энтони Юнгер, отрекомендовавшийся почитателем трудов Роберта Борка, звонил от команды кандидата в президенты, пытался дозвониться Борку в университет, но не застал и просил передать, что будет еще звонить во второй половине дня. Когда Джесси поинтересовалась, не может ли Борк сам ему позвонить, Юнгер ответил, что его будет сложно застать, он все время будет в бегах, у них сегодня суматошный день, готовится встреча Ордока с избирателями, а затем большая пресс-конференция, в общем хлопот много, а ему очень хотелось бы поговорить с Борком. «Давно мечтал поговорить, а сейчас есть повод. Передайте, пожалуйста, у меня есть информация и вопросы. Очень хочу дозвониться».
И вскоре после отъезда Джесси на репетицию раздался звонок. Это был он, Энтони Юнгер.
– Мистер Борк, вам не кажется, что у нас с вами есть общий друг – по имени Филофей, и знакомство наше с вами, к сожалению пока телефонное, происходит в общем-то с его подачи?
– Согласен. Этот космический монах многое будет определять теперь в нашей жизни.
– Об этом-то и речь, мистер Борк. И думаю, вам это виднее, чем кому-либо. И проблема теперь в том, каков будет ход событий, или, как образно выражаются русские, куда повернет дышло истории. Хочу похвастаться, чтобы вы знали, я недурно говорю по-русски. Стажировку прошел в Московском университете. Вдруг да окажусь вам полезным в этом качестве, буду рад.
– О, это замечательно, – не без удивления отозвался Роберт Борк, отмечая про себя уверенность и звучность речи Энтони Юнгера. «Весьма энергичная натура! – подумалось ему. – Сколько же ему лет?» – Я тоже бывал в России при Горбачеве, – откликнулся он на русскую тему. – Москва, Ленинград, Киев. А скажите, Энтони, сколько вам лет? Просто любопытства ради.
– О, пожалуйста! Хотел сказать для пущей солидности – тридцать, но буду точным – двадцать восемь с половиной, – ответил тот. – Пора, пора уже за ум браться. Что еще сказать? Москва мне многое дала – другой полюс жизни и знаний, но кагэбэ я завербован не был. Сразу заявляю!
Они оба засмеялись этой модной в Америке шутке.
– Извините, Энтони, по возрасту вы мне в сыновья годитесь. А поинтересовался я этим потому, что при серьезном разговоре важно знать возраст собеседника.
– Я тоже так думаю. Ну, о вас я знаю, пожалуй, все. Читал ваши книги, в последнее время очень внимательно перечитывал вашу статью «Девять дверей глобального дома».
– Да, это была попытка синтеза мировых идей в области футурологии. Спасибо, я очень польщен, – пробормотал Борк.
– А сам я, кстати, в академическом смысле неопределенный тип, – проронил с усмешкой Энтони, – собран из лоскутов знаний, судорожно хватался за все – от философии до астрологии, когда-то мечтал о космосе. Занимался и профсоюзными делами, и журналистикой, отсюда мое сближение с Оливером Ордоком. Он делает ставку на популизм, и в этом его сила. Ему нужно сейчас помочь в предвыборной гонке. Вот мы и стараемся. Я у него в команде занимаюсь связями со СМИ. Вот сегодня, к примеру, через три часа – публичная встреча с избирателями в спортзале «Альфа-Бейсбол». Масса народу, прямая телетрансляция. А затем, уже поздно вечером, – пресс-конференция и тоже с прямой трансляцией по нескольким каналам. Я все это вам говорю, мистер Борк, не случайно. Возможно, вам интересно будет посмотреть, что у нас, то есть у Ордока, получается, а что нет. Извините, у вас есть время, я не мешаю своими разговорами?
– Нисколько. Я тебя слушаю, Энтони.
– Так вот что мне хотелось бы отметить в этой связи, чтобы вы знали. Утром мы все собирались в кабинете Ордока, человек двадцать нас – помощников, экспертов и прочих, и первое, что он сообщил, – о том, что у него с вами был вчера продолжительный телефонный разговор о послании космического монаха.
– Да, был, – подтвердил Роберт Борк.
– Это прекрасно, что Ордок советовался с вами по поводу того, что у всех сейчас на уме и на экране. Политик он, активно набирающий популярность, но никак не пророк и…
– Энтони, любезный, – прервал его Борк. – Я знаю, что это ты надоумил Ордока обратиться ко мне. Но ведь и я далеко не пророк. Ты думаешь, я обладаю способностью мгновенного прозрения? Я сам был бы готов обратиться к кому угодно, чтобы мне помогли во всем этом до конца разобраться. Ты звонишь ко мне так, будто общепризнано, что я знаток всего этого. А я не могу гарантировать бесспорности своих суждений. Это надо учесть.
– Я рад, что это так! – удивил своим ответом Энтони Юнгер. И голос его зазвенел увлеченно.
– Чему же ты рад?
– Тому, что интуиция меня не подвела. Хотя и говорят, что в своем отечестве нет пророка, сейчас я еще раз убеждаюсь, что вы тот самый мыслитель, с которым и должен был прежде всего проконсультироваться политик, претендующий на президентское кресло. Ордоку сегодня предстоит держать речь, отвечать на вопросы целого стадиона избирателей. И дело не в том, удастся ли ему с ходу завладеть мешком общественного мнения и взвалить его себе на спину. Важно, что ваши взгляды станут таким образом достоянием масс. Я говорю это, исходя из того, что сказал нам утром Оливер Ордок.
– А что он вам сказал?
– В общем, я понял, что он, опираясь на ваши оценки, склонен комментировать открытие Филофея как реальность, с которой нельзя не считаться всем людям, во всех слоях общества, во всех странах света. Не так ли? По-моему, так? Ордок примерно так сказал.
– Принять к сведению то, что есть данность, – это одно, это исходная точка. Но что дальше? Как быть с тем, что явилось и продолжает являться причиной появления кассандро-эмбрионов? В социальном, историческом, психологическом плане? Вопросов тут масса.
– Вы правы, мистер Борк, – проронил Энтони и хотел сказать что-то еще, выразить свое понимание, но Борк снова заговорил:
– Я целиком поглощен этим событием, мне даже кажется, что я сам уже не тот, что был вчера, и надо заново осмысливать жизнь, хотя мне пора бы думать о ее завершении. Филофеевское открытие опрокидывает наши прежние взгляды на человеческую судьбу. Обнажилось то, в чем мы прежде не хотели себе признаваться. Прогресс, цивилизация, казалось нам, оправдывают то негативное, чем они сопровождаются. Лес рубят – щепки летят. Есть такая поговорка у русских.
– Да, очень распространенная. Сталин, к примеру, так оправдывал щепки массовых репрессий. Но продолжайте, я вас внимательно слушаю.
– Так вот. Что я хотел сказать? Филофеевское открытие обнаруживает, безжалостно обнажает то обстоятельство, что на протяжении всей истории, из поколения в поколение, люди систематически истязали друг друга и мир, в котором они живут, и в силу этого лишились очень многого на пути своем; очень многое, чего они могли бы достичь в своем историческом совершенствовании, безвозвратно упустили. Ну, вот представьте себе даже схематически. Разве все эти нескончаемые войны, и так называемые славные в том числе, все эти революции, бунты, восстания, преступления, жестокость властей, деспотизм учений и идеологий – разве все это, вместе взятое, все, что постоянно корежит, выкручивает жизнь, судьбы, делает народы постоянно взаимоненавидящими, людей – алчными существами, разве все это, если исходить из Филофея, не находит свое выражение в бессловесном протесте кассандро-эмбрионов, число которых все возрастает? Отказ их от жизни – это ли не предчувствие конца света? И вот получается: эсхатологический миф, в который по инерции бытия мало кто верил до конца, становится наглядной реальностью. Обо всем этом я пишу в статье, над которой сегодня ночью начал работать. Оливер Ордок, разумеется, может иметь на Филофея и его открытие свою точку зрения, но в любом случае и он, и его команда – вы все должны понимать, с какого рода сложной материей мы имеем дело. Примерно об этом я и говорил вчера Ордоку.
– Каюсь, что я вовлек вас и сегодня в длиннющий телефонный разговор. А в душе радуюсь – я узнал то, что хотел узнать. Конечно, я с вами согласен, есть еще многое в философской теории, о чем следует думать и думать. Но как бы то ни было, он задал нам неслыханную задачу. Всем до единого, всем смертным на земле! Вот это личность! Он повернул ключ Вселенной! И если придется нам, простите, отдуваться за все предыдущие века – а дело идет к тому, – за все, что было сотворено, как вы изволили выразиться, алчными существами, то есть нами, всеми нами и всеми до нас, то к кому же апеллировать, как не к самим себе?! Стало ясно, что зло не уходит бесследно, безответно вместе с теми, кто его творил, а оседает где-то в бункерах генетики до поры до времени. И выходит, кто-то рано или поздно должен расплачиваться за это отречением от самой жизни?!
– Да, получается так, Энтони. Дело в том, что мы мало думаем о соотношении добра и зла, неизменно сопрягая их в единой связке, мало думаем о том, что зло – преобладающая сила, что зло губит, постоянно убивает в нас наше исконное предназначение, губит наши вселенские ресурсы, не дает разуму поднять голову, чтобы распознать иные способы бытия, когда человек стал бы качественно иным, чем сейчас.
– Мистер Борк, а вы думаете, что, физически оставаясь такими, какие мы есть, люди могли бы обладать качественно другим интеллектом, могли бы быть существами с иной матрицей поведения?
– Вполне вероятно. Ведь мы были предоставлены сами себе, оказались единственными разумными существами во Вселенной. Никакой конкуренции ни с какими тварями. Мог ли у нас быть другой тип духовной эволюции, принципиально другое развитие? Об этом можно думать, спорить. В чем, однако, людям не отказать, так это в том, что, чего бы мы ни достигали в развитии науки и техники, мы всегда оставались и, к сожалению, остаемся зверьми, пожирающими себе подобных.
– Жаль, черт возьми, очень жаль. Выходит, космический монах накрыл нас с генетическим поличным?! Но, как это ни глупо, меня некоторым образом задевает то, что мы могли бы быть иными, чем мы есть. Нет ли, мистер Борк, в этом утверждении привычной идеалистической мелодии, уносящей нас в мазохистские переживания?
– Разумеется, есть, поскольку мазохизм – это жалоба в пустыне на отсутствие леса.
– И что же вы предлагаете, если такого леса нет и не будет?
– Пожалуй, одно – выращивать в себе лес новых прозрений.
– Что это значит?
– Что это значит? Цепкий ты журналист! В свете философских открытий это может означать одно: нужно внять сигналам кассандро-эмбрионов, каждую мету Кассандры воспринимать как предупреждение. Только так можно остановить зреющий внутри нас конец истории от страха рождаться на свет. Проникнуться сознанием того, что надвигается генетическая катастрофа, необходимо буквально каждому и всему человечеству в целом. Я как раз об этом и пишу в своей статье для «Трибюн». Извини, Энтони, по телефону всего не скажешь. Коротко говоря, ответственность человечества перед потомством отныне приобретает новый характер, возможно, это новый виток эволюции. Вчера примерно об этом же я говорил Ордоку. Он тоже озабочен.
– Да, мистер Борк, в этот раз нашему Ордоку придется туго еще и потому, что подобная ситуация не для его, как говорится, политического репертуара. Таких политиков, как Ордок, я называю турнирными. Ордок уверенно действует, когда у него есть наглядный враг, и тогда он наступает, и это должно быть на виду, публично. В узком кругу он даже применяет понятие «необходимый враг». Вот тогда он на коне. А тут, видите ли, некая абстракция!..
– Не совсем так, Энтони. Такая абстракция может мгновенно превратиться в конкретику. Причем в очень жесткую. Поскольку дело касается жизни людей.
– Да, разумеется. Я просто хочу отметить психологическую особенность Ордока. Но это и форма его политического существования. Но это все к слову. Я заканчиваю, мистер Борк, виноват, с вами не наговоришься. Не разрешайте мне звонить, а то вам жизни не будет.
– Хорошо, хорошо, Энтони. Возникнет необходимость, почему бы и не поговорить.
– Пока, мистер Борк. Значит, если захотите посмотреть передачу, – митинг в «Альфа-Бейсбол» с шести до восьми, а пресс-конференция в отеле «Шератон» – с девяти до десяти.
– Спасибо. Буду иметь в виду…
VI
Тот осенний день просился быть увековеченным на живописном полотне – с пронзительной серебристостью воздуха, с бесшумно опадающей на глазах разномастной листвой, со стаями отлетающих птиц, прощально кружащихся над крышами загородных домов… И слышались где-то по соседству голоса играющих детей. Тишину, умиротворение дарил тот солнечный день всему живому – созерцание собственного бытия…
Так бы и завершился в череде своей тот чудесный Божий день, и ничто течению жизни, казалось бы, не мешало. Но приближалось некое событие, пока еще незримое, пока еще назревающее, пока еще накапливающее электричество, чтобы дать затем о себе знать. Для этого людям предстояло собраться вместе. И как можно большему количеству скопиться, как можно гуще и плотней сбиться в единую, горячо дышащую массу.
Роберт Борк посматривал на часы и ловил себя на том, что ждет предстоящей встречи Ордока с избирателями с таким волнением, точно это ему, Борку, предстояло выступить с речью, добиваясь президентского кресла, точно это перед ним лично стояла задача, как выражались газетчики, овладеть текущим моментом, добиться у публики доверия и поддержки. Борк и сам не мог понять, с какой стати, почему он так волнуется. Казалось бы, ничего особенного – дежурное мероприятие в ходе предвыборной кампании и не более того. Стоило ли вообще думать об этом? Стоило ли придавать такое значение ординарному событию, так волноваться о том, что не имело к нему никакого отношения. Чудак и только! Болельщик нашелся.
Но как бы он ни посмеивался над собой, душа у него болела, он просто не находил себе места. Его все время тянуло из дома в каменный сад, где обычно, прохаживаясь неподалеку или вычерчивая на песке якобы магические знаки, слушал он в раскрытое окно доносящуюся от проигрывателя музыку. Слушал ее и сейчас. В этом искал он успокоения, в бетховенской симфонии, в ее мощи и космичности, надеясь, что музыка, как это бывало нередко, отвлечет его, уведет в свой мир, в иные переживания, к иным, ничем не регламентированным мыслям и фантазиям, которым он здесь обычно предавался. Он любил размышлять о том, что музыка – это одна из неисчислимых трансформаций солнечной энергии, что она исходит из недр Вселенной, а композитор, как радар, улавливает музыку из космоса, формирует ее, гармонизирует, делает ее конкретно звучащей. Иначе говоря, музыка – это звуковое преображение вселенского Пространства и Времени. Разумеется, этими своими «открытиями» он не делился ни с кем, люди посмеялись бы над ним. Даже Джесси не знала. И еще была у него одна теория, о которой он тоже не распространялся, хотя очень хотелось иной раз и высказаться: думалось ему иной раз, что музыка дана людям в компенсацию трагической краткости человеческого века. Когда человек слушает музыку, погружается в нее, он вступает в надличностную категорию времени, он включается в течение бесконечности, и жизнь его удлиняется, продлевается в соприкосновении с вечностью, возможно, на десятилетия, столетия и более того, но продлевается не в линейном измерении, а в измерении, природа которого еще не раскрыта. И очень вероятно, что никогда не будет раскрыта.
В этот раз, однако, Борк убедился, что для подобного восприятия музыки нужна определенная предрасположенность, определенное настроение, как перед молитвой, как перед отплытием в море… Этого-то ему сегодня и недоставало. И музыка не помогала. К тому же Джесси задерживалась на репетиции. Был час пик и неизбежные в это время заторы на дорогах. А Борк дома тоже очутился как бы в заторе. Дело не двигалось, он не брался за то, что должен был срочно закончить. Ведь «Трибюн» хотела получить обещанную им статью как можно скорее. А он, прекрасно сознавая, что жатва сенсации на газетных полосах не терпит промедления, не мог заставить себя сегодня сесть за компьютер. Все откладывал, уверяя себя, что в крайнем случае опять будет работать ночью, что не подведет газету. Досадовал, метался и вместе с тем предвкушал, какой прекрасный текст ляжет на бумагу; он это чувствовал почти физически, текст прорастал в нем, как трава после бурных дождей. Статья, что называется, сама просилась в работу.
Но он бездействовал в напряженном ожидании того, чего, казалось бы, не должен был ждать, что, казалось бы, не касалось его. Этот грандиозный предвыборный митинг, который должен был состояться в самой густонаселенной части города, в знаменитом спортзале, где будет битком всякого народу, почему-то мерещился ему чуть ли не возле его дома, на террасе, на газонах, в его каменном саду. Казалось, что толпа обступает его дом тяжелой массой, стесняя его дыхание… Он обзывал себя параноиком, как может привидеться такое?
Он ходил взад-вперед то в дом, то из дому, поглядывал на часы, музыку слышал краем уха, на телефонные звонки не отвечал, а телефон звонил, и достаточно настойчиво. Большой телевизор в гостиной обходил стороной, не хотел преждевременно включать; о том, что могло передаваться в тот час по многочисленным каналам, можно было сказать не глядя – все та же телесуета… Джесси все еще задерживалась…
Он был в каком-то неприкаянном состоянии, не мог сосредоточиться. Но приходили и серьезные мысли. Например, о том, что в разговорах в университете, да и с журналистами из «Трибюн» почему-то не затрагивался тот факт, что обращение космического монаха Филофея было адресовано персонально папе римскому. А ведь легко было понять, что папа тем самым был поставлен в очень сложное положение – как быть, отвечать ли прессе на столь нетрадиционное, если не сказать одиозное, обращение некоего самозванного монаха или нет, а если да, то что отвечать?
Роберт Борк живо представил себе, какие невероятные волнения могут возникнуть в разных религиях, когда проблема кассандро-эмбрионов станет предметом повсеместных обсуждений и споров. Вот где таилась одна из опасностей на пути филофеевских открытий.
Ведь религии, заключающие в себе и муки, и вдохновение вековечного порыва человеческого духа в жажде недосягаемого слияния с Богом, в той же степени себе на уме – Бог Богом и даже Бог един для всех, но свое есть свое, а чужое – это чужое, свое и чужое – вещи несовместимые. Отсюда пристрастность, амбициозность, эгоистичность различных вероучений в утверждении своих приоритетов на обладание истиной, что главным образом и порождает противостояние в мировых структурах духовенства и, в свою очередь, отчужденность, взаимонепонимание верующих масс. Пожалуй, по этой-то причине в каждой религии найдутся определенные силы, полагал Роберт Борк, которые непременно попытаются обернуть открытие Филофея в свою пользу при любом раскладе – или предавая космического монаха анафеме и набирая тем самым политический капитал, или приспосабливая открытие тавра Кассандры к своим доктринам, чтобы тем самым расширить диапазон культа и приумножить свое влияние на верующих.
И снова думалось ему о том, что, бывало, приходило на ум, поначалу мимоходом, а потом все настойчивее и настойчивее, о чем он тягостно размышлял в поездках по странам, на всякого рода международных научных конференциях, не осмеливаясь, однако, высказывать эти мысли напрямую. Что было бы, как обернулась бы жизнь отдельной личности, как сложились бы судьбы людские, если бы каждый человек на земле был волен исповедовать в равной мере все религии, если бы дано было человеку обрести повсеместно право ничем не регламентируемой, свободной причастности – если он, разумеется, верит в Бога, – ко всем существующим религиям в одинаковой мере и с одинаковым «статусом», когда бы он был приверженцем не какой-то отдельной конфессии или секты, исключающих все остальные верования, а мог бы быть членом ассамблеи мировых религий и был бы признаваем ими всеми без каких бы то ни было оговорок, когда бы он мог считать себя и христианином, и мусульманином, и буддистом, и иудаистом, и прочим в этом ряду верований, и каждой религии – его любовь и уважение, а ему – признание его всеми культами, и он бы свободно принимал их идеи и нормы, но не сектантские, не изоляционистские, а общерелигиозные. Тогда не было бы между людьми негласных и гласных барьеров религиозного характера, что особенно важно для смешанных поликонфессиональных обществ в гигантских городах и густонаселенных странах. Может быть, такое положение вещей значительно облегчило бы, гармонизировало бы жизнь человеческую? Может быть, пришла такая пора, такая историческая эпоха, когда навстречу человеку все религии могли бы пойти сообща, а не порознь и не толкаясь локтями? Чтобы человек конца двадцатого века мог заявить в отличие от прошлых поколений – все религии мои, и я носитель всех религий, я вхож во все храмы всех культов, и во всех храмах я – желанный паломник… Я был рожден христианами, я был крещен, а погребен буду под стихи из Корана, сегодня я был православным с православными, вчера был мусульманином среди мусульман, в Японии я поклонялся Будде, в Швеции я вторил тезисам Лютера… Никому я не чуждый в своей вере в Бога, и мне нет чуждых молений, обращаемых человеком к Творцу нашему на всех языках и наречиях. Творцу, одинаково внемлющему всем нам, одинаково страдающему от злодеяний наших и одинаково отворяющему для всех нас Вселенную по мере мудрости и по мере добродетели нашей…
Религиозная ассамблейность не ослабила бы идею Бога ни в одной из существующих религий, а, напротив, придала бы им свойства универсальности, открытости, динамизма и, самое главное, – обнажила бы человеколюбивую основу религий в ее исходной сути, в деяниях, а не только в прекрасных теориях…
Борк, безусловно, понимал, что это скорее всего странная, а возможно, и нелепая идея, и что вряд ли она осуществима, что можно думать об этом только для себя и про себя, что следует быть чрезвычайно осторожным в такого рода глобалистских высказываниях, чтобы не задеть истово верующих, их жизненной установки, что подобная идея может вызвать шок. Именно эти соображения сдерживали желание футуролога Борка огласить на свой страх и риск то, что вынашивалось им втуне. Воздерживался, даже когда очень подмывало, когда актуальность религиозного космополитизма была очевидна, как искомая истина, как совершенно необходимая модель нового духовного общения людей и религий. Это был бы совместный шаг в поисках Бога, а не разрозненные попытки соперничающих культов «преуспеть» прежде других.
Он хорошо представлял себе, какое страшное возмущение культовых иерархий может породить идея индивидуальной поликонфессиональности, какой шум поднимется, какие камни полетят на его бедную голову, в каких грехах, в каком кощунстве, в какой мировой ереси он будет обвинен. Если эгоизм и корысть – изначально присущие и чуть ли не биологические свойства человеческой природы, то никак не следовало сомневаться в том, что такие действия непременно последуют. И тогда даже участь злосчастного Салмана Рушди, приговоренного к смертной каре мусульманской иерархией, кровно оскорбленной за своего великого пророка, при сопутствующем безразличии других религий, даже такая участь могла бы показаться еще завидной: как-никак Салману Рушди пока удавалось находить себе укрытия, а ведь весьма вероятно, что при случае у ратующего за поликонфессиональную интеграцию верующих не будет и такой возможности, что ему, еретику тому, везде отверженному и отовсюду гонимому всеми разгневанными культами, не найдется на земле места приклонить горемычную голову, что не будет ему пристанища нигде и никогда? «В этой ситуации тебе осталось бы разве что удалиться в космос, к Филофею, – иронизируя над собой, подумал Роберт Борк, и пришла вдруг мысль в голову: – А ведь в самом деле, может быть, судьба для того и удалила Филофея на космическую орбиту, чтобы он мог оттуда с недосягаемой высоты, сказать людям на Земле правду?» Занятый этими нахлынувшими мыслями, Борк чуть было не пропустил начало трансляции предвыборной встречи. Глянул на часы – было уже шесть. Он кинулся в гостиную, к телевизору. Успел в самый раз! Ведущий приглашал телезрителей к экранам на прямую передачу из спортзала «Альфа-Бейсбол» встречи избирателей с независимым кандидатом в президенты Оливером Ордоком.
И открылась панорама многолюдия под сводами спортзала. Народу было – не окинуть взглядом. В эфире стоял приглушенный гул голосов, похожий на гул роящихся пчел. Перед Борком проплывали лица, их выражение, море лиц разных типов, цветов кожи. Оформление места действия свидетельствовало о том, что команда кандидата поработала совсем неплохо. Под куполом спортзала висел огромный воздушный шар с портретом улыбающегося Ордока. В разных местах маячили транспаранты: «Он знает социальные низы!», «Ордок – будущий президент!», «Ордок выдвигает новую экологическую программу», «Безработные верят в Ордока!», «Феминистки требуют приоритета!», «Отдадим голоса за нашего Ордока!» и тому подобные. Операторы работали мастерски, показывая плакаты крупным планом.
И все разворачивалось, как положено на такого рода публичной встрече. С шумом, с гамом, с эстрадной музыкой, с бодрыми голосами комментаторов, с полицейскими, невозмутимо наблюдающими за порядком. И сам Оливер Ордок выглядел, как и подобало виновнику торжества. Движения его были уверенными, при своем, едва ли среднем росте он демонстративно высоко держал голову на выпрямленной жилистой шее. Улыбка оживляла его блеклые, стертые губы, глаза умело прятали за той же подвижной улыбкой настороженность и реактивность. Чем-то он очень напоминал бывалого конферансье, умеющего окупать свой небольшой рост бодростью, подвижностью, неожиданным тембром голоса. Ордок проходил к трибуне под дружелюбные аплодисменты зала в сопровождении шедших по сторонам консультантов и помощников. С появлением кандидата в президенты кучкующиеся фоторепортеры мигом нацелились, наперебой защелкали аппаратами, засверкали вспышками. В эту неполную минуту эфирного времени атмосфера публичной встречи предстала именно такой, какой и следовало ей быть перед началом митинга, лишний раз подчеркивая при том американскую демократию в действии и деловитость устроителей предвыборной кампании.
И у Борка, непонятно почему весь день беспокоившегося, томившегося напряженным ожиданием, несколько отлегло от сердца под впечатлением обыденности демонстрируемого, и он даже упрекнул себя в излишней нервозности.
И действительно, в этой массе людей, внимание которых было сфокусировано на одном персонаже – на Оливере Ордоке, чья речь, усиленная микрофонами, раскатывалась под сводами огромного зала потоком слов и восклицаний, трудно было уловить нечто, выходящее за пределы нормы. Ордок выступал довольно умело, затрагивал актуальные проблемы, был счастливо прерываем несколько раз аплодисментами, когда попадал в цель, когда касался животрепещущих вопросов. Кандидат в президенты делал все от него зависящее, чтобы удовлетворить, завербовать, пленить толпу в обмен на ее политическое доверие к себе. Для этого он хлестко критиковал уходящего президента, критиковал конгресс, критиковал сенаторов, средства массовой информации, какие-то корпорации и компании, финансовые структуры, которые и по отдельности, и все вместе взятые чего-то недоделали, скрыли доходы, лишили возможных благ этих людей, а он обещал им все это восстановить и воздать многократно. И эта часть выступления ему очень удавалась, весь зал возбуждался, и на этом он, Ордок, расцветал, возрастал в своих глазах и в мнении собравшихся. Это был успех.
Роберт Борк внимательно следил за Ордоком, пытаясь представить себе, в какой мере тот держит в уме вчерашний их телефонный разговор. Нет, о послании космического монаха Ордок пока не обмолвился ни словом. Быть может, это было и к лучшему, быть может, на таком огромном политическом сборище и не следовало затрагивать подобное? Быть может, Ордок задался целью заговорить, увлечь, увести толпу в густой лес актуальных проблем повседневной жизни с тем, чтобы этим исчерпать регламент?
Но как бы то ни было, провести толпу, миновать феномен Филофея Ордоку не удалось. Первый же вопрос от микрофона в зале был именно об этом:
– Мистер Ордок, – раздался звонкий женский голос. – Мое имя Анна Смит, я школьная учительница. Не могли бы вы сказать, что вы думаете о послании из космоса монаха Филофея, опубликованном в «Трибюн»? – Женщина стояла у микрофона в проходе, выпрямившаяся и взволнованная.
Люди в зале колыхнулись, как на палубе корабля, на который внезапно налетела крутая волна. И гул голосов прокатился и угас в ожидании ответа. Это был момент, подобный тем, которые обычно называют поворотными.
– Да, уважаемая Анна Смит, – сказал после паузы Оливер Ордок, заметно сжавшись, изменившись в лице, – я читал этот документ и много думал о нем. И, не скрою, предполагал, что вопрос такой возникнет и на нашей встрече, хотя, конечно, он, если уж на то пошло, не имеет прямого отношения к предвыборной кампании. Но то, что волнует вас, уважаемые избиратели, интересует и меня. Тем более что данный вопрос касается, надо полагать, всех и вся. Так вот что я хотел бы сказать в этой связи, – продолжал Ордок. – Конечно, я не сосредоточен на подобных проблемах, далеких от политики. Но мне думается, что открытие монаха, а вернее, большого современного ученого Филофея, говорит о том, что для человечества наступает время испытаний. Увы, самооценка наша оказалась явно завышенной. Вы все читали газету, понимаете, о чем речь. Сигналы Филофея надо принимать как предупреждение о близящейся катастрофе. Так получается!
Телеобъективы тем временем ползали по залу, выхватывали, укрупняя, лица присутствующих, замерших с напряженным ожиданием в глазах. Роберт Борк застыл перед экраном, очень сожалея, что в этот час он не в зале. Сумеет ли Ордок убедить людей?
– А что же делать? – переспросила тем временем учительница в наступившей тишине. Ее вопрос прозвучал искренне и отчаянно.
– Я думаю, – отвечал на это Оливер Ордок, – что каждый должен решать сам. – В зале послышался глухой рокот возгласов. – Ну, а если по большому счету, – начал рассуждать Ордок, пытаясь погасить рокот в зале, – то, конечно, необходимо предусмотреть соответствующие программы предупреждения катастрофы, то ли социальной, как трактует Филофей, то ли биологической, принимать меры по борьбе с явлениями, вызывающими эсхатологическую реакцию кассандро-эмбрионов, то есть стремление отказаться от жизни.
– Позвольте мне сказать! – раздался еще один женский голос. Какая-то женщина типа мулатки, брюнетка со сверкающими металлическими серьгами, в желтой блузке с распахнутым воротом, весьма решительно возникла у микрофона в одном из проходов между рядами. – Я не могу молчать, и мы не должны молчать! – заявила она, оглядываясь по сторонам. – Да, у нас совсем не легкая жизнь в наших кварталах. Но мы всегда жили, желая иметь детей, радуясь их рождению. И пусть никто в это не вмешивается! Какое ему дело, космическому монаху?! Почему он преследует меня? Почему вмешивается в мою личную жизнь? Я категорически протестую!
В зале вновь пошел гул, и многие присутствующие согласно закивали головами, иные вставали с мест и махали руками в знак одобрения.
Ордок пытался успокоить мулатку:
– Да, я вас понимаю, мадам, но ведь появление тавра Кассандры oт нас не зависит. Мы должны открыть глаза на то, что это – существующая реальность.
– Если с трибуны будущего президента потакать этому космическому монаху, тогда другой разговор! Пусть он явится сюда, пусть скажет нам, женщинам, чем мы прогневали небеса, на которые он забрался и шпыняет нас оттуда, позорит на весь мир! – не унималась женщина, сверкая штампованными серьгами и возбуждая вокруг волну солидарного с ней протеста. Возможно, она и дома умела закатывать сцены, а быть может, у нее не было ни дома, ни мужа. «Какое несчастье, – шептал Роберт Борк, – какое трагическое заблуждение. Она так страдает, и ее можно понять».
А женщина, еще больше неистовствуя, продолжала:
– Вам легко рассуждать, легко называть его гениальным ученым. Он, мол, открыл нам глаза. А для меня этот тип на орбите – негодяй! – выкрикнула она, выплескивая ярость.
При этих словах гудящий зал разом онемел, на секунду воцарилась полная тишина. Никто не одернул ее, никто не попросил ее придерживаться общественных правил поведения. Не посмел напомнить ей об этом и сам Оливер Ордок, оказавшийся в нелепом положении. И последовала сцена, потрясшая в Америке многих из тех, кто в тот час оказался у телевизора.
– Вот, смотрите, мне нечего скрывать, вот, смотрите, как мне быть?! – выкрикнула женщина, нервно дыша, и ткнула пальцем в свой лоб. – Вот уже несколько дней на лбу у меня эта самая напасть, пятно, тавро Кассандры, как именует эту гадость космический дьявол! – и лицо ее предстало на телеэкране крупным планом, и ясно стало видно в ту минуту на лбу у женщины зловещее багровое пятнышко, ритмично пульсирующее, как тревожный сигнал.
– Я уже и кремом, и пудрой замазывала, – проговорила она, прикрывая ладонью мелко дрожащие губы. – Не помогает. Не исчезает. Ни днем ни ночью! И выходит, я на контроле у этого злодея из космоса? И выходит, он мне тычет в глаза: смотри, мол, твой зародыш – против тебя же, против матери, против жизни, он шлет сигналы, чтобы его умертвили! Выходит, он не желает родиться, он боится жить? Так выходит? А кто ему внушает такое отвращение к жизни, кто его толкает к смерти, еще не родившегося, кто его принуждает отрекаться от белого света? Кто вмешивается в мою личную жизнь? По какому праву меня облучают какими-то страшными зондаж-лучами из космоса? Вот мы сидим здесь, а он, этот, как нам внушают, гениальный Филофей, шарит своими лучами из космоса, ищет в женщинах кассандро-эмбрионы. Контролирует нас! Тычет нам в глаза, какие мы дурные! А что поделать?
– Думаете, я одна такая? Да и в этом зале наверняка есть такие же, как я, может быть, эти женщины еще не знают, что у них тавро Кассандры?! И вот что прикажете делать, люди? Как мне быть? Убить зародыша потому, что он страшится жизни? Значит, я, моя судьба, моя жизнь не устраивают его? Или я должна уготовить ему рай земной?! А как? Я бы и рада! Но как я могу исправить мир? Или мне самой повеситься? – и она тяжко зарыдала, рвя на себе волосы, безутешно мотая головой. К ней подбежали с ближних рядов какие-то люди и увели ее, обнимая за плечи.
И опять наступила в зале мертвая тишина. Тысячи людей сидели неподвижно, потупив глаза. И все как будто начисто забыли об Оливере Ордоке, ради которого собрались сюда. И телекамеры уже обходили его на трибуне, то пристально вглядываясь в лица сидящих, то давая общую панораму.
И только тогда появился Ордок на экране, когда он подал голос, чтобы произнести фразу:
– Я не думаю, что мы сможем здесь ответить на все эти вопросы. Возможно, стоит специально… – начал он, но его снова перебил голос из зала:
– Извините, мистер Ордок, – обратился мужчина от микрофона в дальнем углу, – я должен сказать, чтобы вы не думали ничего дурного. Мы за вас, но, видите, все страшно переживают. Я сам врач и я потрясен, я понимаю эту женщину, она в стрессе, и сколько еще будет таких! Как можно так вторгаться в нашу жизнь кому-то из космоса, кем бы там он ни был?! Во-первых, это нарушение нашей Конституции. Возникает вопрос: мы живем в демократической стране или нет? Мы хозяева себе или нет? Где же соблюдение прав человека? Кто смеет попирать права личности? Кто может принуждать нас жить и действовать в соответствии с какой-то теорией, пусть это даже и научная концепция? Если я не приемлю ее, эту концепцию, если она не в моих интересах, то никто не имеет права навязывать мне тот или иной образ жизни путем лабораторного воздействия на меня. Я внимательно изучил послание Филофея. Я много думал. И тут я с вами не согласен, мистер Ордок, при всем моем уважении к вам. И считаю невозможным следовать рекомендациям Филофея. С научной точки зрения, возможно, он прав, вполне допускаю, но на практике – нет, он не прав. Мы не подопытные крысы!
– Верно! Браво! Верно говорит! – раздались голоса с мест. И зал забурлил.
Телекамеры скользили по лицам, выхватывая то одного, то другого орущего избирателя. В какое-то мгновение телеоператор дал крупным планом самого Ордока. На него страшно и жалко было смотреть. Он стоял на трибуне в полной растерянности, не зная, как ему быть, как остановить дикие страсти, вскипевшие в зале. И именно в ту минуту Борк заметил те самые «суповые» пятна, вновь появившиеся на лице Ордока, проступившие вдруг откуда-то изнутри, безобразное порождение тихой ярости. Эти суповые пятна, разбрызганные по лицу, были багрово-сизые, горячие и влажные – такое ощущение создавалось на расстоянии, с экрана. Борку и самому стало дурно от всего происходящего, от безысходного нежелания людей видеть в себе источник зла на земле. Да, неистребимого, неодолимого нежелания понять Филофея. Борку и Ордока стало по-настоящему жалко, тот оказался в унизительной ситуации. «Вот не повезло, так не повезло, – терзался Борк за своего однокашника. – Самое главное, чтобы он не пал духом. Только бы он сумел переубедить зал, отстоять свою точку зрения. И тогда он завоюет прежние позиции. Но сумеет ли? О боже, какая нелепость! Мы обречены, мы не виноваты, но мы обречены на слепоту, когда дело касается нас самих! Несчастный Филофей, если бы он сейчас оказался в этом зале!»
– Я прошу вас, мистер Ордок, от себя и, если ко мне присоединятся, от имени избирателей. Этого нельзя так оставлять! – превозмогая шум, выкрикивал у микрофона тот, что назвался врачом. – Никто не вправе проводить какие бы то ни было эксперименты над гражданами Америки! Этот космический монах имеет в виду все человечество скопом, это его дело, не наше. А мы – американцы. Мы – суверенные личности! Необходимо запретить проведение провокационных облучений на территории Соединенных Штатов! Пусть свое слово скажет Конгресс, пусть свое слово скажут наши федеральные органы!
– Правильно, верно! Надо запретить! – доносились отовсюду крики. – Запретить!
– Спокойно, джентльмены! Прошу вас, дамы! – старался навести порядок от своего микрофона на сцене ведущий. Это был солидный человек в дорогих массивных очках, с четким пробором в напомаженных волосах, строго одетый, судя по всему, для него такой оборот дела тоже явился полной неожиданностью. Он был взволнован, он все время дергал себя за галстук. – Я прошу соблюдать очередность у микрофонов! – призывал он. – Я дам вам слово, только по порядку, прошу вас, пожалуйста, по очереди.
Но было уже поздно. Возле микрофонов в проходах стояли кучками одержимые желанием немедленно что-то заявить, что-то выпалить еще и еще вдогонку тому, что уже говорилось предыдущими ораторами.
И ведущему только и оставалось, что успевать регулировать чередование микрофонов:
– Первый микрофон! Слово второму! Пожалуйста! Третий микрофон! Пятый, седьмой, десятый…
От микрофона к микрофону незримым огнем бежала эстафета выступлений, обретающих нарастающую категоричность, и суть их сводилась к резкому неприятию открытий и идей Филофея, к радикальным призывам гнать его в шею с орбиты, что-де в космосе появился мировой провокатор, злостный вселенский смутьян; а один тип, видимо, из русских эмигрантов, обозвал даже Филофея, по аналогии с кагэбэшными доносчиками, космическим стукачом, доносящим на беременных женщин. Другой же вообще выдвинул предположение, что Филофей – российский агент влияния, заброшенный в космос, что у него задание погубить Америку изнутри, вызвать взрыв генетической бомбы в обществе; еще один высказал версию, что это дело рук международной мафии, которая-де задумала какую-то глобальную акцию с тем, чтобы контролировать современное общество. Выдвигались еще разные страшные версии, пришедшие на ум собравшимся. И дальше пошли в ход извечные стереотипы зла и коварства с добавлением космического – космический сатана, космический дьявол, космический анархист и даже вынужденный комплимент – космический Фауст…
Но поскольку большинство, многие-таки высказывались искренне, с душевной тревогой, хотя все как один против Филофея, с желанием во что бы то ни стало изгнать из умов и сердец устрашающие выводы из его социально-биологических открытий, ссылаясь при этом прежде всего на историю человечества, умножавшегося и прогрессировавшего из века в век, не ведая ни о каких «знаках Кассандры», то все это производило поистине сильное впечатление, особенно когда женщины со слезами на глазах просили спасти их, защитить от вторжения зондаж-лучей в их личную жизнь. И наконец в ходе выступлений прозвучало требование предложить заняться космическим монахом самой ООН, поставить вопрос в ООН, чтобы принять меры в интересах защиты человечества.
Тяжко, прискорбно было Роберту Борку наблюдать за этими сценами, убеждаясь с горечью, что попытка Филофея приоткрыть истинную сущность грядущего апокалипсиса, предопределенного не глобальной катастрофой внешнего мира, ожидаемой со дня сотворения, с чем не так трудно было всегда примириться, а оползнем в недрах наследственности, вызываемым нескончаемыми, все более и более ухищренными и ожесточенными злодеяниями, не встречает понимания у большинства людей. Сказывался сидящий в человеке неизбывный, инстинктивный страх расплаты за вечно совершаемые грехи, за вину перед дарованной Богом жизнью. Однажды дарованной и неповторимой, данной каждому на долгий срок, но не навечно, изначально лимитированной и ограниченной в Пространстве и Времени.
На Оливера Ордока невозможно было смотреть спокойно. Борк представлял себе, как гибнет Ордок в собственных глазах, и винил себя в том, что не сумел предвидеть такого оборота событий, хотя по-своему и предупреждал Ордока.
Ордок, по сути дела, оказался в идиотском положении. Он был забыт и брошен на трибуне, как будто эта встреча не имела к нему никакого отношения. Все выступления и реплики относились только к Филофею, именно Филофей, находящийся невесть где, в космическом пространстве, был в центре внимания, а не он, Ордок, ради которого устраивался этот митинг. Микрофоны в проходах осаждались рвущимися сказать нечто монаху Филофею, а не ему, кандидату в президенты. А он меж тем продолжал зачем-то оставаться на трибуне. И на его глазах все превратилось в базар. А все, что было приготовлено и предусмотрено для внушения избирателям и телезрителям мысли о важности миссии Ордока, оказалось пустым. Воздушный шар под куполом спортзала с портретом улыбающегося Ордока теперь выглядел смешно, эдаким мыльным пузырем. Сам он, бессильный и униженный, был абсолютно растерян. К нему подбегали его советники и помощник, что-то шептали, но он продолжал стоять на трибуне в нелепом ожидании. Глаза его выражали ярость, на лице полыхали суповые пятна. Это был полный провал, провал на глазах всей страны.
Река митинга потекла в ином направлении. И кто знает, чем бы все это кончилось, если бы вдруг не была брошена соломинка утопающему. Откуда-то сбоку на сцену выскочил молодой человек спортивного вида; он решительно подошел к ведущему, продолжавшему дергать себя за галстук и бессмысленно пытаться как-то руководить очередностью выступлений, и, сказав ему что-то, почти силой выхватил из его рук микрофон. И громко сказал, обращаясь к залу:
– Я прошу извинить меня за неожиданное вторжение. Я хочу сделать заявление! Это очень важно!
Шум приугас. В зале наступила недолговечная тишина. И нельзя было терять ни секунды.
– Мое имя Энтони Юнгер, – представился неожиданно появившийся на сцене молодой человек.
«Так вот он какой, значит, это и есть Энтони Юнгер. Видный парень», – подумалось Роберту Борку.
– Оно мало что вам говорит, мое имя, – сказал Юнгер. – Но я такой же избиратель нашего с вами округа, как и вы. Хочу воспользоваться своим правом выступить. К тому же я из команды мистера Ордока, я один из его консультантов. Прошу внимания. Наш митинг посвящен встрече с кандидатом в президенты, а не диспуту по проблемам, кинутым нам из космоса. И поэтому было бы разумно продолжить наше предвыборное обсуждение, а Филофеем заняться в другой раз, поскольку, судя по всему, об этой феноменальной новости предстоит еще немало думать и гадать. Поэтому предлагаю действовать согласно регламенту. Попросим мистера Ордока высказать свои выводы, не отвлекая его на филофеевские проблемы.
Это было более чем своевременно. Скандал удалось приостановить. Борк порадовался за Энтони Юнгера. Примерно таким он его и представлял себе. А дальше произошло то, чего никто, в том числе и Борк, не мог ожидать.
Следовало отдать Ордоку должное – он не упустил возможности перехватить инициативу:
– Да, я продолжу свое выступление, – изготовился он тут же, и что-то блеснуло в его глазах, что-то произошло в нем, судя по выражению его лица, преобразившегося вмиг. Он на что-то решился. – Да, уважаемые избиратели, для того я здесь и стою, чтобы продолжить свое выступление, как сказал сейчас об этом Энтони Юнгер. Но с одной лишь небольшой поправкой. – Он сделал паузу, оценивающе оглядывая сидящих, и пояснил: – Я как раз буду говорить о Филофее, – подчеркнул он.
– Буду говорить в продолжение того, что говорилось здесь от микрофонов, в развитие того, что связано с психологическим наступлением на нас из космоса, с радикальной критикой нашей генетической ситуации. Я буду говорить об этом в первую очередь, поскольку живу мнением избирателей, мнением народа. Вот мы здесь все вместе, и для меня это важнее всего. Здесь от микрофонов прозвучали выступления, близкие мне по духу. Я тоже примерно так думал об этом, о той неслыханной агрессии из космоса на наши права и свободы, которые для американской демократии являются высшими ценностями. И я согласен, правильно здесь отмечалось, что Филофей ведет из космоса подкоп под нашу жизнь. А я бы добавил еще – хочет он того или нет, – под нашу демократию в конечном счете. Казалось бы, невероятно, но это так. Это подкоп, затеянный со злым умыслом, с античеловечной целью. И мы с вами еще раз убеждаемся, что коварству дьявола поистине нет границ. Об этом я и собирался высказаться, изложив вначале мнение некоторых известных и, казалось бы, компетентных людей, с которыми мне довелось побеседовать. Но перейти ко второй части выступления, выразить свое собственное отношение к посланию Филофея, как вы понимаете, я просто не успел. То, что говорили от микрофонов, как раз совпадает с тем, что хотел сказать я. И это замечательно, это укрепляет меня в моей позиции. Я полностью разделяю мнение, что над современным обществом неожиданно нависла небывалая опасность. Эта акция человека, назвавшегося монахом Филофеем, нацелена вроде бы на генетические исследования, а на самом деле – это агрессия, сокрушение нашего духа, нашей исторической уверенности в себе, в цивилизации нашей. И обратите внимание, эта агрессия ведется не только с космических высей, Филофей нашел себе союзников на Земле в лице отдельных людей, считающихся у нас большими авторитетами в науке и общественной жизни. Вот ведь как обстоит дело! И эти люди заодно с Филофеем ждут своего часа икс, готовые немедленно поднять на щит своего космического вдохновителя, чтобы именем его учинить на земле великую смуту, посеять сомнение в полноценности нашей и, главное, – опорочить наших женщин, отмечая их сатанинскими знаками – тавром Кассандры. Подумать только – тавро Кассандры, предсказательницы бед и несчастий! Ведь и названо оно так вовсе не случайно. С каким коварным намеком! Так будем начеку! Начеку необходимо быть всей нации! Единомышленники Филофея в академических мантиях уже готовы воздействовать на людей через средства массовой информации, принудить их поверить лжепророчеству из космоса. И никакого преувеличения, уверяю вас, это – заговор против человечества. Только так! Вот о чем тревога моя, уважаемые избиратели!..
Зал, как оказалось, только этого и ждал. Загипнотизированные речью кандидата в президенты, люди сидели, не сводя с него завороженных взглядов. Все, что говорил Оливер Ордок теперь, находило в их душах горячий отклик и полное понимание. Люди под сводами спортзала «Альфа-Бейсбол» дышали в тот час единым дыханием, внимали единому зову – слову Оливера Ордока. Безусловно, это была победа. Блестящая победа Ордока после его публичного падения. Он нашел путь к победе, он точно сманеврировал, он безошибочно изменил стратегию и теперь пожинал плоды.
И сам Ордок был уже не тот. Совсем другой человек стоял на трибуне. Видя, как безотказно действуют его слова на присутствующих, Ордок взлетал духом на вираже каждой фразы. И это было редкостное состояние упоения собой, непередаваемого, ненасытного вкушения удачи, состояние особой экспрессии и эрекции слова; ему казалось, что слова его, изливаясь, совокупляются с окружающими и прежде всего с восхищенно глядящими женщинами, и все они, независимо от пола, мужчины и женщины, подставлялись ему и охотно ловили его каждый для себя, и от этого приливала в нем мощь, как у жеребца, с громким ржаньем и жарким храпом набегающего на кобыл в табуне; каждое слово добавляло кипящей силы и предощущения близости совокупления со столь желанной и пока еще не достигнутой потенциальной властью. Казалось, сказывался в нем несмолкаемый зов к повелеванию себе подобными, идущий еще от тварей лесных, волчья воля к тому, чтобы не утратить, не расстаться вовеки с тем, что окажется под игом его. Но путь к медовому месяцу власти лежал через потоки речей, когда слова, сплачиваясь рядами, шли на штурм противостоящей крепости, в данном случае – идей Филофея и его пока не поверженных единомышленников, о которых он намекал присутствующим, побуждая их к тому, чтобы они смыкались с ним и поднимались на борьбу по мановению его руки.
О, это был звездный час Оливера Ордока. И все единодушно восхищались им, кроме одного среди присутствующих в зале, несколько раз мелькнувшего на экране поблизости от трибуны. Энтони Юнгер сидел с краю сцены бочком, стиснув голову, точно пытался заслониться от попадания в него камнем, и бросались в глаза напряженно вздувшиеся вены на крупных кистях его рук, ему было явно не по себе.
А Оливер Ордок тем временем развивал наступление, строил речь таким образом, чтобы вовлечь всех внимающих ему в зале и за его пределами в единый круг задетых за живое, навязать им свою волю и закрепить успех. Это был момент для него исключительный, как если бы он горячо обнимал, тискал и лобызал, опутывая словами, ту, что стремилась ему навстречу и готова была отдаться, ради чего необходимо было действовать быстро и наверняка.
– Когда я говорю о необходимости нашей с вами бдительности, – напоминал он, проникновенно обращаясь к присутствующим в «Альфа-Бейсбол», – то я руководствуюсь интересами общества, чтобы мы с вами не оказались роковым образом жертвами этой неслыханной космической авантюры. Ведь вопрос стоит в глобальном масштабе и в то же время затрагивает каждого, в частности всех присутствующих здесь, на предвыборной встрече, – как обезопасить себя от планетарных экспериментов Филофея, направленных на искажение и деструкцию человеческого генофонда, экспериментов, преследующих цель вызвать в обществе панику, ведущих к исчезновению в нас жизнеутверждающего начала!
– Не будет этого! – раздались в зале гневные голоса. – Этого мы не допустим!
– Я тоже так думаю, – продолжал Оливер Ордок. – И я положу на это все свои силы. И не остановлюсь ни перед чем. Но как, каким образом обезвредить возникшую космическую опасность и тех, кто на земле подставляет услужливо плечо Филофею, подогревает обстановку, а говоря по-простому, – мутит воду? Я не намерен изображать из себя эдакого благородного джентльмена, ограничивающегося общими призывами, когда речь идет о судьбах людей и народов. Филофеевцы должны знать – нет и не может быть у нас с ними согласия и тем более готовности следовать за ними в генетическую западню, какие бы высокоинтеллектуальные доводы они ни приводили! В частности, я имел продолжительный разговор с одним футурологом, в научных кругах известным, имеющим мировое имя, но на деле оказавшимся главнейшим сторонником и, если хотите, идеологическим скаутом космического монаха. В бывшем Советском Союзе молодых людей, которые верой и правдой служили вождю и счастливы были отдать за него жизнь, называли, если не ошибаюсь, комсомольскими активистами. Подручный Филофея похож на них, хотя ему совсем не мало лет, работает он в нашем университете и живет в одном из наших пригородов, – зовут этого человека Роберт Борк!
Наступила пауза, дыхание у сидящих разом перехватило, и затем разом понесся, побежал шепот: «Роберт Борк! Роберт Борк! Это Роберт Борк! Какой-то Роберт Борк!»
– Так вот, уважаемые избиратели. Как я ни пытался, разумеется, очень уважительно выслушивая научные доводы Роберта Борка, как я ни пытался тем не менее обратить его внимание на то, что непозволительно кому бы то ни было игнорировать судьбы живых людей, что Филофей, какие бы научные цели он ни преследовал, вторгается в нашу жизнь разрушительным образом, я увидел, что этот человек пойдет даже дальше, чем сам Филофей. Вот в каких людях под личиной учености скрывается мировое зло! Для Роберта Борка его философские бредни, его вселенские идеи, которыми он затуманивает голову собеседнику и оппоненту, гораздо важнее, чем судьба простого человека, живущего рядом. Этого простого человека со всеми его проблемами и бедами Роберт Борк игнорирует, приносит его в жертву филофеевскому учению, парализующему воспроизводство человеческого рода, лишающему нас нашего будущего, какие бы соображения научного характера при этом ни выдвигались. Роберт Борк фанатичен, он всецело за Филофея и готов ему служить, как служат сатане.