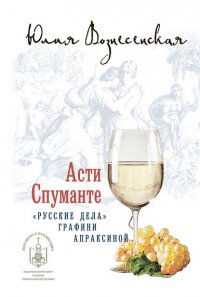
Читать онлайн Асти Спуманте бесплатно
- Все книги автора: Юлия Вознесенская
Допущено к распространению Издательским Советом Русской Православной Церкви
© ООО «ГрифЪ», оформление, 2015.
© ООО «Издательство «Лепта Книга», текст, 2015.
© Вознесенская Ю.Н., 2015.
Глава 1
Мертвая женщина лежала в той самой позе лицом к стене, в которой ее обнаружила несколько часов назад хозяйка гостиницы. Инспектор мюнхенской криминальной полиции Рудольф Миллер стоял над нею, держа в руках водительское удостоверение на имя Ады фон Кёнигзедлер.
– Ну-ка, поверните ее лицом к свету, Зингер! – велел Миллер своему помощнику Петеру Зингеру; тот, заметно скривившись и даже слегка отвернув лицо в сторону, наклонился над женщиной и начал неуклюже разворачивать окоченевшее тело.
– Смелее, смелее, Зингер! Она вас не укусит, и запаха от нее пока нет!
Лучше бы инспектор о запахе не упоминал: Зингер непроизвольно задержал дыхание и резко дернул на себя тяжелое неподатливое тело, и оно с совершенно непередаваемым и жутким звуком (то ли внутри самого тела что-то всхрапнуло, то ли скрипнула кровать) развернулось к полицейским. Зингер сразу же отскочил и крепко зажмурился. Миллер, не дрогнув и не сморгнув, принялся внимательно рассматривать покойницу. Он сравнил фотографию в руке с лицом покойной, и у него не осталось никакого сомнения: перед ним была НЕ Ада фон Кёнигзедлер. Женщина на фотографии была заметно старше этой бедняги, чье круглое лицо даже в смерти сохранило детскую гримасу горького плача; краска с густо накрашенных ресниц размазалась по щекам, и слезы промыли на них две светлые полоски. Глаза мертвой женщины были полуоткрыты – серые глаза с расширившимся почти до самого края радужной оболочки зрачками. Густые пепельные волосы под собственной тяжестью сползли с подушки и повисли, почти касаясь пола; окно в номере было открыто, и легкий сквознячок шевелил их пряди. Петеру Зингеру это было ужасно неприятно: ему казалось, что волосы продолжают жить после смерти хозяйки. Он зачем-то совершенно некстати вспомнил, что волосы и ногти у покойников продолжают расти некоторое время после смерти, вздрогнул и отвернулся. Он был молод и впервые участвовал в деле с трупом. Но инспектор Миллер все же заставил Зингера вглядеться в лицо мертвой женщины, а после взглянуть на фотографию в водительском удостоверении:
– Нечто общее в этих двух лицах есть, не правда ли, Зингер? Обе женщины круглолицые, светлоглазые и светловолосые, у обеих высокие славянские скулы, короткие носы и пухлые губы. Но волосы! Волосы, Петер, в данном случае говорят о многом. Если бы волосы у женщины на фотографии были длинные, а у покойной – короткие, то было бы легко предположить, что женщина просто-напросто недавно коротко остриглась. Но удостоверение выдано два года назад, а за два года такую роскошную гриву, как у этой бедняжки, не отрастишь.
– Почему же, инспектор? Моя жена недавно пошла в парикмахерскую и «отрастила» себе волосы ниже плеч – не захотела ждать, пока отрастут свои. Может быть, у этой женщины тоже искусственно удлиненные волосы?
– А можно на глаз отличить собственные и искусственно наращенные волосы?
– Да, вблизи это можно рассмотреть.
– Ну так подойдите и рассмотрите.
Проклиная, мысленно, конечно, свой язык, Петер подошел к мертвой женщине, склонился над нею и осторожно взял в руки прядь русых волос.
– Это натуральные волосы, инспектор! – сказал он, выпрямляясь.
– А вы подергайте их, пожалуйста: может быть, это все-таки парик?
Петер, зажмурившись, дернул мертвую женщину за волосы.
– Нет, это не парик.
– Я так и думал.
Сунув водительское удостоверение в папку, инспектор Миллер огляделся. На тумбочке возле кровати лежали наручные часы, дешевая пластиковая штамповка, и стоял голубой пластмассовый стакан с остатками светлой жидкости на дне. Инспектор поднес к лицу стакан, понюхал его, повертел перед глазами.
– Гм, пахнет вином. Петер, стакан и жидкость – на экспертизу.
Он подошел к платяному шкафу и раскрыл его. В шкафу на плечиках висел беличий жакет. Апрель в этом году выдался капризный, и многие жительницы Баварии в холодные дни носили теплые пуховые куртки или меховые жакеты. Инспектор осмотрел жакет, но ничего в нем не обнаружил – оба кармана были пусты. С полки шкафа свешивался тонкий вязаный платок из белой шерсти. Инспектор взял его в руки, понюхал, свернул и аккуратно уложил в бумажный пакет.
В сумочке покойной, лежавшей на диване рядом с ее синим джинсовым платьем и колготками, не было никаких документов: лишь немного косметики, расческа с крупными зубьями, кошелек со ста пятьюдесятью марками и мелочью, скомканный, в пятнах от губной помады и туши для ресниц, хлопчатобумажный носовой платок с кружевами. Инспектор немного удивился платочку: к вещам покойной больше подошел бы обыкновенный целлофановый пакетик с одноразовыми бумажными платками.
Покончив с осмотром личных вещей покойницы, инспектор Миллер остановился посреди комнаты, постоял, подумал. Потом он заглянул в ванную комнату, вернулся и опять подумал.
– Похоже, – сказал он, – что без госпожи Апраксиной в этом деле не обойтись!
– Да? А почему, инспектор? – встрепенулся Петер Зингер, который уже успел перелить жидкость из стакана в особую бутылочку и теперь аккуратно упаковывал в пластик сам стакан.
– Да хотя бы потому, что вот из этого стаканчика для чистки зубов пили вино. Пришло бы вам в голову, Петер, находясь в отеле, пить вино из стакана, предназначенного для чистки зубов?
– Разумеется, нет! Я бы подумал о том, что до меня им пользовались многие другие и кто-то, быть может, опускал в него на ночь свою вставную челюсть. Бр-р!
– Чепуха, Петер. Подобные рассуждения вам бы и в голову не пришли. Вы просто спустились бы в ресторан и там спокойно пили вино из предназначенной для этого посуды. А приди вам в голову мысль выпить у себя в номере, вы позвонили бы хозяйке и попросили у нее бутылку вина, а уж бокал она бы сама догадалась принести.
– Вы как всегда правы, инспектор! Я действительно не стал бы устраивать проблему из такого простого и естественного желания – выпить бокал вина.
– Вот именно, Зингер, и в этом-то все и дело! Есть люди, и по большей части это иностранцы, которые умеют из ничего устроить проблему, а потом биться над ее разрешением. Особенно этим талантом, как я замечал, отличаются русские. И кстати, беличий жакет, который висит в шкафу, тоже несомненно русского происхождения.
– Не устаю вами восхищаться, инспектор: вы и в мехах разбираетесь так же хорошо, как в людях!
– Полицейский следователь должен разбираться в самых разных вещах, Зингер. Мой покойный отец, всю жизнь прослуживший в криминальной полиции, говорил, что настоящий детектив должен быть энциклопедистом и знать все, от филологии до филателии.
– О вашем отце до сих пор в полиции ходят легенды, – почтительно заметил Зингер.
– А еще, мой юный коллега, полицейский детектив должен быть очень внимателен: на подкладке этого жакета имеется этикетка – «Made in USSR».
– Ах, так! – сказал Зингер чуть-чуть разочарованно.
И оба вновь заходили по гостиничному номеру, заглядывая во все уголки.
– Господин инспектор! – Зингер склонился над корзинкой для мусора и сосредоточенно разглядывал ее содержимое. – Странная вещь: в корзине лежат пустая бутылка из-под вина, бутылка из-под минеральной воды и две пробки!
– Все правильно: две бутылки – две пробки.
– Господин инспектор, на бутылку из-под минеральной воды навинчена ее собственная пробка!
– И что же, Петер?
– Встает вопрос: где бутылка от второй винной пробки?
Инспектор подошел и склонился над корзиной с другой стороны.
– Хороший вопрос, хвалю, Петер! Любопытно, любопытно, – он присел на корточки, взял одну пробку, потом другую, долго и вдумчиво их разглядывал, нюхал. Потом так же внимательно осмотрел бутылку. – «Асти спуманте»… Ага, окно растворено и выходит в сад. Зингер, сделайте одолжение, спуститесь вниз и пошарьте в кустах под окном: очень может быть, что там отыщется недостающая бутылка. А я тем временем пойду к хозяйке и попробую еще раз с нею поговорить. На первой лжи она уже попалась, и теперь у меня есть надежда разговорить ее как следует. Приятно иметь дело с порядочным человеком после того, как он попался на каком-нибудь вранье: желая загладить вину, он будет изо всех сил стараться убедить вас в своей честности.
Оба спустились вниз. Петер Зингер пошел осматривать сад при отеле, а инспектор направился к конторке, за которой стояла хозяйка отеля «У Розы», полная румяная баварка, которую и в самом деле звали Роза – Роза Блюменталь. Инспектор молча встал перед конторкой, покачиваясь на носках и пристально глядя на хозяйку. Если бы кто-то поглядел на них в эту минуту со стороны, то решил бы, что это брат и сестра: оба плотные, полнокровные, с крутыми упрямыми лбами и слегка картофельными носами. Даже костюмы у обоих были зеленые. Только у хозяйки гостиницы это был народный костюм, непременный атрибут баварского сервиса, – темно-зеленый сарафан с крупными металлическими пуговицами, пышная белая блузка с кружевами и передник, расшитый цветами, а инспектор был в зеленой полицейской форме, напоминающей о том, что и в мирной, уютной Баварии порой случаются вещи неожиданные и неприятные.
– Вот, господин инспектор, наша регистрационная книга. Вчера, пятнадцатого апреля, у нас было восемнадцать гостей. Конечно, все они уже выехали: в нашем отеле люди обычно останавливаются на одну ночь по пути из Мюнхена в Зальцбург.
– А те, кто едет из Зальцбурга в Мюнхен, что – проезжают мимо? – чуть усмехнувшись, спросил инспектор Миллер.
– Да, господин инспектор, – без намека на ответную улыбку ответила Роза Блюменталь. – Тем, кто едет из Зальцбурга, уже недалеко до Мюнхена, а там, на въезде в город, можно найти отели гораздо более дешевые, чем наш.
– Понятно. Так вы утверждаете, что все постояльцы уже покинули отель?
– Да, господин инспектор.
– Ну, это не совсем точно, поскольку Ада фон Кёнигзедлер и сейчас лежит там, наверху. Кажется, так зовут, то есть, звали эту женщину?
Хозяйка смешалась под пристальным взглядом инспектора, и руки ее нервно затеребили край голубого передника, расшитого эдельвейсами и энцианами – синими альпийскими колокольчиками. Инспектору стало ее немного жаль: о, эти маленькие уловки, эти почти неприметные тропочки в обход закона! Там, глядишь, честный и примерный бюргер нанимает иностранного рабочего «по-черному» и платит ему втрое меньше положенного по закону, там уважаемый предприниматель списывает с налогов пожертвования, которые он на самом деле жертвовал только налоговой декларации. А вот госпожа Роза Блюменталь сдала номер гостье с чужим документом. Бывает, бывает… Но инспектор решил сразу не открывать, что ему это известно: пусть поволнуется еще немного, потом с ней легче будет разговаривать.
– Так вы утверждаете, что постоянных гостей у вас не бывает?
– Почти не бывает. Люди останавливаются у нас, если видят, что к ночи не успеют добраться до Австрии: они ночуют здесь, чтобы не ехать через перевал ночью, особенно если на автобане туман или гололед. Поэтому мы берем с них довольно высокую плату, ведь наш отель – последний перед подъемом на перевал.
– Пользуетесь их безвыходным положением?
– О нет, господин инспектор, вовсе не поэтому! Дело в том, что гости на одну ночь обходятся нам дороже постоянных: это ведь каждый раз свежий комплект постельного белья, а белье быстро изнашивается при частой стирке. Правда мы с моей младшей сестрой со стиркой и глаженьем справляемся сами, но надо же учитывать расходы на электроэнергию, воду, стиральный порошок, отбеливатель и полоскатель… Кроме того, мы держим ресторан: постоянные жильцы пользовались бы им чаще, согласитесь!
– Понимаю: ночные гости у вас только ужинают, а завтрак входит в оплату.
– Совершенно верно, господин инспектор! Обедают они уже в Зальцбурге, так что эти деньги уходят от нас. Это обидно, не правда ли? Вот мы и берем компенсацию в виде высокой платы за номер. – Хозяйка глядела на инспектора открытыми честными глазами, ведь теперь она говорила чистую правду. Глаза у нее, как и следовало ожидать, оказались голубыми, как цветочки цикория. – Дороговато, конечно… Зато какой вид на горы открывается из всех окон нашего отеля! Вы обратили внимание?
– Прекраснейший вид. Жаль, что ночные гости не могут им полюбоваться.
– Почему же не могут? Могут – по утрам, когда нет тумана…
– Ах так!.. Следовательно, вы имеете дело почти исключительно с проезжей публикой, – в раздумье проговорил инспектор.
– Именно так, господин инспектор. Ночлег, завтрак и – счастливого пути, дорогие гости!
– Отсюда я могу сделать вывод, что вы не слишком внимательно приглядываетесь к документам, которые предъявляют временные постояльцы?
Нервный румянец мгновенно окрасил щеки хозяйки.
– Я никогда не нарушаю правил, господин инспектор, и у всех спрашиваю паспорт.
– А если у гостя нет паспорта?
– В таком случае я прошу водительские права или какой-нибудь другой документ, удостоверяющий личность. Не ночевать же гостю на стоянке в машине!
– Да еще и бесплатно… Так что же произошло с документами госпожи Ады фон Кёнигзедлер?
Хозяйка потупилась и еще старательней затеребила передник.
– Так что же?
– Паспорта у нее при себе не оказалось… Но она предъявила водительское удостоверение, и я ее зарегистрировала по нему. Разве я нарушила закон, господин инспектор?
– Ни в коей мере. Закон вы соблюли – водительского удостоверения в таких случаях достаточно. Но вас не удивило, что женщина едет в сторону границы, не имея при себе паспорта? Пограничный контроль не пропустил бы Аду фон Кёнигзедлер с одним водительским удостоверением, если бы ее вдруг остановили. Вы не предупредили ее, что при переезде через границу требуется иметь при себе паспорт?
– Нет, господин инспектор. Это ведь не моя проблема, верно? Я никогда не вмешиваюсь в дела постояльцев, если меня об этом не просят особо.
– Похвальная скромность для хозяйки отеля, – сказал инспектор. – Но я по опыту знаю, что хозяева отелей на самом деле куда любопытней и наблюдательней, чем показывают постояльцам. Вот я и хочу, чтобы вы мне подробно и обстоятельно рассказали все, что заметили необычного в облике и поведении женщины, что лежит теперь в пятнадцатом номере на втором этаже. Где мы можем уединиться с вами и поговорить спокойно, чтобы нам никто не помешал?
– Можно пойти в ресторан, там сейчас нет посетителей.
– Отлично. И может быть, у вас найдется для меня бутылочка темного пива, госпожа Блюменталь?
– О, конечно, господин инспектор! «Оптиматор» подойдет?
– Моя любимая марка.
Хозяйка провела инспектора Миллера в пустой зал ресторана. Зал был традиционно уютен: темная деревянная обшивка стен, украшенная охотничьими трофеями, добротная и неуклюжая баварская мебель и повсюду, в больших расписных горшках на подоконниках и в маленьких глиняных кувшинчиках на столах, розы, розы, розы – бумажные, пластиковые и даже шелковые.
Хозяйка сразу же отправилась за стойку.
– Налейте и себе кружечку пива за мой счет, – добродушно бросил ей вслед инспектор, усаживаясь за один из столов.
– Благодарю вас, господин инспектор! – Хозяйка принялась цедить пиво из двух бутылок сразу – в кружку для инспектора и в бокал для себя. Через пару минут пиво стояло на столе перед Миллером и оказалось замечательно свежим, прохладным, с густым солодовым привкусом – как раз то, что он любил. Похвалив пиво, инспектор начал беседу.
– Постарайтесь припомнить все, госпожа Блюменталь, даже самые мельчайшие подробности. Итак, вчера вечером эта женщина вошла в двери вашего отеля и спросила комнату на одну ночь. В котором часу это было? Как она выглядела? Какие были ее первые слова? Рассказывайте, я вас внимательно слушаю.
Хозяйка отодвинула немного в сторону свой бокал с пивом, положила руки на стол перед собой и начала рассказ.
– Она появилась в седьмом часу, господин инспектор. Она вошла и спросила, имеется ли свободная комната до завтра?
– У нее был акцент?
– О, как вы угадали, инспектор? Да, по-немецки она говорила плохо и с сильным акцентом, но что это был за акцент, я не разобрала. На турчанку она не была похожа. Хотя вид у нее был усталый и какой-то измученный, она производила впечатление приличной женщины.
– Как вы это определили?
– По одежде, конечно: на ней был дорогой беличий жакет. Простые люди не носят меха в апреле. И еще у нее была натуральной кожи сумочка, явно из хорошего магазина. Правда, немного потертая.
– Как вы наблюдательны, госпожа Блюменталь! Очень хорошо, продолжайте, прошу вас.
– Я спросила у нее паспорт. Она заметно растерялась и стала рыться в сумочке. Я сразу же поняла, что паспорта у нее с собой нет, и спросила: «Может быть, у вас есть с собой водительское удостоверение? Этого было бы достаточно». Она сразу же ответила: «Да, конечно. Оно в машине». Она вышла и через несколько минут вернулась с удостоверением. А еще у нее теперь была в руке пластиковая сумка из «Альди». Никаких других вещей у нее с собой не было, и тут я подумала, что, несмотря на дорогой жакет, она все-таки скорее всего из третьего мира или из восточного блока.
– Почему вы так решили?
– Из-за ее пакета, ведь магазином «Альди» пока, слава Богу, пользуются в основном эмигранты да еще пенсионеры. И на голове у нее теперь был большой вязаный платок, а ведь турецкие женщины всегда носят платки.
– И русские, – добавил инспектор.
– О, это правда, инспектор! Я видела в кино русских женщин, они тоже все в платках. А вы знаете, у нее и лицо было, пожалуй, русское: высокие славянские скулы, голубые глаза и светлые волосы – у турчанок таких не бывает. И вид у нее был усталый, но вовсе не забитый. Она разговаривала решительно, хотя и нервничала.
– Вы очень, очень наблюдательны, госпожа Блюменталь, – опять похвалил ее инспектор. Хозяйка благодарно улыбнулась, но Миллер продолжил: – И при вашей наблюдательности вы, конечно же, раскрыв ее водительское удостоверение, сразу поняли, что это вовсе не Ада фон Кёнигзедлер и гостья подсунула вам чужой документ.
Хозяйка внезапно уронила голову на руки и громко заплакала.
– Простите, простите меня, господин инспектор! Я так растерялась!
– Ну-ну, ничего страшного, это ошибка простительная, – инспектор протянул руку через стол и успокаивающе похлопал ее по округлому локтю с ямочкой. – Вас можно понять, госпожа Блюменталь: у женщины был усталый вид, она произвела на вас хорошее впечатление своим беличьим жакетом, и вы решили проявить снисходительность. Так это было?
– О, мой Бог! Именно так, господин инспектор! Но, вы знаете, я ведь не сразу заметила, что у нее чужой документ. Сначала я проводила ее в номер, а уж потом спустилась вниз и принялась вносить ее данные в регистрационную книгу. Увидев фотографию на водительском удостоверении, я засомневалась и собиралась уже подняться к ней, но тут меня позвала моя сестра Эльза: к нам в ресторан явилась проездом целая итальянская свадьба, и началась кутерьма и беготня. Только после закрытия ресторана, когда у меня появилось время заняться регистрацией, я достала ее удостоверение и стала его рассматривать. Но теперь я уже не была до конца уверена, что на фотографии другое лицо. Я решила, что у Ады фон Кёнигзедлер, может быть, сегодня просто нездоровый вид, да еще этот большой платок закрывал ей лицо. В общем, я решила, что не стоит из-за этого поднимать шум, и отправилась спать. А утром…
– Что было утром, нетрудно догадаться. Но не будем забегать вперед. Вечером эта женщина не спускалась в ресторан, чтобы поужинать?
– Нет, господин инспектор. Я бы ее сразу заметила, появись она за столиками.
– Она заказывала что-нибудь в номер? Может быть, вино?
– Нет.
– Она никому не звонила?
– Нет. В последние дни я вообще никому не выписывала телефонных счетов.
– Понятно… Ну, так что же было утром?
– В девять часов я увидела, что один поднос с завтраком остался нетронутым: мы готовим подносы по числу гостей. Я немного подождала, подогрела еще раз кофе для заспавшегося гостя. Но к десяти часам в отеле уже никого не осталось, кроме этой женщины: все гости расплатились, сели в свои машины и поехали дальше. Я вспомнила, какой измученный вид был у нее вчера вечером, и подумала, что она, возможно, заболела и нуждается в помощи. Сначала я позвонила в пятнадцатый номер по телефону, а когда мне никто не ответил, поднялась наверх и постучалась. Ответа не было. Тогда я открыла дверь своим ключом и увидела, что женщина все еще лежит в постели. Я ее окликнула. Сначала совсем тихо, чтобы не испугать, потом громче. Она не двигалась. Тогда я подошла и тронула ее за плечо. Бог мой, это был такой ужас! Плечо у нее было каменное, как будто под одеялом лежал не человек, а статуя. Я заглянула ей в лицо – она лежала, отвернувшись к стене, – и лицо у бедняжки было белое, как мрамор.
– И что же вы сделали, госпожа Блюменталь?
– Закричала, конечно! На мой крик прибежала снизу моя сестра Эльза. Сестра хоть и младше меня на пятнадцать лет, но такая умная, такая решительная: она не растерялась, а сразу же велела мне выйти из комнаты и заперла ее на ключ. Потом она позвонила в местную полицию. Дежурный полицейский попросил выяснить номер машины, на которой приехала та женщина. Эльза велела мне сбегать на стоянку и посмотреть: там стояла только одна машина, с мюнхенским номером. Я его запомнила, и мы продиктовали его дежурному.
– Местные полицейские так и не заглянули к вам?
– Нет, нам сказали, чтобы мы ждали полицию из Мюнхена.
– Понятно. Они просто спихнули это дело на нас. Ну что ж, для вас это и к лучшему: меньше слухов пойдет по округе.
– Не дай Бог никому такой рекламы! Самое худшее в гостиничном деле – это дурная репутация. Кто захочет останавливаться в отеле, где тебе могут предложить кровать, в которой недавно ночевал труп?
– Следует ли понимать, что не в ваших интересах, чтобы отель «У Розы» упоминался в газетах?
– Упаси Боже! Только этого нам с Эльзой не хватало! В позапрошлом году у нас был пожар в семнадцатом номере: пьяный постоялец уснул с сигаретой в зубах, прожег наволочку, подушку и матрац. Конечно, ему пришлось за все заплатить, но все равно это было ужасно неприятно. Господин инспектор, а как вы думаете, мюнхенские газеты не пронюхают об этом случае?
– Определенно пронюхают, потому что полиции придется дать объявление: мы ведь так и не знаем, кто эта женщина.
У Розы Блюменталь сразу сделалось столь огорченное лицо, что инспектор понял: знай она хоть что-нибудь еще о покойной, она бы ничего не утаила, спасая репутацию гостиницы.
– Ладно, – сказал инспектор, – я подумаю, нельзя ли обойтись без названия: «В небольшом отеле близ автобана номер восемь Мюнхен – Зальцбург» – так это будет звучать вполне безопасно для вас, не правда ли?
– Ах, инспектор, я вам так благодарна! Мы с Эльзой две одинокие беззащитные женщины, выгнавшие своих мужей-бездельников и на свои скудные сбережения открывшие этот отель. Мы уже почти десять лет содержим его, но только-только начали вылезать из долгов. Мы почти все делаем сами, держим лишь повара, да раз в неделю к нам приходит работать садовник. Мы дорожим каждым постояльцем, поэтому дурная репутация…
– Я вас понимаю, – прервал ее сетования Миллер, поднимаясь из-за стола. – Сколько я вам должен за пиво?
– Семь марок двадцать пфеннигов, господин инспектор.
Миллер отметил, что хозяйка не забыла присчитать и свое пиво. Ну что ж, он, собственно, сам ей предложил. Отсчитав деньги и выложив их на стол, он спросил:
– А где сейчас находится ваша сестра?
– Она еще не вернулась с покупками. Извините, господин инспектор, я ей говорила, что следует подождать приезда полиции, но Эльза сказала, что случайная смерть одного постояльца еще не повод оставить без еды всех других, которые могут прибыть в течение дня. Не сердитесь на нее! Мертвые уходят своим путем, а жизнь продолжает идти своим.
– Гм. Это ваша сестра так сказала?
– Нет, это я прочла в журнале для домохозяек.
– Ах так! Очень глубокая и примиряющая мысль. – Тут инспектор увидел Зингера, входящего в зал ресторана с пластиковым пакетом в руке, в котором лежало что-то тяжелое. – Вы нашли бутылку, Петер?
– Обнаружил в розовых кустах, инспектор! Правда, совсем под другим окном, хотя и на той же стороне гостиницы.
– Гм. Ну ладно, давайте ее сюда. Тоже «Асти спуманте»… Хорошо, Зингер. Идемте упаковывать наши вещественные доказательства. Госпожа Блюменталь, последите, чтобы нас никто не тревожил, кроме врача – он должен вот-вот прибыть.
– И тогда эту бедняжку наконец уберут из нашего отеля? – оживилась Роза Блюменталь.
– Я думаю, она еще задержится у вас на часок-другой: мы ждем фотографа.
– Из газеты? – встревожилась хозяйка.
– Нет, из полиции. Если появится ваша сестра, пусть поднимется в пятнадцатый номер.
– Хорошо, инспектор.
Поднимаясь по лестнице на второй этаж, инспектор Миллер еще раз повторил:
– Чувствую, Петер, что в этом деле без графини не обойтись.
Глава 2
Детективное партнерство «Графиня Апраксина – инспектор Миллер» возникло в 1946 году. Рудольф Миллер-старший не раз рассказывал сыну Рудольфу историю своего знакомства с графиней Марией Владимировной Апраксиной. История была вполне детективная.
Сразу после войны в Баварии оказалось много так называемых «ди пи» – «депортированных персон». Это были бывшие пленные, «остарбайтеры» и просто беженцы, выплеснутые войной на чужой негостеприимный берег. Агенты НКВД уже прочесывали Германию в поисках бывших граждан СССР и, найдя, агитировали их возвратиться на родину: «Родина простила, Родина не забыла, Родина зовет вас обратно» – именно так, с большой буквы. Но желающих вернуться было не много, поскольку в это время уже стали доходить слухи о том, как «Родина», а точнее подразделение НКВД, носившее мрачное название «Смерть шпионам», сокращенно Смерш, уже на границе освобождает возвращенцев от скудного багажа, фильтрует и, пересадив в теплушки, гонит прямиком в Сибирь. Менять лагерь на лагерь никому не хотелось, и люди застревали в лагерях «ди пи» в надежде как-нибудь ускользнуть от смертельных объятий «простившей Родины». Пока союзные власти решали их судьбу, застрявшие в Баварии «ди пи» жили в специально организованном для них лагере неподалеку от Мюнхена. Они пользовались относительной свободой передвижения, к великому неудовольствию обитателей ближайших деревень: то и дело к коменданту лагеря заявлялся какой-нибудь крестьянин с жалобой на кражу дров из аккуратно сложенной вдоль стены дома поленицы или на пропажу наполовину насиженных куриных яиц, выкраденных вместе с корзиной и наседкой. Комендант терпеливо выслушивал крестьян и переправлял их в местную полицию. Полицейские еще более терпеливо выслушивали подробнейшие истории об исчезновении сушившегося на веревке белья или варившейся в медном котле патоки, пропавшей, естественно, вместе с котлом, обстоятельно все записывали, осматривали место происшествия и… никаких репрессий против «ди пи» не предпринимали. Будучи все бывшими фронтовиками, они жалели их, чувствуя несправедливость происходящего: для них, побежденных, война уже кончилась, а для «ди пи», принадлежавших к народу-победителю, она все еще продолжалась.
Но вот однажды к Миллеру-старшему с жалобой явился крестьянин и заявил, что у него прямо из хлева свели корову. Пострадавший утверждал, что соседи видели прогуливающихся возле их деревни «русских» – так окрестное население звало всех «ди пи», несмотря на то, что в лагере кроме русских были украинцы, белорусы, а также поляки и сербы. Миллер с бригадой полицейских отправился в лагерь с обыском. Комендант дал им в помощь служившую при американской комендатуре переводчицу – это и была графиня Мария Владимировна Апраксина.
В лагере «ди пи» кроме дощатых бараков был каменный шестиэтажный особняк, в котором в годы войны располагался военный госпиталь. Как ни обшаривали бараки и особняк полицейские, они не нашли ни коровы, ни говядины. Миллер-отец и графиня осматривали здание бывшего госпиталя вдвоем, и Миллер потом говорил сыну, что он уже во время обыска понял: Апраксина догадывается, где находится искомая корова. Она еле сдерживала смех, глаза ее озорно блестели, но своих голодных и предприимчивых соотечественников графиня не выдала. И Миллер ее понял.
Спустя несколько месяцев судьба снова свела Миллера-старшего и графиню Апраксину при расследовании очередного «русского дела»: на этот раз – об изнасиловании молодой немки. И тут уж Апраксина, снова приглашенная в качестве переводчицы, подозреваемого земляка не пощадила: она задавала ему, помогая Миллеру, такие каверзные вопросы, что прижатый к стенке преступник очень скоро признался в содеянном. Его арестовали и передали в ближайшую советскую комендатуру, и Миллер видел, что графиня удовлетворена таким исходом.
Когда дело было закончено, Миллер-отец вспомнил про похищение коровы. Клятвенно заверив Апраксину, что дело о корове уже закрыто и русским «ди пи» ничего не грозит, он уговорил ее раскрыть тайну сокрытия столь крупной скотины на небольшой территории лагеря.
«Вы недооцениваете русскую смекалку, – смеясь, сказала графиня. – Вспомните, в здании бывшего госпиталя был довольно вместительный лифт для транспортировки больных. Так вот, я почти сразу же обратила внимание, что, когда вы обыскивали этаж за этажом, лифт все время был занят и находился где-то на других этажах. И, конечно же, я скоро заподозрила, что корова запрятана в лифте. Чтобы удостовериться, я подошла к закрытым дверям лифта и принюхалась: из щели пахнуло как из хорошего хлева! Позже один «ди пи» мне рассказал, что корове, чтобы она себя не выдала, обмотали морду большим женским платком, а копыта обернули мешковиной. Так она и каталась мимо нас в лифте! Но задержать или скрыть ее естественные отправления похитители, разумеется, не могли». Миллер-отец хохотал до слез. Когда он отсмеялся, Апраксина сказала: «Корову, между прочим, вовсе не съели. В лагере много грудных и маленьких детей, и теперь у них есть молоко. Я этих людей понимаю, инспектор, у меня у самой на руках сирота-племянница, и я знаю, каково это, когда ты не можешь достать молока ребенку».
С этого и началось: Миллер убедил начальство, что при современных условиях в полиции обязательно должен быть свой «консультант по русским делам». Графиня-тетушка много лет официально числилась русской переводчицей и консультантом при полиции, потом передала эту должность своей племяннице, Елизавете Николаевне Апраксиной, а Миллер-старший, выйдя на пенсию, передал свое место сыну, и знаменитая пара детективов «Инспектор Миллер – графиня Апраксина» продолжала сотрудничество. Миллеры, старший и младший, научились у графинь различать русские «эмигрантские волны»: в первой, белоэмигрантской волне уголовные преступления были величайшей редкостью; вторая послевоенная волна выплеснула преступлений великое множество, особенно сразу после войны, но они были в основном мелкие: бытовые кражи, спекуляция на черном рынке, самовольная застройка; зато третья волна принесла с собой и выбросила на западный берег обетованный грозную и ужасную «русскую мафию».
Графиня-тетушка мирно скончалась во сне в прошлом году, а Миллер-младший ехал сейчас к ее «сироте-племяннице». Обитала Елизавета Николаевна Апраксина на южной окраине Мюнхена, в местечке Рамерздорф, где у нее был небольшой собственный домик на тихой Будапештской улице. Инспектор явился к ней после полудня, успев с утра поработать с вещественными доказательствами. Улочка была узкая, и Миллер поставил машину двумя колесами на тротуар, чтобы ее не задели проезжающие автомобили. Он подошел к знакомой калитке и протянул руку к звонку.
– Входите, инспектор! Калитка не заперта! – Знакомое полнозвучное контральто графини прозвучало почему-то с неба. Миллер закинул голову и разглядел Апраксину в ветвях старого каштана, росшего перед домом: стоя на последней ступеньке лестницы-стремянки, графиня прилаживала к стволу новенький скворечник.
– Могу я вам помочь? – спросил Миллер, пройдя в калитку и останавливаясь под каштаном.
– О нет, благодарю! Я уже заканчиваю и скоро спущусь к вам. Вы просто так или по делу?
– По очередному «русскому делу», – уточнил Миллер.
– Что-нибудь мрачное или на этот раз не очень?
– Дело совсем не веселое – самоубийство молодой женщины. У меня есть основания предполагать, что покойница русская, поэтому я и пришел к вам сразу, хотя дело начал только вчера.
– Ах вот как? В таком случае я немедленно спускаюсь на грешную землю, а скворечник пусть повисит на одном гвозде. Но только до завтра! Ни один добропорядочный немецкий скворец не поселит в нем жену, пока я не сдам квартиру «под ключ».
– Я мог бы повесить его после нашей беседы, – предложил Миллер.
– Ну нет! Вы же знаете, что у себя в саду я все делаю своими руками – это мой фитнес-центр!
– Но при вашей занятости и… – инспектор замялся.
– И моем возрасте, хотите вы сказать? Да ведь мне всего полседьмого!
– Полседьмого?…
– Десятка, инспектор.
Апраксина сошла со своей стремянки и величаво направилась к дому. Стройная, худая, с серебряной головой, графиня при работе в саду одевалась весьма демократично – в джинсы и свитер. Причем джинсы были вылинявшие и потертые, а свитер был так нелепо и криво растянут, что по экстравагантности, подумал Миллер, больше подошел бы внучкам Апраксиной: у графини их было две, и обе жили в Париже.
– Идемте в дом, инспектор, – сказала она, – я приготовлю чай, а за чаем вы мне все и расскажете.
– Я бы не отказался от чашечки кофе, – сказал Миллер, идя вслед за Апраксиной к дому.
Она обернулась и на ходу погрозила ему пальцем:
– Кофе? Сколько раз я вам говорила, инспектор, что до двенадцати кофе – допинг, а после двенадцати – яд! Я приготовлю для нас обоих особенный бодрящий чай из бадана.
– Чай вашего приготовления?
– Разумеется. Бадан, впрочем, тоже особенный – с Алтая.
– Ах так! В таком случае, я просто вынужден согласиться.
Оставив инспектора в гостиной, Апраксина ушла готовить свой экзотический чай. Инспектор уселся на диване немного боком, стараясь так распределить тяжесть своего крупного тела, чтобы под ним, не дай Бог, не подломилась одна из гнутых золоченых ножек.
На стенах гостиной, выкрашенных под розовато-бежевый мрамор, висело множество гравюр с видами Санкт-Петербурга, исторической родины Апраксиной, и два писанных маслом портрета в тяжелых золоченых рамах. Оба лица на портретах имели явное фамильное сходство с графиней: такие же, как у нее, живые и блестящие карие глаза были у седого старика, обвешанного орденскими крестами и звездами, и у дивной красавицы в серебряном парике, писанной в жемчужных тонах. Это были предки графини, но какой степени, Миллер не запомнил. Но зато он хорошо помнил рассказанную отцом историю о том, как Елизавета Апраксина в подарок своей тетушке вывезла эти портреты из подсоветской России. Случайно узнав, что они хранятся в запасниках какого-то музея в Крыму, Апраксина поехала в СССР в составе группы западных туристов; там она сумела добраться до музея и то ли нелегально выкупила портреты, то ли просто их похитила, а потом через верных людей переправила за границу с партией сибирского леса – внутри выдолбленного бревна. «Я экспроприировала экспроприированное обратно!» – ничуть не смущаясь, поясняла графиня. У Елизаветы Николаевны, как и у покойной тетушки, было яркое прошлое… Инспектор вздохнул, понимая, что явился на Будапештскую с делом, которое навряд ли особенно заинтересует графиню, к тому же теперь уже и пенсионерку. Скучное дело – тривиальное самоубийство, скорее всего на почве любви или ревности.
Апраксина скоро появилась с подносом, одетая все в те же уни-сиротские джинсы, но теперь сверху на ней была просторная черная блуза из натурального шелка, от руки расписанная венецианскими масками. Она расставила посуду и снова ушла на кухню, а Миллер, машинально взглянув на ее спину, обнаружил, что на спине блузы была изображена одна-единственная маска – но зато какая! – глаза на лопатках, нос на талии, а рот… ну, в общем, рот располагался гораздо ниже талии. Он добродушно отметил: «Еще один наряд от парижских внучек!» Соседи Апраксиной по Рамерздорфу считали, что русская графиня Элизабет Апраксина, их местная достопримечательность, одевается не по возрасту, но Миллер знал, что причиной тому была вовсе не экстравагантность, а элементарная бережливость: два раза в году, на русское Рождество и на Пасху, Апраксина ездила в Париж навестить сына и внучек и возвращалась оттуда с большим чемоданом одежды. Но это были не наряды от парижских кутюрье, а обноски от любимых внучек – девушки росли быстро и росли они все-таки в Париже. Большую часть одежды Апраксина раздавала новым эмигрантам из России, но кое-что оставляла себе для повседневной носки – отсюда и стиль, смущавший рамерздорфских соседей. Однако инспектору было известно, что Апраксина бывает на приемах у своей задушевной подруги, баронессы фон Ляйбниц, и он предполагал, что уж там-то она наверняка появляется одетая соответствующим образом, а не в легкомысленных «внучатых обносках», как она шутила. Сам он в высшем свете не бывал и графиню в полном блеске не видал ни разу. Зато он знал о самом что ни на есть пролетарском происхождении самой баронессы фон Ляйбниц, урожденной Якоревой: она была выдворенной из СССР диссиденткой, а родилась и выросла в небольшом приволжском городке Чапаевске. Он даже знал о характере ее диссидентской деятельности: Якорева создавала какие-то независимые подпольные профсоюзы, отсидела свое в лагерях, не угомонилась, а потому после отсидки была отправлена в изгнание. Все это он узнал не от графини, а от своего коллеги в американской разведке, причем действуя тайно от Апраксиной: Миллер беспокоился о своей партнерше. С диссиденткой из Чапаевска все оказалось в порядке, ее политическая репутация была безукоризненной, а с бароном фон Ляйбницем, как выяснилось, сама Апраксина ее и познакомила.
Графиня появилась из кухни с большим чайником, тут же распространившим по комнате экзотический аромат, и прервала размышления инспектора. Она разлила чай по чашкам и села в кресло.
– Какой удивительный цвет у вашего бадана. М-м, а запах какой!
– Я варю его на молоке, по-алтайски. Ну, пейте и рассказывайте! Что там за русская уголовщина?
Инспектор, прихлебывая чай, повел рассказ. Начал он со вчерашней поездки в отель «У Розы», а закончил сегодняшними новостями: уже утром он получил заключение медицинской экспертизы, где было сказано, что смерть неизвестной наступила в результате отравления растительным алкалоидом аконитином.
– В бутылке из-под «Асти спуманте» и в пластмассовом стаканчике для чистки зубов, которые мы нашли в отеле, были обнаружены следы этого яда. В заключении сказано, что случайное отравление в результате приема повышенной дозы лекарства, содержащего аконитин, исключается: аконитин применяется только в гомеопатии, то есть в микроскопических дозах, а также в мазях для наружного употребления: им лечат подагру, суставные болезни и ревматизм.
– А, старый добрый аконит! – воскликнула Апраксина. – Как интересно…
– Вам что-то известно об этом яде, графиня?
– Известно. Аконитин – это самый сильнодействующий растительный алкалоид из всех известных. Содержится он в растении аконит, или борец. – Она прикрыла глаза и задумчиво проговорила: – Пожалуй, по степени литературной известности он далеко оставляет за собой знаменитую цикуту. «Королем ядов» называли его древние греки; галлы и германцы натирали его соком наконечники стрел и копий. Где-то у Овидия сказано, что Медея собиралась отравить им Тесея. Император Траян запретил выращивать аконит под страхом смертной казни, и хорошо сделал: уж очень популярным стал этот способ отравления в Римской империи. Между прочим, существует предание, что именно им был отравлен хан Тимур: будто бы соком аконита враги пропитали его тюбетейку.
– Простите?
– Тюбетейка – это такая круглая шапочка, которую носят на Востоке.
– Кипа?
– Вроде того. Но тюбетейки расшивали шелками, золотом и украшали их драгоценными камнями и золотыми монетками. У нас в России старое название аконита «волчеборец», потому что на Руси им травили волков. Это очень, очень сильный яд, инспектор. У нашего русского писателя Чехова в его книге о каторжном острове Сахалин есть рассказ о том, как люди отравились, съев печень свиньи, наевшейся клубнями аконита.
– Поистине зловещая слава у этого растения! – заметил инспектор.
– А вы о нем не слышали?
– Никогда!
– То-то и оно. Самоубийца должна была обладать большими литературными познаниями, чтобы выбрать именно этот яд.
– Но если смертельную дозу аконита невозможно приобрести в аптеках, то где неизвестная могла его взять?
– Она могла его приготовить сама.
– Разве это не редкое растение?
– Аконит растет во многих садах Мюнхена, он очень декоративен. Но ядовиты только дикорастущие экземпляры: пересаженный на плодородную почву, аконит через несколько поколений теряет все свои ядовитые свойства.
– Выходит, что яд можно добыть только из дикого растения?
– Да. И растет он на альпийских лугах и вдоль горных тропинок.
– Но даже если знать, где растет аконит, ведь надо еще уметь извлечь из него и приготовить яд?
– Достаточно выяснить, как его применяли древние отравители, а они просто использовали свежий сок растения. Где-то я читала, что частенько сами отравители погибали раньше, чем успевали преподнести яд врагу: сок настолько ядовит, что достаточно ему было попасть в самую мелкую царапину на коже, как человек умирал. Какова физиологическая причина смерти этой женщины, инспектор?
– Паралич сердца и остановка дыхания.
– Все сходится. Однако оставим яд пока в стороне. Что еще вы успели выяснить?
– Очень мало. В Мюнхене и его окрестностях сообщений о пропавших молодых женщинах не появилось. Фотографию покойной поместили в нескольких газетах и показали в новостях по телевидению, но откликов пока не было. Зато сегодня утром пришел ответ на запрос в автоинспекцию: туда поступило заявление о пропаже автомобиля, принадлежавшего некой Аде фон Кёнигзедлер. Я запросил фотокопию заявления и тут же получил ее по факсу. В своем заявлении Ада фон Кёнигзедлер написала, что два дня назад, то есть накануне обнаружения трупа в отеле «У Розы», у нее угнали автомобиль марки «ауди», припаркованный возле ее дома на улице Энштейна. В салоне машины лежала ее куртка с водительским удостоверением в кармане. Ничего примечательного в коротком заявлении Анны фон Кёнигзедлер не было, если не считать нескольких грамматических ошибок.
Но когда я запросил данные об Аде фон Кёнигзедлер из базы данных полиции, я понял, что госпожа фон Кёнигзедлер может быть не просто случайная жертва автоугона.
– Почему же?
– Позвольте, я прочту: «Ада Кёнигзедлер, урожденная Светлова, родилась в Киеве в 1950 году. Там же заключила брак с подданным ФРГ Клаусом фон Кёнигзедлером, архитектором, и вскоре выехала на постоянное жительство в Германию. В настоящий момент находится в состоянии бракоразводного процесса с упомянутым архитектором и по совету своего адвоката проживает отдельно от него по адресу: улица Эйнштейна, 174». Убедившись окончательно, что дело носит явно «русский характер», я вам и позвонил, – закончил Миллер.
– Это все, инспектор?
– Да, все.
– Хотите еще чаю? Нет? Ну, тогда… В общем, скажу вам сразу: я этим делом заниматься не стану.
– Почему же, графиня?
– Не люблю самоубийц.
– Я это знаю и не рассчитывал, что вы примете в деле непосредственное участие. Я только хотел познакомить вас с материалами дела и получить от вас пару советов.
– А, ну это пожалуйста. В таком случае, прошу в мой кабинет.
Кабинет Апраксиной неизменно производил на Миллера ошеломляющее впечатление, и он не раз говорил ей: «Не хотел бы я быть вашим душеприказчиком, графиня. Разве посторонние смогут разобраться в ваших бумагах?» – «Вот посторонние-то как раз и смогут, – отвечала Апраксина, – если доберутся до них первыми. Ох уж эти мне «посторонние»! Впрочем, у меня для них тоже кое-что предусмотрено». В последнем Миллер не сомневался: это могла быть хитрая электронная сигнализация, а могло быть и взрывное устройство! «Раньше я остерегалась только агентов КГБ, а теперь приходится опасаться всех, кто проявляет интерес к России!» – сокрушалась Апраксина. Сама графиня свой кабинет называла простенько и с долей самодовольства – «мой маленький институт криминалистики и человековедения». Эту большую светлую комнату, занимавшую добрую половину первого этажа, заполняли высокие железные картотечные ящики, запертые на ключ, полки до самого потолка, туго забитые папками, книжные шкафы со справочной литературой на нескольких языках, простой, но длинный, во всю стену стол, на котором в ряд стояли монитор, компьютер, магнитофон, телевизор, принимающий основные российские программы через установленную в саду мощную спутниковую антенну с американской радиостанции «Свобода», то ли списанную, то ли… Впрочем, сие Миллера не касалось, поскольку американцы о пропаже антенны в немецкую полицию не заявляли. На всемирно известной радиостанции еще и не такие пропажи случались: там как-то один из главных редакторов пропал, некто Олег Туманов, и об этом узнали лишь после того, как пропавший обнаружился в Москве и дал пресс-конференцию иностранным и советским журналистам.
Усадив Миллера в удобное и широкое кожаное кресло, сама Апраксина уселась в рабочее кресло перед компьютером, и перед нею мягко засветился огромный экран жидкокристаллического монитора. Миллер завистливо вздохнул – такой аппаратуры у них в полиции не было. Графиня экономила на тряпках, но не на электронике.
– Так, Ада фон Кёнигзедлер… посмотрим, что у нас есть на ее счет. Угу, вот она! Совершенно верно – урожденная Светлова. Родилась на Украине, но не в Киеве, а в городе Кривой Рог, 15 ноября 1950 года. А вот потом она действительно училась в Киеве и там же работала гидом в Интуристе. Странно, почему же она пишет по-немецки с ошибками?… В 75-м вышла замуж за архитектора Клауса фон Кёнигзедлера. Гм, похоже, что с КГБ она не была связана: разрешение на выезд к мужу в Германию она получила только в 78-м после многочисленных отказов. И это пока все. Вы говорите, она разводится? Да, выездные браки редко бывают прочными. Сейчас я внесу это дополнение в ее досье. Что у вас еще с собой, инспектор?
– Фотографии умершей женщины и увеличенная фотография Ады фон Кёнигзедлер с ее водительского удостоверения.
– Давайте их сюда!
Миллер разложил фотографии на свободном пространстве стола. Апраксина довольно долго молча их разглядывала, а потом подняла голову и сказала:
– Да, это очередное «русское дело», мой дорогой инспектор. Но еще раз скажу, что участвовать в нем я не буду. Мне, конечно, жаль самоубийцу, но копаться в ее белье я не намерена.
– Не смею настаивать. А можете вы мне сказать что-нибудь полезное, посмотрев на эти фотографии?
– Вы же знаете, инспектор, что у меня всегда найдется что сказать о человеке, если я вижу перед собой его фотографию.
– Вы считаете, что неизвестная погибшая тоже русская?
– Несомненно. Причем из России она выехала недавно. По фотографии вы можете без особого труда разыскать ее через организации, ведающие эмигрантами и политическими беженцами.
– Я тоже сразу заподозрил, что она русская. В номере отеля мы обнаружили меховой жакет из белки с русской этикеткой и теплый вязаный платок, тоже похожий на русский. И потом эта странная манера пить вино из стаканов для чистки зубов… А на чем вы строите своими предположения, графиня?
– Пока лишь на том, что у меня перед глазами, – Апраксина кивком указала на лежащие перед нею фотографии. – Вы обратили внимание на то, что лицо покойной накрашено?
– Да. И я еще удивился, почему она не сняла косметику перед сном, ведь разделась же она, прежде чем лечь?
– Ну, как раз это случается с молодыми женщинами довольно часто и совершенно независимо от их национальности. Им кажется, что чистотой кожи можно и пренебречь, если они по каким-то причинам торопятся в постель. С годами, когда этих причин становится все меньше, а морщин все больше, женщина приобретает привычку снимать грим перед сном, преодолевая любую усталость, – иначе она рискует утром обнаружить на своем лице новую морщинку. Но покойная находилась еще в том возрасте, когда морщина на лице не кажется страшней, чем царапина на сердце. С другой стороны, она уже не так молода, чтобы опыт не оставил следов на ее лице. Давайте поищем эти следы.
Инспектор, хорошо знавший методы Апраксиной, усмехнулся.
– Дорогая графиня, эту часть расследования я целиком перекладываю на ваши плечи, а сам с интересом послушаю выводы.
– Хорошо, смотрите и слушайте. Вот эти мелкие горизонтальные морщинки над внешними краями бровей, – Апраксина взяла из стаканчика карандаш и острием показала инспектору едва заметные линии на фотографии, – говорят о преданности, а проще говоря, о привычке «смотреть в рот». Может быть, это самоубийство из-за потерянной любви? Допустим, она замужем и узнала, что горячо любимый муж собирается ее оставить.
– Все можно предположить.
– Да, конечно, – на этом этапе расследования… Теперь обратите внимание на вот эти, почти не заметные, морщинки: они образуют два прямых угла над внутренними краями бровей вершинами к переносице. Я зову их «морщинами тревоги». Подобные морщины редко носят постоянный характер, разве что у законченных психопаток: обычно они резко и внезапно появляются на лице, скажем, во время стресса, а потом так же легко исчезают, если причина тревоги уходит. На этом лице они появились недавно и едва заметны. Теперь немного порассуждаем о ее гриме. Если это самоубийство в отместку за измену, тогда становится понятным, почему она оставила лицо накрашенным, собираясь принять яд. Может быть, она даже наложила перед самоубийством свежий грим.
– Это зачем же? – удивился инспектор.
– Из чувства мести, разумеется. Ей хотелось хорошо выглядеть, когда тот, кого она задумала наказать своей смертью, увидит ее в морге или в гробу. Довольно ребяческое чувство: вот он увидит и пожалеет обо мне, но будет поздно! Но не исключено, что причина даже и не в мужчине: так называемые «настоящие женщины» в любом возрасте способны всерьез задуматься над тем, как они будут выглядеть на смертном ложе.
– А вы тоже задумывались над этим, графиня? Ведь вы у нас самая что ни на есть «настоящая женщина».
– Ошибаетесь, инспектор. «Настоящими женщинами» в наше время принято называть особ суетных и земных, до старости озабоченных своей внешностью. Я этим никогда не грешила, у меня, слава Богу, других забот хватало. Но, уверяю вас, инспектор, в гробу и на Страшном суде я буду выглядеть не хуже других.
– Это как понять?
– Я приготовила себе наряд на погребение в соответствии с православной модой.
– ?!
– На смертный час у меня приготовлена рубаха, освященная в Иерусалиме на Гробе Господнем, в которой я до этого окуналась в Иордане, а также саван, расшитый монахинями греческого монастыря, – с молитвами и распятием.
– Ах, так!
– Да, именно так. Но вернемся к нашим фотографиям. О чем же нам говорят эти краски на лице покойной?
– Лично мне ровно ни о чем, – пожал плечами Миллер. – Я как-то никогда не понимал этой «живописи».
– Простите меня, дорогой инспектор, но вы и в настоящей живописи разбираетесь не очень. Признайтесь, втайне вы вообще недоумеваете, для чего это люди пачкают красками такую отличную вещь, как натуральный холст, а другие люди платят за испорченную материю деньги?
Инспектор ничуть не обиделся, только рассмеялся в ответ: его любовь к искусству начиналась и заканчивалась игрой на тромбоне в сводном духовом оркестре пожарных и полицейских.
– А теперь просто поверьте мне на слово, что макияж, как теперь принято говорить, или боевая раскраска женщин, – это тоже целое искусство, недоступное большинству мужчин; о пресловутом меньшинстве мы речи не ведем. Некоторые женщины владеют этим искусством как природным даром, а другие этому старательно обучаются. Когда такая женщина садится перед зеркалом, она превращается в настоящего художника. Это искусство порой бывает изящно, его произведения трогательно мимолетны, и оно имеет свою историю, восходящую к глубокой древности. Это едва ли не древнейшее из всех искусств. И как судьба художника почти всегда напрямую зависит от ценности созданного им произведения, так и судьба современной женщины часто находится в прямой зависимости от того, насколько она умеет превратить собственное лицо в произведение искусства.
Миллер внимательно слушал.
– Как вы считаете, инспектор, которая из двух женщин, чьи фотографии лежат сейчас перед нами, красивее – Ада Кёнигзедлер или Неизвестная? Будем пока так ее называть.
– Разумеется, госпожа фон Кёнигзедлер красивее. Это очень интересная дама.
– Интересная – да, причем во всех отношениях. Но она далеко не красавица. А вот Неизвестная – она и моложе, и хороша собой, и черты лица у нее абсолютно правильные. Настоящая русская красавица! Но почти любой мужчина отдаст предпочтение Аде фон Кёнигзедлер. И знаете почему? Только потому, что она умеет пользоваться косметикой. – Апраксина торжественно подняла фотографию Ады фон Кёнигзедлер. – Это лицо, инспектор, – настоящая профессиональная работа, здесь видна рука большого мастера! Несомненно, исполнено сие произведение в каком-нибудь дорогом институте красоты. Гм… Впрочем, беру назад свои слова о том, что Ада Светлова не может быть агентом КГБ: в СССР хорошо подготовленных агентесс в особо секретных заведениях обучают искусству макияжа и искусству профессионального обольщения.
– Вы хотите сказать, что эта женщина может быть проституткой? Ну да, в Киеве она работала с иностранцами…
– Фи, инспектор! Не так примитивно, но гораздо серьезнее: не исключено, что Ада фон Кёнигзедлер – «ласточка».
– А это что еще за птица?
– Это такие птички, которых выращивают в вольерах КГБ специально для того, чтобы внедрять за границу в качестве жен или любовниц лиц, интересующих советскую разведку. Впрочем, мужчин тоже – их зовут «воронами». Одна такая «ласточка» залетела в постель знаменитого чилийского революционера Че, а потом погубила его в нужный для СССР момент. Большой успех выпал, было, на долю «ворона», сумевшего жениться на дочери самого богатого человека земли Онассиса. Но «ворона» вскоре разоблачили, и Онассисы отделались от него, подарив на прощанье пароход. – По лицу графини скользнула легкая улыбка приятных воспоминаний, и Миллер предположил, что в разоблачении упомянутого «ворона» без Апраксиной не обошлось. – В начале своей карьеры «ласточки» часто работают переводчицами, гидами, служительницами в отелях для иностранцев. Может быть, отсюда и столь умелый макияж на лице этой «интересной дамы», как вы изволили заметить. В любом случае интерес она представляет, а потому давайте внимательней всмотримся в ее лицо. Морщин на нем, конечно, почти не заметно.
– Но вот я вижу у нее такие же морщинки над бровями, какие вы заметили на лице Неизвестной.
– О нет, инспектор, вы ошибаетесь! Тут совсем другое. У Неизвестной эти морщинки составляют прямой угол, а у Ады фон Кёнигзедлер – острый. Это не морщины тревоги: эти морщинки я называю «наконечником стрелы» – они свидетельствуют об агрессивной сосредоточенности: эта «интересная дама» явно что-то задумала и идет к своей цели упорно и неуклонно. И ничего другого морщины на ее лице нам не поведают, потому что больше их и нет. При встрече, возможно, прояснится что-нибудь еще: живая мимика выдает гораздо больше, чем статичная фотография. Но уже ясно, к какому женскому типу принадлежит сия особа. Это хищница и не мелкая. А теперь давайте-ка сравним грим обеих женщин. Обратите внимание, что, несмотря на общие пастельные тона макияжа Ады фон Кёнигзедлер, у нее наведен и румянец на щеки и подбородок, а губы обведены резкой каймой. У Неизвестной помада гораздо ярче, но губы обвести специальным карандашом она не удосужилась, и оттого рот ее кажется менее выразительным.
– Может быть, она просто кусала губы перед смертью и помада размазалась? – предположил Миллер.
– Браво, инспектор! И все-таки обведены они не были, а теперь все молодые женщины это делают. Золотисто-бежевая краска на ее веках совершенно не подходит к серо-голубым глазам, и ресницы накрашены черной краской, что вовсе не подходит ни к цвету глаз, ни к цвету теней на веках. Похоже, что она не особенно умеет краситься. Но главная улика – румянец, вернее его отсутствие. Вы только посмотрите, какой контраст составляет эта яркая губная помада с бледностью ее щек, лба и подбородка! Щеки получились похожими на два перевернутых блюдечка и делают лицо круглым и плоским, а ведь на самом деле оно имеет прекрасную овальную форму. Круглое лицо как раз у Ады фон Кёнигзедлер!
– Неужели? – инспектор очень удивился и снова пригляделся к фотографиям обеих женщин. – Действительно… Но первое впечатление совершенно обратное.
– Это так. Русские женщины не умеют пользоваться румянами и, выехав на Запад, не сразу этому научаются. Можно предположить, что Неизвестная приехала из России недавно и что там она принадлежала не к тому кругу женщин, которых специально обучают пользоваться косметикой. То есть она не актриса, она не из «новых русских» и уж тем более не «ласточка». И еще одно: в Мюнхене у нее не нашлось подруги, которая научила бы ее правильно накладывать макияж, что снимает подозрения с Ады фон Кёнигзедлер. Или же подруга находила удовольствие, наблюдая промахи Неизвестной по части макияжа, – что как раз наводит на подозрения в адрес Ады фон Кёнигзедлер.
Инспектор понимающе кивнул.
– А теперь, – продолжала Апраксина, – обратите внимание на серьги покойной: это пластмасса и сталь – либо дурной вкус и дешевка, либо последний писк моды. Да-да, законодатели мод заставляют и самых богатых женщин носить пластмассу и сталь: знаменитая мадам Шанель, поднявшаяся из низов, получала особенное удовольствие, вынуждая аристократок носить искусственные жемчуга. А вот на шее у Неизвестной изумительное украшение, похожее на роскошный ошейник: это серебряная чеканка с бирюзой, явный Восток. Женщина со вкусом не надела бы на себя два столь разностильных украшения.
Инспектор встрепенулся.
– Хотите взглянуть на этот ошейник, графиня? Он у меня с собой. – Миллер извлек из портфеля коричневый бумажный пакет и протянул его Апраксиной. Она наклонила пакет, и на стол с резким звоном выпали две половинки серебряного обруча.
– Почему он распилен надвое?
– Обруч оказался несъемным, пришлось его распилить.
– Любопытно: так он был запаян прямо на шее Неизвестной? Татарщина какая-то!
– Вы ставите под сомнение ее русское происхождение?
– Отнюдь. Хотя одна старая грымза вроде меня как-то сострила: «Поскреби русского и найдешь татарина».
– Может быть, Неизвестная принадлежала к семье с сохранившимися древними русскими традициями? – предположил Миллер.
– Оставьте, инспектор! Не было у русских таких диких традиций. Скорее, это какой-то романтический обряд, а не национальный. Например, символ верности до гроба – вместо обмена кольцами при церковном венчании. Кстати, таким же обрядом может быть и питье «Асти спуманте» перед самоубийством – если это самоубийство. Не для храбрости же она пила это легкое вино: тут были бы уместней коньяк или водка.
– Питье «Асти спуманте» из стаканчика для чистки зубов – фантастический обряд! Чего только не выдумают эти русские…
Графиня покатилась со смеху и замахала на инспектора руками.
– Ох, инспектор, как вы умеете меня насмешить! – Отсмеявшись, она добавила: – Бедный Осип Мандельштам, как ему не везет!
– Это кто такой? Тоже русский эмигрант?
– К сожалению, нет. Это крупный русский поэт, написавший стихи про «Асти спуманте». Сам он погиб в сталинских лагерях. Его посадили за стихи о Сталине: «Что ни казнь у него, то малина, и широкая грудь осетина», – она прочла стихи по-русски и затем перевела на немецкий.
– Странные стихи. И за это Сталин отправил человека в концлагерь? «Что ни казнь у него, то малина» – это что, какая-то аллегория, которую я не понял, или у Сталина была аллергия на малину и его болезнь скрывали от народа?
– Ох, инспектор, вы меня сегодня определенно уморите! Вот и переводчики этих стихов на Западе тоже немедленно запутались. В первом издании стихотворений Мандельштама в Америке они снабдили их примечанием, где говорилось, что у осетин существовал обряд «жевания сухой малины после победы над врагом». На самом деле Сталин был не осетин, а грузин, и даже, говорят, мингрел – это небольшая народность в Западной Грузии. И малина-ягода тут тоже совершенно ни при чем: «малина» на языке уголовников означает пир, праздник, а также правящий совет преступного мира. Мандельштам, конечно, имел в виду одно из этих значений.
– Ну а что же с «Асти спуманте»?
– А это из другого стихотворения Мандельштама, очень популярного у современной русской интеллигенции. В нем он писал о недоступных радостях западного мира: о розах в машине «ролс-ройса», савойских соснах, альпийских сливках и тому подобном. Кончалось стихотворение так:
- Я пью, но еще не придумал,
- из двух выбираю одно —
- душистое «Асти спуманте»
- иль папского замка вино.
Многие, попав на Запад, буквально причащались этим вином. Я знаю русские семьи, в которых «Асти спуманте» уже многие годы остается любимым алкогольным напитком. Моя подруга Альбина до сих пор постоянно подает его на своих приемах, но, разумеется, не в пластмассовых стаканах.
– Как все это ново и необычно для меня, дорогая графиня! Вот почему я всегда настаиваю, чтобы для расследования «русских дел» приглашали именно вас. И как обидно, что полиция не может оплачивать ваши труды по заслугам! – Инспектор уже два года, с тех пор, как Апраксина вышла на пенсию, сокрушался, что графиню официально приглашают к ведению дел в только в качестве переводчицы с мизерным почасовым вознаграждением.
– Оставьте, инспектор!
– Увы, придется. У меня еще один вопрос относительно вина: почему покойная привезла его с собой? Она что, боялась, что в ресторане отеля не найдется вино любимой марки?
– Ответов может быть несколько. Она могла запастись вином из экономии: в отеле пришлось бы заплатить значительно дороже, чем она заплатила в магазине «Альди». Но оно могло быть просто куплено заранее для этого торжественного дня, если это было запланированное самоубийство.
– Торжественный день самоубийства? Не понял.
– День, назначенный для самоубийства, – это для романтической натуры день торжественного окончания жизни. Бедная язычница не подозревала, чем окончится это торжество.
– Как это «не подозревала»? Или, вы думаете, графиня, она надеялась, что ее спасут, и просто хотела попугать кого-то?
– Ох, инспектор, неужели вы думаете, что для бедной Неизвестной все уже кончилось с самоубийством? Все еще только-только начинается…
– Вы говорите о загробной ее участи, графиня? – проникновенно уточнил Миллер.
– Вот именно.
– Да, это страшно… Просто удивительно, как мало люди думают о своем вечном будущем! Собираясь умереть, Неизвестная накрасилась, чтобы быть красивой в гробу, но почти наверняка не думала о том, что ее ожидает за гробом. А может быть, она просто психически неуравновешенный человек? Я полагаю, что лишь психически ненормальный человек может думать перед самоубийством о таких пустяках, как выбор подходящего вина и этот, как его… макияж.
– Самоубийство, инспектор, само по себе признак болезни души. Или болезненного озлобления. Кому-то она, может быть, хотела досадить своей смертью – мужу или любовнику…
– Или покинутой родине…
– Родине? А родина-то здесь при чем?
– Ну, эта ваша типично русская ностальгия…
– Вы хотите сказать, инспектор, что за границей ностальгия становится нашей национальной особенностью? Это правда, много самоубийств произошло на этой почве в среде русских эмигрантов… Но знаете, инспектор, это почему-то всегда были мужчины! Женщины от природы как-то лучше приспособлены к тяготам скитаний.
– И все-таки – трудности эмиграции, непривычное окружение, депрессия…
– Это вы мне говорите о трудностях современной эмиграции? Да ведь нынешняя эмиграция, за редчайшим исключением, дело в высшей степени добровольное, и за право эмигрировать люди борются годами! Знаменитый академик-диссидент Сахаров как-то даже объявил эмиграцию важнейшим из прав человека.
– Не понимаю я вашего Сахарова.
– Признаться, я тоже.
– А может быть, она и была диссиденткой?
– С чего это вас вдруг на политику потянуло, инспектор?
– Разве не бывает политического самоубийства в знак протеста?
– Отвратительнейший способ привлечь к себе внимание! Это верный признак истероидной психопатии – себя не пожалею, но заставлю всех считаться с собой! Но мы-то имеем дело явно не с политическим самоубийством, а с бытовым, и скорее всего, на личной почве. Для некоторых слабых духом натур самоубийство – единственный доступный способ отомстить обидчику.
– А что вы скажете об этом, графиня? – Инспектор достал из портфеля еще один пакет и вытянул из него белый вязаный платок.
– Ну-ка? – Апраксина внимательно осмотрела платок, помяла его в руках, зачем-то понюхала, затем вытянула одну нить и оторвала от нее кончик. – Дайте мне вашу зажигалку, инспектор!
– Пожалуйста!
Апраксина поднесла пламя к обрывку нити, понюхала обгорелый кончик и сказала:
– Настоящий оренбургский платок, не чета тем сувенирам, которые продают в России иностранным туристам. Это не современное производство: теперь не прядут на шелковой основе, а пускают нейлоновую нить. Любопытно, как она его стирала? Платок слегка пожелтел от времени, но не сел и не утратил узора. Жаль, что нельзя ее расспросить… Ну что ж, возвращаю вам вещественные доказательства, инспектор, и еще раз отказываюсь от участия в этом деле. Я совершенно уверена, что вы обойдетесь без меня. Через соответствующие организации вы установите личность Неизвестной и выясните обстоятельства ее жизни, приведшие к самоубийству. А может быть, появится и косвенный или даже прямой виновник ее гибели – тот, кто ее к самоубийству подтолкнул. Желаю успеха!
– Вы отказываетесь помочь полиции в этом деле?
– Не вижу никакой необходимости влезать в него с самого начала. Но позже, если вдруг возникнут какие-то трудности «на русскую тему», я всегда буду готова вас принять и побеседовать, дать совет, может быть. Звоните мне в любое время: вы знаете, что я люблю с вами поговорить, инспектор!
– Взаимно, графиня. Ну что ж, не смею настаивать…
Апраксина встала, аккуратно сложила платок и положила его в коричневый пакет.
– Прошу прощенья, графиня, это пакет для обруча.
– Извините, инспектор. – Апраксина послушно извлекла платок обратно из пакета, и тут что-то со звоном упало на пол. Оба наклонились и увидели на полу маленький крестик на цепочке: видно, он зацепился за оренбургский платок, когда графиня его вынимала из пакета.
– Что это? – воскликнула она.
– Ах, чуть не забыл! Еще одно украшение, бывшее на покойной, – сказал инспектор, поднимая и передавая Апраксиной крестик.
– Это не украшение, инспектор. Это нательный крестильный крест, такие не носят напоказ. Значит, она была верующая. Погибшая христианская душа…
Графиня Апраксина снова села за стол, подперла голову ладонью левой руки, а правой принялась раскачивать перед собой крестик на простенькой серебряной цепочке. На ее задумчивое лицо легла тень, тонкие брови сдвинулись к высокой переносице породистого носа.
– Сядьте, инспектор! Я передумала – я берусь за это дело, – вдруг сказала она и принялась складывать в пакет вещественные доказательства.
– Я очень, очень рад, дорогая графиня! А можно спросить, почему вы вдруг передумали и решили взяться за это дело?
– Охотно вам отвечу. У меня появились сомнения, что это самоубийство. Возможно, что мы имеем дело с доведением до самоубийства – а это получается уже совсем другая картина. В этом случае мы, правда, вряд ли сумеем оправдать Неизвестную в глазах Церкви, но зато сможем хотя бы наказать виновника того, что она будет похоронена без отпевания. Но я не исключаю, что это вообще не самоубийство, а убийство, замаскированное под самоубийство. В этом случае наш христианский долг найти убийцу, чтобы убитая могла быть похоронена по полному православному обряду, чтобы в Церкви служились по ней панихиды, чтобы ее поминали на литургии. Это очень, очень важно для ее души. Вот душе Неизвестной я и хочу помочь.
– Спаси вас Бог за эти слова, дорогая моя графиня!
– Спасибо, инспектор. Итак, что там у вас запланировано дальше?
– Я собираюсь вызвать на беседу Аду фон Кёнигзедлер, пока это единственная ниточка.
– Когда?
– Я уже послал ей приглашение на 10 часов завтрашнего дня.
– Отлично! Я приеду к вам заранее и буду скромно сидеть в вашем кабинете в качестве секретарши – в углу, за компьютером.
– А я буду время от времени смотреть на свой монитор и читать ваши подсказки, – с энтузиазмом подхватил чрезвычайно довольный Миллер.
– Иногда они оказывались полезными, не так ли, инспектор?
– Не скромничайте, графиня! В «русских делах» вы незаменимы!
– Повторяйте это почаще: вы же знаете, как мы, старушки, любим лесть.
– Да какой из меня льстец, графиня! Просто у меня от сердца отлегло, когда вы согласились участвовать в этом деле.
– Комплимент был на веревочке: только я растаяла – а вы уже тянете его обратно!
– У меня всегда найдется для вас новый, – галантно ответил Миллер, поднимаясь. – Итак, завтра в девять?
– О, кей, – сказала графиня.
Глава 3
Пришла дама и утверждает, что вы ее ждете, – доложил по телефону дежурный.
«О, мой Бог! – подумал Миллер, взглянув на часы. – Уже без четверти десять, а графини все нет. Наверняка это фон Кёнигзедлер спешит покончить с неприятным делом. Принять ее сразу или попросить подождать в приемной?».
Он вышел в приемную, раздумывая на ходу, как поступить с визитершей, но решить ничего не успел: дверь, ведущая в приемную из коридора, резко распахнулась и вошла высокая дама в развевающемся на ходу шелковом черном плаще и зеленой шляпе с широкими полями. Под полями сверкали большие переливчатые очки, длинные черные волосы свисали по бокам лица, наполовину закрывая резко нарумяненные щеки. Рот был накрашен ярко и выразительно – то есть обведен почти черным контуром. На плече у вошедшей висела совершенно немыслимая сумка: как только инспектор ее увидел, он на минуту позабыл обо всех своих заботах и ему захотелось протереть глаза. Сумка была из ярко-зеленой кожи, большая, квадратная, а спереди на нее была нашита меховая аппликация головы пантеры в натуральную величину – с узкими зелеными глазами и с высунутым из пасти красным языком-застежкой. В некотором ошеломлении инспектор завороженно глядел на раскачивающуюся звериную голову. Затем он встряхнулся и проговорил приветливо:
– Госпожа фон Кёнигзедлер, вам придется немного обождать здесь, в приемной. Я жду мою секретаршу, она что-то опаздывает.
– Неправда! – хрипловатым резким голосом заявила странная дама. – Ваша секретарша никогда не опаздывает!
Бросив эти странные слова, она обошла стоявшего в ошеломлении инспектора и направилась прямо в раскрытую дверь его кабинета.
– Э, позвольте! – начал инспектор. – Я попросил бы вас… Почему вы так бесцеремонно?
– Терпеть не могу церемоний! – бросила на ходу таинственная дама. – Входите и закрывайте дверь, инспектор! Я очень торопилась, но не предусмотрела, что эти каблучища меня подведут! Ох, как я рада, что Ада фон Кёнигзедлер меня не опередила! Теперь хоть разуться можно, – сказала Апраксина уже своим голосом и, сбросив туфли на высоченных каблуках, затолкала их под компьютерный столик, а потом уселась за него, со вздохом наслаждения вытягивая ноги. – И как только молодые носят эту травматическую обувь?
Шляпу она тоже сняла и повесила на спинку стула, а наводящую трепет сумку поставила перед собой на стол – мордой к двери.
Инспектор захохотал, но тут же спохватился и прикрыл рот рукой, оглянувшись на дверь.
– Ваши превращения всегда потрясают меня, графиня, – заявил он, идя к своему столу и все еще посмеиваясь. – Хотите кофе?
– С удовольствием. Я бы приготовила его сама, как положено секретарше, но, честное слово, я даже лишнего шага сделать в этих туфлях не могу.
– Сидите, сидите! Дежурный позвонит, когда явится посетительница.
– Ах да, верно! В таком случае я могу приготовить кофе босиком – я ведь ваша секретарша как-никак! – Апраксина подошла к столику с маленькой кофеваркой и принялась хозяйничать возле нее: в кабинете Миллера она чувствовала себя как дома. – А маскарад этот я затеяла по двум причинам: во-первых, я не хочу, чтобы при следующей нашей встрече Ада фон Кёнигзедлер меня узнала, а во-вторых, я вовсе не желаю, чтобы в будущем она разговаривала со мной как с вашей секретаршей. У старых женщин, знаете ли, своя гордость!
– Ах, так! – усмехнулся Миллер. – Между прочим, вы сегодня выглядите как минимум лет на двадцать пять моложе, чем обычно. То есть, я не хотел сказать, что вы вообще выглядите старой, но…
– Не смущайтесь, инспектор! Вы же знаете, я своих лет не скрываю: только дурочки не умеют наслаждаться всеми преимуществами каждого своего возраста. Ваш кофе, инспектор! – Она подала ему чашку и стала наливать другую для себя. – Здоровая и беззаботная молодость отнюдь не редкость, а вот здоровая и радостная старость – это дар Божий и награда за вольные или невольные ограничения юности.
– Журнал для домохозяек заплатил бы за этот афоризм хорошие деньги…
– Инспектор!
– Да нет, я не хотел вас обидеть, дорогая графиня. Просто мне вспомнился афоризм, который Роза Блюменталь, хозяйка отеля «У Розы», вычитала в таком журнале.
– И что же она там вычитала?
– «Мертвые уходят своим путем, а жизнь продолжает идти своим».
– Фу, гадость какая!
– Скверный кофе?
– Нет, не кофе – афоризм вашей Розы Блюменталь.
– Нашей с вами Розы Блюменталь: я уверен, что вам уже не терпится с нею познакомиться.
– Не горю желанием, однако придется.
Апраксина стоя допила кофе, поставила пустую чашу возле кофеварки и прошла за свой столик. И как раз вовремя – раздался звонок внутреннего телефона и дежурный сообщил, что в кабинет Миллера направляется Ада фон Кёнигзедлер.
Посетительница вошла, представилась и спокойно уселась в предложенное Миллером кресло. Апраксина отметила строгую элегантность ее синего костюма и серых туфель, сумочки и перчаток – все было явно куплено в ансамбле и стоило недешево. Выглядела она не столько молодо, сколько моложаво. Косметика, прическа – все было в полном порядке, вот только лицо самую чуточку напряжено, что от графини не укрылось.
– Ну вот, госпожа фон Кёнигзедлер, – сказал инспектор, добродушно улыбаясь, – могу вас обрадовать: мы нашли вашу машину.
– О, в самом деле? Я вам так благодарна, инспектор Миллер! И где же она была? Машина в порядке, я надеюсь? А похитителей вы тоже нашли?
– К сожалению, похитители скрылись, бросив вашу «ауди» неподалеку от австрийской границы. Видимо, они не рискнули пересекать границу в машине с чужим номером, опасаясь, что вы уже успели сообщить в полицию. Машина в полном порядке, и вы скоро сможете ее забрать.
– Великолепно! – с искренним облегчением сказала Ада фон Кёнигзедлер.
– Но прежде небольшая формальность. Я должен задать вам несколько вопросов.
– О, пожалуйста!
– Фрау Бауман, зафиксируйте нашу беседу, пожалуйста!
– Слушаюсь, инспектор! – Апраксина положила руки на клавиатуру компьютера.
Миллер задал сначала несколько приличествующих ситуации вопросов: где и когда была куплена машина, есть ли у госпожи фон Кёнигзедлер место в гараже или она всегда оставляет свой автомобиль на улице перед домом? Часто ли она забывает ключ в машине и всегда ли запирает дверцу? Не видела ли она в день угона подозрительных лиц неподалеку от машины?
Ада фон Кёнигзедлер на все вопросы ответила обстоятельно и толково, а на последний заявила:
– В доме, где я живу, абсолютно все жильцы – подозрительные личности.
– Как такое может быть? – удивился инспектор.
– Видите ли, я временно проживаю в однокомнатной меблированной квартирке в доме, где около тысячи таких же квартир и больше тысячи временных жильцов. Почти все они иностранцы-эмигранты.
– Простите, но вы…?
– Да, я не немка, я – русская. Но я не эмигрантка, поскольку, еще живя в СССР, вышла замуж за германского подданного. У меня немецкое гражданство.
– Могу я поинтересоваться, госпожа фон Кёнигзедлер, кто у вас муж? Он живет вместе с вами?
– Мой бывший муж архитектор Клаус фон Кёнигзедлер, и он, конечно же, живет не в меблирашках, а в собственном доме. Но сейчас мы с ним находимся в процессе развода. Потому-то я и вынуждена жить в этом ужасном доме на улице Эйнштейна.
– Муж выделяет вам достаточные средства на жизнь? Простите, что я задаю этот вопрос, но похитители могли интересоваться не только машиной: вполне возможно, что они рассчитывали найти в салоне машины какие-то дорогие вещи, вызнав, что вы человек состоятельный.
– Состоятельный человек – это мой муж. У меня нет ничего, кроме огромного минуса в банке, и на жизнь я зарабатываю собственным трудом – работаю машинисткой. – При этих словах Ада фон Кёнигзедлер покосилась на сидевшую в углу Апраксину, но, наткнувшись взглядом на жуткую голову пантеры, тотчас отвела глаза. – Навряд ли моя скромная особа могла заинтересовать настоящих грабителей. Я уверена, инспектор, что угонщики – это мальчишки из нашего же дома, турки или итальянцы, которым просто захотелось покатать своих девчонок. Не стоит за ними гоняться! Конечно, если моя машина действительно в порядке.
– Она в полном порядке, уверяю вас! А угонщиков мы, конечно, специально искать не станем, но они еще вполне могут обнаружиться случайно, по какому-нибудь другому делу. Кстати, а где вы служите?
– В одном частном машинописном бюро.
– Могу я на всякий случай узнать его адрес?
– Пожалуйста, Эттингенштрассе, 26.
Апраксина за своим столиком вдруг громко чихнула.
– Будьте здоровы, госпожа Бауман, – рассеянно сказал инспектор и поглядел на экран. Там стояло: «Скажите, что через час она может получить свою машину. Не раньше, чем через час!». – Ну что ж, у меня больше нет к вам вопросов, госпожа фон Кёнигзедлер. Вы можете быть свободны. Через час подойдите в автоинспекцию вот по этому адресу: к тому времени я оформлю все документы, отправлю распоряжение по факсу, и вам выдадут ваш автомобиль.
– Мне для этого нужны какие-нибудь документы?
– Захватите с собой паспорт и права.
– Но права-то как раз и остались в машине! – Ада фон Кёнигзедлер заметно побледнела, отчего пятна румянца на ее щеках стали выглядеть неестественно.
Апраксина опять чихнула. «Отдайте ей права» – прочел инспектор на экране.
– Гм. Ах, простите, чуть не забыл! Хорошо, что мы с вами об этом заговорили: ваши права были в машине, в отделении для перчаток. – Инспектор встал, подошел к железному шкафу, открыл наборный замок и, немного покопавшись внутри, вернулся к столу с правами. – Пожалуйста, госпожа фон Кёнигзедлер!
Ада Кёнигзедлер взяла свои права, сердечно поблагодарила инспектора Миллера, попрощалась и ушла.
– Ну, ваши впечатления? – спросил Миллер.
– Интересная дамочка. Вы заметили, что она запомнила вашу фамилию, написанную на табличке у двери, несмотря на то, что явно очень хотела поскорее отделаться от этого вызова?
– Да, заметил и оценил: люди всегда ценят, когда к ним обращаются по имени.
– По крайней мере, так утверждает великий учитель лицемерия Карнеги. Она хотела произвести на вас хорошее впечатление.
– Весьма польщен, – буркнул инспектор.
– А еще она несомненно знала покойную.
– Я это тоже понял и удивился, что вы предложили отпустить ее без допроса.
– Она была готова к допросу, инспектор, – зачем нам с вами такой допрос?
– Я мог бы предъявить ей фотографию Неизвестной для опознания.
– А она бы ее «не узнала», только и всего. Этим вы бы ее только вспугнули и насторожили. Нет, мы пойдем с другого конца!
– С какого же?
– С места ее работы. Сейчас я отправлюсь в это машинописное бюро на Эттингенштрассе и попробую прощупать ее коллег. Но теперь я уже могу вернуть себе человеческий облик, тем более что через час с небольшим мы можем столкнуться с нею носом к носу.
Апраксина извлекла из сумки толстый вязаный жакет зеленого цвета и коричневые уличные туфли на низком каблуке, затем вывернула свою устрашающую сумку наизнанку, и та, к удивлению инспектора, превратилась в обычную плетеную кошелку с двумя ручками, с какими ходят по магазинам пожилые баварки. Затем в сумку были уложены черный парик, очки и плащ. Надев свою зеленую шляпу, Апраксина превратилась в приличную старую даму, не богатую, но полную достоинства. Инспектор с улыбкой наблюдал за ее преображением.
– Ну, вот я и готова! – сказала Апраксина.
– А все-таки, графиня, прежде вы выглядели значительно моложе! – упрямо сказал инспектор, провожая ее до дверей.
– Ах, оставьте, инспектор! – сказала графиня и вышла за дверь.
Запарковать машину на Эттингенштрассе, узкой улице с оживленным односторонним движением, оказалось непросто. Дважды Апраксина объехала квартал, прежде чем нашла место и сумела втиснуть свой красный «фольксваген» между другими машинами. Выйдя из машины, она огляделась. Четные номера домов находились на другой стороне улицы. Минуты три она терпеливо выжидала, не поредеет ли поток машин, но потом не выдержала и перебежала Эттингенштрассе, вызвав несколько нервных автомобильных гудков. Она прошлась вдоль домов, разглядывая витрины и номера, но вывески машинописного бюро ни на доме номер 26, ни на соседних не обнаружила. На углу она увидела аптечный знак – большую красную букву «А», и зашла в аптеку.
– Простите, – обратилась она к аптекарше, – мне дали адрес машинописного бюро – Эттингенштрассе, 26. Не подскажете ли мне, где оно находится?
– А это прямо у нас за стеной, – сказала молоденькая аптекарша. – Я уже советовала госпоже Фишман сделать настоящую вывеску и оформить витрину, но она, видимо, пока вынуждена экономить: Мириам Фишман открыла свое бюро недавно. Как выйдете из аптеки, поверните направо и сразу увидите большую пустую витрину с надписью прямо на стекле – «Э-26» – это и будет машинописное бюро. Кстати, а вы в курсе, что там печатают в основном по-русски?
– Да, я в курсе. Мне как раз и нужно отпечатать русский текст.
– Ах, так! Значит, все в порядке. Передайте от меня привет Мириам!
Апраксина поблагодарила аптекаршу и вышла. Но прежде чем зайти в соседнее помещение, она еще раз перебежала улицу поперек потока машин и постояла на противоположной стороне, разглядывая витрину с невразумительной вывеской «Э-26». Надо полагать, это всего лишь первая буква названия улицы и номер дома, решила она. Витрина была пуста, и все, что было за нею, легко просматривалось: Апраксина разглядела стоящие вдоль левой стены три небольших стола с пишущими машинками и какими-то высокими аппаратами, но не компьютерами. Приглядевшись, она поняла, что это допотопные магнитофоны с большими круглыми бобинами. За двумя столами сидели машинистки в наушниках и резво печатали на своих машинках. «Они печатают прямо с магнитофонных лент», – сообразила графиня. Возле другой стены стоял один большой письменный стол, за ним сидела полная блондинка и разговаривала по телефону. Обстановка немного прояснилась. Апраксина в третий раз пересекла улицу в неположенном месте и вошла в бюро. Блондинка как раз положила трубку и повернулась к ней.
– Простите, это машинописное бюро, где печатают по-русски?
– Да, это здесь, – сказала блондинка. – А кто вам дал наш адрес?
– Мне подсказали его в аптеке на углу. Госпожа Мириам Фишман – это вы? Аптекарша передала вам привет.
– Спасибо. Проходите и садитесь, пожалуйста.
Апраксина прошла к столу и села на стоявший перед ним стул.
– Чем могу служить?
– Я хочу написать письма с приглашениями всем моим родственникам в России, чьи адреса мне удалось разыскать через Красный Крест. Текст писем будет почти одинаковый для всех, только имена и адреса на конвертах разные. Вы можете проделать для меня эту работу? Хотя сама я русская, но по-русски не говорю и уж тем более не пишу.
– Вы из первой эмиграции, – понимающе кивнула хозяйка бюро.
– Да. Говорят, теперь почти всех желающих выпускают в гости на Запад, вот я и хочу пригласить к себе всех, кто у меня еще остался в России. – На самом деле у графини в России не осталось ни одной живой души. – Так вы мне поможете?
– Нет проблем. Напишите письма по-немецки и приносите, а мы их переведем и напечатаем.
– А нельзя сделать это поскорее? Я могла бы прямо сейчас написать эти письма и оставить их вам для перевода.
– Вы хотите писать их здесь и сейчас?
– Если это не помешает вашей работе.
– Да нет, нисколько, – пожала полными плечами хозяйка, но видно было, что ей не по вкусу намерение посетительницы расположиться со своей писаниной прямо у нее в бюро. – Я только попрошу вас сесть вон за тот столик в углу – там вам никто не будет мешать.
Апраксина послушно пересела за столик в отдаленном углу: место оказалось удобным – отсюда она могла наблюдать за происходящим в бюро.
– Сколько всего будет писем? – спросила Мириам Фишман.
– У меня больше десятка кузенов и кузин, – это те, кто остался в живых. Они все откликнулись и написали мне – после стольких лет молчания!
– Перестройка! – усмехнулась Мириам Фишман. – Вот все так скоренько и перестроились. Лет десять назад они навряд ли признались бы, что у них есть родственница за границей. И вы всем им хотите разом послать приглашения?
– Ну, конечно! Меня так обрадовали их письма.
– Послушайте меня, не делайте этого ни в коем случае! – сказала Мириам Фишман. – То есть письма с приглашением вы можете послать всем сразу, но потом, когда они выразят согласие приехать – а они его, конечно, выразят, – официальные приглашения посылайте им на разное время. Иначе они могут нагрянуть к вам все разом, и это будет очень хлопотно.
– Но, может быть, им было бы удобно и приятно собраться всем вместе у меня в гостях?
– Но это будет неудобно вам. Я имею опыт на этот счет. Люся, Гуля, прервитесь-ка на минутку! – последнюю фразу она произнесла по-русски.
Обе машинистки подняли головы и сняли наушники.
– Вот эта дама имеет кучу родственников в Союзе и хочет им всем послать приглашения в одно время. Скажите ей, что вы об этом думаете. Только говорите по-немецки, она по-русски не понимает.
– С чего это ей вздумалось приглашать всех скопом? – спросила маленькая востроносенькая брюнетка. – На свадьбу вроде поздновато, а на собственные похороны – рановато.
– Чему ты удивляешься, Гуля? Она из первый волны, хочет пригласить свою родню из России. Потом наверняка сама к ним поедет.
– Ах, ностальгия! – злорадно протянула Гуля. – Ну-ну… Тогда лучше ей не мешать – пусть всех приглашает сразу: родственнички ее скоренько от ностальгии-то вылечат!
– Гуля, ну почему ты такая вредная? У тебя у самой сейчас трое в гостях, – сказала ее коллега.
– Трое в гостях, не считая собаки, Люсенька! Кажется, хозяин скоро выселит меня из квартиры. Я им намекала в письме, что в нашем доме не разрешается держать собак, но они почему-то решили, что на собаку-гостя это правило не распространяется, и решили меня порадовать.
– И как – порадовали? Хорошая собака? – спросила Мириам Фишман.
– Французский бульдог. На улице прохожие за бойцового пса принимают, шарахаются и грозят полицией. Но с собакой я быстро нашла общий язык, а вот с родней… Сидим на кухне, как в Москве сидели, и спорим, спорим до бесконечности, целые ночи напролет! – Она повернулась к Апраксиной и перешла на немецкий: – Послушайте, не делайте этой глупости – не приглашайте всех русских гостей сразу!
– Почему же? – удивилась Апраксина. – У меня свой дом, а люди из Советского Союза, как я слышала, неприхотливы.
– Если у вас свой дом, так отчего не пригласить хоть пять человек сразу? – благодушно сказала Люся. И добавила по-русски: – Особенно если денег невпроворот.
– А это ты с чего взяла? – подняла брови Мириам Фишман.
– Ну как же – свой дом! – Потом Люся снова обратилась по-немецки к Апраксиной: – А вы вот что сделайте. Каждой семье выделите комнату и поставьте всем раскладушки, покажите, где у вас кухня, холодильник и стиральная машина, – и пускай днем все живут сами по себе, а вечером собирайтесь в гостиной для общения. Я примерно так и делаю, хоть у меня своего дома нет, а только трехкомнатная квартира: две комнаты – гостям, а в одной мы с мужем. Ну а вечерами мы все собираемся на кухне, естественно.
– Тебе хорошо, – проворчала Гуля. – А у меня всего две комнаты. Спальня – гостям, сама сплю в гостиной на диванчике, рядом пес на коврике, а хочешь уединиться – пожалуйста, в ванную! У меня теперь там и книги лежат, чтоб можно было почитать в тишине и покое… И все-таки, девочки, какое это счастье, что они могут теперь вот так, почти запросто, к нам ездить! Кто бы мог подумать – ведь расставались навечно. Можно сказать, до встречи на Страшном суде расставались!
– Ходят слухи, что скоро и нас пускать будут, – заметила Мириам Фишман.
– Ну, это вас пустят, которые по израильской визе на историческую родину ехали, да не доехали. А нас, которых КГБ насильственно эмигрировало, навряд ли скоро впустят. Разве что еще лет через десять, если вся эта перестройка до того не накроется.
– Типун тебе, Гуля, на язык и два под язык! – сказала Люся. – Но ты правильно сказала: конечно, это счастье, что мы смогли встретиться с нашими близкими… Ну вот, совсем вы меня разволновали, а мне еще две пленки перепечатывать! – Она вздохнула, натянула наушники, нажала ногой педаль, шнур от которой шел к магнитофону, – бобины начали вращаться, и Люся лихо застучала на машинке.
Следом за ней надела наушники и Гуля.
– Теперь, надеюсь, вы поняли, как обстоит дело? – спросила Апраксину Мириам Фишман. – Так что хорошо подумайте, стоит ли приглашать всех ваших кузин и кузенов в одно время.
– Ах, важно заранее послать всем приглашения, а уж потом все как-нибудь да устроится! – сказала Апраксина.
– Ну, как знаете, мы вас предупредили. Вот вам бумага для писем. Если можно, пишите разборчивей. Люся, у тебя еще много работы на сегодня?
– Две пленки Рафаила Бахтамова. Рафик – это еще тот подарочек!
– Тебе не нравится Бахтамов? – подняла брови Мириам Фишман.
– Очень нравится. Читать и слушать. Но только не печатать! У него такие обороты, что чувствуешь себя полной синтаксической идиоткой.
– Помочь тебе?
– Рафика – не отдам!
– Ладно, расшифровывай своего Рафика. Переводы писем нашей ностальгирующей дамы я сделаю сама, а перепечатывать их посадим Аду. Если, конечно, она сегодня соизволит явиться.
Апраксина между тем уже писала письмо с приглашением своему покойному двоюродному брату Алексею Петровичу Воронцову-Голицыну. Она решила не выдумывать имен, чтобы потом не запутаться, а брать их с дорогих могил в Сент-Женевьев де Буа – русского кладбища в Париже. Алексей Петрович был похоронен во втором ряду от главного входа.
«Дорогой Алексей Петрович, – писала Апраксина, – я буду рада видеть Вас у себя в гостях в любое удобное для Вас время. У меня свой дом с садиком, Вам будет у меня удобно и покойно…» «Упокой, Господи, душу усопшего раба Твоего Алексия, – думала она при этом, – и не постави мне в вину упоминание имени его всуе. Ты знаешь, Господи, что я делаю это не из озорства, а единственно по причине моей негодной старушечьей памяти».
Графиня, однако, с Господом несколько пококетничала: память у нее пока что была отменная, грех жаловаться, но было у нее издавна правило сочинять как можно меньше «легенд», используя вместо них добротный жизненный материал, чтобы потом ненароком не забыть чего-нибудь и не запутаться.
Она дошла уже до середины письма, когда звякнул колокольчик на двери, и в бюро вошла Ада фон Кёнигзедлер собственной персоной.
– Всем пламенный привет! – объявила она с порога по-русски.
– Как дела? – спросила Мириам Фишман, также по-русски. Обе машинистки тоже подняли головы и с интересом смотрели на вошедшую.
Вместо ответа та подняла над головой ключ от машины.
– Тебе вернули машину? Прямо так – без всяких заморочек? – удивилась Мириам Фишман. – Ну, голубушка, ты меня разочаровала в отношении немецкой полиции.
– А ты бы хотела, чтобы меня сначала потаскали на допросы? – усмехнулась фон Кёнигзедлер. – Кто бы тогда работал на тебя, стуча на машинке?
– Много ты на меня настучишь! – усмехнулась хозяйка бюро. – Но слава Богу, что для тебя эта жуткая история, кажется, кончилась благополучно.
– Тьфу, тьфу, тьфу!
– Очень волновалась?
– А ты как думаешь? Я только тогда поверила, что все обошлось, когда получила машину и села за руль.
– Как это ты не врезалась куда-нибудь с перепугу… Сделать тебе кофе?
– Сделай, пожалуйста! Фу-у, устала… – она села к свободной машинке и стала перебирать стопку магнитофонных бобин. – Это все надо сдать сегодня?
– Нет, твои пленки все на завтра, можешь не спешить.
– Отлично! Люсенька, ты не сходишь в кафе на уголок за бутербродами? Возьми восемь штук с икрой – сегодня можно кутнуть, есть повод!
Благодушная Люся сняла наушники, выключила магнитофон, машинку и поднялась.
– Сядь на место и печатай дальше! – вдруг резко сказала Гуля. – В пять придут со станции за текстами. А тебе, Ада, нечего кутежи устраивать – не с чего!
– Я хотела к кофе…
– Обойдется еврейский праздник без марципанов. Ты у нас, кажется, худеть собиралась? Тебе икру есть вредно, а нам неохота. Вон там в шкафчике есть финские хлебцы.
Ада фон Кёнигзедлер пожала плечами:
– Было бы предложено…
– Считай, предложение было сделано, но мы смогли от него отказаться, – и Гуля свирепо заколотила по клавишам.
– Правда, не надо бутербродов, Ада. Я сейчас сварю настоящий арабский кофе для всех, к нему ничего не полагается. Настоящий арабский! Свекровь прислала из Хайфы.
– О! То, что доктор прописал! – сказала Ада.
Апраксина заметила, как дернулась спина у Гули, которой и эта реплика фон Кёнигзедлер тоже чем-то не понравилась.
– Замечательная у тебя свекровь, – сказала Ада фон Кёнигзедлер, настраивая магнитофон. – Вы с Виктором уже три года как расстались, а она так сердечно к тебе относится.
– Так мы-то с нею не разводились! И потом, она ведь души не чает в Антошке…
Некоторое время в бюро все работали, лишь хозяйка хлопотала у кофеварки в нише за занавеской. Когда она вернулась и села за свой стол, Ада фон Кёнигзедлер бросила печатать и подсела к ней.
– Так что же все-таки было в полиции? – вполголоса спросила Мириам Фишман.
– Ровным счетом ничего серьезного! Представляешь, оказывается, эта халда, царство ей небесное, бросила мою машину возле отеля, в котором ее позавчера нашли мертвой. Мне просто сказочно повезло, что полиция не связала ее смерть с угоном моей машины. Полицейский инспектор, который меня допрашивал, оказался полный сундук!
– Значит, машина снова у тебя, а полиция таки ничего не знает о твоей связи с Натальей? Ну и хорошо: Наталье помочь ты все равно уже ничем больше не можешь, а себе навредишь.
– Еще бы! Если Феликс узнает, что я попала в какую-то неприятную историю, связанную с полицией, то все – прощай, Феликс! Я ему даже про угон машины ничего не врала. Надеюсь, что и Люся с Гулей не станут особенно трепаться, – она покосилась на усердно работавших коллег.
– Они не из тех, кто треплется. Но на всякий случай я их предупрежу.
За занавеской раздался тонкий пронзительный свист.
– Кофе готов! – сказала хозяйка и ушла за занавеску. Через несколько минут она вынесла на подносе пестрый арабский кофейник с крохотными чашечками. Она предложила кофе всем, включая Апраксину, но графиня от кофе уклонилась и продолжала усердно писать. Гуля с Люсей взяли свои чашки и вернулись к машинкам, а хозяйка с фон Кёнигзедлер продолжили разговор, отхлебывая крепчайший напиток редкими крохотными глотками.
– Ты не знаешь случайно, Константин уже вернулся из Парижа? – спросила Мириам Фишман.
– Скорее всего, нет. Я читала в «Русской мысли», что выставка русских художников продлится до конца апреля: навряд ли Константин уедет до ее конца, ведь это его первая выставка в Париже! И я думаю, он позвонил бы мне, если бы уже знал, что случилось с Натальей.
– Значит, он до сих пор еще не знает, что стал вдовцом…
– Видимо, так. И думаю, не слишком огорчится, когда узнает. Бедная Наталья!
– Да уж… Но и его тоже жаль.
– Жаль? – Ада высоко подняла выщипанные брови. – А ты вспомни, как он с нею обращался!
– Наталья любила его…
– Любила! Лично я такого обращения не потерпела бы ни при какой любви.
– И что бы ты сделала? Развелась? Тоже покончила с собой?
– Ну, это уж нет! На свете существует много способов выйти из подобной ситуации достойно.
– Вот только понятия о том, что такое «достойно», у разных людей совершенно разные.
– И что ты хочешь этим сказать, Мира?
– Вчера по телевидению опять показывали фотографию мертвой Натальи и просили всех, кто что-нибудь знает об этой женщине, позвонить в полицию. Так вот мне кажется, дорогая, что в этой ситуации мы все ведем себя недостойно, и каждая из нас блюдет при этом свои интересы. Ты молчишь из-за Феликса, я из-за того, что Наталья работала у меня по-черному, а вот Анна, которая тоже наверняка видела сообщение полиции, молчит потому, что чувствует себя виноватой в смерти Натальи.
– В чем Анна-то виновата? Любовь – дело жестокое: на месте Анны я бы никакой вины за собой не чувствовала.
– Ты это говоришь потому, что находишься на своем, а не на ее месте. Я бы чувствовала себя ужасно, если бы между мной и моим любовником лежало мертвое тело его жены. Я бы никогда больше не смогла лечь с ним в одну постель!
– Это ты с твоими дурацкими принципами. Анна совсем другой человек, поверь мне.
– Не хочешь ли ты сказать, что у Анны нет принципов?
– Есть и даже слишком много, но они – другие. Рано или поздно она узнает о смерти Натальи, если еще не узнала, и скажет себе, что теперь ее долг – утешать Константина. И уж будь уверена, утешать она его будет со всем своим усердием! В отличие от нас с тобой Анна – натура страстная, безудержная и во всем идет до конца. И произойдет вот что. – Ада поставила на стол пустую чашечку и сложила большие пальцы и ладони обеих рук треугольником. – Был у них любовный треугольник, так? А теперь из него выпала одна сторона, – она прижала большие пальцы к ладоням, и ладони сомкнулись, – и оставшиеся стороны – хлоп! – и соединились. Увидишь, очень скоро Константин женится на Анне. И дурак он будет последний, если этого не сделает!
– А мне кажется, что выпала не просто третья сторона треугольника, а его основание, – задумчиво сказала Мира. – В этом браке все держалось на Наталье.
– Ну а теперь будет держаться на Анне. Не вижу большой разницы.
– И это говорит самая близкая подруга Натальи?
– Дело не в Наталье. Константин из тех талантов, которых женщины носили и будут носить на руках. Впрочем, какое мне дело до чужих треугольников, когда я о собственный все бока ободрала… Если бы ты знала, Мира, как мне осточертела моя меблирашка на улице Эйнштейна! Я там чувствую себя беженкой, живущей в общежитии для иностранцев.
– Большинство русских эмигрантов прошло через это.
– Я – не большинство, я через беженские мытарства не проходила и горжусь этим!
– Но Феликс мог бы снять для тебя приличную квартирку.
– И в этой «приличной квартирке» я бы навсегда и застряла. Нет, моя милая, я иду ва-банк: мне нужны миллионы Феликса, его замок, его имение и его имя!
– И уже ставшая привычной приставка «фон» к новой фамилии.
– Непременно! И это должно произойти как можно скорее – ты ведь знаешь, сколько мне лет.
– Знаю. А еще знаю, что в роли тургеневской героини ты долго не продержишься, начнешь показывать коготки. Да уж, в твоих интересах, чтобы Феликс познакомился с твоим настоящим характером только после заключения брака.
– И брачного контракта! А пока он должен быть абсолютно убежден в том, что я все потеряла исключительно из любви к нему. У мужа я денег не беру, поскольку чувствую свою вину перед ним, а у Феликса – потому, что не желаю быть его содержанкой. Очевидно безвыходное положение!
– Сиротка в оборочках. Впору поверить и растрогаться.
– Трудно не поверить: квартирка ужасная, работа, прости, убогая. У бедного Феликса сердце разрывается, глядючи на мои страдания, и он вот-вот доспеет до предложения руки и сердца.
– Золушка-притворяшка. Знал бы он, что заработок машинистки уходит у тебя только на массажистку и парикмахера.
– Когда-нибудь ему придется расплачиваться за то, что сейчас я продаю драгоценности, которые собрала, живя с Клаусом. И Феликс вернет мне все до последнего камушка!
– Впору вспомнить, что ты живешь на улице профессора Однокамушкина.
– Однокамушкина?
– Профессором Однокамушкиным в шутку звали Эйнштейна в годы борьбы с космополитизмом.
– Думаешь, в шутку? Скорее из похвальной предусмотрительности.
– Тебе, кстати, тоже не мешает помнить об осторожности. Давать свою машину психопатке Наталье – это была невероятная глупость с твоей стороны.
Вдруг Ада внимательно поглядела на усердно строчившую Апраксину и что-то спросила шепотом у Мириам Фишман.
– Не беспокойся, она ни слова не понимает по-русски.
– Ох, погорю я когда-нибудь на своей простоте!
– Об этом не беспокойся – на простоте ты уж точно не погоришь! Твое счастье, что Гуля, – тут она сама понизила голос, – не была знакома с Натальей.
– Да, эта бы меня не пощадила. И за что она меня так не любит? Ну да Бог с ней – мы никогда друг друга не поймем. Ладно, хватит болтать, пойду работать!
– Да, пора уже. Сейчас наша клиентка закончит писать письма своим пылесосам, я их переведу, а ты потом перепечатаешь. А пока иди, печатай пленки!
– Эксплуататорша.
– Угу. Акула капитализма.
– Большая, толстая и симпатичная акула капитализма! – Ада чмокнула Мириам в макушку, прошла к своему столу, с явной неохотой уселась за машинку и надела наушники.
– У вас есть готовые письма? – спросила Мириам Апраксину. – Я могла бы уже начать переводить.
– А я уже все закончила. Вот, пожалуйста, восемь писем. Куда можно выбросить черновики? Впрочем, лучше я их возьму с собой, они мне послужат образцами для новых писем.
Апраксина протянула Мириам Фишман письма, а несколько сплошь исписанных листков спрятала в свою сумку.
– Сегодня пятница, так что приходите в понедельник после обеда – все будет готово.
– Благодарю вас.
Апраксина простилась с хозяйкой, кивнула машинисткам и вышла на Эттингенштрассе, чрезвычайно довольная визитом в маленькое русское машинописное бюро, а больше всего – записями подслушанных бесед. «Интересно, – подумала она, садясь в «фольксваген», – а почему это Мириам Фишман назвала моих родственников «пылесосами»? Надо будет спросить… Ну вот, а в понедельник можно будет всю эту машинописную бригаду вместе с хозяйкой пригласить в полицию – там они разговорятся. Так… Теперь известно имя мужа покойницы – Константин и его профессия – художник. И находится он сейчас в Париже. Поди, разыщи его там по одному имени… Тоже мне редкая птица – русский художник в Париже! Впрочем, имеется треугольник «Наталья – Константин – Анна», а где треугольник, там и сплетни вокруг него…
Апраксина остановила машину возле телефонной будки и позвонила своей подруге, баронессе фон Ляйбниц, урожденной Якоревой.
– Альбина, ты могла бы определить самую большую сплетницу в кругу русских художников Мюнхена?
– Ее и определять не надо, она всем давно известна – это Натали Сорокина, Ташенька, как ее все зовут.
– Натали Сорокина… Кажется, я ее видела в церкви и в Толстовской библиотеке – такая забавная, похожая на стареющего эльфа?
– Она самая. Художница-миниатюристка. О собратьях-художниках Ташенька знает все и даже немножко больше, чем им самим о себе известно. Впрочем, как и о певцах: она живет с известным в эмигрантских кругах тенором Фомой Цветом.
– А как ты считаешь, ее осведомленность распространяется только на Мюнхен?
– На всю Германию и окрестности.
– Париж сюда входит?
– А как же! Ее любимая окрестность.
– Ну, спасибо тебе!
– Когда появишься?
– Как только закончу дело, в связи с которым мне и нужна Ташенька Сорокина.
– А когда ты его начала?
– Вчера.
– Значит, тебя ждать не раньше, чем через две-три недели?
– Если повезет.
– Тебе да не повезет?
– Твои слова да Богу в уши. Пока.
– Чуюс! – ответила баронесса немецким «Пока!».
Раздались короткие гудки. Вместо того, чтобы повесить трубку на рычаг, Апраксина забросила еще несколько монет и резко ударила по рычажку пальцем: в трубке опять зазвучали длинные гудки, и она набрала номер инспектора.
– Инспектор, мне срочно нужен адрес русской эмигрантки Натальи Сорокиной. Он, конечно, есть у меня в компьютере, но я звоню с улицы.
Через минуту адрес был найден. Записывать его Апраксина не стала – она хорошо знала «Дом Папы Карло» на улице Рентгена, 5.
Богенхаузен – один из респектабельных районов Мюнхена, застроенный в основном особняками с садиками. С одной стороны район ограничивает Принцрегентенштрассе с Оперным театром и виллой знаменитого художника Стука, а с другой – набережная Изара. Когда-то это были кварталы богатых мюнхенских евреев, строивших свои дома не только основательно, на века, но и приглашавших для этого маститых архитекторов. Затем почти внезапно опустевшие роскошные особняки перешли в собственность местной партийной верхушки «наци». Награбленное впрок не пошло – исчезли в свою очередь и эти обитатели Богенхаузена, не успев вполне насладиться его комфортом. Но и теперь в районе жили не сказать чтобы бедняки: его населяли дорогие врачи, адвокаты, а еще здесь располагались небольшие издательства, частные клиники, институт Восточной Европы и прочие подобные учреждения с большими финансами и небольшим штатом.
Однако дом, в который направлялась Апраксина, был в Богенхаузене исключением: он был заселен самой что ни на есть беднотой – эмигрантами, не имевшими возможности снимать отдельные квартиры. Это был дом-пансион, служивший временным пристанищем для неимущих иностранцев. Принадлежал он Католической церкви восточного обряда, а руководил домом-общиной священник отец Карл по прозвищу Папа Карло.
Лет двадцать назад отец Карл был командирован в Мюнхен из Ватикана для создания общины католиков восточного обряда среди беженцев из соцлагеря, главным образом среди православных. Долгое время миссионерские труды отца Карла не приносили плодов, пока кто-то не посоветовал ему сочетать миссионерство с благотворительностью. На деньги Ватикана был приобретен особняк, и потихоньку по Мюнхену распространился слух, что отец Карл дает приют всем бездомным беженцам и в частности тем, кто пока не имеет документов, дающих право на пособие и жилье. Дом начал постепенно заселяться. Набежали бойкие молодые люди и девицы, оказавшиеся в Германии на полулегальном положении, подселились одинокие старушки-пенсионерки, появились неприкаянные одиночки обоего полу, потерпевшие кораблекрушение еще на второй волне эмиграции. В нижнем этаже была построена домовая церковь, и Папа Карло ласково, но настойчиво требовал от своих насельников присутствия на службах. Уклонявшихся от посещения церкви он потихонечку выселял и брал на их место духовно более податливых жильцов. Таким образом задание Ватикана было выполнено – Католическая церковь восточного обряда в Баварии была создана. Плату Папа Карло брал со своих жильцов почти символическую – двести марок, а если и таких денег у жильца не оказывалось, то не брал с него вовсе ничего и даже сам порой подкармливал. Конечно, неофиты и прозелиты в большинстве своем у него были липовые: они придерживались своей веры и чередовали отбывание службы в церкви Папы Карло с добровольным хождением в свои храмы, католические и православные – раздельно. Но нашлась пара-другая искренне обратившихся, всерьез утверждавших, что они на практике осуществляют долгожданное воссоединение церквей-сестер, православной и католической. В их числе оказался даже православный священник, ученик знаменитого отца Александра Меня, некто отец Марк, начавший понемногу замещать отца Карло на мессах. Составился даже клирос, певший по нотам православные песнопения, и неплохо певший. А руководил хором профессиональный оперный певец без сцены, но с отличным консерваторским образованием, украинец Фома Цвет. В общем, Ватикан был доволен, Папа Карло делал карьеру, а неофиты с прозелитами были счастливы, что нашли в Мюнхене тихое и недорогие пристанище, ковчег непотопляемый среди иммигрантских бурь.
Вот к этому ковчегу и направилась Апраксина уже под вечер этой насыщенной событиями пятницы. Поскольку Ташенька и Фома Цвет жили вместе, она решила для начала атаковать певца, надеясь, что он окажется существом более простодушным и доверчивым, чем художница-миниатюристка и большая сплетница Натали Сорокина. По дороге Апраксина заехала в цветочный магазин и разорилась на пышный букет роз: раз уж она шла в гости к оперному певцу без приглашения, выход был один – войти в дом горячей поклонницей его таланта.
Снаружи ковчег производил не менее благопристойное впечатление, чем соседние особняки: высокие ампирные окна на первом этаже фасада, над ними – балюстрада балкона при апартаментах Папы Карло и его большие окна, гораздо более скромный третий этаж и небольшой изящный мезонин под крышей. Позади дома располагался крохотный, но ухоженный трудами постояльцев декоративный садик, куда ступенями спускалась полукруглая веранда. Войдя через незапертую калитку, Апраксина прошла вдоль забора по дорожке, окаймленной цветущими примулами, и мимоходом отметила длинный ряд молодых ростков папоротника, закрученных наподобие епископских посохов. А что, подумалось графине, Папа Карло может добиться и епископского пасторала: эмиграция пока что-то не редеет… Входная дверь была распахнута настежь, и в глубине вестибюля Апраксина увидела высокую двустворчатую дверь из темного резного дуба с большими позолоченными православными крестами на створках – вход в католическую церковь восточного обряда. Налево сверкали воском широкие светлые ступени парадной лестницы, что вела в апартаменты Папы Карло. Апраксина огляделась, размышляя, где может скрываться дверь на верхние этажи? И тут послышался топот и скрип ступеней за скромной узкой дверью, похожей на чуланную; она решила, что лестница находится там. Так и оказалось. Поднимаясь, она разминулась с лохматым молодым человеком, спускавшимся по лестнице с гитарным футляром за плечом.

