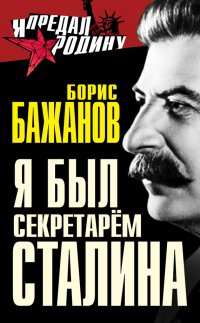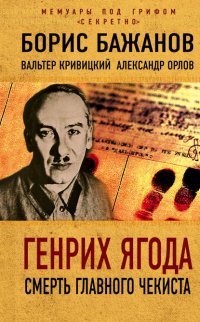Читать онлайн Воспоминания бывшего секретаря Сталина бесплатно
- Все книги автора: Борис Бажанов
© ООО «Издательство «Вече», 2020
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2020
От редакции
Воспоминания Бориса Бажанова – одна из первых мемуарных книг, характеризующих Сталина как диктатора и его окружение изнутри. Особая ценность этой книги, изданной впервые за рубежом, заключается в ее достоверности, в том, что принадлежит она непосредственному помощнику Сталина, занимавшему с 1923 года должность технического секретаря Политбюро ЦК ВКП(б).
После побега в 1928 году через Персию на Запад Борис Бажанов опубликовал во Франции серию статей и книгу, главный интерес которых состоял в описании настоящего механизма тоталитарной коммунистической власти, постепенно сжимавшей в тисках политического террора всю страну. В книге подробно изложены закулисные политические интриги в Кремле, начиная с изгнания Троцкого, а также последующие действия Сталина по устранению с политической сцены его соратников и соперников – Каменева, Зиновьева, Рыкова, Фрунзе, Бухарина и др. Многие главы воспоминаний Б. Бажанова воспринимаются как остросюжетный политический и уголовный детектив. Сталин боялся разоблачений Б. Бажанова и, по некоторым свидетельствам, был самым усердным читателем его публикаций: как показали позднее перебежчики из советского полпредства во Франции, Сталин требовал, чтобы каждая новая статья его бывшего секретаря немедленно отправлялась ему самолетом в Москву.
Книга Бориса Бажанова была выпущена во Франции издательством «Третья волна» в 1980 году. Главы из книги о побеге Б. Бажанова через государственную границу печатались в «Огоньке». Новое издание «Воспоминаний бывшего секретаря Сталина», несомненно, заинтересует многих читателей, желающих знать правду о событиях и фактах, которые тщательно скрывались от народа по политическим мотивам более семидесяти лет.
Предисловие автора
Мои воспоминания относятся, главным образом, к тому периоду, когда я был помощником Генерального секретаря ЦК ВКП (Центрального Комитета Всесоюзной Коммунистической Партии) Сталина и секретарем Политбюро ЦК ВКП. Я был назначен на эти должности 9 августа 1923 года. Став антикоммунистом, я бежал из Советской России 1 января 1928 года через персидскую границу. Во Франции в 1929 и 1930 гг. я опубликовал некоторые из моих наблюдений в форме газетных статей и книги. Их главный интерес заключался в описании настоящего механизма коммунистической власти – в то время на Западе очень мало известного, некоторых носителей этой власти и некоторых исторических событий этой эпохи. В моих описаниях я всегда старался быть скрупулезно точным, описывал только то, что я видел или знал с безусловной точностью. Власти Кремля никогда не сделали ни малейшей попытки оспорить то, что я писал (да и не могли бы это сделать), и предпочли избрать тактику полного замалчивания – мое имя не должно было нигде упоминаться. Самым усердным читателем моих статей был Сталин: позднейшие перебежчики из советского полпредства во Франции показали, что Сталин требовал, чтобы всякая моя новая статья ему немедленно посылалась аэропланом.
Между тем, будучи совершенно точным в моих описаниях фактов и событий, я, по соглашению с моими друзьями, оставшимися в России, и в целях их лучшей безопасности, должен был изменить одну деталь, касавшуюся меня лично: дату, когда я стал антикоммунистом. Это не играло никакой роли в моих описаниях – они не менялись от того, стал ли я противником коммунизма на два года раньше или позже. Но, как оказалось, меня лично это поставило в положение очень для меня неприятное (в одной из последних глав книги, когда я буду описывать подготовку моего бегства за границу, я объясню, как и почему мои друзья просили меня это сделать). Кроме того, о многих фактах и людях я не мог писать – они были живы. Например, я не мог рассказать, что говорила мне личная секретарша Ленина, по очень важному вопросу – это ей могло очень дорого стоить. Теперь, когда прошло уже около полувека и большинства людей этой эпохи уже нет в живых, можно писать почти обо всем, не рискуя никого подвести под сталинскую пулю в затылок. Кроме того, описывая сейчас те исторические события, свидетелем которых я был, я могу рассказать читателю о тех выводах и заключениях, которые вытекали из их непосредственного наблюдения. Надеюсь, что это поможет читателю лучше разобраться в сути этих событий и во всем этом отрезке эпохи коммунистической революции.
Глава 1. Вступление в партию
Гимназия. Университет. Расстрел демонстрации. Вступление в партию. Ямполь и Могилев. Москва. Высшее Техническое училище. Дискуссия о профсоюзах. Кронштадтское восстание. НЭП. Учение
Я родился в 1900 году в городе Могилеве-Подольском на Украине. Когда пришла Февральская революция 1917 года, я был учеником 7-го класса гимназии. Весну и лето 1917 года город переживал все события революции и прежде всего постепенное разложение старого строя жизни. С Октябрьской революцией это разложение ускорилось. Распался фронт, отделилась Украина. Украинские националисты оспаривали у большевиков власть на Украине. Но в начале 1918 года немецкие войска оккупировали Украину, и при их поддержке восстановился некоторый порядок, и установилась довольно странная власть гетмана Скоропадского, формально украинско-националистическая, на деле – неопределенно-консервативная.
Жизнь вернулась в некоторое более нормальное русло, занятия в гимназии снова шли хорошо, и летом 1918 года я закончил гимназию, а в сентябре отправился продолжать учение в Киевский университет на физико-математический факультет. Увы, учение в университете продолжалось недолго. К ноябрю определилось поражение Германии, и германские войска начали оставлять Украину. В университете забурлила революционная деятельность – митинги, речи. Власти закрыли университет. Я в это время никакой политикой не занимался – в мои 18 лет я считал, что я недостаточно разобрался в основных вопросах жизни общества. Но как и большинство студентов, я был очень недоволен перерывом учения – я приехал в Киев из далекой провинции учиться. Поэтому, когда была объявлена студенческая демонстрация на улице против здания университета в знак протеста против его закрытия, я отправился на эту демонстрацию.
Тут я получил очень важный урок. Прибывший на грузовиках отряд «державной варты» (государственной полиции) спешился, выстроился и без малейшего предупреждения открыл по демонстрации стрельбу. Надо сказать, что при виде винтовок толпа бросилась врассыпную. Против винтовок осталось три-четыре десятка человек, которые считали ниже своего достоинства бежать, как зайцы, при одном виде полиции. Эти оставшиеся были или убиты (человек двадцать), или ранены (тоже человек двадцать). Я был в числе раненых. Пуля попала в челюсть, но скользнула по ней, и я отделался двумя-тремя неделями госпиталя.
Учение прекратилось, возобновилась борьба между большевиками и украинскими националистами, а я вернулся в родной город выздоравливать и размышлять о ходе событий, в которых я против воли начал принимать участие. До лета 1919 года я много читал, старался разобраться в марксизме и революционных учениях и программах.
В 1919 году развернулась Гражданская война и наступление на Москву белых армий от окраин к центру. Но наш подольский угол лежал в стороне от этой кампании, и власть у нас оспаривалась только петлюровцами и большевиками. Летом 1919 года я решил вступить в коммунистическую партию. Для нас, учащейся молодежи, коммунизм представлялся в это время необычайно интересной попыткой создания нового, социалистического общества. Если я хотел принять участие в политической жизни, то здесь, в моей провинциальной действительности, у меня был только выбор между украинским национализмом и коммунизмом. Украинский национализм меня ничуть не привлекал – он был связан для меня с каким-то уходом назад с высот русской культуры, в которой я был воспитан. Я отнюдь не был восхищен и практикой коммунизма, как она выглядела в окружающей меня жизни, но я себе говорил (и не я один), что нельзя многого требовать от этих малокультурных и примитивных большевиков из неграмотных рабочих и крестьян, которые понимали и претворяли в жизнь лозунги коммунизма по-дикому; и что как раз люди более образованные и разбирающиеся должны исправлять эти ошибки и строить новое общество так, чтобы это гораздо более соответствовало идеям вождей, которые где-то далеко, в далеких центрах, конечно, действуют, желая народу блага.
Пуля, которую я получил в Киеве, не очень подействовала на мое политическое сознание. Но вопрос о войне сыграл для меня немалую роль.
Все последние годы моей юности я был поражен картиной многолетней бессмысленной бойни, которую представляла Первая мировая война. Несмотря на мою молодость, я ясно понимал, что никакой из воюющих стран война не могла принести ничего, что могло бы идти в сравнение с миллионами жертв и колоссальными разрушениями. Я понимал, что истребительная техника достигла такого предела, что старый способ решения войной споров между великими державами теряет всякий смысл. И если руководители этих держав вдохновляются старой политикой национализма, которая была допустима век тому назад, когда от Парижа до Москвы было два месяца пути, и страны могли жить независимо друг от друга, то теперь, когда жизнь всех стран связана (а от Парижа до Москвы два дня езды), эти руководители государств – банкроты и несут большую долю ответственности за идущие за войнами революции, ломающие старый строй жизни. Я в это время принимал за чистую монету Циммервальдские и Кинтальские протесты интернационалистов против войны – только много позже я понял, в каком восторге были ленины от войны – лишь она могла принести им революцию. Вступив в местную организацию партии, я скоро был избран секретарем уездной организации. Характерно, что мне сразу же пришлось вступить в борьбу с чекистами, присланными из губернского центра для организации местной Чеки. Эта уездная Чека реквизировала дом нотариуса Афеньева (богатого и безобидного старика) и расстреляла его хозяина. Я потребовал от партийной организации немедленного закрытия Чеки и высылки чекистов в Винницу (губернский центр). Организация колебалась. Но я быстро ее убедил. Город был еврейский, большинство членов партии были евреи. Власть менялась каждые два-три месяца. Я спросил у организации, понимает ли она, что за бессмысленные расстрелы чекистских садистов отвечать будет еврейское население, которому при очередной смене власти грозит погром. Организация поняла и поддержала меня. Чека была закрыта. Советская власть продержалась недолго. Пришли петлюровцы. Некоторое время я был в Жмеринке и Виннице, где в январе 1920 года я неожиданно был назначен заведующим губернским отделом народного образования. Эту мою карьеру прервал возвратный тиф, а затем известие о смерти от сыпного тифа моих родителей. Я поспешил в родной город. Там еще были петлюровцы. Но они меня не тронули – местное население поручилось, что я – «идейный коммунист», никому ничего кроме добра не делавший и, наоборот, спасший город от чекистского террора.
Скоро власть снова сменилась – пришли большевики. Затем опять большевики отступили. Началась советско-польская война. Но к лету 1920 года был снова занят уездный город Ямполь, и я был назначен членом и секретарем Ямпольского Ревкома. Едва ли когда-нибудь Ямполь после революции видел власть более мирную и доброжелательную. Председатель Ревкома, Андреев, и оба члена Ревкома – Трофимов и я – были люди мирные и добрые. По крайней мере это должна была думать вдова чиновника, в доме которой мы все трое жили, и, обедая за одним с ней столом, питались впроголодь (к большому ее удивлению), несмотря на всю нашу власть.
Через месяц был занят Могилев; я был переведен туда и снова избран секретарем уездного комитета партии.
В октябре советско-польская война кончилась, в ноябре был занят Крым; Гражданская война завершилась победой большевиков. Я решил ехать в Москву продолжать учение.
В ноябре 1920 года я приехал в Москву и был принят в Московское Высшее техническое училище.
В Высшем техническом была, конечно, местная партийная ячейка. Жила она очень слабой партийной жизнью. Партия считала, что в стране огромный недостаток верных технических специалистов, и наше дело – партийных студентов – прежде всего учиться. Что мы и делали.
Тем не менее в центре я уже коснулся несколько ближе жизни партии. Теперь после окончания Гражданской войны страна начала переходить к мирному строительству. Коммунистические методы управления страной за три года, протекшие от начала большевистской революции, казались определившимися, но между тем они были подвергнуты ожесточенным спорам в партийной верхушке во время знаменитой дискуссии о профсоюзах, которая происходила как раз в конце 1920 года. Для нас всех, рядовых членов партии, дело выглядело так, что идет спор о методах руководства хозяйством, вернее, промышленностью. Казалось, есть точка зрения части партии во главе с Троцким, считавшей, что вначале армия должна быть превращена в армию трудовую и должна восстанавливать хозяйство на началах жестокой военной дисциплины; часть партии (Шляпников и рабочая оппозиция) считала, что управление хозяйством должно быть передано профсоюзам; наконец, Ленин и его группа были и против трудовых армий, и против профсоюзного управления хозяйством, и полагала, что руководить хозяйством должны хозяйственные советские органы, покидая военные методы. Победила точка зрения Ленина, хотя и не без труда.
Только через несколько лет, уже будучи секретарем Политбюро, разбираясь в старых архивных материалах Политбюро, я понял, что дискуссия была надуманной. По существу, это была борьба Ленина за большинство в Центральном Комитете партии – Ленин опасался в этот момент чрезмерного влияния Троцкого, старался его ослабить и несколько отдалить от власти. Вопрос о профсоюзах, довольно второстепенный, был раздут искусственно. Троцкий почувствовал деланность всей этой ленинской махинации, и почти на два года отношения между ним и Лениным сильно охладились. В дальнейшей борьбе за власть этот эпизод и его последствия сыграли большую роль.
B марте 1921 года, в то время, когда происходил съезд партии, все члены ячейки Высшего технического училища были срочно вызваны в районный комитет партии. Нам объявили, что мы мобилизованы, нам раздали винтовки и патроны, нас распределили по заводам, которые были большей частью закрыты; мы должны были нести на них вооруженную охрану, чтобы предотвратить возможные рабочие выступления против власти. Это были дни Кронштадтского восстания.
Около двух недель мы втроем несли охрану на закрытом заводе. Со мной был мой друг, коммунист Юрка Акимов, студент, как и я, и русский немец с голубыми глазами Ганс Лемберг. Через несколько лет, когда я буду секретарем Политбюро, я его выдвину на пост секретаря Спортинтерна. Он окажется интриганом самой низкой марки. Юрку Акимова я через два-три года потеряю из виду. Из Советской Энциклопедии я недавно узнал, что он – заслуженный профессор металлургии.
На съезде партии, в марте, Ленин сделал доклад о замене хлебной разверстки продналогом. Во всей официальной советской исторической литературе этот момент изображается как введение НЭПа. Это не совсем верно. Ленин пришел к идее о НЭПе не так быстро. Во время Гражданской войны и летом 1920 года у крестьян хлеб брали силой. Власти рассчитывали приблизительно, сколько в каком районе у крестьян должно быть хлеба, цифры намеченного изъятия разверстывались по районам и дворам, и затем хлеб и продукты брали силой (продотрядами) в порядке самого грубого произвола, чтобы кое-как прокормить армию и города. Это была разверстка. При этом крестьяне не получали в обмен почти никаких промышленных продуктов – их практически не было. Летом 1920 года вспыхнули крестьянские восстания; самое известное, Антоновское (в Тамбовской губернии), продолжалось до лета 1921 года. Кроме того, произошло значительное уменьшение посевов – крестьянин не хотел производить лишнего хлеба, который у него все равно отобрали бы. Ленин понял, что дело идет к катастрофе, и надо от догматического коммунизма вернуться к реальной жизни, восстановив для крестьянина некоторый смысл в его хозяйственной работе. Разверстка была заменена продналогом – то есть крестьянин был обязан сдать определенное количество продуктов, которые представляли налог, а остатками мог распоряжаться.
Кронштадтское восстание толкнуло мысль Ленина дальше – в стране царили голод, общее недовольство и отсутствие промышленных продуктов. Восстановить не только сельское хозяйство, но и хозяйство вообще, можно было, лишь дав населению хозяйственный стимул, – то есть вернуться от коммунистической фантастики к нормальному меновому хозяйству. Это Ленин и предложил в конце мая на 10-й Всероссийской партийной конференции, но довел до конца формулировку НЭПа лишь в конце октября на Московской губернской партийной конференции (я дальше расскажу, что говорили мне его секретарши уже после его смерти о сокровенных мыслях Ленина этого периода). Я продолжал учиться. Меня избрали секретарем партийной ячейки. Это мне не очень мешало – партийная жизнь в Высшем техническом была намеренно малоактивна.
Но весь 1921 год в стране царил голод. Никакого рынка не было. Надо было жить исключительно на паек. Он состоял из фунта (400 граммов) хлеба в день (типа замазки, составленного Бог знает из каких остатков и отбросов) и 4-х ржавых селедок в месяц. В столовой училища давали еще раз в день немножко пшенной каши на воде без малейших следов жира и почему-то без соли. На таком режиме очень долго продержаться было нельзя. К счастью, подошло лето, и можно было поехать на летнюю практику на завод. Я с тремя товарищами выбрал практику на сахарном заводе (мы учились на химическом факультете) в моем родном Могилевском уезде. Там мы подкормились: паек выдавался сахаром, а сахар можно было обменивать на любую еду.
Осенью я вернулся в Москву и продолжал учение. Увы, на моем голодном режиме к январю я снова чрезвычайно отощал и ослабел. В конце января 1922 года я решил снова уезжать на Украину. В лаборатории количественного анализа моим соседом был молодой симпатичный студент Саша Володарский. Он был братом Володарского, питерского комиссара по делам печати, которого убил летом 1918 года рабочий Сергеев. Саша Володарский был очень милый и скромный юноша. Когда, услышав его фамилию, его спрашивали: «Скажите, вы родственник того известного Володарского?» – он отвечал: «Нет, нет, однофамилец».
Я спросил его мнение, кого бы предложить на мое место в секретари ячейки. Почему? Я объяснил: хочу уехать, не могу дальше голодать.
– А почему вы не делаете как я? – спросил Володарский.
– Как?
– А я полдня учусь, полдня работаю в ЦК партии. Там есть виды работы, которую можно брать на дом. Кстати, аппарат ЦК сейчас сильно расширяется, там нужда в грамотных работниках. Попробуйте.
Я попробовал. То, что я был в прошлом секретарем Укома партии и сейчас секретарем ячейки в Высшем техническом, оказалось серьезным аргументом, и управляющий делами ЦК Ксенофонтов (кстати, бывший член коллегии ВЧК), производивший первый отбор, направил меня в Орготдел ЦК, где я и был принят.
Глава 2. В орготделе. Устав партии
Орготдел ЦК. Учет местного опыта. Статья Кагановича. Съезд партии. Доклад Ленина. Проект нового устава партии. Каганович, Молотов, Сталин. Мой устав принят. Лоскутка, Володарские, Маленков. Тихомирнов. Лазарь Каганович. «Мы, товарищи, пятидесятилетние…» Михайлов. Молотов. Циркулярная комиссия. Справочник партийного работника. Известия ЦК
В это время происходило чрезвычайное расширение и укрепление аппарата партии. Едва ли не самым важным отделом ЦК был в это время организационно-инструкторский отдел, куда я и попал (скоро он был соединен с учраспредом в орграспред – организационно-распределительный отдел). Наряду с основными подотделами (организационный, информационный), был создан маловажный подотдел – учета местного опыта. Функции у него были самые неясные. Я был назначен рядовым сотрудником этого подотдела. Он состоял из заведующего – старого партийца Растопчина – и пяти рядовых сотрудников. Растопчин и трое из пяти его подчиненных смотрели на свою работу как на временную синекуру. Сам Растопчин показывался раз в неделю на несколько минут. Когда у него спрашивали, что, собственно, нужно делать, он улыбался и говорил: «Проявляйте инициативу». Трое из пяти проявляли ее в том смысле, чтобы найти себе работу, которая бы их более устраивала; и в этом они, правда, скоро успели. Райтер после ряда сложных интриг стал ответственным инструктором ЦК, а затем секретарем какого-то губкома. Кицис терпеливо выжидал назначения Райтера, и, когда оно произошло, уехал с ним. Зорге (не тот, не японский) хотел работать за границей по линии Коминтерна. Пытался работать только один Николай Богомолов, орехово-зуевский рабочий, очень симпатичный и толковый человек. В дальнейшем он стал помощником заведующего орграспредом по подбору партийных работников, затем заместителем заведующего орграспредом, а затем почему-то торгпредом в Лондоне. В чистку 1937 года он исчез; вероятно, погиб.
Я первое время почти ничего не делал, присматривался и продолжал учение. После тяжелого 1921 года мои житейские условия резко улучшились. Весь 1921 год в Москве я не только голодал, но и жил в тяжелой жилищной обстановке. По ордеру районного совета нам (мне и моему другу Юрке Акимову) была отведена реквизированная у «буржуев» комнатка. В ней не было отопления и ни малейшего намека на какую-либо мебель (вся мебель состояла из миски для умывания и кувшина с водой, стоявших на подоконнике). Зимой температура в комнате падала до 5 градусов ниже нуля, и вода в кувшине превращалась в лед. К счастью, пол был деревянный, и мы с Акимовым, завернувшись в тулупы и прижавшись друг к другу для теплоты, спали в углу на полу, положив под головы книги вместо несуществующих подушек.
Теперь положение изменилось. Сотрудники ЦК жили в иных условиях. Мне была отведена комната в 5-м Доме Советов – бывшей Лоскутной гостинице (Тверская, 5), которую все обычно называли 5-м домом ЦК, так как жили в ней исключительно служащие ЦК партии. Правда, только рядовые, так как очень ответственные жили или в Кремле или в 1-м Доме Советов (угол Тверской и Моховой).
Хотя я и работал мало, скоро мне пришлось столкнуться с заведующим Орготделом Кагановичем.
Под его председательством произошло какое-то инструктивное совещание по вопросам «советского строительства». Меня посадили секретарствовать на этом совещании (так просто, попал под руку). Каганович произнес чрезвычайно толковую и умную речь. Я ее, конечно, не записывал, а сделал только протокол совещания.
Через несколько дней редакция журнала «Советское строительство» попросила у Кагановича руководящую статью для журнала. Каганович ответил, что ему некогда. Это была неправда. Дело было в том, что, человек чрезвычайно способный и живой, Каганович был крайне малограмотен. Сапожник по профессии, никогда не получивший никакого образования, он писал с грубыми грамматическими ошибками, а писать литературно просто не умел. Так как я секретарствовал на совещании, редакция обратилась ко мне. Я сказал, что попробую.
Вспомнив, что говорил Каганович, я изложил это в форме статьи. Но так как было ясно, что все мысли в ней не мои, а Кагановича, я пошел к нему и сказал: «Товарищ Каганович, вот ваша статья о советском строительстве – я записал то, что вы сказали на совещании». Каганович прочел и был в восхищении: «Действительно, это все, что я говорил; но как это хорошо изложено». Я ответил, что изложение – дело совершенно второстепенное, а мысли его, и ему надо только подписать статью и послать в журнал. По неопытности Каганович стеснялся: «Это ведь вы написали, а не я». Я его не без труда уверил, что я просто написал за него, чтобы выиграть ему время. Статья была напечатана. Надо было видеть, как Каганович был горд, – это была «его» первая статья. Он ее всем показывал.
У этого происшествия было последствие. В конце марта – начале апреля происходил очередной съезд партии. Я, как и многие другие молодые сотрудники Орготдела, был направлен для технической работы в помощь секретариату съезда. При съезде образуется ряд комиссий – мандатная, редакционная и т. д. Их образуют старые партийные бороды – члены ЦК и видные работники с мест, но работу выполняют молодые сотрудники аппарата ЦК. В частности, в редакционной комиссии, куда меня послали, работа идет так. Оратор выступает на съезде. Стенографистка записывает его речь и, расшифровывая стенограмму, диктует машинистке. Этот первый текст полон ошибок и искажений – стенографистка многое не поняла, многое не расслышала, кое-что не успела записать. Но к каждому оратору прикомандирован сотрудник редакционной комиссии, который обязан внимательно прослушать речь. Он и производит первую правку, приводя текст в почти окончательный вид. Потом оратору остается сделать только незначительные добавочные исправления, и таким образом его время чрезвычайно сберегается.
На съезде политический отчет ЦК делал (последний раз) Ленин. Встал вопрос: кому из сотрудников поручить эту работу – слушать и править. Каганович сказал: «Товарищу Бажанову; он это сделает превосходно». Так и было решено.
Трибуна съезда возвышалась метра на полтора над полом зала. На трибуне президиум съезда. Справа (если стоять лицом к залу) у края трибуны пюпитр, за которым стоит оратор; на пюпитре его подсобные бумажки – в ранней советской практике доклады никогда не писались заранее; они импровизировались; самое большее, докладчик имел на бумажке краткий план и некоторые цифры и цитаты. Перед пюпитром спускается в зал лестничка: по ней подымаются на трибуну и спускаются в зал ораторы. Так как во время доклада Ленина никто не должен подыматься на трибуну, я сел вверху лестницы в метре от Ленина – так я уверен, что все буду хорошо слышать.
Во время ленинского доклада придворный фотограф (кажется, Оцуп) делает снимки. Ленин терпеть не может, чтобы его снимали для кино во время выступлений – это ему мешает и нарушает нить мыслей. Он едва соглашается на две неизбежных официальных фотографии. Фотограф снимает его слева – тогда в глубине в некотором тумане виден президиум; потом снимает справа – виден только Ленин и за ним угол зала. Но на обоих снимках перед Лениным – я.
Эти фото часто печатались в газетах: «Владимир Ильич выступает последний раз на съезде партии», «Одно из последних публичных выступлений т. Ленина». До 1928 года я фигурировал всегда вместе с Лениным. В 1928 году я бежал за границу. Добравшись до Парижа, я начал читать советские газеты. Скоро я увидел не то в «Правде», не то в «Известиях» знакомую фотографию: Владимир Ильич делает последний политический доклад на съезде партии. Но меня на фотографии не было. Видимо, Сталин распорядился, чтобы я из фотографии исчез.
Этой весной 1922 года я постепенно втягивался в работу, но больше изучал. Наблюдательный пункт был очень хорош, и я быстро ориентировался в основных процессах жизни страны и партии. Некоторые детали иногда говорили больше долгих изучений. Например, я мало что могу вспомнить об этом XI съезде партии (1922 года), на котором я присутствовал, но ясно помню выступление Томского, члена Политбюро и руководителя профсоюзов. Он говорил: «Нас упрекают за границей, что у нас режим одной партии. Это неверно. У нас много партий. Но в отличие от заграницы у нас одна партия у власти, а остальные в тюрьме». Зал ответил бурными аплодисментами.
(Вспомнил ли об этом выступлении Томский четырнадцать лет спустя, когда перед ним открылись двери сталинской тюрьмы? Во всяком случае он застрелился, не желая переступить ее порог.)
Справедливость требует отметить, что в тот момент я еще питал доверие к своим вождям: остальные партии в тюрьме; значит, так и надо и так лучше.
В апреле – мае этого года я отдал себе отчет в том, как происходит эволюция власти. Было очевидно, что власть все больше сосредоточивается в руках партии, и чем дальше, тем больше в аппарате партии. Между тем мне бросилось в глаза одно важное обстоятельство. Организационные формы работы партии и ее аппарата, которые определяли эффективность работы, были сформулированы в виде ее устава. Но устав партии в основном имел тот вид, в каком он был принят в 1903 году. Он был немного изменен на VI съезде партии летом 1917 года. VIII партийная конференция 1919 года внесла тоже некоторые робкие изменения, но в общем устав, годный для подполья дореволюционного времени, совершенно не подходил для партии, находящейся у власти, и чрезвычайно стеснял ее работу, не давая ясных и точных нужных форм.
Я взялся за работу и составил проект нового устава партии. Переделал я его очень сильно. Проверив все, я напечатал на машинке два параллельных текста: налево – старый, направо – новый, подчеркнув все измененные места старого и новые места моего текста.
С этим документом я явился к Кагановичу. Его секретарь Балашов заявил мне, что товарищ Каганович очень занят и никого не принимает. Я настаивал:
– А ты все-таки доложи. Скажи, что я по очень важному делу.
– Ну, какое у тебя может быть важное дело, – урезонивал меня Балашов.
– А ты все-таки доложи. Не уйду, пока не доложишь.
Балашов доложил. Каганович меня принял.
– Товарищ Бажанов. Я очень занят. Три минуты – в чем дело?
– Дело в том, товарищ Каганович, что я вам принес проект нового устава партии.
Каганович был искренне поражен моей дерзостью.
– Сколько вам лет, товарищ Бажанов?
– Двадцать два.
– А сколько лет вы в партии?
– Три года.
– А известно ли вам, что в 1903 году наша партия разделилась на большевиков и меньшевиков только по вопросу о редакции первого пункта устава?
– Известно.
– И все ж таки вы осмеливаетесь предложить новый устав партии?
– Осмеливаюсь.
– По каким причинам?
– Очень простым. Устав крайне устарел, годился для партии в условиях подполья, никак не отвечает жизни партии, которая у власти, и не дает ей необходимых форм для ее работы и эволюции.
– Ну, покажите.
Каганович прочел первый и второй пункты в старой редакции и новой, подумал.
– Это вы сами написали?
– Сам.
Потребовал объяснений. Объяснения я дал. Через несколько минут просунувшаяся в дверь голова Балашова напомнила, что есть люди, которым обещан прием, и пришло время для какого-то важного заседания. Каганович его прогнал:
– Очень занят. Никого не принимаю. Заседание перенести на завтра.
Около двух часов читал, смаковал и обдумывал Каганович мой устав, требуя объяснений и оправданий моим формулировкам. Когда все было кончено, Каганович вздохнул и заявил:
– Ну, заварили вы кашу, товарищ Бажанов.
После чего он взял трубку и спросил у Молотова, может ли он его видеть по важному делу (Молотов был в это время вторым секретарем ЦК).
– Если ненадолго, приходите.
– Пойдем, товарищ Бажанов.
– Вот, – заявил, входя к Молотову, Каганович. – Вот этот юноша предлагает не более, не менее, как новый устав партии.
Молотов был тоже потрясен.
– А знает ли он, что в 1903 году…
– Да, знает.
– И тем не менее?…
– И тем не менее.
– И вы этот проект читали, товарищ Каганович?
– Читал.
– И как вы его находите?
– Нахожу превосходным.
– Ну, покажите.
С Молотовым произошло то же самое. В течение двух часов проект устава разбирался по пунктам, я давал объяснение, Молотов любопытствовал:
– Это вы сами написали?
– Сам.
– Ничего не поделаешь, – сказал Молотов, когда дошли до конца проекта. – Пойдем к Сталину.
Сталину я тоже был представлен как юный безумец, который осмеливается тронуть достопочтимую и неприкосновенную святыню. После тех же ритуальных вопросов – сколько мне лет, знаю ли я, что в 1903 году, и после формулировки причин, по которым я полагаю, что устав надо переделать, было опять приступлено к чтению и обсуждению проекта. Рано или поздно пришел вопрос Сталина: «И это вы сами написали?» Но в этот раз за ним последовал и другой: «Представляете ли вы себе, какую эволюцию работы партии и ее жизни определяет ваш текст?» – и мой ответ, что очень хорошо представляю и формулирую эту эволюцию так-то и так-то. Дело было в том, что мой устав был важным орудием для партийного аппарата в деле завоевания им власти. Сталин это понимал. Я тоже.
Конец был своеобразным. Сталин подошел к вертушке. «Владимир Ильич? Сталин. Владимир Ильич, МЫ ЗДЕСЬ В ЦК пришли к убеждению, что устав партии устарел и не отвечает новым условиям работы партии. Старый – партия в подполье, теперь партия у власти и т. д.». Владимир Ильич, видимо, по телефону соглашается. «Так вот, – говорит Сталин, – думая об этом, МЫ разработали проект нового устава партии, который и хотим предложить». Ленин соглашается и говорит, что надо внести этот вопрос на ближайшее заседание Политбюро.
Политбюро в принципе согласилось и передало вопрос на предварительную разработку в Оргбюро. 19 мая 1922 года Оргбюро выделило «Комиссию по пересмотру устава». Молотов был председателем, в нее входили и Каганович и его заместители Лисицын и Охлопков, и я в качестве секретаря.
С этого времени на год я вошел в орбиту Молотова.
С уставом пришлось возиться месяца два. Проект был разослан в местные организации с запросом их мнений, а в начале августа была созвана Всероссийская партийная конференция для принятия нового устава. Конференция длилась три-четыре дня. Молотов докладывал проект, делегаты высказывались. В конце концов была избрана окончательная редакционная комиссия под председательством того же Молотова, в которую вошли и Каганович и некоторые руководители местных организаций, как, например, Микоян (он был в это время секретарем Юго-восточного бюро ЦК), и я как член и секретарь комиссии. Отредактировали, и конференция новый устав окончательно утвердила (впрочем, формально его еще после этого утвердил и ЦК).
Весь 1922 год я прожил в том же 5-м доме ЦК – Лоскутке. Сотрудники ЦК, жившие в нем, группировались по личным знакомствам и работе в кружки. Войдя в эту среду через студента МВТУ Сашу Володарского, я примкнул к кружку, который группировался не столько вокруг четы Володарских, сколько вокруг трех закадычных подруг – Леры Голубцовой, Маруси Игнатьевой и Лиды Володарской. Лера и Маруся были, как и Саша Володарский, «информаторами» в информационном подотделе Орготдела, Лида была секретарем этого подотдела. «Информаторы» были, строго говоря, вовсе не информаторами, а референтами по одной-двум губернским партийным организациям. Информатор получал все материалы о жизни этих организаций, составлял сводки и периодические доклады для начальства Орготдела о всем важном, что в этих организациях происходило. Володарский и его жена были очень общительны. У них бывал Пильняк, и этим знакомством они очень гордились. К моему глубокому удивлению я узнал, что скромный и тихий Саша был во время Гражданской войны секретарем у кровавой Землячки (Розалии Самойловны), когда она, будучи в партийном руководстве 8-й Армии, славилась расстрелами и всякими жестокостями.
К нашему кружку кроме меня принадлежал еще Георгий Маленков и Герман Тихомирнов.
Георгий Маленков был мужем Леры (Валерии) Голубцовой. Он был года на два моложе меня, но старался придавать себе вид старого партийца. На самом деле он был в партии всего второй год (и лет ему было всего двадцать). Во время Гражданской войны он побывал маленьким политработником на фронте, а затем, как и я, пошел учиться в Высшее Техническое училище. Не имея среднего образования, он вынужден был начать с подготовительного «рабочего» факультета. В Высшем Техническом он пробыл года три. Затем умная жена, которой он, в сущности, и обязан был своей карьерой, втянула его в аппарат ЦК и толкнула его по той же линии, по которой прошел и я, – он стал сначала секретарем Оргбюро, потом после моего ухода – секретарем Политбюро.
Жена его, Лера, была намного умнее своего мужа. Сам Георгий Маленков производил впечатление человека очень среднего, без каких-либо талантов. Вид у него всегда был важный и надутый. Правда, он был все же очень молод в это время.
Герман Тихомирнов был на год старше меня. Он был вторым помощником Молотова. Произошло это вот почему. Когда Молотов был еще пятнадцатилетним гимназистом в Казани, во время первой полуреволюции 1905 года, он со своим одноклассником Виктором Тихомирновым (кстати сказать, сыном очень богатых родителей) вместе организовал очень революционный комитет учащихся средних учебных заведений Казани. В революции 1917 года Виктор Тихомирнов принимает активное участие вместе с Молотовым. Но еще во время мировой войны он жертвует очень большую сумму денег партии, что позволило издание «Правды», а Молотова произвело в секретари редакции «Правды», так как возможность издания пришла через него.
Правда, весной 1917 года Молотов, на которого в первые недели революции выпала чуть ли не руководящая роль в партии – руководство ее печатным органом, – но которого партия вовсе не рассматривала как политического лидера, здесь остался недолго.
Скоро прибыли в Питер члены ЦК Каменев, Свердлов и Сталин, затем Ленин, Троцкий и Зиновьев, и Молотова услали в провинцию. В 1919 году он был уполномоченным ЦК в Поволжье, в 1920 году в Нижегородском губкоме партии и губисполкоме, потом в 1920–1921 годах секретарем Донецкого губкома. Но с марта 1921 года он становится членом ЦК и секретарем ЦК. В течение года он был ответственным секретарем ЦК, правда, не генеральным, но уже и не техническим, как были секретари до него, например, Стасова. 3 апреля 1922 года на посту 1-го секретаря ЦК его заменил Сталин. Немногого не хватило, чтобы во главе партийного аппарата, автоматически шедшего к власти, не стал Молотов, вернее, не остался Молотов. Зиновьев и Каменев предпочли ему Сталина, и, в сущности, только по одному признаку – им нужен был на этом посту ярый враг Троцкого. Сталин им и был.
Виктор Тихомирнов становится в 1917 году членом коллегии НКВД, занимается главным образом карательно-административной работой, и в 1919 году, посланный наводить порядки в Казань, умирает там, кажется, от сыпного тифа.
Младший брат его, Герман, в партии с 1917 года. До 1921 года он в армии, некоторое время на чекистской работе – в особых отделах. Оттуда он ушел с некоторыми признаками ненормальности, видимо, чекистская «работа» была не так уж проста. Молотов, придя в ЦК, берет его к себе в секретариат, и он здесь будет много лет работать вторым помощником Молотова. С Молотовым он на ты по старому знакомству. Но Молотов его держит в черном теле, беспрерывно цыкает и делает ему выговоры.
Особенным умом он не блещет. У Молотова он – личный секретарь. Гораздо ответственнее, чем он, первый помощник Молотова – Васильевский, человек очень умный и деловой. Герман считает себя призванным чекистом. Я сначала удивлялся, почему он не живет в 1-м Доме Советов сообразно своему посту, а продолжает жить в Лоскутке. Потом я понял. Молотов и Васильевский выуживают из Лоскутки, где живут рядовые сотрудники ЦК, нужный им персонал – людей потолковее. Герман знакомится с ними, встречается в быту, изучает, «просвечивает» по-чекистски и дает заключение о том, можно ли доверять или нет. Вот, пользуясь знакомством с Германом, умная Лера Голубцова и пустила вверх через секретариат Оргбюро (Оргбюро – это держава Молотова) своего Георгия, и с немалым успехом.
После истории с уставом ко мне присматриваются. До конца года я работаю еще с Кагановичем и Молотовым.
Лазарь Моисеевич Каганович замечателен тем, что был одним из двух-трех евреев, продолжавших оставаться у власти во все время сталинщины. При сталинском антисемитизме это было возможно только благодаря полному отречению Кагановича от всех своих родных, друзей и приятелей. Известен, например, факт, что когда сталинские чекисты подняли перед Сталиным дело о брате Кагановича, Михаиле Моисеевиче, министре авиационной промышленности, и Сталин спросил Лазаря Кагановича, что он об этом думает, то Лазарь Каганович, прекрасно знавший, что готовится чистое убийство без малейшего основания, ответил, что это дело «следственных органов» и его не касается. Перед арестом Михаил Каганович застрелился.
Лазарь Каганович, бросившись в революцию, по нуждам революционной работы с 1917 года переезжал с места на место. В Нижнем Новгороде он встретился с Молотовым, который выдвинул его на пост председателя Нижегородского губисполкома, и эта встреча определила его карьеру. Правда, он еще кочевал, побывал в Воронеже, Средней Азии, наконец в ВЦСПС на профсоюзной работе. Отсюда Молотов в 1922 году берет его в заведующие Орготделом ЦК, и здесь начинается его быстрое восхождение.
Одно обстоятельство сыграло в этом немалую роль. В 1922 году Ленин на заседании Политбюро говорит, обращаясь к членам Политбюро: «Мы, товарищи, пятидесятилетние (он имеет в виду себя и Троцкого), вы, товарищи, сорокалетние (все остальные), нам надо готовить смену, тридцатилетних и двадцатилетних: выбрать и постепенно готовить к руководящей работе».
Пока в этот момент ограничились тридцатилетними. Наметили двух: Михайлова и Кагановича.
Михайлову было в это время 28 лет, он был кандидатом в члены ЦК и секретарем Московского комитета партии; в 1923 году его избрали членом ЦК и сделали даже секретарем ЦК. Увы, это продолжалось недолго. Очень скоро выяснилось, что большие государственные дела Михайлову совершенно не под силу. Его постепенно оттеснили на меньшую работу. Потом он был руководителем строительства Днепрогэса. В 1937 году был расстрелян вместе с другими (он имел неосторожность в 1929 году быть за Бухарина). В общем, этот выбор для «смены» не удался.
Каганович был много способнее. Держась сначала при Молотове, он постепенно становится, наряду с Молотовым, одним из основных сталинцев. Сталин перебрасывает его из одного важнейшего места партаппарата в другое. Секретарь ЦК Украины, секретарь ЦК ВКП, член Политбюро, первый секретарь МК, снова секретарь ЦК партии, если нужно, Наркомпуть, он выполняет все сталинские поручения. Если у него была вначале совесть и другие человеческие качества, то потом в порядке приспособления к сталинским требованиям все эти качества исчезли, и он стал, как и Молотов, стопроцентным сталинцем. Дальше он привык ко всему, и миллионы жертв его не трогали. Но характерно, что когда после смерти Сталина Хрущев, который при жизни Сталина тоже ко всему приспособлялся, вдруг встрепенулся и выступил с осуждением сталинщины, Каганович, Молотов и Маленков уже никакого другого режима, кроме сталинского (чтобы гайка была завинчена твердо, до отказа), не желали, справедливо полагая, что при режиме сталинского типа можно спать спокойно, и никакая опасность такому режиму не грозит; в то же время чем может кончиться хрущевская некоторая либерализация для их спокойных руководительских мест, да и для режима, еще неизвестно.
Во второй половине 1922 года я еще продолжал работать в ведомстве Кагановича. Молотов и Каганович начинают назначать меня секретарем разных комиссий ЦК. Как секретарь комиссий, я – находка и для того и для другого. У меня способность быстро и точно формулировать. Каганович, живой и умный, все быстро схватывает, но литературным языком не владеет. Я для него очень ценен. Но еще более ценен в комиссиях я для Молотова.
Молотов – человек не блестящий; это чрезвычайно работоспособный бюрократ, работающий без перерыва с утра до ночи. Много времени ему приходится проводить на заседаниях комиссий. В комиссиях по сути дела к соглашениям приходят скоро, но затем начинается бесконечная возня с редактированием решений. Пробуют сформулировать пункт решения так – сыплются поправки, возражения; споры разгораются, в них теряют начало формулировок и совсем запутываются. На беду Молотов, хорошо разбираясь в сути дел, с большим трудом ищет нужные формулы.
К счастью, я формулирую с большой легкостью. Я быстро нахожу нужную линию. Как только я вижу, что решение найдено, я поднимаю руку. Молотов сразу останавливает прения. «Слушаем». Я произношу нужную формулировку. Молотов хватается за нее: «Вот, вот, это как раз то, что нужно; сейчас же запишите, а не то забудете». Я его успокаиваю – не забуду. «Повторите еще раз». Повторяю. Вот – заседание кончено, и сколько времени выиграно. «Вы мне сберегаете массу времени, товарищ Бажанов», – говорит Молотов. Теперь он будет меня сажать секретарем во все бесчисленные комиссии, где он председательствует (ЦК работает комиссиями – по всякому важному вопросу после предварительного обсуждения создается комиссия, которая и разрабатывает вопрос, и вырабатывает окончательный текст решения, которое и представляется на утверждение Оргбюро или Политбюро).
Одна из самых важных комиссий ЦК – циркулярная. По всяким крупнейшим вопросам ЦК принимает директиву и рассылает ее местным организациям – это циркуляр ЦК. Циркулярная комиссия ЦК и создает текст этих циркуляров. Председательствует иногда Молотов, иногда Каганович. Я уже прочно утвержден секретарем этой (постоянной) комиссии. Должны ли местные партийные организации произвести кампанию по севу в деревне, или перерегистрацию партии и введение нового партийного билета, или кампанию по подписке на новый заем – директива пойдет в форме циркуляра.
Скоро я заинтересовываюсь. Каждый день идут новые циркуляры. Какие из них сохраняют силу, какие устарели, какие изменены, ходом событий или новыми решениями, никому не известно. И как местные организации разбираются в этой накопившейся массе циркуляров? И как среди этих тысяч циркуляров найти то, что нужно? Я не питаю иллюзий насчет организационных талантов местных партийных бюрократов. Я кончаю тем, что беру всю массу циркуляров, выбрасываю то, что устарело, изменено или отменено; а все, что представляет годную директиву, собираю в книгу, сортирую по вопросам, темам, разделам, времени и по алфавиту. Так, чтобы можно было мгновенно по индексам найти то, что нужно. И прихожу к Кагановичу. Теперь он уже ждет от меня только серьезных вещей. Не без некоторого озорства я нахожу термин, который его пленит. «Товарищ Каганович, я предлагаю произвести кодификацию партийного законодательства». Это звучит торжественно. Каганович термином упоен. Пускается в ход вся машина. Молотов тоже чрезвычайно доволен. Это дает книгу на 400–500 страниц. Книга получает название «Справочник партийного работника». Типография ЦК ее печатает. Она будет переиздаваться каждый год.
Молотов назначает меня еще секретарем редакции «Известий ЦК». Это – периодический журнал, несмотря на созвучие названий, не имеющий ничего общего с ежедневной газетой «Известия ВЦИК». «Известия ЦК» – орган внутренней жизни партии. Редактор – Молотов, и так как редактор – Молотов, то журнал представляет собой необычайно сухое и скучное бюрократическое изделие. Никакая жизнь партии в нем не отражается. Журнал заполнен директивами и указаниями ЦК. Моя секретарская работа тоже совершенно бюрократическая. Я начинаю раздумывать, как мне от этой скучной канцелярщины отделаться, когда вдруг (вдруг для меня, Молотов же и другие к этому готовятся давно) я получаю новое важное назначение. В конце 1922 года я назначен секретарем Оргбюро.
Глава 3. Секретарь Оргбюро
Секретарь Оргбюро. Секретариат ЦК. Оргбюро. Бюджетная комиссия ЦК. Партколлегия ЦКК и «согласование с ЦК». Канцелярия Оргбюро, Реорганизация. Секретариат Молотова. Суть идущей борьбы за власть. Ленин, Троцкий. Болезнь Ленина. «Завещание Ленина». Начало Тройки. XII съезд партии. Секретариат Ленина. Фотиева и Гляссер. Сталин ставит своих секретарей Политбюро. Провал. Мое назначение
Я начинаю становиться несколько более важным винтиком партийной государственной машины. Я тону в своей аппаратной работе, от живой жизни я совершенно оторван, о том, что происходит в стране, я узнаю лишь сквозь партийно-аппаратную призму. Только через полгода я начну выходить из этого бумажного моря; тогда у меня, кстати, будет вся информация, и я смогу сопоставлять факты, данные, смогу судить, делать заключения, приходить к выводам; видеть, что происходит на самом деле, и куда это на самом деле идет.
Пока же я принимаю все большее участие в работе центрального партийного аппарата. Он имеет от меня все меньше секретов.
Каковы функции секретаря Оргбюро? Я секретарствую на заседаниях Оргбюро и на заседаниях Секретариата ЦК; кроме того, на заседаниях совещания заведующих отделами ЦК, которое подготовляет материалы для заседания Секретариата ЦК; кроме того на заседаниях разных комиссий ЦК. Наконец, я командую секретариатом (с маленькой буквы) Оргбюро, то есть канцелярией.
По уставу важность выборных центральных органов партии идет так: Секретариат (из 3-х секретарей ЦК), над ним Оргбюро, над ним Политбюро. Секретариат ЦК – орган, находящийся в состоянии быстрой эволюции и, может быть, идущий гигантскими шагами к абсолютной власти в стране, но не столько сам по себе, как в лице своего генерального секретаря.
В 1917–1919 годах секретарем ЦК, чисто техническим, была Стасова, а довольно рудиментарным аппаратом ЦК командовал Свердлов. После его смерти (в марте 1919 г.) и до марта 1921 года секретарями (полутехническими, полуответственными) были Серебряков и Крестинский. С марта 1921 года секретарем ЦК (уже имеющим название «ответственного») становится Молотов. Но в апреле 1922 года на пленуме ЦК избираются три секретаря ЦК: «генеральный секретарь» Сталин, 2-й секретарь Молотов и 3-й секретарь Михайлов (вскоре замененный Куйбышевым). С этого времени начинает заседать Секретариат.
Функции его плохо определены уставом. В то время как по уставу известно, что Политбюро создано для решения самых важных (политических) вопросов, а Оргбюро – для решения вопросов организационных, подразумевается, что Секретариат должен решать менее важные вопросы или подготовлять более важные для Оргбюро и Политбюро. Но, с одной стороны, это нигде не написано, а с другой стороны, в уставе хитро сказано, что «всякое решение Секретариата, если оно не опротестовано никем из членов Оргбюро, становится автоматически решением Оргбюро, а всякое решение Оргбюро, не опротестованное никем из членов Политбюро, становится решением Политбюро, то есть решением Центрального Комитета; всякий член ЦК может опротестовать решение Политбюро перед Пленумом ЦК, но это не приостанавливает его исполнения».
Другими словами, представим себе, что Секретариат берет на себя решение каких-нибудь чрезвычайно важных политических вопросов. С точки зрения внутрипартийной демократии и устава ничего возразить по этому поводу нельзя. Секретариат не узурпирует прав вышестоящей инстанции – она может всегда это решение изменить или отменить. Но если генеральный секретарь ЦК, как это произошло с 1926 года, уже держит всю власть в своих руках, он уже может не стесняясь командовать через Секретариат.
На самом деле этого не произошло. До 1927–1928 годов Политбюро и его члены еще имели достаточно веса, чтобы Секретариат это не пробовал делать, вступая в ненужный конфликт, а с 1929 года Политбюро было настолько в подчинении у Сталина, что ему не было никакой надобности пробовать править иначе, чем через Политбюро. А еще через несколько лет и Политбюро, и Секретариат превратились в простых исполнителей его приказов, и у власти был не тот, кто занимал крупнейший пост в иерархии, а тот, кто стоял ближе к Сталину: его секретарь весил больше в аппарате, чем председатель Совета Министров или любой член Политбюро.
Но сейчас мы в начале 1923 года. На заседаниях Секретариата председательствует 3-й секретарь ЦК Рудзутак, который уже успел заменить Куйбышева, перешедшего на должность председателя ЦКК. На заседании присутствуют Сталин и Молотов – только секретари ЦК имеют право решающего голоса. С правом совещательного голоса присутствуют все заведующие отделами ЦК – Каганович, Сырцов, Смидович (женотдел) и другие (их немало: управляющий делами ЦК Ксенофонтов, зав. Финансовым отделом Раскин, зав. Статистическим отделом Смиттен, затем новые зав. отделами – Информационным, Печати и т. д.), а также главные помощники секретарей ЦК. Рудзутак председательствует хорошо и толково. Со мной он очень мил и кормит меня конфетами – он бросил курить и взамен курения все время сосет конфеты.
На заседаниях Оргбюро председательствует Молотов. В Оргбюро входят три секретаря ЦК, заведующие главнейшими отделами ЦК Каганович и Сырцов, начальник ПУР (Политического управления Реввоенсовета; ПУР имеет права Отдела ЦК), а кроме того один-два члена ЦК, избираемых в Оргбюро персонально, чаще всего – секретарь ВЦСПС и первый секретарь МК.
Сталин и Молотов заинтересованы в том, чтобы состав Оргбюро был как можно более узок – только свои люди из партаппарата. Дело в том, что Оргбюро выполняет работу колоссальной важности для Сталина – оно подбирает и распределяет партийных работников: во-первых, вообще для всех ведомств, что сравнительно неважно, и во-вторых, всех работников партаппарата – секретарей и главных работников губернских, областных и краевых партийных организаций, что чрезвычайно важно, так как завтра обеспечит Сталину большинство на съезде партии, а это основное условие для завоевания власти. Работа эта идет самым энергичным темпом; удивительным образом Троцкий, Зиновьев и Каменев, плавающие в облаках высшей политики, не обращают на это особенного внимания. Важность сего поймут тогда, когда уж будет поздно.
Первое Оргбюро создано в марте 1919 года после VIII съезда партии. В него входили Сталин, Белобородов, Серебряков, Стасова, Крестинский. Как видно по его составу, оно должно было заниматься некоторой организацией технического аппарата партии и некоторым распределением ее сил. С тех пор все изменилось. С назначением Сталина генеральным секретарем Оргбюро становится его главным орудием для подбора своих людей и захвата, таким образом, всех партийных организаций на местах.
С Молотовым мы уже старые знакомые. Он мною очень доволен. По-прежнему он меня сажает секретарем во все комиссии ЦК. Это обеспечивает мое быстрое аппаратное просвещение.
Например, существует Бюджетная комиссия ЦК. Это – комиссия постоянная. Председатель – Молотов, я – секретарь. Состоит она из двух секретарей ЦК – Сталина и Молотова (никогда ни одного раза Сталин ни на одном заседании комиссии не был) и заведующего Финансовым отделом ЦК Раскина. Я быстро убеждаюсь, что и Раскин, и я, мы присутствуем на заседаниях комиссии, только чтобы записывать решения Молотова. Хорошо, что Раскину не приходится много разговаривать. Он – русский еврей, эмигрировавший из России в детстве и побывавший в очень многих странах. Он говорит на таком русском языке, что понять его очень трудно. Кажется, то же и на других языках. Сотрудники его отдела говорят: «Товарищ Раскин владеет всеми языками, кроме своего собственного».
С одной стороны, Бюджетная комиссия обсуждает и утверждает смету отделов ЦК. Тут присутствуют заведующие отделами, стараются отстоять свои интересы, и Молотов с ними спорит (но решает, конечно, он). С другой стороны – и здесь дело идет об огромных суммах, – Бюджетная комиссия утверждает бюджеты всех братских иностранных компартий. На заседания ни один представитель братской компартии никогда не допускается. Докладывает только генеральный секретарь Коминтерна Пятницкий. Молотов распределяет манну беспрекословно и безапелляционно – соображения, которыми он руководствуется, не всегда для меня ясны. Финансовую технику содержания братских компартий мне любезно разъясняет Раскин – скрытый перевод средств обеспечивается монополией внешней торговли.
Быстро просвещаюсь я и насчет работы органа «партийной совести» – Партколлегии ЦКК.
В стране существует порядок – все население бесправно и целиком находится в лапах ГПУ. Беспартийный гражданин в любой момент может быть арестован, сослан, приговорен ко многим годам заключения или расстрелян просто по приговору какой-то анонимной «тройки» ГПУ. Но члена партии в 1923 году ГПУ арестовать еще не может (это придет только через лет восемь – десять). Если член партии проворовался, совершил убийство или совершил какое-то нарушение партийных законов, его сначала должна судить местная КК (Контрольная комиссия), а для более видных членов партии – ЦКК, вернее, партийная коллегия ЦКК, то есть несколько членов ЦКК, выделенных для этой задачи. В руки суда или в лапы ГПУ попадает только коммунист, исключенный из партии Партколлегией. Перед Партколлегией коммунисты трепещут. Одна из наибольших угроз: «Передать о вас дело в ЦКК».
На заседаниях партколлегии ряд старых комедиантов вроде Сольца творят суд и расправу, гремя фразами о высокой морали членов партии, и изображают из себя «совесть партии». На самом деле существует два порядка: один, когда дело идет о мелкой сошке и делах чисто уголовных (например, член партии просто и грубо проворовался), и тогда Сольцу нет надобности даже особенно играть комедию. Другой порядок – когда речь идет о членах партии покрупнее. Здесь существует уже никому не известный информационный аппарат ГПУ; действует он осторожно, при помощи и участии членов коллегии ГПУ Петерса, Лациса и Манцева, которые для нужды дела введены в число членов ЦКК. Если дело идет о члене партии – оппозиционере или каком-либо противнике сталинской группы, невидно и подпольно информация ГПУ – верная или специально придуманная для компрометации человека – доходит через управляющего делами ЦК Ксенофонтова (старого чекиста и бывшего члена коллегии ВЧК) и его заместителя Бризановского (тоже чекиста) в секретариат Сталина, к его помощникам Каннеру и Товстухе. Затем так же тайно идет указание в Партколлегию, что делать, «исключить из партии» или «снять с ответственной работы», или «дать строгий выговор с предупреждением» и т. д. Уж дело Партколлегии придумать и обосновать правдоподобное обвинение. Это совсем не трудно и греметь фразами о партийной морали, и придраться к любому пустяку – написал, например, партиец статью в журнал, получил 30 рублей гонорара сверх партийного максимума – Сольц такую истерику разыгрывает по этому поводу, что твой Художественный театр. Одним словом, получив от Каннера директиву, Сольц или Ярославский будут валять дурака, возмущаться, как смел данный коммунист нарушить чистоту партийных риз, и вынесут приговор, который они получили от Каннера (о Каннере и секретариате Сталина мы еще поговорим).