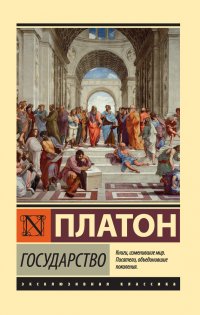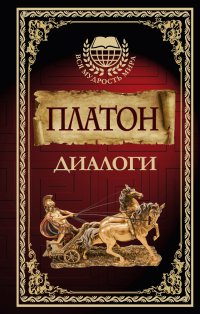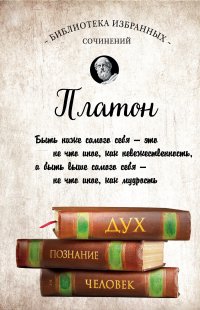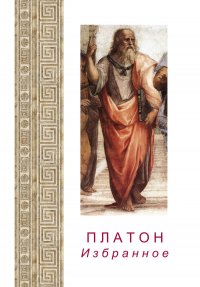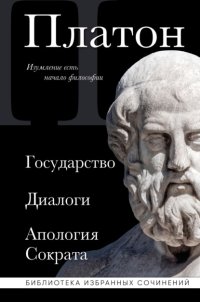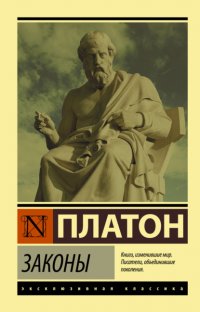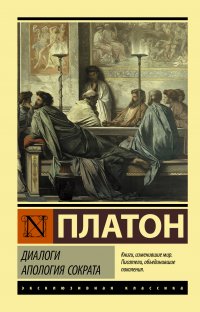
Читать онлайн Диалоги. Апология Сократа бесплатно
- Все книги автора: Платон
Евтифрон
Евтифрон, Сократ
Евтифрон. Что это за новость, Сократ? Оставив свои беседы в Ликее, ты теперь проводишь время здесь, у царского портика? Нет ли и у тебя какой-нибудь жалобы к царю, как у меня?
Сократ. Но афиняне, Евтифрон, называют это не жалобой, а иском.
Евтифрон. Что ты говоришь? Кто-то вчинил тебе иск? Ведь не могу же я поверить, что, наоборот, ты сам обвиняешь кого-то.
Сократ. Конечно, нет.
Евтифрон. Значит, кто-то другой обвиняет тебя?
Сократ. Вот именно.
Евтифрон. Кто же это?
Сократ. Я и сам, Евтифрон, не очень-то знаю этого человека: мне представляется, он из молодых и мало известных; зовут же его, как мне кажется, Мелетом, а родом он из дема Питфа. Можешь ты вообразить себе такого питфейца Мелета – длинноволосого и жидкобородого, да к тому же еще и курносого?
Евтифрон. Нет, мой Сократ, такого я не припомню. Но какой же он вчинил тебе иск?
Сократ. Какой иск? Да, на мой взгляд, нешуточный. Ведь это не пустяк – в молодые годы распознать подобное дело. Ему-де известно, говорит он, почему развращаются молодые люди и кто именно их развращает. Выходит, что он-де мудрец, а я, как он усмотрел, невежда и развращаю его сверстников, потому-то он и выступает перед городом-матерью с обвинением против меня. Мне мнится, что среди всех государственных мужей он единственный действует правильно: в самом деле, ведь правильно прежде всего проявить заботу о молодых людях, чтобы они были как можно лучше, как хорошему земледельцу подобает прежде всего позаботиться о молодых побегах, а уж после обо всем остальном. Подобным же образом и Мелет, возможно, сначала хочет выполоть нас, из-за которых гибнут ростки юности, – так он говорит, – а уж затем, как это ясно, он позаботится и о старших и учинит для города множество величайших благ: по крайней мере, так обычно бывает с теми, кто выступает с подобными начинаниями.
Евтифрон. Хотел бы я, Сократ, чтобы было так. Однако боюсь, как бы не вышло прямо противоположного: ведь мне решительно кажется, что, замышляя неправое дело против тебя, он начинает разрушать свой дом с очага. Но скажи мне, каким образом, утверждает он, развращаешь ты юношей?
Сократ. Странные вещи делаю я, если его послушать, мой милый. Он утверждает, что я творю богов. И обвинение его состоит в том, что я ввожу новых богов, старых же не почитаю, как он говорит.
Евтифрон. Понятно, Сократ: ведь ты сам утверждаешь, что тебе часто является твой гений. Значит, он строит свое обвинение на твоих предполагаемых нововведениях в божественных вопросах и выступает в суде с клеветой, хорошо понимая, что подобные вещи легко становятся предосудительными в глазах большинства. Ведь и надо мною потешаются, как над безумцем, когда я предсказываю в народном собрании что-либо относительно божественных предначертаний. И хотя все мои предсказания были правдивыми, все же людям, подобным мне, всегда завидуют; однако надо не обращать на завистников никакого внимания и смело идти против них.
Сократ. Милый Евтифрон, то, что они высмеивают меня, это пустяк. Афинян, как мне кажется, не слишком задевает, если кто-либо считается сильным в философии, лишь бы он был не способен передать свою мудрость другим.
Но вот когда они думают, что кто-то делает и других подобными себе, они приходят в ярость – либо из зависти, либо по какой-то иной причине.
Евтифрон. Тут-то мне мало дела до того, как они ко мне относятся.
Сократ. Быть может, они полагают, что ты воздерживаешься от поучений и не желаешь передавать свою мудрость другим. Что до меня, то боюсь, они считают, будто я по человеколюбию щедро рассыпаю перед всеми свое достояние, не только не требуя вознаграждения, но вдобавок и от души приплачивая за то только, чтобы меня пожелали слушать.
Если бы, я повторяю, они собирались надо мной посмеяться, как, по твоим словам, они смеются над тобою, то ничего не было бы тягостного в том, чтобы провести время в суде за шутками и смехом; но коли они начинают дело всерьез, то совсем не ясно, чем это может кончиться, – разве только это видно вам, прорицателям.
Евтифрон. Скорее всего, мой Сократ, это ничем серьезным не кончится, и ты успешно выиграешь свою тяжбу, как и я, полагаю, свою.
Сократ. А у тебя, Евтифрон, тоже какая-то тяжба? И ты выступаешь в ней ответчиком или истцом?
Евтифрон. Истцом.
Сократ. Против кого?
Евтифрон. Против такого человека, что и здесь могу показаться безумцем.
Сократ. Каким же образом? Может быть, ты гонишься за тем, кто неуловим?
Евтифрон. Куда уж там быть неуловимым такому старцу!
Сократ. Кто же это такой?
Евтифрон. Мой отец.
Сократ. Твой отец, почтеннейший?
Евтифрон. Вот именно.
Сократ. В чем же состоит жалоба, и из-за чего идет тяжба?
Евтифрон. Из-за убийства, Сократ.
Сократ. Клянусь Гераклом! Разумеется, Евтифрон, большинству здесь неведомо, прав ты или не прав. Не думаю, чтобы первому встречному было по плечу правильно решить это дело, разве только тому, кто достиг высокой степени мудрости.
Евтифрон. Да, клянусь Зевсом, тому, кто достиг.
Сократ. Без сомнения, умерший по вине твоего отца кто-либо из домашних? Это ведь ясно. Ведь не стал бы ты привлекать отца к судебной ответственности из-за чужого?
Евтифрон. Смехотворно, Сократ, если ты думаешь, будто есть разница, из домашних ли убитый или чужой, и не считаешь, что надо заботиться лишь о том, по праву ли умертвил его убивший или же нет, и если по праву, то отпустить его с миром, а если нет, то преследовать по суду, будь даже убийца твоим домочадцем и сотрапезником. Ведь ты подвергаешься осквернению не меньше, чем он, если будешь общаться с таким человеком, зная о его провинности, и не очистишь себя самого и его, обратившись в суд. Впрочем, убитый был из моих поденщиков; когда мы обрабатывали землю на Наксосе, он там у нас работал. Напившись пьяным, он рассердился на одного из наших рабов и зарезал его. Отец мой, связав его по рукам и ногам, бросил в какой-то ров и послал сюда человека, дабы узнать у экзегета, что делать дальше.
Тем временем он не обращает на связанного никакого внимания и не проявляет о нем никакой заботы: дескать, это убийца, и ничего не случится, если он умрет. А он-то возьми и умри. От голода и холода и оттого, что был связан, умер он раньше, чем вернулся вестник от экзегета. Вот за это-то и гневается мой отец и другие домашние, что из-за убийцы я обвиняю в убийстве отца, который и не убивал-то вовсе, а если бы и убил, то, поскольку убитый сам убил человека, о нем не стоит и беспокоиться: мол, нечестиво со стороны сына преследовать по суду своего отца за убийство. А ведь они просто плохо знают божественный закон, касающийся благочестия и нечестия.
Сократ. Скажи ради Зевса, Евтифрон, ты-то себя считаешь настолько точно осведомленным в божественных законах и в вопросах благочестия и нечестия, что не страшишься – даже если все было так, как ты говоришь, – сам совершить нечестивое дело, преследуя отца по суду?
Евтифрон. Мало было бы от меня пользы, Сократ, и ничем не отличался бы Евтифрон от большинства людей, если бы я не был точно осведомлен о подобных вещах.
Сократ. Пожалуй, уважаемый Евтифрон, для меня самое лучшее – стать твоим учеником и прежде, чем состоится моя тяжба с Мелетом, возбудить против него ходатайство со своей стороны, заявив, что я и раньше высоко ценил познание божественных законов, теперь же, когда он обвиняет меня в том, что я погрешаю против этих законов, самовольничая и вводя различные новшества, я стал твоим учеником. «И вот, – сказал бы я, – если ты, Мелет, признаешь Евтифрона мудрым в этих вопросах, то считай и меня человеком правильно мыслящим и не преследуй меня по суду; если же нет, то прежде, чем мне, вчини иск ему, моему наставнику, за то, что он губит стариков, меня и своего отца, тем, что меня обучает, а его – проучает и наказывает». И если он мне не поверит и не освободит меня от обвинения или не вчинит иск вместо меня тебе, я смогу в суде выставить то же ходатайство, с которым я выступил перед ним.
Евтифрон. Клянусь Зевсом, Сократ, если только он попробует вчинить мне иск, то я уж отыщу, я думаю, его слабое место, и скорее всего, дело в суде пойдет у нас о нем, чем обо мне.
Сократ. Вот и я, дорогой мой друг, понимая это, жажду стать твоим учеником, ибо знаю, что ни этот Мелет, ни кто-либо другой тебя вроде бы и не замечают, меня же он разглядел так легко и ясно, что даже обвинил в нечестии. Поведай же мне, ради Зевса, то, относительно чего ты сейчас настойчиво утверждал, будто доподлинно это знаешь, а именно в чем заключается благочестие и нечестие как в отношении убийства, так и во всем остальном?
Разве же в любом деле благочестивое не тождественно самому себе, и, с другой стороны, разве нечестивое не противоположно всему благочестивому, самому же себе подобно, и разве не имеет оно некой единственной идеи, выражающей нечестие для всего, что по необходимости бывает нечестивым?
Евтифрон. Само собой разумеется, Сократ.
Сократ. Так скажи же, что именно ты называешь благочестивым и нечестивым?
Евтифрон. Я утверждаю: благочестиво то, что я сейчас делаю, а именно благочестиво преследовать по суду преступника, совершившего убийство, либо ограбившего храм, либо учинившего еще какое-нибудь подобное нарушение, будь этим преступником отец, мать или кто бы то ни было другой; не преследовать же по суду в таких случаях – нечестиво. Смотри же, Сократ, сколь сильное доказательство я приведу тебе в пользу того, что закон именно таков (я говорил об этом уже и другим). Правильно было бы не поощрять преступника, кем бы он ни был: ведь признают же сами люди Зевса наилучшим и справедливейшим из богов, а в то же время все они верят, что он заключил в оковы собственного отца за то, что он преступно пожирал своих сыновей, а тот в свою очередь оскопил своего отца за подобные же деяния. А на меня они негодуют за то, что я преследую по суду своего преступного отца, и таким образом противоречат сами себе в вопросе о богах и обо мне.
Сократ. Так значит, Евтифрон, именно потому я выступаю ответчиком, что, когда рассказывают нечто подобное о богах, меня это раздражает? Вот поэтому, видно, найдутся такие, которые скажут, что я нарушаю закон. Теперь же, раз и тебе, столь хорошо разбирающемуся в этих вещах, все это кажется верным, похоже, что мне надо уступить.
Да и что могу я сказать, если сам признаюсь, что ничего об этом не знаю? Но поведай мне, ради Покровителя дружбы, ты-то в самом деле полагаешь, что все это было так?
Евтифрон. Мало того, все это было еще более поразительным, хотя большинство ничего об этом не знает.
Сократ. Значит, ты полагаешь, будто между богами и в самом деле бывают войны, жестокая вражда, битвы и прочее в том же роде, как об этом рассказывают поэты, а хорошие живописцы расписывают этими чудесами священную утварь?
Например, во время Великих Панафиней в Акрополь вносят облаченье богини, расцвеченное такими рисунками. И мы признаем, Евтифрон, что все это правда?
Евтифрон. Не только это, Сократ, но и то, о чем я сказал недавно; да и многое другое я могу порассказать тебе, если желаешь, о божественных делах, так что, услышав это, я уверен, ты будешь ошеломлен.
Сократ. Да и не удивительно! Но об этом ты мне расскажешь в другой раз, на досуге, а сейчас постарайся яснее изложить то, о чем я тебя недавно просил.
Ведь ты, мой друг, перед этим неудовлетворительно ответил на мой вопрос, что такое благочестивое вообще, сказав лишь, будто благочестивым является то, что ты сейчас делаешь, преследуя отца по суду за убийство.
Евтифрон. И правду сказал я тебе, Сократ.
Сократ. Положим. Но ведь ты же признаешь, Евтифрон, что и многое другое бывает благочестивым?
Евтифрон. Конечно, бывает.
Сократ. Так припомни же, что я просил тебя не о том, чтобы ты назвал мне одно или два из благочестивых деяний, но чтобы определил идею как таковую, в силу которой все благочестивое является благочестивым. Ведь ты подтвердил, что именно в силу единой идеи нечестивое является нечестивым, а благочестивое – благочестивым. Разве ты этого не помнишь?
Евтифрон. Помню, конечно.
Сократ. Так разъясни же мне относительно этой идеи – что именно она собой представляет, дабы, взирая на нее и пользуясь ею как образцом, я называл бы что-либо одно, совершаемое тобою либо кем-то другим и подобное этому образцу, благочестивым, другое же, не подобное ему, таковым бы не называл.
Евтифрон. Но если ты желаешь, Сократ, я тебе это скажу!
Сократ. Да, я желаю.
Евтифрон. Итак, благочестиво то, что угодно богам, нечестиво же то, что им неугодно.
Сократ. Великолепно, Евтифрон! Ты дал мне именно тот ответ, которого я от тебя добивался. Правда, я не знаю, правильно ли это, но ясно, что ты докажешь в дальнейшем истинность своих слов.
Евтифрон. Разумеется.
Сократ. Давай же рассмотрим заново то, что мы говорим: итак, угодное богам и угодный им человек – это благочестивые вещи, а неугодное богам и неугодный им человек – нечестивые, и, значит, благочестивое и нечестивое не тождественны между собою, а прямо противоположны друг другу. Не так ли?
Евтифрон. Именно так.
Сократ. Как тебе кажется, хорошо это сказано?
Евтифрон. Думаю, да, Сократ, я ведь это уже подтвердил.
Сократ. Значит, и то, что у богов бывает противоборство, междоусобицы и взаимная вражда, – это тоже ты подтверждаешь?
Евтифрон. Да, подтверждаю.
Сократ. А какие разногласия вызывают гнев и вражду? И о чем идет спор? Давай рассмотрим следующее: если бы, например, у нас с тобою возникло разногласие относительно чисел – какое из них больше, – то разве это разногласие породило бы между нами вражду и взаимный гнев, или же, занявшись вычислением, мы очень скоро пришли бы к согласию в этом деле?
Евтифрон. Конечно, пришли бы.
Сократ. Значит, и если бы мы разошлись во мнении относительно большего и меньшего размера предмета, то, занявшись измерением, мы быстро прекратили бы спор?
Евтифрон. Да, это так.
Сократ. А перейдя к взвешиванию, мы бы, думаю я, пришли к решению, какой предмет тяжелее, а какой легче?
Евтифрон. Как же иначе?
Сократ. Так из-за какого же разногласия, не позволяющего нам принять решение, могли бы мы прийти в гнев и стать друг другу врагами? Быть может, тебе это не очень доступно, но проследи за тем, что я говорю: разве это не будет справедливое и несправедливое, прекрасное и постыдное, доброе и злое? И не из-за этого ли мы спорим и не можем прийти к удовлетворительному решению, становясь друг другу врагами во время таких раздоров – и я, и ты, и все остальные люди?
Евтифрон. Да, Сократ, разногласие может касаться и этого.
Сократ. Ну а боги, Евтифрон? Разве когда между ними происходит раздор, он происходит не из-за таких вещей?
Евтифрон. Безусловно, из-за таких.
Сократ. А среди богов, благороднейший Евтифрон, одни, по твоим словам, почитают одно справедливым, прекрасным, постыдным, добрым и злым, а другие – другое: ведь не восставали бы они друг на друга, если бы не спорили из-за этого. Как ты думаешь?
Евтифрон. Ты прав.
Сократ. Итак, каждый, считая что-либо прекрасным, добрым и справедливым, именно это и любит, противоположное же ненавидит?
Евтифрон. Конечно.
Сократ. Но ведь одно и то же, по твоим словам, одни считают справедливым, другие – несправедливым? Из-за этих-то споров между ними и происходят междоусобицы и войны. Разве не так?
Евтифрон. Так.
Сократ. Похоже, что одно и то же боги и любят и ненавидят, и оно одновременно является богоугодным и богопротивным.
Евтифрон. Похоже.
Сократ. Но, Евтифрон, согласно этому рассуждению, благочестивое и нечестивое – это одно и то же.
Евтифрон. Видимо, так.
Сократ. Значит, почтеннейший, ты не ответил на мой вопрос: ведь я спрашивал не о том, что оказывается одновременно и благочестивым и нечестивым; тут же получилось, что богоугодное одновременно является богопротивным.
Таким образом, Евтифрон, нет ничего удивительного, если то, что ты сейчас делаешь, стремясь покарать отца, окажется деянием, угодным Зевсу, но ненавистным Крону и Урану, любезным Гефесту, но противным Гере; то же самое получится и в отношении других богов, если между ними существуют расхождения по этому вопросу.
Евтифрон. Но я полагаю, Сократ, что здесь ни один из богов не расходится в мнении с другим и никто из них не считает, будто несправедливо убивший другого человека не должен держать за это ответ.
Сократ. В самом деле, Евтифрон? А тебе разве не доводилось слышать, как кто-либо из людей оспаривает необходимость наказания человека, незаконно убившего другого или совершившего что-либо незаконное?
Евтифрон. Да люди без конца затевают такие споры – и в суде, и где угодно еще. Совершая множество незаконных деяний, они говорят и делают всё, чтобы избежать кары.
Сократ. Как же так, Евтифрон? Они признают, что нарушили закон, и в то же время, признавая это, не хотят быть в ответе?
Евтифрон. Уж это-то ни в коем случае.
Сократ. Значит, они говорят и делают не всё, что угодно. Ведь, полагаю я, они не осмеливаются оспаривать необходимость нести наказание за совершенный ими проступок: я думаю, они просто не соглашаются с тем, что они преступники. Как ты считаешь?
Евтифрон. Ты прав.
Сократ. Следовательно, они оспаривают не то, что преступнику следует нести наказание, но, по-видимому, спорят о том, кто является преступником, что он совершил и когда?
Евтифрон. Ты говоришь верно.
Сократ. То же самое, думаю я, относится и к богам, коль скоро, по твоим словам, они враждуют из-за справедливого и несправедливого, и одни говорят, что другие чинят им несправедливость, те же опровергают это обвинение. Потому что, почтеннейший, ведь никто ни из богов, ни из людей не посмеет сказать, будто виновный не должен нести наказание.
Евтифрон. Да, в общем ты это правильно говоришь, Сократ.
Сократ. Но по каждому отдельному случаю, Евтифрон, я думаю, спорщики спорят – и люди и боги, если только боги и вправду спорят: расходясь в мнении по поводу какого-либо деяния, одни говорят, что оно законно, другие – что нет. Разве не так?
Евтифрон. Конечно же.
Сократ. Так вот, друг мой Евтифрон, объясни ты мне, дабы стал я мудрее: какое у тебя доказательство того, что все боги считают безвинно погибшим человека. который, служа по найму, стал убийцей и, будучи связан господином убитого, скончался в оковах раньше, чем тот, кто его сковал, получил распоряжение от экзегета, и что они полагают правильным, чтобы из-за этого сын преследовал по суду и обвинял в убийстве своего отца? Прошу тебя, постарайся мне ясно доказать, что все боги считают наиболее правильным твое поведение, и, если ты мне это удовлетворительно докажешь, я никогда не перестану восхвалять твою мудрость.
Евтифрон. Но, пожалуй, это нешуточное дело, Сократ, хотя я мог бы доказать тебе это очень ясно.
Сократ. Я понимаю, что кажусь тебе менее понятливым, чем судьи: им же ты, очевидно, докажешь, что поступок твоего отца – незаконный и все боги ненавидят подобные дела.
Евтифрон. И докажу как нельзя более ясно, Сократ, если только они станут меня слушать.
Сократ. Но они станут слушать, если им покажется, что ты говоришь дело. Однако вот что пришло мне в голову, пока ты говорил, и о чем я подумал про себя: «Если даже Евтифрон докажет мне наилучшим образом, что все боги считают подобную гибель несправедливой, что нового узнаю я у него относительно сущности благочестивого и нечестивого? По-видимому, оказалось бы, что дело это богопротивно; однако благочестивое и нечестивое, как недавно выяснилось, определяются не этим, ибо богопротивное оказалось одновременно и богоугодным». Итак, я освобождаю тебя от этого, Евтифрон: пусть, коли тебе угодно, все боги считают это противозаконным и ненавидят.
Но давай внесем сейчас такую поправку в рассуждение: нечестиво ненавистное всем богам, а угодное всем им – благочестиво, если же что-либо одни из них любят, а другие ненавидят, то это либо ни то ни другое, либо и то и другое одновременно. Желаешь ли ты, чтобы у нас теперь было такое определение благочестивого и нечестивого?
Евтифрон. А что этому мешает, Сократ?
Сократ. По мне, ровно ничего, но ты будь внимателен к своему делу: не получится ли, что, выдвинув такое предположение, ты не сумеешь мне с легкостью объяснить обещанное?
Евтифрон. Но и я бы назвал благочестивым то, что любят все боги, и, наоборот, нечестивым то, что все они ненавидят.
Сократ. Что же, Евтифрон, посмотрим, хорошо ли мы сказали, или оставим это и будем воспринимать свои и чужие речи – если кто что-либо утверждает – как требующие немедленного согласия? Или надо все-таки рассмотреть, что именно утверждает говорящий?
Евтифрон. Надо рассмотреть. Однако я считаю, что сказанное сейчас сказано хорошо.
Сократ. Скоро, добрейший мой, мы это лучше узнаем. Но подумай вот о чем: благочестивое любимо богами потому, что оно благочестиво, или оно благочестиво потому, что его любят боги?
Евтифрон. Я не понимаю, о чем ты, Сократ?
Сократ. Что ж, постараюсь выразиться яснее. Называем мы нечто несомым и несущим, ведомым и ведущим, рассматриваемым и смотрящим? И понимаешь ли ты, что все подобные вещи между собою различны и в чем состоит это различие?
Евтифрон. Мне кажется, я понимаю.
Сократ. Значит, существует нечто любимое и, соответственно, нечто отличное от него, любящее?
Евтифрон. Как же иначе?
Сократ. Скажи же мне, несомое является таковым потому, что его несут, или по другой какой-то причине?
Евтифрон. Нет, разумеется, именно поэтому.
Сократ. А ведомое – потому, что его ведут, и рассматриваемое – потому, что на него смотрят?
Евтифрон. Безусловно.
Сократ. Следовательно, на него не потому смотрят, что оно является рассматриваемым, но, наоборот, оно является рассматриваемым, поскольку на него смотрят; и не потому ведомое ведут, что оно является ведомым, но оно потому и ведомо, что его ведут; наконец, не потому несомое несут, что оно несомо, но оно несомо потому, что его несут. Значит, ясно, Евтифрон, что я хочу сказать, а именно: если нечто является чем-то и что-то испытывает, то не потому оно является, что бывает являющимся, но оно являющееся потому, что является; и не из-за того оно нечто испытывает, что бывает страдающим, но страдает из-за того, что нечто испытывает. Или ты с этим не согласен?
Евтифрон. Нет, я согласен.
Сократ. Значит, и любимым бывает либо нечто являющееся чем-то, либо испытывающее что-либо от чего-то?
Евтифрон. Конечно.
Сократ. А значит, и здесь все обстоит так же, как в прежних случаях: не потому его любят любящие, что оно любимое, но оно любимое, раз его любят?
Евтифрон. Безусловно.
Сократ. Что же мы скажем, Евтифрон, о благочестивом? Любят ли его все боги, как ты утверждал?
Евтифрон. Да.
Сократ. Но потому ли они его любят, что оно благочестиво, или за что-то другое?
Евтифрон. Нет, именно за это.
Сократ. Значит, его любят потому, что оно благочестиво, а не потому оно благочестиво, что его любят?
Евтифрон. Очевидно.
Сократ. Ну а богоугодное ведь является таковым потому, что оно угодно богам?
Евтифрон. Как же иначе?
Сократ. Значит, богоугодное, Евтифрон, – это не благочестивое и благочестивое – это не богоугодное, как ты утверждаешь, но это две различные вещи.
Евтифрон. Как же так, Сократ?
Сократ. Ведь мы признали, что благочестивое любимо потому, что оно благочестиво, а не благочестиво потому, что оно любимо. Не правда ли?
Евтифрон. Так.
Сократ. С другой стороны, мы признали, что богоугодное является таковым, потому что его любят боги, но не потому оно любимо, что богоугодно.
Евтифрон. Ты прав.
Сократ. Ведь если бы, дорогой Евтифрон, богоугодное и благочестивое было одним и тем же, то как благочестивое любили бы за то, что оно благочестиво, так и богоугодное любили бы за то, что оно богоугодно; с другой стороны, если бы богоугодное было богоугодным потому, что его любят боги, то и благочестивое было бы благочестивым потому, что они его любят. У нас же получилось нечто противоположное – между богоугодным и благочестивым существует полное различие: одному свойственно быть любимым, потому что его любят, другое любят, потому что ему свойственно быть любимым. Похоже, Евтифрон, ты не желаешь разъяснить мне вопрос о том, что такое благочестивое, и показать его сущность, а говоришь лишь о некоем состоянии, претерпеваемом благочестивым, а именно о том, что оно любимо всеми богами; сущность же его ты не раскрываешь. Послушай, если тебе угодно, не таись от меня, но скажи мне снова, с самого начала, в чем состоит сущность благочестивого, из-за которой оно любимо богами или испытывает еще какое-то состояние? Ведь из-за этого у нас с тобой не возникнет спора. Скажи же откровенно, что такое благочестивое и нечестивое?
Евтифрон. Но, Сократ, я как-то не могу объяснить тебе, что именно я разумею. Наше предположение всё блуждает вокруг да около и не желает закрепиться там, куда мы его водружаем.
Сократ. Евтифрон, то, что ты сказал, было бы уместно в устах Дедала, нашего предка; однако, если бы это были мои слова и положения, ты, пожалуй, мог бы и посмеяться надо мной – мол, ввиду моего с ним родства мои словесные построения от меня ускользают и не желают оставаться там, куда я их поставил; но ведь предположения эти принадлежат тебе, а потому и насмешка эта будет совсем не по адресу: именно твои положения оказываются неустойчивыми – ты видишь это и сам.
Евтифрон. Но мне как-то представляется, Сократ, что такая насмешка прямо относится к сказанному: ведь не я вложил в наши слова эту способность блуждать и не оставаться на месте, но именно ты кажешься мне Дедалом. У меня-то они уж стояли бы твердо.
Сократ. Боюсь, мой друг, я окажусь искуснее этого мужа: ведь он придавал подвижность только своим творениям, я же – не только своим, но похоже, что и чужим. Однако особая тонкость моего искусства заключена в том, что я мудр поневоле: ведь больше, чем обладать искусством Дедала да еще вдобавок и богатством Тантала, желал бы я, чтобы мои слова оставались твердо водруженными на месте. Но довольно об этом. Поскольку, мне кажется, ты слабоват, я сам постараюсь показать тебе, как надо мне разъяснить благочестие; но смотри, не падай духом прежде времени. Ну вот, не думаешь ли ты, что все благочестивое необходимо должно быть справедливым?
Евтифрон. Да, я так думаю.
Сократ. Значит, и все справедливое должно быть благочестивым или же все благочестивое будет справедливым, справедливое же не всё будет благочестивым, но в одних случаях будет, а в других – нет?
Евтифрон. Сократ, я не поспеваю за твоими словами.
Сократ. Но ведь ты настолько же моложе меня, по крайней мере, насколько мудрее! Говорю я тебе, что ты расслабился от избытка мудрости. Однако, милейший. прошу тебя, подтянись: ведь не так уж трудно постичь то, что я говорю; говорю же я прямо противоположное тому, что сочинил поэт, молвивший:
- Зевса, который все создал и сам все устроил, —
- Зевса не хочешь назвать: знать, со страхом стыд
- неразлучен [1].
Я же вот чем отличаюсь от этого поэта… Сказать тебе?
Евтифрон. Конечно.
Сократ. Мне не кажется, что «там, где страх, там и стыд» [2]. Многие, думается мне, страшащиеся болезней, бедности и всего другого в таком же роде, страшатся, однако не стыдятся ни одной из пугающих их вещей. Ты не согласен?
Евтифрон. Конечно, согласен.
Сократ. Но зато там, где стыд, там и страх. Разве возможно, чтобы совестящиеся и стыдящиеся чего-либо люди не страшились и не избегали бы при этом дурной молвы?
Евтифрон. Да, они страшатся.
Сократ. Поэтому неверно говорить где страх, там и стыд; наоборот, где стыд, там и страх, но вовсе не так обстоит дело, что всюду, где страх, там и стыд, ибо страх встречается чаще, чем стыд. Стыд ведь есть как бы часть страха, подобно тому как нечетное есть часть числа, однако дело обстоит не так, чтобы там, где было число, было и нечетное; наоборот, где нечетное, там и число. Теперь-то ты поспеваешь за мною?
Евтифрон. Да, конечно.
Сократ. Нечто подобное я говорил и тогда, спрашивая тебя: где справедливое, там и благочестивое, или же где благочестивое, там и справедливое, – так что не всюду, где справедливое, там и благочестивое? Ведь благочестивое – часть справедливого: так мы скажем, или ты считаешь иначе?
Евтифрон. Нет, именно так. Мне кажется, ты правильно говоришь.
Сократ. Посмотри же еще и следующее: если благочестивое – часть справедливого, нам следует выяснить, какой именно частью справедливого оно является. Вот если бы ты спросил меня о чем-то таком – к примеру, какою частью числа будет четное и что оно собой представляет, я ответил бы, что это число, не припадающее на одну ногу, но ровно стоящее на обеих ногах. Или ты иного мнения?
Евтифрон. Нет, я думаю именно так.
Сократ. Вот и постарайся таким образом разъяснить мне, какою частью справедливого будет благочестивое, дабы я и Мелету мог сказать, чтобы он не чинил нам несправедливости и не обвинял нас в нечестии, ибо мы уже как следует у тебя обучились тому, что является праведным и благочестивым, а что – нет.
Евтифрон. Итак, Сократ, мне представляется, что праведным и благочестивым является та часть справедливого, которая относится к служению богам; то же, что относится к заботе о людях, будет остальною частью справедливого.
Сократ. Прекрасно, как мне кажется, ты это молвил, Евтифрон, но мне недостает здесь самой малости: я не вполне уразумел, о каком служении и какой заботе идет речь; не хочешь же ты сказать, что забота о богах носит такой же характер, как забота обо всем прочем. Ну, к примеру, говорим же мы, что не любой человек умеет заботиться о лошадях, но лишь наездник. Не так ли?
Евтифрон. Конечно.
Сократ. Ведь искусство верховой езды – это и есть забота о лошадях?
Евтифрон. Да.
Сократ. И за собаками ведь не всякий умеет ходить, но только охотник?
Евтифрон. Так.
Сократ. Следовательно, охота связана с уходом за собаками.
Евтифрон. Да. Сократ. А искусство ухода за рогатым скотом – это забота о скоте?
Евтифрон. Конечно.
Сократ. Ну а благочестие и праведность – это забота о богах, Евтифрон? Ты так утверждаешь?
Евтифрон. Именно так.
Сократ. Но ведь не всякая забота направлена на одно и то же. Например, она служит некоему добру и пользе для того, на кого направлена: так, лошади под заботливым воздействием искусства верховой езды, как ты замечаешь, получают пользу и становятся лучше. Или ты этого не думаешь?
Евтифрон. Нет, думаю.
Сократ. То же самое и собаки под воздействием охотничьего искусства, и быки от ухода за ними, и так далее. Ведь не думаешь же ты, что забота приносит тому, о ком заботятся, вред?
Евтифрон. Нет, клянусь Зевсом.
Сократ. Значит, она приносит пользу?
Евтифрон. Как же иначе?
Сократ. Так значит, и благочестие, будучи заботой о богах, приносит богам пользу и делает их лучшими? И ты согласишься с тем, что, когда ты совершаешь что-то благочестивое, ты делаешь кого-то из богов лучшим?
Евтифрон. Конечно, нет, клянусь Зевсом!
Сократ. Да я и не думаю, Евтифрон, чтобы ты это утверждал, вовсе нет! Но именно поэтому я и спросил тебя, что ты разумеешь под служением богам. Я и не предполагал, что ты имеешь в виду такого рода заботу.
Евтифрон. И верно, Сократ, я имею в виду не такую заботу.
Сократ. Так скажи же, какого рода служение богам является благочестивым?
Евтифрон. А такое, каким служат рабы своим господам.
Сократ. Понимаю: значит, это своего рода искусство служить богам.
Евтифрон. Несомненно.
Сократ. Можешь ли ты тогда сказать, к какому созиданию приводит искусство услужения врачам? Не приносит ли оно здоровье?
Евтифрон. Да, конечно.
Сократ. Ну а искусство услужения корабельным мастерам служит какому делу?
Евтифрон. Ясно, Сократ, что созданию корабля.
Сократ. А искусство услужения зодчим служит созданию домов?
Евтифрон. Да.
Сократ. Так скажи же, добрейший, к какому созиданию ведет искусство услужения богам? Ясно, что ты это знаешь, коль скоро ты утверждаешь, что тебе лучше других людей ведомы божественные дела.
Евтифрон. И я говорю правду, Сократ.
Сократ. Но скажи, ради Зевса, что это за расчудесное дело, которое вершат боги, пользуясь нами как слугами?
Евтифрон. Многие чудесные дела они вершат, Сократ.
Сократ. И военачальники тоже, мой друг; однако ты легко можешь сказать, что главное их дело – достижение победы в войне. Не так ли?
Евтифрон. Как же иначе?
Сократ. И землевладельцы, думаю я, совершают много чудесных дел; но главная их забота – добывание из земли пищи.
Евтифрон. Конечно.
Сократ. Ну и что же? Из множества чудесных дел, вершимых богами, какое дело является главным?
Евтифрон. Но я ведь только недавно сказал тебе, Сократ, что немалое дело – в точности понять, как с этим всем обстоит.
Скажу тебе лишь попросту, что если кто умеет говорить или делать что-либо приятное богам, вознося молитвы и совершая жертвоприношения, то это – благочестиво, и подобные действия оберегают и собственные дома, и государственное достояние; действия же, противоположные угождению богам, нечестивы и направлены на всеобщее разрушение и гибель.
Сократ. Но ты мог бы, Евтифрон, если бы пожелал, гораздо более кратко назвать то, о чем я тебя спросил. Однако у тебя, видно, нет охоты меня научить. Вот и сейчас, лишь только приблизился ты к самой сути, как снова ускользнул в сторону.
А если бы ты мне это ответил, я бы достаточно много узнал от тебя о благочестии. Теперь же – поскольку вопрошающий вынужден следовать за вопрошаемым, куда бы он ни повел, – поясни, как же ты все-таки понимаешь благочестивое и благочестие? Уж не есть ли это некое умение приносить жертвы и возносить молитвы?
Евтифрон. Вот именно.
Сократ. Но ведь приносить жертвы – это значит одарять богов, а возносить мольбы – значит у них что-то просить?
Евтифрон. Конечно же, Сократ.
Сократ. Итак, согласно твоему слову, получается, что благочестие – это наука о том, как просить и одаривать богов.
Евтифрон. Ты отлично понял, Сократ, то, что я сказал.
Сократ. Да ведь я жажду, мой друг, приобщиться к твоей мудрости и весь обратился в слух, так что ни одно твое словечко не пропадет даром. Но скажи мне, в чем состоит эта служба богам? Ты говоришь, что следует просить их и одаривать?
Евтифрон. Да, вот именно.
Сократ. Так не будет ли правильным просить их о том, в чем мы нуждаемся?
Евтифрон. Конечно, о чем же еще?
Сократ. А правильно ли будет одаривать их взамен тем, в чем у них от нас есть нужда? Ведь как-то неловко одаривать кого-либо тем, в чем он вовсе и не нуждается.
Евтифрон. Ты говоришь правду, Сократ.
Сократ. Итак, Евтифрон, благочестие – это некое искусство торговли между людьми и богами.
Евтифрон. Что ж, пусть это будет искусство торговли, если тебе так нравится.
Сократ. Мне-то это совсем не нравится, коль скоро это неверно. Молви же, какую пользу извлекают боги из получаемых от нас даров? Что дают нам они, это любому ясно, ибо нет у нас ни единого блага, которое исходило бы не от них. Но какая им польза от того, что они получают от нас? Или уж мы так наживаемся за их счет при этом обмене, что получаем от них все блага, они же от нас – ничего?
Евтифрон. Но неужели ты думаешь, Сократ, что боги извлекают какую-то пользу из того, что получают от нас?
Сократ. Но тогда что же это такое, Евтифрон, – наши дары богам?
Евтифрон. Что же иное, полагаешь ты, как не почетные награды, приятные им, как я сказал раньше?
Сократ. Значит, Евтифрон, благочестивое – это приятное, а не полезное и угодное богам?
Евтифрон. Думаю, что, несомненно, это угодное им.
Сократ. Значит, вот оно что такое, благочестивое, – это угодное богам.
Евтифрон. Несомненно.
Сократ. И после всего этого ты удивляешься тому, что твои слова как бы не стоят на месте, но бродят вокруг да около, и обвиняешь меня в том, что я, как Дедал, заставляю их так бродить, а сам куда искуснее Дедала гоняешь слова по кругу!
Или ты не замечаешь, что наше рассуждение, описав круг, вернулось к исходной точке? Припомни же, что вначале благочестивое и богоугодное оказались у нас не одним и тем же, но двумя различными вещами. Или ты не припоминаешь?
Евтифрон. Припоминаю.
Сократ. А сейчас разве ты не замечаешь, что угодное богам ты называешь благочестивым? Разве угодное богам это не богоугодное? Как ты считаешь?
Евтифрон. Конечно же.
Сократ. Значит, либо мы недавно пришли к неправильному решению, либо, если тогда мы решили правильно, то сейчас мы не правы.
Евтифрон. Да, похоже.
Сократ. Следовательно, нам надо с самого начала пересмотреть, что такое благочестивое: ведь пока я этого не узнаю, я не отступлюсь. Прошу тебя, не пренебрегай мною, но изо всех сил постарайся сосредоточиться и ответить мне правду. Ведь если кто и знает ее, так это именно ты, и тебя не следует отпускать, как Протея, пока ты не дашь ответ. Если бы ты не имел ясного представления о благочестивом и нечестивом, ты никоим образом не мог бы из-за поденщика преследовать престарелого отца за убийство, но убоялся бы и богов – не отважился ли ты на ложный шаг – и людей постыдился бы тоже.
Ну, а теперь-то я уверен, что ты ясно представляешь себе благочестивое и нечестивое. Скажи же, любезнейший Евтифрон, что ты об этом думаешь, не таясь.
Евтифрон. В другой раз, Сократ. Сейчас же я тороплюсь в одно место, и мне пора уходить.
Сократ. Что ж это ты делаешь, друг мой! Уходишь, лишая меня великой надежды узнать от тебя о благочестивом и нечестивом и избежать Мелетова иска, доказав ему, что я стал мудрым в божественных вопросах благодаря Евтифрону и никогда уже не буду заниматься невежественной болтовней и вводить в этом деле различные новшества, но впредь стану жить самой достойной жизнью!
Апология Сократа
Как подействовали мои обвинители на вас, о мужи афиняне, я не знаю; что же меня касается, то от их речей я чуть было и сам себя не забыл: так убедительно они говорили. Тем не менее, говоря без обиняков, верного они ничего не сказали. Но сколько они ни лгали, всего больше удивился я одному – тому, что они говорили, будто вам следует остерегаться, как бы я вас не провел своим ораторским искусством; не смутиться перед тем, что они тотчас же будут опровергнуты мною на деле, как только окажется, что я вовсе не силен в красноречии, это с их стороны показалось мне всего бесстыднее, конечно, если только они не считают сильным в красноречии того, кто говорит правду; а если это они разумеют, то я готов согласиться, что я – оратор, только не на их образец. Они, повторяю, не сказали ни слова правды, а от меня вы услышите ее всю. Только уж, клянусь Зевсом, афиняне, вы не услышите речи разнаряженной, украшенной, как у этих людей, изысканными выражениями, а услышите речь простую, состоящую из первых попавшихся слов. Ибо я верю, что то, что я буду говорить, – правда, и пусть никто из вас не ждет ничего другого; да и неприлично было бы мне в моем возрасте выступать перед вами, о мужи, наподобие юноши с придуманною речью.
Так вот я и прошу вас убедительно и умоляю, о мужи афиняне: услыхавши, что я защищаюсь теми же словами, какими привык говорить и на площади у меняльных лавок, где многие из вас слыхали меня, и в других местах, не удивляйтесь и не поднимайте из-за этого шума. Дело-то вот в чем: в первый раз пришел я теперь в суд, будучи семидесяти лет от роду; так ведь здешний-то язык просто оказывается для меня чужим, и как вы извинили бы меня, если бы я, будучи в самом деле чужеземцем, говорил на том языке и тем складом речи, к которым привык с детства, так и теперь я прошу у вас не более, чем справедливости, как мне кажется, – позволить мне говорить по моему обычаю, хорош он или нехорош – все равно, и смотреть только на то, буду ли я говорить правду или нет; в этом ведь и заключается долг судьи, долг же оратора – говорить правду.
И вот правильно будет, о мужи афиняне, если сначала я буду защищаться против обвинений, которым подвергался раньше, и против первых моих обвинителей, а уж потом против теперешних обвинений и против теперешних обвинителей. Ведь у меня много было обвинителей перед вами и раньше, много уже лет, и все-таки ничего истинного они не сказали; их-то опасаюсь я больше, чем Анита с товарищами. И эти тоже страшны, но те еще страшнее, о мужи! Большинство из вас они восстановляли против меня, когда вы были детьми, и внушали вам против меня обвинение, в котором не было ни слова правды, говоря, что существует некий Сократ, мудрый муж, который испытует и исследует все, что над землею, и все, что под землею, и выдает ложь за правду. Вот эти-то люди, о мужи афиняне, пустившие эту молву, и суть страшные мои обвинители, потому что слушающие их думают, что тот, кто исследует подобные вещи, тот и богов не признает. Кроме того, обвинителей этих много и обвиняют они уже давно, да и говорили они с вами в том возрасте, когда вы больше всего верили на слово, будучи детьми, некоторые же юношами, словом – обвиняли заочно, в отсутствие обвиняемого. Но всего нелепее то, что и по имени-то их никак не узнаешь и не назовешь, разве вот только сочинителей комедий. Ну а все те, которые восстановляли вас против меня по зависти и злобе или потому, что сами были восстановлены другими, те всего неудобнее, потому что никого из них нельзя ни привести сюда, ни опровергнуть, а просто приходится как бы сражаться с тенями, защищаться и опровергать, когда никто не возражает. Так уж и вы тоже согласитесь, что у меня, как я сказал, два рода обвинителей: одни – обвинившие меня теперь, а другие – давнишние, о которых я сейчас говорил, и признайте, что сначала я должен защищаться против давнишних, потому что и они обвиняли меня перед вами раньше и гораздо больше, чем теперешние. Хорошо.
Итак, о мужи афиняне, следует защищаться и постараться в малое время опровергнуть клевету, которая уже много времени держится между вами. Желал бы я, разумеется, чтобы так оно и случилось и чтобы защита моя была успешной, конечно, если это к лучшему и для вас, и для меня. Только я думаю, что это трудно, и для меня вовсе не тайна, какое это предприятие. Ну да уж относительно этого пусть будет, как угодно богу, а закон следует исполнять и защищаться.
Припомним же сначала, в чем состоит обвинение, от которого пошла обо мне дурная молва, полагаясь на которую Мелет и подал на меня жалобу. Хорошо. В каких именно выражениях клеветали на меня клеветники? Следует привести их показание, как показание настоящих обвинителей: «Сократ преступает закон, тщетно испытуя то, что под землею, и то, что в небесах, выдавая ложь за правду и других научая тому же». Вот в каком роде это обвинение. Вы и сами видели в комедии Аристофана, как какой-то Сократ болтается там в корзинке, говоря, что он гуляет по воздуху, и несет еще много разного вздору, в котором я ничего не смыслю. Говорю я это не в укор подобной науке и тому, кто достиг мудрости в подобных вещах (недоставало, чтобы Мелет обвинил меня еще и в этом!), а только ведь это, о мужи афиняне, нисколько меня не касается. А в свидетели этого призываю большинство из вас самих и требую, чтобы это дело обсудили между собою все те, кто когда-либо меня слышал; ведь из вас много таких. Спросите же друг у друга, слышал ли кто из вас когда-либо, чтобы я хоть сколько-нибудь рассуждал о подобных вещах, и тогда вы узнаете, что настолько же справедливо и все остальное, что обо мне говорят.
А если еще кроме всего подобного вы слышали от кого-нибудь, что я берусь воспитывать людей и зарабатываю этим деньги, то и это неправда; хотя мне кажется, что и это дело хорошее, если кто способен воспитывать людей, как, например, леонтинец Горгий, кеосец Продик, элидец Гиппий. Все они, о мужи, разъезжают по городам и убеждают юношей, которые могут даром пользоваться наставлениями любого из своих сограждан, оставлять своих и поступать к ним в ученики, платя им деньги, да еще с благодарностью. А вот и еще, как я узнал, проживает здесь один ученый муж с Пароса. Встретился мне на дороге человек, который переплатил софистам денег больше, чем все остальные вместе, – Каллий, сын Гиппоника; я и говорю ему (а у него двое сыновей): «Каллий! Если бы твои сыновья родились жеребятами или бычками, то нам следовало бы нанять для них воспитателя, который бы усовершенствовал присущую им породу, и человек этот был бы из наездников или земледельцев; ну а теперь, раз они люди, кого думаешь взять для них в воспитатели? Кто бы это мог быть знатоком подобной доблести, человеческой или гражданской? Полагаю, ты об этом подумал, приобретя сыновей? Есть ли таковой, спрашиваю, или нет?» – «Конечно, – отвечает он, – есть». – «Кто же это? – спрашиваю я. – Откуда он и сколько берет за обучение?» – «Эвен, – отвечает он, – с Пароса, берет по пяти мин, Сократ». И благословил я этого Эвена, если правда, что он обладает таким искусством и так недорого берет за обучение. Я бы и сам чванился и гордился, если бы был искусен в этом деле; только ведь я в этом не искусен, о мужи афиняне!
Может быть, кто-нибудь из вас возразит: «Однако, Сократ, чем же ты занимаешься? Откуда на тебя эти клеветы? В самом деле, если бы сам ты не занимался чем-нибудь особенным, то и не говорили бы о тебе так много. Скажи нам, что это такое, чтобы нам зря не выдумывать». Вот это, мне кажется, правильно, и я сам постараюсь вам показать, что именно дало мне известность и навлекло на меня клевету. Слушайте же. И хотя бы кому-нибудь из вас показалось, что я шучу, будьте уверены, что я говорю сущую правду. Эту известность, о мужи афиняне, получил я не иным путем, как благодаря некоторой мудрости. Какая же это такая мудрость? Да уж, должно быть, человеческая мудрость. Этой мудростью я, пожалуй, в самом деле мудр; а те, о которых я сейчас говорил, мудры или сверхчеловеческой мудростью, или уж не знаю, как и сказать; что же меня касается, то я, конечно, этой мудрости не понимаю, а кто утверждает обратное, тот лжет и говорит это для того, чтобы оклеветать меня. И вы не шумите, о мужи афиняне, даже если вам покажется, что я говорю несколько высокомерно; не свои слова буду я говорить, а сошлюсь на слова, для вас достоверные. Свидетелем моей мудрости, если только это мудрость, и того, в чем она состоит, я приведу вам бога, который в Дельфах. Ведь вы знаете Херефонта. Человек этот смолоду был и моим, и вашим приверженцем, разделял с вами изгнание и возвратился вместе с вами. И вы, конечно, знаете, каков был Херефонт, до чего он был неудержим во всем, что бы ни затевал. Ну вот же, приехав однажды в Дельфы, дерзнул он обратиться к оракулу с таким вопросом. Я вам сказал не шумите, о мужи! Вот он и спросил, есть ли кто-нибудь на свете мудрее меня, и Пифия ему ответила, что никого нет мудрее. И хотя сам он умер, но вот брат его засвидетельствует вам об этом.
Посмотрите теперь, зачем я это говорю; ведь мое намерение – объяснить вам, откуда пошла клевета на меня. Услыхав это, стал я размышлять сам с собою таким образом: что бы такое бог хотел сказать и что это он подразумевает? Потому что сам я, конечно, нимало не сознаю себя мудрым; что же это он хочет сказать, говоря, что я мудрее всех? Ведь не может же он лгать: не полагается ему это. Долго я недоумевал, что такое он хочет сказать; потом, собравшись с силами, прибегнул к такому решению вопроса: пошел я к одному из тех людей, которые слывут мудрыми, думая, что тут-то я скорее всего опровергну прорицание, объявив оракулу, что вот этот, мол, мудрее меня, а ты меня назвал самым мудрым. Ну и когда я присмотрелся к этому человеку – называть его по имени нет никакой надобности, скажу только, что человек, глядя на которого я увидал то, что я увидал, был одним из государственных людей, о мужи афиняне, – так вот, когда я к нему присмотрелся (да побеседовал с ним), то мне показалось, что этот муж только кажется мудрым и многим другим, и особенно самому себе, а чтобы в самом деле он был мудрым, этого нет; и я старался доказать ему, что он только считает себя мудрым, а на самом деле не мудр. От этого и сам он, и многие из присутствовавших возненавидели меня. Уходя оттуда, я рассуждал сам с собою, что этого-то человека я мудрее, потому что мы с ним, пожалуй, оба ничего в совершенстве не знаем, но он, не зная, думает, что что-то знает, а я коли уж не знаю, то и не думаю, что знаю. На такую-то малость, думается мне, я буду мудрее, чем он, раз я, не зная чего-то, и не воображаю, что знаю эту вещь. Оттуда я пошел к другому, из тех, которые кажутся мудрее, чем тот, и увидал то же самое; и с тех пор возненавидели меня и сам он, и многие другие.
Ну и после этого стал я уже ходить по порядку. Замечал я, что делаюсь ненавистным, огорчался этим и боялся этого, но в то же время мне казалось, что слова бога необходимо ставить выше всего. Итак, чтобы понять, что означает изречение бога, мне казалось необходимым пойти ко всем, которые слывут знающими что-либо. И, клянусь собакой, о мужи афиняне, уж вам-то я должен говорить правду, что я поистине испытал нечто в таком роде: те, что пользуются самою большою славой, показались мне, когда я исследовал дело по указанию бога, чуть ли не самыми бедными разумом, а другие, те, что считаются похуже, – более им одаренными. Но нужно мне рассказать вам о том, как я странствовал, точно я труд какой-то нес, и все это для того только, чтобы прорицание оказалось неопровергнутым. После государственных людей ходил я к поэтам, и к трагическим, и к дифирамбическим, и ко всем прочим, чтобы на месте уличить себя в том, что я невежественнее, чем они. Брал я те из их произведений, которые, как мне казалось, всего тщательнее ими отработаны, и спрашивал у них, что именно они хотели сказать, чтобы, кстати, и научиться от них кое-чему. Стыдно мне, о мужи, сказать вам правду, а сказать все-таки следует. Ну да, одним словом, чуть ли не все присутствовавшие лучше могли бы объяснить то, что сделано этими поэтами, чем они сами. Таким образом, и относительно поэтов вот что я узнал в короткое время: не мудростью могут они творить то, что они творят, а какою-то прирожденною способностью и в исступлении, подобно гадателям и прорицателям; ведь и эти тоже говорят много хорошего, но совсем не знают того, о чем говорят. Нечто подобное, как мне показалось, испытывают и поэты; и в то же время я заметил, что вследствие своего поэтического дарования они считали себя мудрейшими из людей и в остальных отношениях, чего на деле не было. Ушел я и оттуда, думая, что превосхожу их тем же самым, чем и государственных людей.
Под конец уж пошел я к ремесленникам. Про себя я знал, что я попросту ничего не знаю, ну а уж про этих мне было известно, что я найду их знающими много хорошего. И в этом я не ошибся: в самом деле, они знали то, чего я не знал, и этим были мудрее меня. Но, о мужи афиняне, мне показалось, что они грешили тем же, чем и поэты: оттого, что они хорошо владели искусством, каждый считал себя самым мудрым также и относительно прочего, самого важного, и эта ошибка заслоняла собою ту мудрость, какая у них была; так что, возвращаясь к изречению, я спрашивал сам себя, что бы я для себя предпочел, оставаться ли мне так, как есть, не будучи ни мудрым их мудростью, ни невежественным их невежеством, или, как они, быть и тем и другим. И я отвечал самому себе и оракулу, что для меня выгоднее оставаться как есть.
Вот от этого самого исследования, о мужи афиняне, с одной стороны, многие меня возненавидели, притом как нельзя сильнее и глубже, отчего произошло и множество клевет, а с другой стороны, начали мне давать это название мудреца, потому что присутствующие каждый раз думают, что сам я мудр в том, относительно чего я отрицаю мудрость другого. А на самом деле, о мужи, мудрым-то оказывается бог, и этим изречением он желает сказать, что человеческая мудрость стоит немногого или вовсе ничего не стоит, и, кажется, при этом он не имеет в виду именно Сократа, а пользуется моим именем для примера, все равно как если бы он говорил, что из вас, о люди, мудрейший тот, кто, подобно Сократу, знает, что ничего-то по правде не стоит его мудрость. Ну и что меня касается, то я и теперь, обходя разные места, выискиваю и допытываюсь по слову бога, не покажется ли мне кто-нибудь из граждан или чужеземцев мудрым, и, как только мне это не кажется, спешу поддержать бога и показываю этому человеку, что он не мудр. И благодаря этой работе не было у меня досуга сделать что-нибудь достойное упоминания ни для города, ни для домашнего дела, но через эту службу богу пребываю я в крайней бедности.
Кроме того, следующие за мною по собственному почину молодые люди, у которых всего больше досуга, сыновья самых богатых граждан, рады бывают послушать, как я испытываю людей, и часто подражают мне сами, принимаясь пытать других; ну и я полагаю, что они находят многое множество таких, которые думают, что они что-то знают, а на деле ничего не знают или знают одни пустяки. От этого те, кого они испытывают, сердятся не на самих себя, а на меня и говорят, что есть какой-то Сократ, негоднейший человек, который развращает молодых людей. А когда спросят их, что он делает и чему он учит, то они не знают, что сказать, но, чтобы скрыть свое затруднение, говорят то, что вообще принято говорить обо всех любителях мудрости: он-де занимается тем, что [ищет] в небесах и под землею, богов не признает, ложь выдает за истину. А сказать правду, думаю, им не очень-то хочется, потому что тогда оказалось бы, что они только делают вид, будто что-то знают, а на деле ничего не знают. Ну а так как они, думается мне, честолюбивы, могущественны и многочисленны и говорят обо мне согласно и убедительно, то и переполнили ваши уши, клевеща на меня издавна и громко. От этого обрушились на меня и Мелет, и Анит, и Ликон: Мелет, негодуя за поэтов, Анит – за ремесленников, а Ликон – за риторов. Так что я удивился бы, как говорил вначале, если бы оказался способным опровергнуть перед вами в столь малое время столь великую клевету. Вот вам, о мужи афиняне, правда, как она есть, и говорю я вам без утайки, не умалчивая ни о важном, ни о пустяках. Хотя я, может быть, и знаю, что через это становлюсь ненавистным, но это и служит доказательством, что я сказал правду и что в этом-то и состоит клевета на меня и таковы именно ее причины. И когда бы вы ни стали исследовать это дело, теперь или потом, всегда вы найдете, что это так.