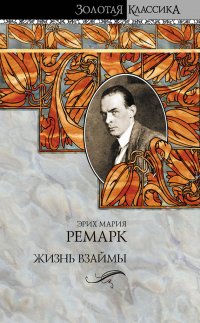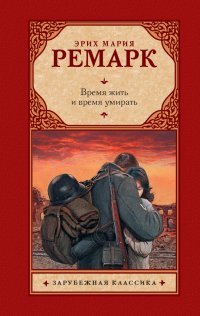Читать онлайн На обратном пути бесплатно
- Все книги автора: Эрих Мария Ремарк
Erich Maria Remarque
DER WEG ZURUCK
© The Estate of the late Paulette Remarque, 1931
© Перевод. Е. Шукшина, 2015
© ООО «Издательство АСТ», 2015
Пролог
Второй взвод – кто уцелел – дремлет в разбитой траншее за линией фронта.
– Странные гранаты, – говорит вдруг Юпп.
– Ты о чем? – приподнявшись на локте, спрашивает Фердинанд Козоле.
– Послушай.
Приложив руку к уху, Козоле напрягает слух. Мы тоже вслушиваемся в ночь. Но слышен только глухой гул артиллерийского огня и писк гранат. Справа еще пулеметные очереди и редкие вскрики. Но ведь так уже много лет. Рот, что ли, из-за этого разевать? Козоле вопросительно смотрит на Юппа.
– Перестало, – смущенно оправдывается тот.
Козоле бросает на него еще один пристальный взгляд. Но поскольку Юпп молчит, он, отворачиваясь, бухтит:
– В животе у тебя урчит, вот и все твои гранаты. Спи лучше.
Фердинанд подгребает себе земли под голову и осторожно вытягивается, чтобы сапоги не попали в воду.
– Черт, а дома у человека жена и двуспальная кровать, – бормочет он уже с закрытыми глазами.
– Кровать-то, поди, не пустует, – парирует из своего угла Юпп.
Козоле открывает один глаз и внимательно на него смотрит. Вид у него такой, будто сейчас встанет, но он только ворчит:
– Чудило кельнское… Не посоветовал бы ей это делать. – Через мгновение Фердинанд уже храпит.
Юпп жестом подзывает меня. Я перешагиваю через сапог Адольфа Бетке и подсаживаюсь. Осторожно поглядывая на храпящего Козоле, Юпп брюзжит:
– Ты глянь на него. Никакого образования, скажу я тебе.
До войны Юпп служил писарем в конторе одного кельнского адвоката и, хотя уже три года как на фронте, обидчив по-прежнему, почему-то придавая значение тому, что он образованный человек. Зачем ему это, Юпп, конечно, не знает, но из всего слышанного ему врезалось в память именно это слово, и он цепляется за него, как утопающий за соломинку. У каждого что-то такое есть, у кого жена, у кого работа, у кого сапоги, вот у Валентина Лаэра шнапс, а Тьядену еще бы разок от пуза наесться фасоли с салом. Козоле же «образование» невероятно раздражает. Это слово для него связано со стоячим воротничком, и все тут. Он реагирует даже сейчас. Не переставая храпеть, Фердинанд лаконично замечает:
– Крыса гнилая канцелярская.
Юпп печально, возвышенно качает головой. Какое-то время мы молчим, тесно прижавшись друг к другу, чтобы было теплее. Ночь сырая, холодная, небо затянуто облаками, время от времени принимается дождь. Тогда плащ-палатки, на которых мы сидим, перекочевывают нам на голову.
На горизонте вспыхивает пламя орудий. Такое уютное, что кажется, там теплее. От артиллерийских сполохов отделяются пестрые, серебристые цветы ракет. Над развалинами хутора в дымчатом воздухе плывет большая красная луна.
– Как думаешь, доберемся до дома? – шепотом спрашивает Юпп.
Я пожимаю плечами.
– Говорят, да…
Юпп громко вздыхает.
– Теплая комната, диван, а вечером где-нибудь поужинать… Ты можешь себе это представить?
– Последний раз в увольнении я померил гражданское, – задумчиво говорю я, – мал́о стало, нужно новое.
Как чудн́о все это здесь звучит: гражданское, диван, ужин… Дурацкие мысли лезут в голову: кофе такой бывает, с сильным привкусом солдатского котелка – металла и ржавчины, так что, давясь и обжигаясь, приходится выплевывать его обратно.
Юпп мечтательно ковыряет в носу.
– Черт подери, витрины, кафе и женщины.
– Да ты радуйся, если выберешься из этого дерьма, – говорю я, дыханием отогревая руки.
– Тоже верно. – Юпп натягивает плащ-палатку на тощие сутулые плечи. – А ты чем займешься потом?
Я смеюсь.
– Я-то? Боюсь, придется вернуться в училище. И мне, и Вилли, и Альберту, и даже вон Людвигу.
Я киваю назад, где у раздолбанного блиндажа лежит нечто, укрытое двумя шинелями.
– Ах ты, черт! Но вы ведь не вернетесь? – спрашивает Юпп.
– Не знаю. Боюсь, придется, – отвечаю я и непонятно почему начинаю злиться.
* * *
Нечто под шинелями шевелится. Высовывается бледное, узкое лицо, раздается тихий стон. Это лейтенант Людвиг Брайер, наш взводный, мы вместе учились. Уже несколько недель у него кровавый понос; это, конечно же, дизентерия, но он не хочет возвращаться в лазарет, предпочитая оставаться с нами, потому что мы все ждем мира и тогда сразу сможем забрать его с собой. Лазареты переполнены, почти никакого ухода, на этой койке ты уже чуть-чуть мертвее. Кругом все дохнут, а когда валяешься там один, получается заразно; не успеешь оглянуться, и каюк. Макс Вайль, наш санитар, достал Брайеру что-то наподобие жидкого гипса; тот его жует, чтоб кишки зацементировались и хоть что-нибудь удерживали. И все равно ему приходится спускать штаны по двадцать—тридцать раз в день.
Вот и сейчас Людвигу нужно отойти. Я помогаю ему зайти за угол, и он присаживается на корточки. Юпп делает мне знак рукой:
– Слышишь, опять.
– Что?
– Те гранаты.
Козоле ворочается и зевает. Потом поднимается, со значением смотрит на свой тяжелый кулак, косится на Юппа и говорит:
– Черт, если будешь тут еще заливать, готовь мешок для картошки. Отправишь домой вместе со своими костями.
Мы слушаем. Шипение и свист невидимых гранат прерываются странным протяжным, резким звуком, таким непонятным и новым, что у меня мурашки по коже.
– Газовые гранаты! – вскакивая, кричит Вилли Хомайер.
Тут мы все окончательно просыпаемся и напряженно вслушиваемся. Веслинг смотрит на небо.
– Да вон же они! Дикие гуси!
Под мрачными серыми облаками темной полосой тянется клин. Острие, нацеленное на луну, врезается в красный диск, отчетливо видны черные силуэты, угол, сложенный из множества крыльев, вереница, издающая незнакомый, сумасшедший гомон, затихающий вдали.
– Улетели, – ворчит Вилли. – Черт возьми, вот бы так же драпануть! Два крыла, и вперед!
Генрих Веслинг смотрит вслед гусям.
– Зима, – медленно говорит он. Веслинг крестьянин и в таких вещах разбирается.
Обессиленный Людвиг Брайер грустно прислоняется к стене и бормочет:
– Первый раз вижу перелетных гусей.
Козоле вдруг охватывает сильное возбуждение. Он трясет Веслинга, больше всего его интересует, крупнее ли дикие гуси, чем домашние.
– Примерно одинаковые, – отвечает Веслинг.
– Елки-моталки, – у Козоле от волнения трясутся щеки, – так там летит десятка два порций роскошного жаркого!
И опять гуси машут крыльями прямо у нас над головой; опять хриплый горловой клич бьет, будто ястреб по темечку; внезапно шум крыльев, клекот, протяжные крики и порывы усиливающегося ветра дают яркую картину свободы и жизни.
Раздается выстрел. Козоле опускает винтовку и пристально всматривается в небо. Он целился в самый центр клина. Тьяден рядом с ним, как охотничья собака, готов тут же броситься к упавшему гусю. Но неразомкнутая цепочка летит дальше.
– Жалко, – говорит Адольф Бетке, – был бы первый толковый выстрел на этой вшивой войне.
Козоле с огорчением отбрасывает винтовку.
– Хоть бы немножко дроби!
Представляя, что бы тогда было, он, загрустив, невольно начинает жевать.
– Вот-вот, – подтверждает наблюдающий за ним Юпп, – с яблочным муссом и жареной картошкой, ага?
Козоле злобно смотрит на него.
– Заткни пасть, канцелярская крыса!
– Тебе бы в летчики, – ухмыляется Юпп. – Взял бы их сейчас сетью.
– Сволочь, – завершает перепалку Козоле и снова устраивается спать.
Это лучше всего. Дождь усиливается. Мы садимся спиной к спине, держа над головой плащ-палатки. Сидим в траншее, как темные кучки земли. Земля, солдатская форма и подо всем этим немножко жизни.
* * *
Меня будит громкий шепот:
– Вперед… Пошли!
– Что случилось? – толком не проснувшись, спрашиваю я.
– Выступаем, – бурчит Козоле, хватая вещи.
– Так мы только оттуда, – с изумлением говорю я.
– Что ты несешь? – возмущается Веслинг. – Война ведь закончилась.
– Ладно, вперед!
Это Хеель, собственной персоной, наш ротный. Он нетерпеливо бежит по траншее. Людвиг Брайер уже на ногах.
– Ничего не попишешь, нужно идти, – обреченно говорит он и берет несколько ручных гранат.
Адольф Бетке смотрит на него.
– Ты бы остался, Людвиг. Куда тебе с твоей дизентерией.
Брайер качает головой.
Затягиваются пояса, стучат винтовки, и вдруг из-под земли опять поднимается затхлый запах смерти. Мы-то надеялись, что навсегда избавились от него, поскольку видели, как ракетой взмыла мысль о мире; и, хотя мы все еще не понимали, не верили в этот мир, одной надежды было довольно, чтобы за несколько минут, пока слух передавался по цепочке, изменить нас больше, чем за двадцать месяцев. До сих пор один год войны накладывался на другой, один год безнадежности цеплялся за другой, и, если подсчитать, вам почти сразу же приходилось изумляться, что это тянется так долго, что это промелькнуло так быстро. Но теперь, когда мы уже знаем, что не сегодня завтра будет мир, каждый час весит в тысячу раз больше, каждая минута под огнем тяжелее и дольше всех последних лет.
* * *
В разбитых траншеях воет ветер; бегут, время от времени закрывая луну, облака. Свет – тень. Четырнадцать человек идут плотной цепочкой, отряд теней, жалкий второй взвод, выбитый весь, кроме нескольких человек; с целой роты едва ли наберется взвод, но это отборные остатки. У нас даже трое «стариков» – Бетке, Веслинг и Козоле, они знают все и иногда рассказывают о первых месяцах маневренной войны, как будто это было во времена Священной Римской империи.
На позиции каждый ищет себе уголок, норку. Пока почти ничего не происходит. Осветительные ракеты, пулеметы, крысы. Одну Вилли ловко подбрасывает ногой и перерубает лопатой.
Отдельные выстрелы. Вдалеке справа разрывы гранат.
– Может, хоть здесь обойдется, – говорит Веслинг.
– Не хватало еще, чтоб сейчас мозги продырявили, – качает головой Вилли.
– Уж если не везет, так сломаешь палец, ковыряя в носу, – отзывается Валентин.
Людвиг лежит на плащ-палатке. Ему в самом деле лучше было остаться. Макс Вайль дает ему пару таблеток, Валентин уговаривает выпить шнапса. Леддерхозе начинает рассказывать какую-то сальную историю. Его никто не слушает. Мы просто лежим. Время идет.
Вдруг я вздрагиваю и поднимаю голову. Приподнимается и Бетке. Оживился даже Тьяден. Многолетний инстинкт что-то нашептывает, никто пока толком ничего не понимает, но происходит что-то особенное. Мы осторожно вытягиваем головы и прислушиваемся, сощурив глаза в узкие щелочки, чтобы пробить взглядом сумерки. Все начеку, чувства обострены до предела, мышцы приготовились к еще неизвестному, к тому, что еще только надвигается и может означать лишь опасность. По земле тихонько шуршат гранаты, с которыми Вилли, лучше всех умеющий их метать, ползком пробирается вперед. Мы лежим, распластавшись, как кошки. Рядом со мной Людвиг Брайер. В его сосредоточенном лице ни следа болезни. Оно такое же холодное, смертельное, как у всех здесь, – траншейное лицо. Его намертво сковало напряжение – настолько чрезвычайно впечатление, произведенное в нас подсознанием, задолго до того, как чувства могут в нем разобраться.
Колышется, ползет туман. И внезапно я понимаю, что вызвало в нас эту сильнейшую тревогу. Всего-навсего стало тихо. Совсем тихо.
Ни пулеметов, ни пуль, ни разрывов, ни свиста гранат – вообще ничего, ни выстрела, ни крика. Просто тишина. Полная.
Мы смотрим друг на друга, мы не в состоянии это объяснить. Все то время, что мы на фронте, так тихо не было ни разу. Мы беспокойно озираемся, пытаясь понять, что это значит. Может, наползает газ? Но ветер такой, что отогнал бы его. Готовится атака? Но тишина непременно выдала бы атаку прежде времени. Что же происходит? Граната в моей руке влажная, я взмок от волнения. Нервы, кажется, сейчас порвутся. Проходит пять минут. Десять.
– Уже пятнадцать минут, – говорит Валентин Лаэр.
В тумане его голос звучит приглушенно, словно из могилы. И по-прежнему ничего, никакой атаки, никаких резко сгущающихся, стремительных теней… Руки разжимаются и сжимаются еще сильнее. Это непереносимо! На фронте мы привыкли к постоянному грохоту, и когда он вдруг не давит, такое чувство, что мы сейчас лопнем, взлетим воздушными шариками.
– Елки, подождите, это же мир, – вдруг говорит Вилли, и кажется, будто разорвалась бомба.
Лица расслабляются, движения становятся бесцельными и неуверенными. Мир? Мы с сомнением смотрим друг на друга. Мир? Я отбрасываю гранаты. Мир? Людвиг опять медленно ложится на плащ-палатку. Мир? У Бетке глаза такие, словно его сейчас разорвет. Мир? Веслинг стоит не шевелясь, дуб дубом, потом поворачивается к нам корпусом, но смотрит при этом совсем в другую сторону, как будто собирается идти – домой.
Вдруг – мы почти не заметили этого в нашем взволнованном смятении – тишина заканчивается, опять глухие выстрелы, опять вдали стучат дятлом пулеметы. Мы успокаиваемся и почти рады снова слышать такие знакомые звуки смерти.
Днем спокойно. Ночью, что случалось частенько, приходится немного отступить. Но оттуда нас не просто преследуют – атакуют. Мы и моргнуть не успели, как оказались под шквальным огнем. Позади в сумерках буйствуют красные фонтаны. Иногда они на время стихают. Вилли и Тьяден находят банку мясных консервов и тут же ее уничтожают. Остальные лежат и ждут. Долгие месяцы их испепелили, они почти безучастны – пока не наступает момент, когда можно обороняться.
К нам в траншею спрыгивает ротный.
– У вас все есть? – перекрикивает он грохот.
– Снарядов мало, – кричит Бетке.
Хеель пожимает плечами и через плечо протягивает Бетке сигарету. Тот, не оборачиваясь, кивает.
– Обойдетесь так, – кричит Хеель и бежит в следующую траншею.
Он знает, что обойдемся. Все старые солдаты с неменьшим успехом могли бы быть ротными командирами.
Становится темно. До нас добирается огонь. Защититься особо нечем. Руками и лопатами мы расковыриваем в воронке углубление и, тесно прижавшись друг к другу, укладываемся туда головами. Возле меня Альберт Троске и Адольф Бетке. Метрах в двадцати разрывается снаряд. На свист этой дряни мы раззявливаем рты, чтобы уберечь барабанные перепонки, но все равно почти теряем способность слышать, земля и грязь забиваются в глаза, чертов дым – пороховой, сернистый – дерет горло. Градом сыплются осколки. Кого-то точно накрыло, потому что к нам в траншею вместе с горячим осколком гранаты летит оторванная рука. Опять запрыгивает Хеель. В свете взрывов под шлемом видно его лицо, от бешенства белое как стена.
– Это Брандт, – объясняет он. – Прямое попадание, в кашу.
Опять все грохочет, гудит, жужжит, сыплются градом железо и грязь, гремит воздух, содрогается земля. Затем завеса приподнимается, отодвигается, и в то же мгновение с земли встают люди, обожженные, черные, с гранатами в руках, они внимательны, они готовы.
– Медленно отходим! – кричит Хеель.
Бой слева от нас. Он идет за одну из наших точек в воронке. Лай пулемета. Секундные вспышки гранат.
Пулемет замолкает – пулеметчику надо поменять магазин, – и с фланга сюда тут же устремляется атака. Еще несколько минут, и точка отрезана. Хеель, заметив это, садится на насыпь.
– Черт возьми! Вперед!
В воронку перебрасывают снаряды, и вот уже Вилли, Бетке, Хеель, лежа на земле, бросают гранаты. Потом Хеель опять вскакивает, он сумасшедший в такие моменты, просто как бешеный дьявол. Но этого достаточно, у тех, в воронке, новый прилив мужества, опять затарахтел пулемет, наладилась связь, и мы вместе отбегаем назад к бетонной глыбе. Все происходит так быстро, что американцы даже не заметили, как мы покинули точку. Снаряды рвутся в уже пустой воронке.
Становится тише. Я боюсь за Людвига. Но он здесь. Подползает Бетке.
– Куда подевался Веслинг?
– Что с ним? Где он?
Выкрики повисают в глухом гуле отдаленных выстрелов.
– Веслинг!.. Веслинг!..
Появляется Хеель.
– Что случилось?
– Веслинга нет.
Рядом с Веслингом до приказа об отступлении лежал Тьяден, но больше он его не видел.
– Черт подери!
Козоле смотрит на Бетке. Бетке на Козоле. Оба знают, что это, может быть, наш последний бой. Но не медлят ни секунды.
– Все равно, – бурчит Бетке.
– Пошли, – сопит Козоле.
Они исчезают в темноте. Хеель выпрыгивает следом за ними.
Людвиг делает все необходимое, чтобы немедленно броситься на помощь, если на них навалятся. Какое-то время стоит тишина. Но потом рвутся гранаты. Встревают револьверные выстрелы. Мы тут же выскакиваем, Людвиг первым, и вот уже видны потные лица Бетке и Козоле. Они тащат кого-то на плащ-палатке.
Хеель? Нет, это стонет Веслинг. А Хеель? Прикрывает. Он отстреливается и быстро возвращается.
– Вся банда в воронке готова! – кричит он. – Еще двоих из револьвера. – Затем смотрит на Веслинга. – Ну, что?
Тот не отвечает. Живот вспорот, как туша в мясницкой лавке. Понять, насколько глубока рана, невозможно. С грехом пополам его перебинтовывают. Веслинг со стоном просит пить, но ему не дают. Раненым в живот пить нельзя. Затем он просит, чтобы его укрыли. Он мерзнет, потерял много крови.
Вестовой приносит приказ продолжать отступление. Веслинга мы берем на плащ-палатку, продев в нее винтовку, пока не найдем настоящие носилки. Осторожно пробираемся друг за другом. Медленно светлеет. В кустах серебрится туман. Мы выходим из зоны боевых действий. Вроде все уже позади, но вдруг тихонько что-то пищит и с тиканьем взрывается. Людвиг Брайер молча закатывает рукав. Задело руку. Вайль его перевязывает. Мы идем обратно. Обратно.
* * *
Воздух нежен, как вино. Прямо не ноябрь, а март. Небо бледно-голубое, ясное. В лужах на дороге отражается солнце. Мы идем по тополиной аллее. Деревья по обе стороны высокие, почти первозданные, только кое-где бреши. Это был тыл, здесь нет таких опустошений, как на тех квадратных километрах, что мы оставляли день за днем, метр за метром. Солнце освещает коричневую плащ-палатку; мы идем по желтым аллеям; плавно покачиваясь в воздухе, безостановочно падают листья; иной нет-нет да и упадет на раненого.
Лазарет битком. У входа множество раненых. Веслинга мы тоже пока оставляем на улице. Раненые в руку – на руках белые повязки – выстраиваются для убытия. Лазарет уже расформировывается. Врач осматривает вновь прибывших. Раненого, у которого нога ниже колена неестественно вывернута, он сразу велит забрать внутрь. Веслинга только перевязывают и оставляют на улице. Он выныривает из дремоты и смотрит вслед врачу.
– Почему он уходит?
– Сейчас вернется, – говорю я.
– Но ведь мне туда, меня надо оперировать. – Вдруг страшно переполошившись, Веслинг теребит повязку. – Это же нужно немедленно зашить.
Мы пытаемся его успокоить. Он позеленел и взмок от страха.
– Адольф, беги за ним, пусть вернется.
Бетке медлит. Под взглядом Веслинга он не может не пойти, хотя понимает, что это бесполезно. Я вижу, как он говорит с врачом. Веслинг, насколько может, следит за ним; ужасно смотреть, как он пытается вывернуть шею.
Бетке, вернувшись так, чтобы Веслинг его не видел, качает головой, поднимает один палец и беззвучно шепчет: «че-рез-час».
Мы пытаемся подбодрить его, подмигивая и улыбаясь. Но никому еще не удавалось провести крестьянина. Бетке говорит, что операция будет позже, что рана должна сперва чуть поджить, и Веслинг тут же все понимает. Секунду он молчит, а потом тихонько вздыхает:
– Да, вот вы тут стоите, здоровые… вернетесь домой… а я… четыре года и на тебе… четыре года… и на тебе…
– Генрих, тебя сейчас возьмут в лазарет, – уверяет его Бетке.
Он отворачивается.
– Оставь.
После этого Веслинг в основном молчит. Еще он не хочет внутрь, хочет остаться на улице. Лазарет расположен на невысоком склоне. Отсюда далеко видна аллея, по которой мы пришли, – пестрая, золотая. Земля тихая, мягкая, надежная. Возле лазарета даже поля – небольшие коричневые вспаханные квадратики. Когда ветер относит дух крови и гноя, можно почувствовать терпкий запах земли. Даль синяя, все такое мирное, поскольку вид открывается не на линию фронта. Та правее.
Веслинг затих. Он внимательно осматривает все вокруг. Взгляд ясный, пристальный. Он крестьянин и понимает природу лучше, иначе, чем мы. Еще он понимает, что сейчас его не станет, и поэтому не хочет ничего пропустить, смотрит не отрываясь. С каждой минутой все больше бледнеет. Потом делает движение рукой и шепчет:
– Эрнст…
Я наклоняюсь к его губам.
– Достань мои вещи, – говорит он.
– Времени полно, Генрих…
– Нет-нет, достань.
Я выкладываю перед ним вещи. Коленкоровый бумажник, нож, часы, деньги – в общем, все как обычно. В бумажнике фотография жены без обложки.
– Покажи, – говорит он.
Я вынимаю снимок и держу его так, чтобы Веслингу было видно. Ясное, смуглое лицо. Он смотрит и чуть погодя шепчет:
– Ну, вот и конец.
У него дрожат губы. Потом он отворачивается.
– Возьми, – говорит он.
Я не понимаю, что он имеет в виду, но не хочу расспрашивать и убираю фотографию в карман.
– Отдай ей.
Он смотрит на меня странным взглядом, широко открыв глаза, качает головой, стонет. Я судорожно пытаюсь еще что-то разобрать, но у него только клокочет в горле, он вытягивается, дышит тяжелее, медленнее, с перерывами, неровно, потом еще раз вздыхает очень глубоко, со всхлипом, глаза вдруг будто слепнут… И Веслинг умирает.
* * *
На следующее утро мы в последний раз на линии фронта. Уже почти не стреляют. Война окончена. Через час нам уходить. И больше сюда не нужно будет возвращаться. Мы уйдем навсегда.
Мы крушим то, что можно. Не так-то много. Пару блиндажей.
Поступает приказ об отходе.
Странный момент. Мы стоим плечом к плечу и смотрим вперед. По земле стелются легкие клочья тумана. Четко видны линии воронок и траншеи. Они хоть и последние, – это резервные позиции, – но здесь еще стреляют. Как часто мы пробирались по этим траншеям, как часто возвращались по ним с малым числом товарищей… Перед нами серая монотонность: вдали то, что осталось от лесочка, какие-то пни, разгромленная деревня, одинокая уцелевшая высокая стена.
– Да, – задумчиво говорит Бетке, – вот тут мы и просидели четыре года…
– Проклятье, – кивает Козоле. – А теперь просто все кончилось.
– Ну надо же, прямо не верится. – Вилли Хомайер прислоняется к насыпи. – Чудн́о, правда?
Мы стоим и смотрим. Даль, выжженный лес, высоты, траншеи на горизонте, это был чудовищный мир, тяжкая жизнь. А теперь, когда мы разворачиваемся в обратном направлении, все это останется позади – а как же иначе? – с каждым шагом будет все дальше и дальше, через час исчезнет, словно и не было никогда. Разве это можно понять?
Мы стоим и вроде бы должны смеяться и вопить от радости, а на самом деле в животе такое глухое ощущение, как будто съел веник и сейчас начнет выворачивать.
Никто толком ничего не говорит. Людвиг Брайер устало прислоняется к насыпи траншеи и поднимает руку, как будто хочет кому-то помахать.
Появляется Хеель.
– Что, никак не можете расстаться? Да, сейчас начнется гадость.
Леддерхозе смотрит на него с удивлением.
– Сейчас начнется мир.
– Я и говорю – гадость, – кивает Хеель и уходит с таким лицом, как будто только что похоронил мать.
– Ему неймется получить «Pour le mérite»,[1] – заявляет Леддерхозе.
– Заткнись, ради бога, – говорит Альберт Троске.
– Ну, пошли, – неуверенно предлагает Бетке, не двигаясь с места.
– А ведь кое-кто тут и остался, – говорит Людвиг.
– Да, Брандт, Мюллер, Кат, Боймер, Бертинк…
– Зандкуль, Майндерс, оба Тербрюггена, Хуго, Бернхард…
– Господи, прекратите…
Много кто остался, но до сих пор это вселяло иное чувство. Мы были вместе, они в гробиках, мы в окопиках, нас разделяла лишь горсть земли. Они нас просто опередили, потому что с каждым днем нас становилось все меньше, а их все больше; часто мы не знали, мы уже с ними или еще нет. А иногда гранаты снова выносили их к нам – взметнувшиеся, раздробленные кости, клочки формы, сгнившие, мокрые, уже землистые головы, которые под шквальным огнем еще разок возвращались в бой из своих засыпанных блиндажей. Ничего ужасного: мы были к ним очень близки. Но теперь мы возвращаемся в жизнь, а им придется остаться.
Людвиг, у которого здесь погиб отец, сморкается двумя пальцами и разворачивается. Медленно мы идем следом, но еще не раз останавливаемся и смотрим назад. Опять стоим и внезапно чувствуем, что вот это все, этот кромешный ужас, этот развороченный пятачок усеянной воронками земли поселился у нас в сердце, и – черт побери, ерунда какая, тошнит уже – и почти кажется, будто все родное, такая мучительная, чудовищная родина, мы просто срослись с ней.
Только и остается что качать головой: то ли это пропавшие, оставшиеся здесь годы, то ли оставшиеся здесь товарищи, то ли горе, покрывшее землю, но жалко так, что хочется выть.
И мы уходим.
Первая часть
Длинные дороги тянутся мимо деревень, пасмурно, шумят деревья и падают, падают листья. А по дорогам в полинялой, грязной форме бредут серые колонны – шаг, еще шаг. Заросшие лица под стальными шлемами осунулись, исхудали, их выел голод и скорби; черты застыли в рисунок, на котором изображены ужас, отвага и смерть. Колонны бредут молча; так же, как шли по бесконечным дорогам, сидели в бесконечных товарных вагонах, ютились в бесконечных блиндажах, лежали в бесконечных траншеях, без особых разговоров, так и сейчас бредут по дороге, домой, в мирную жизнь. Без особых разговоров.
Бородатые старики и тоненькие мальчики, которым нет и двадцати, – все товарищи, без различий. Рядом с ними их лейтенанты – полудети, но командиры стольких ночей и атак. Позади армия мертвых. А они бредут вперед, шаг, еще шаг, больные, оголодавшие, без боеприпасов, жидкими ротами, с глазами, которые все еще не в силах постичь: вырвавшись из преисподней, мы на обратном пути в жизнь.
I
Рота шагает медленно, так как мы устали и с нами еще раненые. Из-за этого мы постепенно отстаем. Местность холмистая, и когда дорога идет вверх, с высоты мы видим впереди остатки наших уходящих войск, а сзади плотные, бесконечные, следующие за нами колонны. Это американцы. Как широкая река, они идут между деревьями, над ними тревожно посверкивает оружие. А вокруг мирные поля, и кроны деревьев серьезно, безучастно высятся над напирающим потоком.
На ночь мы встаем в маленькой деревеньке. За домами, выделенными под постой, журчит поросший ивой ручей. По берегу бежит узкая тропинка. По одному, друг за другом, длинной цепочкой мы идем вдоль ручья. Впереди Козоле. Рядом с ним, обнюхивая вещмешок, семенит Вольф, наш ротный пес.
Там, где тропинка выходит на дорогу, Фердинанд вдруг отскакивает.
– Берегись!
Мы тотчас же поднимаем винтовки и рассыпаемся. Козоле, изготовившись к стрельбе, уже лежит в придорожной канаве, Юпп и Троске на корточках притаились за зарослями бузины, Вилли Хомайер тянется за гранатами, даже наши раненые готовы к бою.
По дороге идут американцы. Они смеются и о чем-то болтают. Это нагнавший нас головной дозор.
Адольф Бетке единственный остался стоять. Он спокойно делает несколько шагов из укрытия на дорогу. Козоле опять встает. Мы тоже приходим в себя и смущенно, растерянно оправляем пояса с гранатами и ремни винтовок – ведь боев нет уже несколько дней.
Заметив нас, американцы теряются. Разговор прерывается. Они медленно идут в нашу сторону. Мы, прикрывая спину, медленно отступаем к сараю и ждем. С минуту все молчат, а потом высоченный американец отделяется от группы и машет нам рукой.
– Привет, брат!
Адольф Бетке тоже поднимает руку.
– Брат!
Напряжение ослабевает. Нас окружают подходящие американцы. До сих пор мы их видели так близко только пленными или мертвыми.
Странный момент. Мы молча смотрим друг на друга. Они стоят полукругом, высокие, сильные, сразу видно, что кормили их досыта. Все молодые – даже близко никого возраста Адольфа Бетке или Фердинанда Козоле, а они далеко не самые старшие среди нас. Но и ни одного юнца вроде Альберта Троске или Карла Брёгера, а они у нас далеко не самые молодые.
Американцы в новой форме, новых шинелях, в непромокаемых, по ноге, ботинках, оружие отличное, сумки набиты боеприпасами. Все свежие, полны сил.
По сравнению с ними мы словно банда разбойников. Форма выцвела от многолетней грязи, дождей Аргонн, извести Шампани, болот Фландрии, шинели посечены осколками и шрапнелью, чинены грубыми стежками, задубели от глины, а то и крови, сапоги растоптаны, оружие раздолбано, боеприпасы почти закончились; все мы одинаково грязные, одинаково одичавшие, одинаково усталые. Война проехалась по нам паровым катком.
* * *
Американцы все идут и идут. Любопытных уже целая толпа. А мы все стоим, забившись в угол, сгрудившись вокруг раненых, не потому, что боимся, просто мы вместе. Американцы пихают друг друга, кивая на наши ветхие пожитки. Один предлагает Брайеру кусок белого хлеба, но тот не берет, хотя в глазах голод.
Вдруг кто-то негромко восклицает, обращая внимание остальных на перетянутые шпагатом повязки наших раненых из креповой бумаги. Все смотрят на них, затем отходят на пару шагов и перешептываются. Дружелюбные лица исполнены сочувствия, они видят, что у нас нет даже бинтов. Окликнувший нас человек кладет Бетке руку на плечо.
– Неметский – хоуоший солдат, – говорит он, – смеуый солдат.
Остальные старательно кивают.
Мы не отвечаем, потому что не можем сейчас ответить. Последние недели дорого нам дались. Нас все время бросали под обстрел, мы попусту теряли людей, но особо не задавались вопросами, а просто делали, что говорят, как делали все это время, и под конец в нашей роте осталось тридцать два человека из двухсот. Так и выбрались, не предаваясь раздумьям и чувствуя лишь одно: мы правильно делали то, что нам было поручено.
Однако теперь, под сочувственными взглядами американцев, мы понимаем, как все это, в общем-то, было бессмысленно. Их бесконечные, добротно оснащенные колонны говорят нам, какой безнадежно превосходящей силе – что по людским резервам, что по технике – мы противостояли.
Мы кусаем губы и смотрим друг на друга. Бетке вытягивает плечо из-под руки американца, у Козоле застыл взгляд, Людвиг Брайер выпрямляется; мы крепче сжимаем винтовки, мускулы напрягаются, глаза отрываются от земли и становятся жестче, мы снова смотрим в даль, из которой пришли, лица напряжены, собраны, и горячей волной все снова проносится перед внутренним взором – все, что мы делали, все, что перенесли, все, что оставили позади.
Мы не понимаем, что с нами; но если бы сейчас кто-нибудь бросил резкое слово, мы, невзирая на свои желания, собрались бы с силами, кинулись, рванули вперед, в бешенстве и неудержимости, в безумии и отчаянии, и начали бы драться – несмотря ни на что, драться…
Коренастый сержант с разгоряченным лицом, пробравшись к нам, обращает к Козоле, который стоит к нему ближе всех, поток немецких слов. Фердинанд вздрагивает от неожиданности.
– Да он говорит точно как мы, – удивляется он, повернувшись к Бетке. – Что скажешь?
Сержант говорит даже лучше Козоле, более бегло. Он рассказывает, что до войны жил в Дрездене, где у него было много друзей.
– В Дрездене? – совсем оторопев, переспрашивает Козоле. – Так я тоже там жил два года.
Сержант улыбается, как будто это знак отличия, и называет свою улицу.
– Это от меня пять минут ходу, – сообщает взволнованный Козоле. – И что мы не встретились! А вы, может быть, знаете вдову Поль, на углу Йоханнисштрассе? Толстая такая, черные волосы. Моя квартирная хозяйка.
Нет, ее сержант не знает, зато знает финансового советника Цандера, которого, в свою очередь, не может вспомнить Козоле. Но оба помнят Эльбу, замок и радостно смотрят друг на друга, как старые приятели. Фердинанд хлопает сержанта по плечу:
– Ну надо же, ты смотри, тарахтит по-немецки, как я не знаю, и жил в Дрездене! Господи, а чего же мы тогда воевали?
Сержант, который тоже этого не знает, смеется и, достав пачку сигарет, протягивает ее Козоле. Тот торопливо берет, потому что за сигарету каждый из нас душу продаст. Мы курим листья бука и солому, и это еще лучшее. Валентин Лаэр утверждает, что обычные сигареты делают из водорослей и сушеного конского навоза, а он в таких вещах разбирается.
Млея от удовольствия, Козоле пускает дым. Мы жадно принюхиваемся. Лаэр бледнеет. Ноздри у него дрожат.
– Дай затянуться, – с мольбой в голосе говорит он Фердинанду.
Но прежде чем он успевает взять сигарету, другой американец протягивает ему пакетик табака «Вирджиния». Валентин недоверчиво на него смотрит. Затем берет пакет и нюхает. Лицо его проясняется. Неохотно он возвращает табак. Но солдат отказывается и тычет в кокарду на пилотке Лаэра, которая торчит из вещмешка. Валентин не понимает.
– Он хочет обменять табак на кокарду.
Тут Лаэр вообще перестает что-либо понимать. Первоклассный табак на какую-то жестяную кокарду? Он, должно быть, рехнулся. Сам он не отдал бы такой пакетик, даже если бы его за это произвели в унтер-офицеры или лейтенанты. Валентин предлагает американцу всю пилотку целиком и дрожащими руками жадно набивает первую трубку.
Теперь мы понимаем, в чем дело: американцы хотят меняться. Видно, что они недолго на фронте, еще собирают сувениры – погоны, кокарды, пряжки, ордена, форменные пуговицы. Мы отдаем все это добро за мыло, сигареты, шоколад и консервы. Они даже суют нам целую горсть денег за пса – в придачу, но тут уж пусть предлагают сколько угодно, Вольф останется с нами. Зато нам повезло с ранеными. Один американец с такой кучей золота во рту, что лицо у него блестит, как латунный сервиз, хочет перевязочные клочья с кровью, чтобы показать дома, что они в самом деле из бумаги. Он предлагает за них отличное печенье и, главное, целую охапку перевязочного материала. Осторожно, с сияющим от радости лицом он засовывает ошметки в бумажник, особенно Людвиговы, потому что это кровь лейтенанта. Брайеру приходится карандашом написать на них место, имя и войсковую часть, чтобы в Америке поверили, что это не обман. Сначала он, правда, не хотел, но Вайль уговорил, потому что нам позарез нужны бинты. Кроме того, с этим поносом печенье для него спасение.
Однако самую выгодную сделку заключает Артур Леддерхозе. Он достает шкатулку с орденами, на которую набрел в брошенной канцелярии. Один американец, такой же помятый, как и Артур, и с таким же кислым лицом, хочет заграбастать всю шкатулку. Но Леддерхозе долго, свысока смотрит на него сощуренными глазами. Американец так же неподвижно и вроде бы без усилий выдерживает взгляд. Они вдруг становятся похожи, как братья. Возобладал переживший войну и смерть дух гешефта.
Противник Леддерхозе быстро понимает, что делать нечего, Артура не провести: торговля в розницу для него значительно выгоднее. Он ведет обмен, пока шкатулка не пустеет, потихоньку обрастая целой кучей вещей, даже таких, как масло, шелк, яйца, белье, и под конец стоит, будто лавка колониальных товаров на кривых ногах.
* * *
Мы трогаемся в путь. Американцы что-то кричат нам вслед и машут руками, энергичнее всех сержант. Насколько это возможно для старого солдата, возбужден и Козоле. Он блеет что-то прощальное и тоже машет; правда, у него это всегда похоже на угрозу, а потом говорит Бетке:
– Нормальные ребята, правда?
Адольф кивает. Мы молча идем дальше. Фердинанд повесил голову. Думает. Он занимается этим не очень часто, но уж если его скрутило, то не оторвешь, долго мусолит. У него все не выходит из головы сержант из Дрездена.
Деревенские смотрят нам вслед. В будке путевого обходчика на окошке стоят цветы. Женщина кормит ребенка полной грудью. Она в синем платье. Нас облаивают собаки. Вольф огрызается в ответ. На дороге петух покрывает курицу. Мы бездумно курим.
Идем, идем. Зона полевого лазарета. Зона управления продовольственного снабжения. Большой парк с платанами. Под деревьями носилки и раненые. Падающие листья укрывают их красным и золотым.
Лазарет для травленных газами. Тяжелые больные, которых уже нельзя транспортировать. Синие, восковые, зеленые лица; мертвые, разъеденные кислотой глаза; умирающие хрипят, задыхаются. Все хотят убраться отсюда, боясь угодить в плен. Как будто не все равно, где помирать.
Мы пытаемся их утешить, говоря, что у американцев уход лучше. Но они не слушают и кричат нам вслед, чтобы мы взяли их с собой. Крики эти ужасны. В ясном воздухе бледные лица совершенно неправдоподобны. Но хуже всего щетина. Она как-то отдельно, жесткая, упорная, лезет, выпирает на подбородках, черный плесенный налет, питающийся человеческим разложением.
Некоторые тяжелораненые, как дети, тянут тонкие, серые руки.
– Ребята, возьмите меня с собой, – умоляют они. – Ребята, возьмите меня с собой.
В глазницах уже залегли глубокие, потусторонние тени, и только, будто у утопленников, пучатся глазные яблоки. Другие лишь молча следят за нами взглядом. Сколько могут.
Постепенно крики становятся тише. Одна дорога сменяет другую. Мы тащим кучи всякого барахла: надо же что-то принести домой. Небо обложено облаками. После обеда прорывается солнце, и березы с почти облетевшей листвой отражаются в дождевых лужах. Ветви окутаны легким голубым воздухом.
Я иду с ранцем за спиной, опустив голову, и в прозрачных лужах на обочине вижу отражение светлых шелковистых деревьев. В этом случайном зеркале оно сильнее реальности. На коричневом грунте угнездился кусочек неба со всей его глубиной, ясностью, с деревьями, и внезапно мне становится страшно. Впервые за долгое время я опять вижу красоту, чистую красоту, отражение в лужице – просто красиво. И сквозь страх распирает сердце, все на мгновение отступает, я впервые чувствую – мир, вижу – мир, до конца понимаю – мир. Напряжение, не оставлявшее места для другого, ослабевает; взмывает неизвестное, новое, чайка, белая чайка, мир, мерцающий горизонт, мерцающие ожидания, первый взгляд, предчувствие, надежда, нарождающееся, грядущее – мир. Я в ужасе оборачиваюсь; позади мои товарищи на носилках, они всё кричат мне вслед. Уже мир, а им все-таки придется умереть. Но я дрожу от радости и не стыжусь этого. Странно…
Может быть, войны не прекращаются оттого, что никто не в состоянии до конца прочувствовать страдания другого.
II
После обеда мы сидим во дворе пивоварни. Нас созывает ротный, Хеель, вернувшийся из фабричной конторы. Поступил приказ: нужно выбрать надежных людей. Мы изумлены. Раньше такого не бывало.
Тут во дворе появляется Макс Вайль. Он машет газетой:
– В Берлине революция!
Хеель резко оборачивается:
– Чушь. В Берлине беспорядки.
Но Вайль еще не все сказал.
– Кайзер бежал в Голландию.
Тут все переполошились. Вайль, видать, рехнулся. Побагровевший Хеель орет:
– Врешь, негодяй!
Вайль протягивает ему газету. Хеель комкает ее и гневно смотрит на Вайля. Он терпеть его не может, потому что Вайль еврей, спокойный человек, все время сидит и читает книги. А Хеель удалец.
– Ерунда, – ворчит он и смотрит на Вайля, как будто хочет съесть его с потрохами.
Макс расстегивает мундир и достает еще один экстренный выпуск. Хеель, бросив на него быстрый взгляд, рвет газету в клочья и уходит в дом, где расположился штаб. Вайль снова складывает газетный лист и читает нам новости. Мы сидим ошалевшие, как пьяные курицы. Никто уже ничего не понимает.
– Пишут, он не хотел гражданской войны, – говорит Вайль.
– Глупости, – отзывается Козоле. – Мы бы тоже так могли сказать, тогда. Черт подери, и за это мы здесь корчились.
– Юпп, ущипни меня. Может, я сплю? – качает головой Бетке.
Юпп с удовольствием его щиплет.
– Тогда это, наверно, правда, – продолжает Бетке. – Но все-таки я ничего не понимаю. Если бы это сделал кто-нибудь из нас, поставили бы к стенке.
– Только не думать сейчас про Веслинга и Шрёдера. – Козоле сжимает кулаки. – Иначе я лопну. Этот цыпленок Шрёдер, его просто расплющило, как он там лежал. А тот, за кого он погиб, дает деру! Чертово дерьмо! – Он шарашит кулаком в бочку с пивом.
Вилли Хомайер делает примирительный жест рукой.
– Давайте о чем-нибудь другом, – предлагает он. – С этой сволочью мне все окончательно ясно.
Вайль рассказывает, что в некоторых полках создают солдатские советы. Офицеры уже не командиры. Со многих сорвали погоны.
Он хочет и у нас учредить солдатский совет. Но воодушевления это предложение не встречает. Мы не хотим ничего учреждать. Мы хотим домой. А туда мы дойдем и без солдатских советов.
В конце концов избирают трех надежных человек – Адольфа Бетке, Макса Вайля и Людвига Брайера. Вайль требует, чтобы Людвиг снял погоны.
– Очумел? – устало отвечает Людвиг и стучит пальцем по лбу.
Бетке отталкивает Вайля со словами:
– Людвиг наш.
Брайер добровольцем пошел на фронт и тут стал лейтенантом. Он на ты не только с нами – с Троске, Хомайером, Брёгером, со мной – это само собой разумеется, мы вместе учились, – но и со старшими товарищами, когда поблизости нет других офицеров. За это его очень уважают.
– А Хеель? – не унимается Вайль.
Это еще можно понять. Хеель часто задирал Вайля, неудивительно, что он хочет поквитаться. Нам, в общем, все равно. Хеель хоть и резковат, но на врага бросался, что твой Блюхер, всегда был впереди. А для солдат это важно.
– Ну так спроси его, – говорит Бетке.
– Только не забудь бинты! – кричит вслед Тьяден.
Но получается иначе. Хеель выходит из штаба и на пороге сталкивается с Вайлем. Ротный показывает нам какие-то бланки и кивает Максу:
– Все верно.
Вайль начинает говорить. Когда речь заходит о погонах, Хеель делает резкое движение. Мы уже думаем, что сейчас полетят перья, но ротный, к нашему изумлению, говорит:
– Вы правы. – Затем оборачивается к Людвигу и кладет ему руку на плечо. – Вам, наверно, это непонятно, Брайер, да? Солдатский мундир, и все. Остальное провалилось к чертям.
Мы молчим. Это не тот Хеель, которого мы знаем, тот ночью ходил в дозор с одной тросточкой и был заговорен от пуль. А сейчас перед нами человек, которому трудно стоять и говорить.
Вечером – я уже уснул – меня будят голоса.
– Ладно тебе, – слышу я Козоле.
– Да ей-богу, – отвечает ему Вилли. – Сам иди посмотри.
Они поднимаются и идут на двор. Я за ними. В штабе свет, можно заглянуть в комнату. Хеель сидит за столом. Перед ним его офицерский мундир. Без погон. Сам он в солдатском мундире. Голову опустил на руки и – но это же невозможно… Я делаю шаг вперед. Хеель – Хеель! – плачет.
– Ничего себе, – шепчет Тьяден.
– Пошли, – говорит Бетке, пихая Тьядена.
Мы, потрясенные, удаляемся.
На следующее утро все говорят, что один майор, узнав о бегстве кайзера, якобы застрелился.
Приходит Хеель. Лицо серое, видно, не спал. Тихо дает необходимые указания. И уходит. Всем не по себе. Последнее, что у нас было, отняли. И мы утратили почву под ногами.
– Как будто тебя предали, – бурчит Козоле.
Колонна выстраивается и мрачно идет дальше. Это совсем другая колонна, чем вчера. Потерянная рота, брошенная армия. Котелки мерно постукивают в такт шагам: всё-зря-всё-зря.
Только Леддерхозе бодрячком, распродает свои американские запасы – консервы, сахар.
* * *
К вечеру следующего дня мы доходим до Германии. Теперь, когда вокруг говорят не по-французски, мы действительно начинаем верить в мир. До сих пор в глубине души мы всё ждали приказа «Кру-у-гом!» и возвращения в траншеи, потому что солдат с подозрением относится к хорошему; лучше исходить из плохого. Но теперь нас начинает слегка потряхивать.
Мы входим в большую деревню. Над дорогой несколько увядших гирлянд. Наверно, тут прошло уже столько войск, что ради последних нет смысла специально что-то затевать. Нам приходится довольствоваться поблекшим «Добро пожаловать!» на залитом дождем зеленом плакате в обрамлении кривых буковых веток. Мы идем по деревне, и на нас почти никто не обращает внимания, настолько люди привыкли. Но для нас-то все это в новинку, нам ужасно хочется приветливых слов, взглядов, хоть мы и говорим, что плевать. Ну, хоть девушки могли бы на минутку встать у дороги и помахать платочками. Тьяден и Юпп то и дело окликают их, но тщетно. Наверно, мы слишком грязные. И они в конце концов сдаются.
Только детям интересно. Мы берем их за руку, и они бегут рядом. Мы дарим им шоколад, которым можем поделиться, потому что сколько-нибудь нужно, конечно, принести домой.
Адольф Бетке берет на руки маленькую девочку. Она дергает его за усы, как за уздечку, и взахлеб смеется, потому что он корчит гримасы. Ручонками девочка шлепает его по лицу. Он берет одну ручку и показывает мне: смотри, мол, какая маленькая.
Когда Бетке перестает кривляться, девочка начинает плакать. Адольф пытается ее успокоить, но она только пуще плачет, и ему приходится ее опустить.
– Нами, похоже, теперь только детей пугать, – бурчит Козоле.
– Они пугаются настоящих траншейных лиц, им жутко делается, – заявляет Вилли.
– От нас пахнет кровью, вот в чем дело, – говорит Людвиг Брайер.
– Наверно, надо помыться, – полагает Юпп. – Тогда девчонки, может, будут повнимательнее.
– Да, если бы это можно было просто смыть, – задумчиво отвечает Людвиг.
Раздраженные, мы идем дальше. После стольких лет на чужбине мы представляли себе возвращение домой иначе. Мы думали, нас ждут, а теперь видим, что все по-прежнему заняты только собой. Жизнь шла и идет, как будто мы тут лишние. Эта деревня, конечно, не вся Германия, но тем не менее досадно, будто какая-то тень легла на нас, странное такое предчувствие.
Грохочут мимо телеги, кричат возницы, люди бросают на них мимолетные взгляды и спешат дальше вслед своим мыслям и заботам. На церковной башне бьют часы, сырой ветер будто обнюхивает нас. И только пожилая женщина в чепце с длинными лентами без устали ходит вдоль наших рядов и всё опасливо спрашивает про какого-то Эрхарда Шмидта.
Мы располагаемся в большом сарае, но, хоть прошли много, спать никто не собирается. Идем в пивную.
Там гульба вовсю. Разливают мутное молодое вино, замечательно вкусное. Оно здорово бьет по ногам. Тем приятнее сидеть. Табачный дым стелется по низкому залу, вино пахнет землей и летом. Мы достаем консервы, ножом толсто намазываем их на хлеб, втыкаем ножи в широкие столешницы и едим. Керосиновая лампа сияет над нами прямо как мать.
Такой вечер скрашивает жизнь. Не в каких-то траншеях, а в мире. Мы пришли сюда злые, а теперь оживаем. Маленький оркестрик в углу быстро пополняется нашими. Среди нас не только виртуозные пианисты и мастера губной гармошки, но даже один баварец, играющий на басовой цитре. К ним присоединяется Вилли Хомайер, который соорудил что-то вроде скрипки об одной струне и что было мочи наяривает на тазах и крышках от корыт, изображая ударные и бунчук.
Но самое непривычное – девушки, это бьет в голову посильнее вина. Они совсем не такие, как днем, смеются, разговаривают. Или это другие? Девушек мы не видели очень давно.
Нам не терпится, однако сначала мы робеем, просто не решаемся, поскольку на фронте разучились иметь с ними дело, но потом Фердинанд Козоле приглашает одну на вальс – здоровую, как гренадер, с мощным бруствером, на который так удобно опираться. Остальные следуют его примеру.
Сладкое тяжелое вино приятно поет в голове, девушки щебечут, музыка играет, а мы в углу сидим вокруг Адольфа Бетке.
– Дети мои, – говорит он, – завтра или послезавтра мы дома. О, дети мои, моя жена… вот уже десять месяцев…
Я наклоняюсь к Валентину Лаэру, который невозмутимо, уверенно рассматривает девушек. Рядом с ним сидит блондинка, но он не обращает на нее особого внимания. Когда я нагибаюсь над столом, мне что-то впивается в живот. Часы Веслинга. Как все это далеко!
Юппу досталась самая толстая дама. Он танцует с ней, превратившись в вопросительный знак. Лапища легла на мощный круп и играет на нем, как на пианино. Влажными губами девушка смеется ему прямо в лицо, и он все заметнее оживляется. В конце концов Юпп подтанцовывает с ней к выходу и исчезает во дворе.
Через несколько минут я выхожу на улицу поискать укромный уголок, но там уже потный офицер с девушкой. Я брожу по саду и только собираюсь заняться делом, как сзади раздается грохот. Я оборачиваюсь и вижу на земле Юппа с толстушкой. Они свалились с садового стола. Заметив меня, толстушка хихикает и высовывает язык. Юпп шипит. Я торопливо удаляюсь в кусты и тут же наступаю кому-то на руку. Треклятая ночь.
– Ты что, болван, не видишь? – раздается густой бас.
– Откуда мне знать, осел, что ты тут разлегся? – огрызаюсь я и наконец нахожу спокойный уголок.
Пока я оправляюсь, меня овевает прохладный ветерок, это приятно после чада пивной. Темные фронтоны домов, листва, тишина, мирное журчание. Ко мне подходит и становится рядом Альберт. Светит луна. Струя будто из серебра.
– Господи, Эрнст, это надо же! – говорит Альберт.
Я киваю. Мы еще какое-то время стоим в лунном свете.
– Что все это дерьмо закончилось, а, Альберт?
– Да, черт подери…
Позади раздается треск. Девушки в кустах ликующе вскрикивают, тут же зажимая ладошкой рот. Эта ночь, как гроза, заряжена лихорадочным огнем бьющих через край жизней, буйно и стремительно загорающихся друг от друга при малейшем соприкосновении.
В саду кто-то стонет. В ответ хихиканье. С сеновала спускаются тени. Двое стоят на приставной лестнице. Мужчина как безумный вжимает голову в женские юбки и что-то бормочет. Она хрипло смеется, как будто ершиком проходится по нервам. За воротник затекает мелкий дождик. Как все это рядом – вчера и сегодня, смерть и жизнь.
Из темного сада выходит Тьяден. Он весь взмок, но лицо сияет.
– Ребята, теперь я опять знаю, что мы живы, – говорит он, застегиваясь.
Обойдя пивную, мы видим Вилли Хомайера. Он развел на поле большой костер из травы, бросил туда несколько злодейски добытых картофелин и теперь мирно, мечтательно сидит и ждет, пока они испекутся. Справа от него отбивные из американских консервных банок, рядом с мясом бдительный Вольф.
Мерцающий огонь медью отсвечивает в рыжих волосах Вилли. С луга тянется туман. Блестят звезды. Мы подсаживаемся к нему и достаем из огня картофелины. Кожура сгорела дотла, но нутро золотисто-желтое и пахнет. Мы хватаем отбивные обеими руками и впиваемся в них, как в губную гармошку. Запиваем шнапсом из алюминиевых стаканчиков.
Какая вкусная картошка! Мир, что ли, вернулся на круги своя? Где мы? Может, снова мальчишками сидим на поле у Торлокстена, после того как целый день выбирали из сильно пахнущей земли картошку, а за нами девочки в синих полинялых юбках и с корзинками? Печеная картошка детства! Белый дым тянется над полем, потрескивает костер, больше ни звука, это последняя картошка, остальное уже убрано, только земля, ясный воздух, горький, белый, любимый дым, последняя осень. Горький дым, горький запах осени, печеная картошка юности – дым пластается, стелется, его утягивает, лица ребят, мы в пути, войне конец, все чудесным образом сливается воедино – снова печеная картошка, и осень, и жизнь.
– Господи, Вилли, Вилли…
– Недурственно, да? – спрашивает он, поднимая глаза и еле удерживая в руках мясо и картошку.
Ах, дурья твоя башка, да я совсем о другом.
* * *
Огонь догорел. Вилли вытирает руки о штаны и складывает нож. В деревне лают собаки. В остальном полная тишина. Никаких гранат. Никакого грохочущего транспорта с боеприпасами. Даже осторожного шуршания санитарных машин, и того нет. Ночь, в которую умрет намного меньше людей, чем в любую за последние четыре года.
Мы возвращаемся в пивную. Там уже намного тише. Валентин снял мундир и пару раз встал на руки. Девушки хлопают в ладоши, но мрачный Валентин с досадой говорит Козоле:
– Я ведь когда-то был неплохим акробатом, Фердинанд. А это не годится даже для ярмарки. Все повыбило из костей. Валентин на трапеции – какой был номер! А сейчас у меня ревматизм…
– Да ты радуйся, что кости целы! – восклицает Козоле, стукнув рукой по столу. – Музыку, Вилли!
Хомайер охотно возвращается к своим ударным и бунчуку. Атмосфера оживляется. Я спрашиваю у Юппа, как было с толстушкой. Он пренебрежительно отмахивается.
– Да ты что! – оторопев, говорю я, – как у тебя все быстро.
Он кривится.
– Думаю, она в меня влюбилась, понимаешь? Конечно, денег эта потаскуха потом от меня потребовала. И при этом я так трахнулся коленом об этот чертов стол, что еле хожу.
Людвиг Брайер сидит тихий, бледный. Вообще-то ему давно пора спать, но он не хочет. Рука заживает хорошо, и понос несколько ослаб. Но он как-то ушел в себя.
– Людвиг, – многозначительно говорит Тьяден, – тебе бы тоже в сад. Помогает ото всего…
Людвиг качает головой и вдруг страшно бледнеет. Я подсаживаюсь к нему и спрашиваю:
– Ты что, совсем не рад, что скоро будешь дома?
Он встает и уходит. Я перестаю его понимать. Чуть позже я обнаруживаю его на улице. Он совсем один. Я больше ни о чем не спрашиваю. Мы молча идем обратно и в дверях сталкиваемся с Леддерхозе, который как раз удаляется с толстушкой. Юпп ухмыляется:
– Вот он сейчас удивится.
– Ну-у, удивиться-то придется ей, – говорит Вилли. – Или ты думаешь, что Артур выложит хоть пфенниг?
Вино течет со стола, лампа коптит, летают девичьи юбки. На лице у меня теплая усталость, все очертания размыты, как светлые пятна в тумане, голова медленно клонится к столу… Мягко и чудесно гудит ночь, словно скорый поезд домой. Скоро мы будем там.
III
Мы в последний раз выстраиваемся на казарменном плацу. Часть роты встала на постой в окр́уге и потому считается в увольнении. Остальные вынуждены отдуваться. Поезда ходят, как бог на душу положит, и нас не удастся отправить всех вместе. Придется расстаться.
Широкий серый плац для нас слишком велик. Задувает тоскливый ноябрьский ветер, пахнущий отъездом и умиранием. Мы стоим между столовой и караулом, больше места нам не нужно. Огромное пустое пространство будит печальные воспоминания. Вместе с нами, на много рядов вглубь, невидимые, стоят мертвые.
Хеель идет вдоль строя. А вместе с ним бесшумная призрачная вереница его предшественников. Первым – у него до сих пор горлом идет кровь, подбородок снесло, глаза печальные – Бертинк, ротным был полтора года, учитель, женат, четверо детей. За ним Мёллер с черно-зеленым лицом, девятнадцать лет, отравлен газом через три дня после того, как принял командование ротой. Потом Редекер, чиновник из департамента лесоводства, через две недели его впечатали в землю прямым попаданием. Следом уже бледный, далекий Бюттнер, капитан, погиб во время атаки от пулеметного выстрела в сердце. И еще, и еще, как тени, почти без имен, они уже незнамо где – семеро ротных за два года. И больше пятисот человек. А тридцать два стоят на казарменном плацу.
* * *
Хеель пытается сказать что-то на прощание, но у него не выходит, и он замолкает. Никаким словам на свете не превозмочь этот одинокий, пустынный казарменный плац, где безмолвно, дрожа от холода в шинелях и сапогах, стоят и вспоминают товарищей несколько десятков уцелевших.
Хеель идет по рядам и протягивает каждому подчиненному руку. Дойдя до Макса Вайля, он говорит тонкими губами:
– Начинается ваше время, Вайль.
– Оно будет не таким кровавым, – спокойно парирует Макс.
– И не таким героическим.
– Это не самое главное в жизни.
– Но лучшее, – упорствует Хеель. – А что же еще?
Мгновение Вайль колеблется, потом говорит:
– То, что сегодня не звучит, господин старший лейтенант, доброта и любовь. У них свой героизм.
– Нет, – быстро отвечает Хеель, как будто долго об этом думал, и у него дергается мышца на лбу, – там одно мученичество, а это другое. Героизм начинается тогда, когда отказывает разум, когда плевать на жизнь. Это бессмысленность, дурман, риск, чтоб вы знали. А цель практически ни при чем. Цель из другого мира. Почему, зачем, отчего – кто задает такие вопросы, ничего в этом не понимает…
Он говорит так горячо, как будто хочет убедить самого себя. На опавшем лице буря чувств. За несколько дней он ожесточился и постарел на много лет. Но так же быстро изменился и обычно незаметный Вайль, в котором, правда, никто толком не мог разобраться. А тут вдруг он выдвинулся и становится все решительнее. Никто и представить не мог, что он так заговорит. Чем больше нервничает Хеель, тем спокойнее Макс. Тихо и твердо он говорит:
– Горе миллионов за героизм единиц – слишком дорого.
Хеель пожимает плечами.
– Слишком дорого, цель, платить – это все ваши словечки. Посмотрим, куда они вас заведут.
Вайль смотрит на солдатский мундир, который Хеель так и не снял.
– А куда вас завели ваши?
Хеель краснеет и резко отвечает:
– По крайней мере, к пониманию того, что не все можно купить за деньги.
Вайль некоторое время молчит, потом говорит, многозначительно осматривая пустой плац и наши короткие ряды:
– К пониманию, да, и к неподъемной ответственности…
До нас все это не очень доходит. Нам холодно и кажется, что совершенно необязательно вот так трепать языком. Разговорами мир не изменишь.
* * *
Ряды рассыпаются. Начинается прощание. Мой сосед Мюллер поправляет ранец на плечах и, зажав под мышкой пакет с пайком, протягивает мне руку.
– Ну, будь здоров, Эрнст…
– Будь здоров, Феликс.
Мюллер идет дальше – попрощаться с Вилли, Альбертом, Козоле…
Подходит Герхард Поль, ротный запевала, который на маршах, когда мелодия забирала сильно вверх, всегда пел самым высоким тенором. Все остальное время он отдыхал, чтобы там, где на два голоса, вступить в полную силу. Его смуглое лицо с бородавкой взволнованно, он только что простился с Карлом Брёгером, с которым было сыграно несчетное число партий в скат. Ему тяжело.
– До свидания, Эрнст…
– До свидания, Герхард.
Поль уходит.
Мне протягивает руку Веддекампф. Он у нас выстругивал кресты для погибших.
– Увы, Эрнст, – говорит он, – к сожалению, тебе не успел. Знаешь, для тебя я бы сделал даже из красного дерева. Припас роскошную крышку рояля.
– Всякое может случиться, – отвечаю я. – Когда грянет, пришлю открытку.
Он смеется.
– Будь молодцом, дружище, война еще не закончилась.
И Веддекампф ковыляет дальше – одно плечо ниже другого.
Первая группа исчезает за воротами казармы – Шефлер, Фасбендер, маленький Лукке и Август Бекман. За ними уходят другие. Мы нервничаем. Сначала нужно привыкнуть к тому, что они уходят навсегда. До сих пор если кто-нибудь выбывал из роты, то только в случае смерти, ранения или откомандирования. А теперь вот еще и мир.
Странно все это: мы так привыкли к воронкам и траншеям, что нам вдруг совсем не нравится тишина местности, куда мы направляемся, как будто она только предлог, чтобы исподтишка заманить нас на заминированное поле…
А они идут прямо туда, наши товарищи, как неосторожно, совсем одни, без винтовок, гранат. Хочется побежать за ними, вернуть, крикнуть: да куда же вы, что вам там нужно, вам надо быть здесь, с нами, мы должны быть все вместе, как же нам иначе жить…
Все смешалось в башке, слишком долго я был на фронте… Ноябрьский ветер свистит на пустом казарменном плацу. Товарищи уходят и уходят. Сколько еще, и каждый снова будет сам по себе.
Оставшимся домой по дороге. Мы располагаемся на вокзале, чтобы попасть на поезд. Там прямо военный лагерь: ящики, коробки, ранцы, плащ-палатки. Через семь часов проезжают два поезда. На дверях виноградными гроздьями висят тучи людей. После обеда мы отвоевываем место с краю перрона и к вечеру уже первые, отличная позиция. Спим стоя.
Первый поезд приходит на следующий день около полудня – товарный состав со слепыми лошадьми. Глазные яблоки у них навыкате, бело-голубые, с красными прожилками. Лошади стоят неподвижно, вытянув шеи, только в трепещущих ноздрях жизнь.
После обеда объявляют, что сегодня больше поездов не будет, однако никто не уходит. Ни один солдат такому объявлению, конечно, не поверит. И в самом деле, появляется еще поезд. Сразу видно: то, что надо. Заполнен от силы наполовину.
Вокзал гудит, люди начинают собираться, неудержимо напирают толпы, теснившиеся в залах ожидания. Они свиваются в бешеный клубок с теми, кто уже ждет на перроне.
Поезд подъезжает. Одно окно открыто. Мы подбрасываем Альберта Троске, самого легкого из нас, и он обезьянкой пролезает в вагон. Через секунду все двери облеплены людьми. Большинство окон закрыто. И вот некоторые уже лопаются под ударами прикладов тех, кто хочет сесть на поезд любой ценой, пусть с разодранными руками и ногами. На осколки летят одеяла, кое-где начинается посадка.
Поезд останавливается. Альберт бежит по коридору и открывает окно, что перед нами. Тьяден и Вольф штурмуют первыми, за ними при помощи Вилли – Бетке и Козоле. Они втроем сразу бросаются к двери, ведущей в коридор, чтобы блокировать купе с обеих сторон. Другие желающие забираются одновременно с Людвигом и Леддерхозе, затем Валентин, я и Карл Брёгер, а последним, еще разок как следует расшугав всех на перроне, Вилли.
– Все? – кричит Козоле из коридора, где страшная давка.
– Все! – рычит Вилли.
Бетке, Козоле и Тьяден пулей отскакивают назад, и людской поток растекается по купе, багажным сеткам, заполняя каждый сантиметр.
Начинается захват локомотива. На буферах уже сидят люди. Крыши вагонов забиты битком. Машинист кричит:
– Слезайте! Череп себе размозжите!
– Брось, мы осторожно! – гудит ему в ответ.
В туалет набилось пятеро. Один выставил задницу в окно, она почти вся снаружи.
Поезд трогается. Кое-кто неудачно уцепился за дверь и от толчка падает. По двоим поезд проезжается, утягивая их за собой. На освободившееся место тут же вспрыгивают другие. На подножках яблоку негде упасть. Давка не ослабевает и по пути.
Один держится за дверь. Дверь открывается, и он просто болтается перед окном. Вилли пробирается к нему, хватает за шиворот и втаскивает в вагон.
Ночью мы несем первые потери. Поезд проехал по низкому туннелю. Некоторых на крыше расплющило и смело вниз. Остальные это, конечно, видели, но сверху остановить поезд им было уже невозможно. И тот, в окне туалета, заснул и выпал.
В других вагонах тоже потери. Поэтому крыши оборудуют подпорками, веревками, воткнутыми штыками. Кроме того, налажено почтовое сообщение, чтобы в случае опасности предупреждать задних.
Мы все время спим – стоя, лежа, сидя, на корточках, скрючившись на ранцах и продпакетах, – мы спим. Поезд страшно грохочет. Дома, деревья, машущие люди – шествия, красные флаги, вокзальные будки, крики, экстренные выпуски газет, революция – сначала мы спим, остальное потом. Только теперь мы чувствуем, как устали.
Дело к вечеру. Горит коптилка. Поезд идет медленно, часто останавливаясь из-за неполадок.
Покачиваются ранцы. Дымят трубки. У меня на коленях мирно спит пес. Адольф Бетке придвигается и гладит его по шерсти.
– Да, Эрнст, скоро расставаться, – не сразу говорит он.
Я киваю. Это странно, но я почему-то вообще не могу представить себе жизнь без Адольфа, без его внимательных глаз, спокойного голоса. Он воспитывал нас с Альбертом, когда мы новобранцами, ничего не соображая, попали на фронт, и думаю, без него меня бы просто не было.
– Будем встречаться, – говорю я. – Часто, Адольф.
Прямо в лицо мне тычет каблук сапога. Тьяден, сидя наверху в багажной сетке, старательно пересчитывает деньги: сразу с вокзала он собирается в бордель, а чтобы настроиться, уже сейчас обменивается опытом с какими-то солдатами. Никто не воротит нос – в этом нет ничего от войны, и хотя бы поэтому Тьядена слушают.
Сапер без двух пальцев с гордостью рассказывает, что его жена родила ребенка шести фунтов весом, хоть и семимесячный. Леддерхозе смеется: такого не бывает. Сапер не понимает и по пальцам считает месяцы между своим отпуском и рождением ребенка.
– Семь, – повторяет он. – Получается семь.
Леддерхозе, прыснув, кривит кислое лицо:
– Выходит, кто-то за тебя потрудился.
Сапер выпучивает на него глаза.
– Ты что такое говоришь? – говорит он, запинаясь.
– Да ясно же, – гнусавит Артур, потягиваясь.
Сапер покрывается испариной. Опять считает. Губы у него дрожат. Толстый бородатый водитель обоза у окна корчится от смеха.
– Ну ты и болван, не могу, ну и болван…
Встает Бетке.
– Заткнись, толстый!
– Это еще почему?
– Потому что тебе надо заткнуться, – говорит Бетке. – И тебе тоже, Артур.
Сапер совсем бледный.
– Что же теперь делать? – беспомощно спрашивает он, уцепившись за оконную раму.
– Жениться нужно, только когда дети уже зарабатывают, – задумчиво говорит Юпп. – Тогда ничего такого не случится.
За окном наплывает вечер. Леса на горизонте похожи на темных коров, поля слабо поблескивают в бледном свете окон поезда. Вдруг оказывается, что до дома всего два часа. Бетке встает и собирает ранец. Он живет в деревне, в нескольких станциях от города, ему сходить раньше…
Поезд останавливается. Адольф протягивает нам руку. Он неуверенно идет по узкому перрону и осматривается взглядом, который в одну секунду вбирает в себя всю местность, как сухое поле дождевую влагу. Затем снова оборачивается к нам. Но он уже ничего не слышит. Людвиг Брайер стоит у окна, хотя ему больно.
– Иди же, Адольф, – говорит он. – Жена ждет…
Бетке смотрит на нас вверх и мотает головой:
– Не к спеху, Людвиг.
Видно, что его со страшной силой тянет в другую сторону, но Адольф есть Адольф, до последней секунды будет с нами. И все-таки когда поезд трогается, он быстро разворачивается и широкими шагами уходит.
– Мы скоро к тебе приедем, – еще кричу я ему вслед.
Мы видим, как Бетке идет по полю. Долго машет рукой. Мимо проплывает пар от локомотива. Вдалеке красноватые огоньки.
Поезд делает большую дугу, и вот уже Адольф совсем маленький, точка, крошечный человек, совсем один в огромном, темном пространстве, над которым нависло по-грозовому светлое, сернисто-желтое ночное небо, снижающееся к горизонту. Не знаю почему, Адольф тут ни при чем, но у меня сжалось сердце: человек, один, вечером, на фоне безбрежного неба идет по огромному пространству полей.
Затем, сгущая тьму, наваливаются деревья, и скоро не остается ничего, кроме скорости, неба и лесов.
* * *
В купе становится шумно. Везде углы, выступы, запах, тепло, помещения и границы, а еще темные, задубевшие лица с блестящими пятнышками глаз, пахнет землей, потом, кровью, формой, а снаружи под стук поезда таинственно проносится и остается позади мир, он все дальше, мир траншей и воронок, тьмы и ужаса, лишь мелькание за окном, которое нас больше не касается. Кто-то запевает. Остальные подхватывают. И скоро уже поют все, все купе, соседнее тоже, весь вагон, весь поезд. Мы поем все громче, сильнее, краснеют лбы, набухают вены, мы поем все солдатские песни, какие знаем, встаем и смотрим друг на друга, глаза блестят, колеса отстукивают ритм, мы поем…
Зажатый между Людвигом и Козоле, сквозь шинель я чувствую их тепло. Шевелю руками, поворачиваю голову, мышцы напрягаются, дрожь поднимается от колен к животу, в костях будто булькает газированный лимонад, он растекается по легким, губам, глазам, купе расплывается, все мое существо гудит, как телеграфный столб в грозу, звенят тысячи проводов, распахиваются тысячи дорог – я медленно кладу руку Людвигу на локоть, и кажется, она сейчас сгорит, но, когда он поднимает глаза, как всегда, бледный, усталый, вместо всего, что кипит внутри, я могу лишь с трудом, запинаясь, спросить: «Людвиг, найдется сигарета?» Он дает мне сигарету. Поезд свистит, а мы продолжаем петь. Постепенно к нашим песням примешивается глухое рычание, вроде грохота колес, и в паузу над землей раздается сильный, долгий раскатистый рокот. Снова набежали тучи, грянула гроза. Молнии вспыхивают, как близкий дульный огонь.
– Дети мои, в такую-то пору еще и гроза! – покачивая головой, бормочет Козоле и, высунувшись в окно, вдруг зовет: – Скорее, сюда! Вон он!
Мы пробираемся к окну. В свете молний у горизонта в небо взметнулись узкие, тонкие городские башни. Их окутывает грохочущая тьма, но с каждым разрывом молнии они все ближе. Глаза у нас горят от возбуждения. Огромным деревом между нами, над нами стремительно прорастает надежда.
Козоле берет свои вещи.
– Господи, где-то мы будем через год! – воздевает он руки.
– В заднице, – нервно отзывается Юпп.
Но никто уже не смеется. Город прыгнул на нас, рывком притянул к себе. Вот он порывисто дышит в буйном свете, широко раскинулся, все ближе, а мы едем к нему, поезд солдат, поезд, возвращающийся домой из ниоткуда, поезд невероятных ожиданий, все ближе, ближе, мы мчимся прямо на него, городские стены несутся нам навстречу, столкновение неминуемо, мечутся молнии, грохочет гром – а потом по обе стороны вагона шумом и криками пенится вокзал, начинается сильный дождь, платформа блестит от низвергающейся воды, и мы бездумно спрыгиваем туда.
Со мной из вагона вылетает пес. Он прижимается ко мне, и мы вместе бежим под дождем вниз по лестнице.
Вторая часть
I
У вокзала мы рассыпаемся в разные стороны, как вода, выплеснутая из ведра, разбивается о мостовую. Козоле с Брёгером и Троске торопливо удаляются по Хайнрихштрассе. Мы с Людвигом тоже почти бегом сворачиваем на Вокзальную аллею. Не попрощавшись, пулей метнулся со своим лотком Леддерхозе. Тьяден наспех расспрашивает у Вилли дорогу в ближайший бордель, и только Юпп и Валентин никуда не торопятся. Их никто не ждет, и потому они бредут пока в зал ожидания, чтобы загнать по спекулятивной цене еду, после чего собираются в казарму.
С деревьев на Вокзальной аллее капает; стремительно бегут низкие тучи. Нам навстречу идут несколько совсем молодых солдат, последнего призыва. На рукавах у них красные повязки.
– Погоны долой! – кричит один, кидаясь к Людвигу.
– Уймись, молокосос, – оттесняя его, говорю я.
Другие напирают, окружают нас. Людвиг спокойно смотрит на переднего и идет дальше. Тот уступает ему дорогу. И тут на него набрасываются два откуда-то вынырнувших матроса.
– Свиньи, вы что, не видите, что он ранен? – рычу я, скидывая ранец, чтобы рукам было свободнее.
Но Людвига уже повалили, а с простреленной рукой он практически беззащитен. Матросы сдирают с него форму и буквально топчутся по нему.
– Лейтенант! – визжит один бабьим голосом. – Добивай волкодава!
Прежде чем я успеваю помочь, мне так дают по сусалам, что я теряю равновесие.
– Ублюдки! – отплевываюсь я и со всей силы погружаю сапог в живот нападающему.
Тот охает и падает. На меня тут же накидываются трое остальных. Пес подпрыгивает и впивается одному в загривок. Но двоим все-таки удается сбить меня с ног.
– Молись да крестись, тут тебе и аминь! – кричит тот, что с бабьим голосом.
Между ногами, которые лупят по мне, я вижу, как Людвиг свободной левой рукой душит матроса, которого уложил, ударив снизу под колено. Брайер вцепился намертво, хотя остальные дубасят его нещадно. Тут я получаю ремнем по башке, а с другой стороны мне впаивают в зубы. Вольф тотчас же впивается обидчику в колено, но мы не можем встать, а они все бьют и бьют, как будто собираются вымесить нас в тесто. В бешенстве я тянусь к револьверу. И тут один из тех, что колотили меня, падает на спину как подкошенный. Еще удар – второй без сознания, потом сразу третий; только Вилли на такое способен.
Он прибежал что было мочи, на бегу сбросил ранец и теперь бушует. Своими ручищами хватает молодцев по двое за шиворот и шарашит их друг о друга лбами. Они тут же отключаются, потому что когда Вилли заводится, кувалда и та ласковее. У нас наконец-то развязаны руки, я вскакиваю, но остальные уже удирают. Я еще успеваю попасть одному ранцем в крестец и иду к Людвигу.
Вилли же решил с ними поквитаться. Он видел, как матросы били Людвига. Один, с синюшного цвета лицом, стоная, валяется в канаве, над ним рычит пес, за вторым Вилли мчится красным ураганом, полыхая развевающимися огненными волосами.
Повязка у Людвига всмятку. Сочится кровь. Лицо грязное, на лбу ссадина от удара ногой. Он утирается и медленно встает.
– Сильно досталось? – спрашиваю я.
Мертвенно-бледный, он отрицательно качает головой.
Вилли тем временем поймал матроса и тащит его, как мешок, обратно.
– Грязные свиньи, – сквозь зубы ругается он, – всю войну со своими корытами прохлаждались на свежем воздухе, ни одного выстрела не слышали, а теперь решили рты раззявить, фронтовиков тронуть. Так я помогу! На колени, тыловая крыса! Проси прощения!
Он швыряет матроса перед Людвигом и выглядит при этом так страшно, что и впрямь можно испугаться.
– На куски порву, – шипит он, – на ремни порежу. На колени!
Матрос скулит.
– Да оставь, Вилли, – говорит Людвиг, подбирая свои вещи.
– Что? – Вилли не верит своим ушам. – Ты сбрендил? Где они помяли тебе руку?
Людвиг уже идет дальше.
– Ах, отпусти его…
Мгновение Вилли стоит, пораженный словами Людвига, затем, покачав головой, отпускает матроса.
– Ну ладно, тогда иди!
Но не может отказать себе в том, чтобы, перед тем как матросу удрать, так наподдать ему ногой, что тот два раза перекувыркивается через голову.
Мы идем дальше. Вилли ругается, потому что когда он в бешенстве, то должен говорить. Людвиг молчит.
Вдруг на углу Пивной улицы мы замечаем своих обидчиков. Они сходили за подкреплением. Вилли достает пушку.
– Зарядить и поставить на предохранитель, – говорит он, и глаза его сужаются.
Людвиг тоже берет револьвер, я заряжаю винтовку. Пока это была просто потасовка, а теперь дело серьезное. Больше они нас пальцем не тронут.
Мы расходимся на расстояние в три шага, чтобы не быть одной мишенью, и идем вперед. Пес тут же понимает, в чем дело, и с рычанием жмется к водосточной канаве: на фронте его научили, что такое укрытие.
– С двадцати метров начинаем стрелять, – угрожающе говорит Вилли.
Противники заметно нервничают. Мы подходим ближе и оказываемся под прицелом. Вилли щелчком снимает винтовку с предохранителя и достает гранату, которые у него, хоть тресни, всегда с собой.
– Считаю до трех…
От группы отделяется немолодой человек в мундире унтер-офицера без галунов. Он подходит к нам со словами:
– Мы фронтовые товарищи или нет?
Вилли так оторопел, что сначала должен прийти в себя.
– Черт подери, это мы вас спрашиваем, трусливые вы зайцы, – возмущенно отвечает он. – Кто здесь первый напал на раненого?
Унтер-офицер в недоумении.
– Это вы? – спрашивает он, обернувшись назад.
– Он не хотел снимать погоны, – отвечает один.
Унтер-офицер с досадой отмахивается, затем снова поворачивается к нам.
– Не надо было так, ребята. Но, похоже, вы не в курсе, что тут творится. Вы вообще-то откуда?
– С фронта, откуда же еще? – пыхтит Вилли.
– И куда направляетесь?
– Туда, где вы проторчали всю войну, домой.
– Браток, – унтер-офицер поднимает пустой рукав, – это я потерял не дома.
– Тем хуже, – не сдается Вилли. – Тогда тебе должно быть стыдно, что связался с этими с позволения сказать солдатами.
Унтер-офицер подходит ближе.
– Так ведь революция, – спокойно отвечает он. – Кто не с нами, тот против нас!
Вилли хохочет.
– Отличная революция и этот твой союз срывателей погон! Если вам от нас больше ничего не нужно… – Он презрительно сплевывает.
– Еще как нужно! – Однорукий подходит вплотную к Вилли. – Нам много чего нужно! Долой войну, долой военщину! Долой убийства! Мы хотим снова стать людьми, а не военными машинами!
Вилли опускает гранату.
– Что ж, славное начало, – кивает он на помятую руку Людвига и в два прыжка оказывается перед нападавшими. – Ну-ка, марш домой, недоноски! – рычит он отпрянувшим парням. – Людьми хотите стать? Да вы даже не солдаты! Как держите винтовки? Страшно смотреть, руки ведь поломаете!
Недоноски разбегаются. Вилли возвращается к унтер-офицеру.
– Ну вот, а сейчас я кое-что тебе скажу. У нас вся эта тягомотина вот уже где сидит, как и у вас. Ясное дело, с этим пора кончать. Но не так же! Если мы что и будем делать, то сами, а указывать нам не надо. А теперь разуй глаза. – Вилли в два приема срывает с себя погоны. – Я это делаю, потому что я так хочу, а не потому, что вы хотите! Это мое дело. А вот он, – Вилли показывает на Людвига, – наш лейтенант, и он погоны оставит, и я не завидую тому, кто скажет по этому поводу хоть слово.
Однорукий кивает, сосредоточенно о чем-то думая.
– Слушай, я ведь тоже там был, – медленно говорит он, – тоже все знаю. Вот, – он взволнованно демонстрирует нам свою культю, – двадцатая пехотная дивизия, Верден!
– Тоже бывали, – лаконично замечает Вилли. – Ну… тогда будь здоров!
Он поднимает ранец и перебрасывает через плечо винтовку. Мы идем дальше. Но когда Людвиг проходит мимо унтер-офицера с красной нарукавной повязкой, тот вдруг прикладывает руку к фуражке, и мы понимаем, что он отдает честь не мундиру, не войне, а товарищу оттуда.
* * *
Первым по ходу домишко Вилли. Он растроганно машет ему:
– Здорово, старая развалина! Резерв отправляется на покой.
Мы уже было остановились, но Вилли мотает головой.
– Сначала отведем Людвига, – боевито заявляет он. – Картофельный салат и увещевания подождут.
По дороге мы приводим себя в порядок, чтобы родители не заметили, что мы только-только из драки. Снимаем Людвигу повязку с пятнами крови, иначе мать сильно напугается. Все равно ему потом в лазарет на перевязку. Я отираю Брайеру лицо, и мы спокойно подходим к его дому. Вид у Людвига еще сильно помятый.
– Не переживай, – говорю я, протягивая ему руку.
Вилли кладет Брайеру свою ручищу на плечо.
– С кем не бывает, старик. Если бы не рана, ты бы котлет из них нарубил.
Людвиг кивает нам и идет в дом. Мы смотрим, как он поднимется по лестнице. Брайер уже дошел до середины, как вдруг Вилли спохватывается.
– В следующий раз ногами, Людвиг! – умоляюще кричит он. – Просто ногами! И не подпускать! – И, довольный, закрывает входную дверь.
– Интересно, он хоть через пару недель поправится? – размышляю я вслух.
Вилли чешет репу.
– Понос не пройдет, – уверенно говорит он. – Ведь Людвиг… Помнишь, как он разделался с танком под Биксшотом? В одиночку? Не так-то это было просто, скажу я тебе. Как вспомню… – Он натягивает ранец. – Ну, будь здоров, Эрнст. Сейчас погляжу, чем там занималось семейство Хомайеров последние полгода. Думаю, час на нежности, а потом начнется воспитание. Матушка моя… Господи, вот был бы фельдфебель! Золотое сердце у старушки, а выдержка железная!
Я один иду дальше, мир вдруг изменился. В ушах шумит так, как будто под мостовой течет река. Я ничего не вижу, не слышу и внезапно оказываюсь перед домом. Медленно поднимаюсь. Над дверью табличка «Добро пожаловать!» и букет цветов. Они увидели меня в окно и все собрались – сестры, родители. За ними гостиная, накрытый стол, все очень торжественно.
– Что это вы тут устроили? – говорю я. – Цветы и все такое… Глупости какие. Зачем? Это все неважно. Ну что ты плачешь, мама? Я ведь вернулся… Война закончилась… Чего ж плакать…
И только тут замечаю, что у меня самого по лицу текут соленые слезы.
II
На столе картофельные оладьи с яйцами и колбасой – восхитительная еда. Я два года не ел яиц, не говоря уже о картофельных оладьях. Наевшись, мы уютно сидим за большим столом в гостиной и пьем желудевый кофе с сахарозаменителем. Горит лампа, поет канарейка, даже печка теплая, а Вольф улегся под столом и спит. Лучше и быть не может.
– Ну, расскажи же, Эрнст, что ты пережил, – говорит отец.
– Пережил? – переспрашиваю я и задумываюсь. – Вообще-то я ничего не пережил. Война все время, что тут можно пережить?
Я ломаю голову, но не могу вспомнить ничего толкового. О том, что было там, с гражданскими говорить невозможно, а больше я ничего не знаю.
– Вы-то здесь наверняка пережили побольше, – извиняясь, говорю я.
И впрямь пережили. Сестры рассказывают, как им приходилось добывать еду. Дважды у них все отбирали на вокзале жандармы. На третий раз они зашили яйца в пальто, колбасу запихнули в блузки, а сумку картошки спрятали под юбку. И проскочили.
Я слушаю несколько отстраненно. С тех пор как я их видел в последний раз, они подросли. Может, тогда я просто не обратил внимания, тем заметнее сейчас. Ильзе уже должно быть семнадцать. Как бежит время!..
– Ты слышал, что умер правительственный советник Пляйстер? – спрашивает отец.
Я качаю головой.
– Когда?
– В июле, в двадцатых числах…
На печке поет чайник. Я играю бахромой скатерти. Значит, в июле, думаю я, в июле… Тогда мы за пять дней потеряли тридцать шесть человек. Но по именам я помню в лучшем случае троих, потом пришло столько новых!
– А что у него было? – спрашиваю я. От непривычного тепла в комнате меня немного разморило. – Осколок, пуля?
– Эрнст! – удивляется отец. – Он ведь не солдат! У него было воспаление легких.
– Ах да, – говорю я, выпрямляясь на стуле, – такое тоже бывает.
Они рассказывают все, что произошло с моего последнего увольнения. Голодные женщины до полусмерти избили на углу мясника. А однажды, в конце августа, каждой семье выдали по целому фунту рыбы. У доктора Кнотта пропала собака, скорее всего ее пустили на мыло. У фройляйн Ментруп родился ребенок. В очередной раз подорожал картофель. Вторая дочь тети Греты месяц назад вышла замуж, и даже за ротмистра…
В окна стучит дождь. Я поеживаюсь. Странно снова сидеть в комнате. Странно быть дома…
Сестра обрывает рассказ.
– Ты совсем не слушаешь, Эрнст… – изумляется она.
– Нет-нет, что ты, я слушаю, – уверяю я, пытаясь взять себя в руки. – За ротмистра, конечно она вышла замуж за ротмистра.
– Да, представляешь, как ей повезло, – горячо продолжает сестра. – А ведь у нее все лицо в веснушках! Что скажешь?
Что тут сказать… Если ротмистр получит по мозгам шрапнельной пулей, с ним будет то же самое, что и с любым другим.
Они рассказывают, а я никак не могу собрать мысли. Они все время разбегаются.
Я встаю и подхожу к окну. На веревке висят кальсоны. Выцветшие полотнища вяло полощутся на сумеречном ветру. Колышется застиранная ткань неопределенного цвета, и вдруг за ней всплывает другая картина, призрачная, далекая: развевающееся белье, одинокая вечерняя губная гармошка, сумрак, атака и множество мертвых негров в поблекших синих шинелях, с развороченными губами, налитыми кровью глазами – газ. Мгновение я вижу ее четко, затем картина размывается, бледнеет, опять раскачиваются кальсоны, опять эта блеклость, и я снова чувствую за спиной гостиную – родители, тепло, надежность. Ушло, с облегчением думаю я и быстро оборачиваюсь.
– Что тебе неймется, Эрнст? – спрашивает отец. – Ты и четверти часа не можешь посидеть спокойно.
– Может, он очень устал, – предполагает мать.
– Нет, не то, – чуть смущенно отвечаю я, задумавшись. – По-моему, я разучился так долго сидеть на стуле. На фронте стульев не было, мы всегда просто лежали где придется. Отвык.
– Странно, – говорит отец.
Я пожимаю плечами. Мама улыбается.
– Ты уже был в своей комнате? – спрашивает она.
– Нет еще, – отвечаю я и иду туда.
Когда я открываю дверь и вдыхаю в темноте книжный запах, у меня начинает биться сердце. Я торопливо включаю свет. Осматриваюсь.
– Все по-прежнему, – слышу я голос сестры за спиной.
– Да-да, – отвечаю я, как бы отстраняя ее, потому что сейчас мне хочется побыть одному.
Но остальные тоже подходят. Они останавливаются в дверях и подбадривают меня взглядом. Я сажусь в кресло и кладу руки на стол. Гладкий, прохладный. Да, все по-прежнему. Даже коричневое мраморное пресс-папье, которое подарил мне Карл Фогт. Оно стоит точно там же, где и раньше, рядом с компасом и чернильницей. А Карл Фогт погиб у Кеммеля.
– Тебе не нравится твоя комната? – спрашивает сестра.
– Почему, нравится, – не сразу отвечаю я. – Но такая маленькая…
Отец смеется.
– Она ведь была точно такая же.
– Конечно, – соглашаюсь я. – Но мне казалось, она намного больше…
– Ты долго здесь не был, – говорит мать.
Я киваю.
– Белье сейчас постелим, – продолжает она. – Туда пока не смотри.
Я лезу в карман. Адольф Бетке на прощание подарил мне пачку сигар. Нужно покурить. Все вокруг словно шатается, как будто у меня кружится голова. Я затягиваюсь, и становится лучше.
– Ты куришь сигары? – изумленно и почти с упреком спрашивает отец.
Я с удивлением смотрю на него.
– Разумеется, – киваю я. – Они же там входили в довольствие. Каждый день нам полагалось три-четыре. Хочешь?
Качая головой, он берет сигару.
– Раньше ты вообще не курил.
– Да, раньше… – говорю я и невольно усмехаюсь, что он придает этому такое значение.
Вообще-то раньше я и этого не смел. Но от робости перед старшими в траншеях ничего не осталось. Там мы все были равны.
Украдкой смотрю на часы. Я здесь всего пару часов, а такое ощущение, что не видел Вилли и Людвига несколько недель. Больше всего мне хочется к ним, поскольку пока я еще не могу себе представить, что теперь буду жить дома, с родными, пока еще у меня такое чувство, что завтра, послезавтра, скоро нам опять выступать, плечом к плечу, чертыхаясь, покорно, но вместе…
Я иду в коридор и беру шинель.
– Ты не проведешь вечер с нами? – спрашивает мать.
– Мне нужно отметиться, – говорю я, потому что все остальное было бы ей непонятно.
Она провожает меня на лестницу.
– Подожди, темно. Я принесу посветить.
Я изумленно останавливаюсь. Посветить? Ради нескольких ступенек? Господи ты боже мой, в скольких слякотных воронках, на скольких дорогах мне годами приходилось ориентироваться ночью под пулеметными очередями, а тут посветить на лестнице? Ах, мама! Но я терпеливо жду, пока она принесет лампу. Мать светит, а кажется, будто в темноте она меня гладит.
– Будь осторожен, Эрнст, не дай бог в городе с тобой что-нибудь случится!
– Что же со мной может случиться дома, в мирной жизни, мама? – улыбаюсь я, глядя на нее вверх.
Она перегибается через перила. Абажур золотым светом освещает маленькое, изрытое морщинами лицо. За спиной по площадке мечутся призрачные свет и тени. И вдруг что-то во мне качнулось, меня охватывает странная растроганность, почти боль – как будто на свете ничего больше нет, кроме этого лица, как будто я опять ребенок, которому нужно посветить на лестнице, с которым может случиться что-нибудь на улице, а все остальное был сон, видение…
Но вот лампа отбрасывает резкий блик на пряжку ремня. Мгновение проходит, я не ребенок, я в солдатской форме. Быстро, через три ступени я сбегаю по лестнице и распахиваю дверь парадного, мне не терпится к ребятам.
* * *
Сначала я иду к Альберту Троске. У его матери заплаканные глаза, но сегодня так полагается, ничего страшного. Но и Альберт уже не тот, сидит за столом рядом со старшим братом, как мокрый пудель. Я долго не видел Ганса и знаю только, что он лежал в лазарете. Там, видать, и растолстел, разрумянился.
– Привет, Ганс. Поправился? – бодро говорю я. – Как дела? Что нового? На двух ногах все-таки веселее, правда?
Он бормочет что-то невразумительное. Фрау Троске, сглотнув, выходит из комнаты. Альберт делает мне знак глазами. Я в недоумении осматриваюсь и тут только вижу, что около Ганса лежит костыль.
– Еще непорядок? – спрашиваю я.
– Нормально, – отвечает он. – На той неделе выписали из лазарета.
Ганс хватает костыль и в два прыжка оказывается у печи. У него нет обеих стоп. На правой ноге железный протез, на левой штырь с прикрепленным ботинком.
Мне становится стыдно за мой идиотский треп.
– Я не знал, Ганс, – говорю я.
Он кивает. Ноги он отморозил в Карпатах, потом еще угодил в пожар, в результате их пришлось ампутировать.
– Слава богу, только стопы. – Фрау Троске принесла подушку и подкладывает ее под протезы. – Ничего, Ганс, справимся, ты снова научишься ходить.
Она подсаживается к нему и гладит ему руки.
– Да, – говорю я, чтобы что-нибудь сказать. – По крайней мере, не целиком ноги.
– Знаешь, мне и стоп хватает, – отвечает Ганс.
Я даю ему сигарету. Что ни скажешь в такие минуты, все выходит грубо, даже если с лучшими намерениями. Мы о чем-то говорим, с трудом, с паузами; и всякий раз как кто-нибудь из нас встает, Альберт или я, Ганс смотрит нам на ноги мрачным, измученным взглядом; взгляд матери повторяет эту траекторию, они смотрят только на ноги, пошел – вернулся, у вас есть ноги, а у меня нет…
Ганс, наверно, пока больше ни о чем не может думать, и все внимание матери – только ему, она не замечает, что Альберту это больно. За несколько часов он совсем притих.
– Слушай, нам ведь еще нужно отметиться, – говорю я, давая ему повод уйти из дома.
– Да, – быстро отвечает Троске.
На улице мы облегченно вздыхаем. Вечерний свет мягко стелется по мокрой брусчатке. Под порывами ветра пляшут фонарные огни. Альберт идет, смотря под ноги.
– Ничего не могу поделать, Эрнст, – с трудом начинает он. – Но когда сижу там с ним, с матерью, в конце концов начинаю думать, что это я виноват, и становится стыдно за то, что у меня две ноги. Таким гадким кажусь сам себе, потому что здоров. Хоть бы руку прострелили, как Людвигу, тогда бы я не так их раздражал…
Я пытаюсь его утешить, но Альберт отводит глаза. Никакие мои слова его не убеждают, но мне, по крайней мере, становится легче. С утешениями всегда так.
* * *
Мы идем к Вилли. У него в комнате все вверх тормашками. Разобранная кровать прислонена к стене. Ее нужно удлинить, потому что в армии Хомайер так вырос, что в нее уже не помещается. Вокруг валяются доски, молотки, пилы. На стуле сияет огромная миска картофельного салата. Самого Вилли нет. Мать говорит, что он уже час как в прачечной, драит себя дочиста. Мы устраиваемся ждать.
Фрау Хомайер, опустившись на колени, роется в ранце Вилли и, качая головой, достает две грязные тряпки, когда-то бывшие носками.
– Сплошные дырки, – бормочет она, неодобрительно глядя на нас с Альбертом.
– Производство военного времени, – говорю я, пожимая плечами.
– Ах, военного времени? – раздражается фрау Хомайер. – И все-то вы знаете! Лучшая шерсть! Я восемь дней бегала ее искала. А теперь их только выбросить. И новых нигде не найти. – С глубокой грустью она смотрит на ошметки носков. – Уж столько-то времени у вас точно было на войне, чтобы раз в неделю поменять носки. В последний раз он взял четыре пары. А привез всего две. И то вон! – Она продевает пальцы в дырки.
Я только собираюсь выступить в защиту Вилли, как с шумом, торжествующе врывается он сам.
– Вот что значит повезло! Аспирант полевой кухни! Сегодня на ужин куриное фрикассе!
В левой руке Вилли, как знамя, держит толстого петуха. Золотисто-зеленые перья на хвосте переливаются, гребешок светится пурпуром, на клюве капли крови. Хотя я прекрасно поел, у меня текут слюнки. Вилли с благоговением покачивает петуха. Фрау Хомайер поднимается и издает страшный вопль.
– Вилли! Откуда?
Вилли с гордостью сообщает, что всего пару минут назад увидел, поймал и забил петуха. За сараем. На все про все несколько секунд. Он похлопывает мать по спине.
– Это мы там научились. Недаром Вилли побывал помощником повара.
Мать смотрит на сына, как будто тот проглотил бомбу, затем зовет мужа и в отчаянии стонет:
– Оскар, ты только посмотри, он зарубил племенного петуха Биндинга!
– При чем тут Биндинг?
– Так ведь это петух Биндинга, соседа! Молочника! О господи, как ты мог? – Фрау Хомайер опускается на стул.
– Неужели же я упущу такое жаркое? – изумляется Вилли. – Тут иначе никак.
Фрау Хомайер не может прийти в себя.
– Сейчас такое начнется! Этот Биндинг просто бешеный.
Вилли обижается не на шутку.
– Собственно, за кого ты меня принимаешь? Неужели ты думаешь, что меня хоть одна мышь видела? Я ведь не новичок! Это десятый. Юбилейный петух! Спокойно можем его есть, этот Биндинг ни сном ни духом. – Он нежно потряхивает петуха. – Чтоб ты у меня был вкусный! Сварим, пожарим?
– Неужели ты думаешь, что я проглочу хоть кусочек? – Фрау Хомайер вне себя. – Немедленно неси его обратно!
– Что ж я, с печки упал? – возмущается Вилли.
– Но ты его украл! – Мать в отчаянии.
– Укра-ал? – Вилли хохочет. – Еще не хватало. Реквизировал! Раздобыл! Нашел! Украл? Отнять деньги, да, это, пожалуй, кража, но ведь не взять покушать. Тогда мы уже много чего накрали, правда, Эрнст?
– Не то слово, – говорю я. – Петух просто попался тебе в руки. Как и тот, командира второй батареи, в Стадене. Помнишь, как ты на всю роту сделал тогда куриное фрикассе? Баш на баш – петуха за лошадь?
Польщенный Вилли усмехается и похлопывает рукой по плите.
– Холодная, – огорченно говорит он, поворачиваясь к матери. – У вас что, нет угля?
У фрау Хомайер от переживаний пропал дар речи. Она только качает головой. Вилли ободряюще подмигивает:
– Ладно, завтра раздобуду. А пока возьмем этот ветхий стул, все равно уже никуда не годится.
Фрау Хомайер опять оторопело смотрит на сына. Затем вырывает у него сначала стул, потом петуха и собирается идти к молочнику Биндингу. Вилли расстроен не на шутку.
– «И он растаял, музыке конец», – печально говорит он. – Эрнст, ты что-нибудь понимаешь?
Что нам не дали стул, хотя на фронте мы как-то сожгли целый рояль, чтобы довести до съедобного состояния серую в яблоках лошадь, я еще худо-бедно понимаю. И то, что здесь, дома, мы больше не можем давать волю рукам всякий раз, когда они чешутся, ладно, тоже понятно. Но что петуха, который уже все равно дохлый, несут обратно, хотя даже новобранцу ясно, что это только лишние неприятности, мне представляется полным идиотизмом.
– Если это войдет в моду, мы здесь еще с голоду околеем, вот увидишь, – заводится Вилли. – Будь мы одни, через полчаса у нас было бы чудное куриное фрикасе. С желтым соусом, а?
Взгляд его кочует от плиты к двери и обратно.
– Лучше уйти, – предлагаю я. – Тучи сгущаются.
Но фрау Хомайер уже вернулась.
– Его нет, – задыхаясь, говорит она и только собирается продолжить, как замечает, что на Вилли верхняя одежда, и забывает обо всем. – Ты уходишь?
– Маленький дозор, мам, – смеется он.
Фрау Хомайер начинает плакать. Вилли смущенно хлопает ее по плечу.
– Я ведь вернусь. Теперь мы все время будем возвращаться. Слишком часто, еще пожалеешь…
* * *
Плечом к плечу мы широко шагаем по З́амковой улице.
– Может, зайдем за Людвигом? – спрашиваю я.
Вилли качает головой.
– Пусть спит. Ему нужно.
Город неспокоен. По улицам мчатся грузовики с матросами. Полощутся красные флаги. Перед ратушей сгружают и раздают кипы листовок. Люди выдирают их из рук матросов и жадно впиваются блестящими глазами. Порыв ветра подхватывает одну пачку, и призывы взмывают вверх белыми голубями. Листки цепляются за голые ветви деревьев и с шелестом повисают на них.
– Ребята, – говорит пожилой человек в серой полевой шинели, что стоит рядом с нами, – ребята, теперь все будет лучше. – Губы его дрожат.
– Черт подери, там что-то случилось, – настораживаюсь я.
Мы ускоряем шаг. Чем ближе к Соборной площади, тем больше давка. Площадь забита людьми. На ступенях театра ораторствует какой-то солдат. Его лицо освещает бледный неровный свет карбидной лампы. Мы плохо разбираем, что он говорит, потому что на площадь, каждый раз вымывая из собора волну органной музыки, то и дело налетают долгие порывы ветра, в которых почти тонет высокий, отрывистый голос.
На площади царит неопределенное волнующее напряжение. Толпа стоит стеной. В ней почти одни солдаты. Многие с женами. На молчаливых, отрешенных лицах такое же выражение, как и на фронте, когда из-под стального шлема высматриваешь далекого врага. Но сейчас во взглядах что-то еще – предчувствие будущего, неуловимое ожидание другой жизни. Со стороны театра раздаются призывы. Ответом им служит глухой гул.
– Ну, ребята, началось! – Вилли в восторге.
Поднимаются руки. По толпе проходит движение. Ряды шевелятся. Формируется колонна. Раздаются выкрики: «Вперед, ребята!» По брусчатке подобно мощному выдоху шелестит мерный шаг. Недолго думая мы присоединяемся.
Справа от нас артиллерист, впереди сапер. Группы следуют друг за другом. Здесь мало кто знаком, и тем не менее все сразу накоротке. Что солдату нужно знать о солдате? Они товарищи, и все.
– Отто, давай с нами! – кричит сапер приятелю на площади.
Тот мнется. Он с женой. Жена берет его под руку и заглядывает в глаза. Отто смущенно улыбается:
– В следующий раз, Франц.
Вилли кривится.
– Смотри, припутаются нижние юбки, все братство к черту!
– Ерунда, – отзывается сапер, протягивая Вилли сигарету. – Женщины – это полжизни. Просто всему свое время.
Мы невольно идем в ногу. Строй не такой, как обычно. Мостовая гудит, и над колонной молнией сверкает бешеная, судорожная надежда, будто мы направляемся прямиком в мир свободы и справедливости.
Но уже через несколько сот метров процессия останавливается перед домом бургомистра. Рабочие трясут входную дверь. Им никто не открывает, но в закрытом окне на мгновение появляется бледное женское лицо. Рабочие сильнее трясут дверь, в окно летит камень. Стекло со звоном разбивается, осколки падают в палисадник.
Тогда на балкон второго этажа выходит бургомистр. Ему что-то кричат. Он кого-то в чем-то заверяет, его никто не слушает.
– Давай с нами! – кричат ему.
Бургомистр пожимает плечами и кивает. Через несколько минут он марширует во главе колонны. Следующим вытаскивают руководителя продовольственного департамента. Потом наступает черед абсолютно лысого человека, который, как говорят, спекулировал маслом. Торговца зерном мы не застаем – он, заслышав нас, вовремя смылся.
Колонна движется к З́амковой площади и теснится у входа в окружной военный комиссариат. Один солдат взбегает по лестнице и заходит в здание. Мы ждем. В комиссариате освещены все окна.
Наконец дверь снова открывается. Мы вытягиваем шеи. На крыльцо выходит человек с портфелем. Он перебирает листы и ровным голосом начинает зачитывать речь. Мы напряженно слушаем. Вилли приложил обе руки к своим огромным ушам. Поскольку он на голову выше всех, то лучше разбирает фразы и повторяет их. Но слова журчат где-то сбоку. Они падают и пропадают, нас не затрагивая, не завлекая, не увлекая, журчат себе и журчат.
Мы начинаем нервничать. Это нам непонятно. Мы привыкли действовать. Революция ведь! Что-то должно происходить! А человек на крыльце все говорит и говорит. Призывает к спокойствию и благоразумию. Но неблагоразумных здесь и не было. В конце концов человек уходит.
– Кто это? – разочарованно спрашиваю я.
Наш сосед-артиллерист в курсе.
– Председатель рабочего и солдатского совета. Кажется, бывший дантист.
– Чушь какая! – рычит Вилли, раздраженно вертя рыжей головой во все стороны. – Я думал, мы на вокзал, а оттуда прямо в Берлин.
Выкрики из толпы становятся громче, множатся. Требуют бургомистра. Его выпихивают на ступени. Он спокойно заявляет, что будет проведено тщательное расследование. Рядом с ним оба заметно струхнувших спекулянта. Они взмокли от страха. При этом их никто не трогает. В их сторону летят ругательства, но никто не осмеливается поднять руку.
– Ну, по крайней мере у бургомистра хватило духу, – говорит Вилли.
– А-а, он уже привык, – отзывается артиллерист. – Его тягают чуть не через день.
Мы с изумлением переглядываемся.
– Так это у вас часто? – спрашивает Альберт.
Артиллерист кивает.
– Части возвращаются, и новенькие думают, что надо навести порядок. Ну, и все остается на своих местах…
– Господи, я ничего не понимаю, – говорит Альберт.
– Я тоже, – артиллерист сладко зевает. – Я себе это представлял иначе. Ну, бывайте, побреду в койку, больше толку.
Другие следуют его примеру. Площадь на глазах пустеет. Слово берет еще один делегат. Он тоже призывает к спокойствию. Начальство, мол, обо всем позаботится. У всех будет работа. Он указывает рукой на освещенные окна. Лучше всем разойтись по домам.
– Черт подери, и все, что ли? – раздраженно спрашиваю я.
Надо же быть такими дураками, чтобы пойти с этой колонной. Чего только ждали?
– Проклятье, – разочарованно говорит Вилли.
Мы пожимаем плечами и бредем обратно.
* * *
Какое-то время еще шатаемся по городу, потом расстаемся. Я провожаю Альберта и иду домой. Но, странно, когда рядом нет ребят, все как-то расплывается, становится нереальным. Только что окружающее было естественным, прочным, а теперь вдруг стало таким ошеломительно новым, непривычным, что невольно закрадываются сомнения – может, я сплю? Я вправду тут? Действительно опять тут и дома?