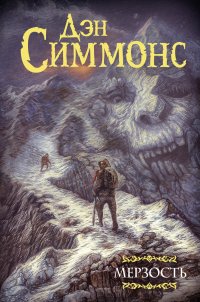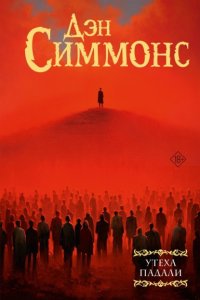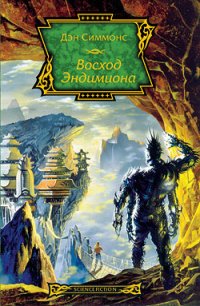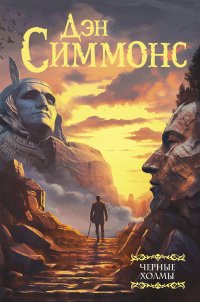
Читать онлайн Черные Холмы бесплатно
- Все книги автора: Дэн Симмонс
Dan Simmons
Black Hills
© Dan Simmons, 2010
published in agreement with the author, c/o BAROR INTERNATIONAL, INC., Armonk, New York, U.S.A.
© Издание на русском языке AST Publishers, 2024
* * *
Эта книга посвящается моим родителям – Роберту и Катрин Симмонсам, и родителям моей жены Карен – Верну и Рут Лоджерквистам. Посвящается она также моим братьям – Уэйну и Теду Симмонсам и брату и сестре Карен – Джиму Лоджерквисту и Салли Лэмп.
Но в первую очередь эта книга посвящается Карен и нашей дочери Джейн Катрин – они для меня Вамакаогнака э’кантге, что означает «суть всего сущего».
«Хесету. Митакуйе ойазин» (Быть по сему. И да пребудет вечно вся моя родня – вся до единого)
1. На Сочной Траве[1]
Июнь 1876 г.
Паха Сапа резко отдергивает руку, но поздно: это похоже на атаку гремучей змеи – призрак умирающего вазикуна перепрыгивает в его пальцы, потом перетекает по руке в грудь. Мальчик в ужасе отскакивает, а призрак огнем опаляет его вены и кости, словно ползучий яд. Дух вазикуна, доставляя Паха Сапе боль, прожигает нервы в его руке, а оттуда устремляется в грудь и горло, он колышется и закручивается, как маслянистый густой дым. Паха Сапа чувствует его вкус. Это вкус смерти.
Продолжая распространяться, призрак проходит по всему телу Паха Сапы, и руки мальчика слабеют, наливаясь свинцом. Призрак вазикуна наполняет его легкие жуткой расширяющейся вязкой тяжестью, от которой перехватывает дыхание, и Паха Сапа вспоминает происшествие из своего раннего детства – он тогда и ходить еще толком не умел, – когда чуть не утонул в Танг-ривер. Но, даже невзирая на охвативший его ужас, мальчик, которому еще нет и одиннадцати, чувствует, что это вторжение бесконечно страшнее смерти в реке.
Вот она какая, смерть, думает Паха Сапа, она прокрадывается в человека через его рот, глаза, ноздри, чтобы похитить его дух. Но дух Паха Сапы вовсе не похищен – просто в тело мальчика вселяется чужой дух. Смерть действует тут скорее как ужасный незваный гость, а не как похититель.
Паха Сапа вскрикивает, словно раненый, и ползет прочь от глазеющего на него трупа, пытается встать, чтобы пуститься наутек, падает, встает, снова падает и опять пытается отползти от трупа, он лягается, машет руками, хватает ртом воздух, скатываясь по склону холма – трава, земля, кактусы, конский навоз, кровь и другие мертвые вазичу, – в слепой надежде вытряхнуть призрак из своего тела. Но призрак остается в нем и увеличивается в размерах. Паха Сапа открывает рот, чтобы закричать, но не может выдавить из себя ни звука. Призрак заполняет раскрытый рот Паха Сапы, его горло и ноздри, и противиться ему невозможно. Мальчику как будто залили в глотку растопленный бизоний жир. Он не может дышать. Он становится на четвереньки и отряхивается, как больная собака, но никак не может вызвать у себя рвоту. Поле зрения сужается, перед глазами плывут черные точки. Призрак врезается в него, как нож, уходит в глубь черепа, проникает в мозг.
Паха Сапа падает на бок и наталкивается на что-то мягкое. Открыв глаза, он видит прямо перед собой лицо другого мертвого вазичу; этот синий мундир – совсем мальчишка, может, на пять или шесть зим старше Паха Сапы; мертвый мальчишка вазикун потерял свою солдатскую шапку, а его коротко подстриженные волосы – рыжего цвета. Паха Сапа впервые в жизни видит рыжие волосы; кожа мертвого мальчишки бледнее, чем у любого вазикуна в рассказах, которые слышал Паха Сапа, а маленький нос солдата усеян веснушками. Паха Сапа смутно осознает, что изо рта мертвеца не выходит дыхания, что рот этот открыт мучительно широко, словно в последнем вскрике или в готовности укусить Паха Сапу за его перекошенное ужасом лицо, расстояние до которого меньше ладони. Еще он как-то тупо отмечает, что у вазичу вместо одного глаза кровавая дыра. А другой глаз, открытый и остекленевший, цвета послеполуденного неба, которое видит Паха Сапа за маленьким бледным ухом трупа.
Пытаясь вдохнуть, Паха Сапа смотрит в мертвый глаз, чья голубизна вянет и бледнеет под его взглядом, словно ища какой-то ответ.
– Черные Холмы?
Мимо опять проносятся боевые пони[2], два из них перепрыгивают через тела Паха Сапы и вазичу, но Паха Сапа туманно – отстраненно – осознает, что одна из лошадей остановилась, с нее соскочил воин и присел рядом с ним. Он так же туманно, отстраненно чувствует сильную руку у себя на плече, рука переворачивает его на спину.
Тело одноглазого рыжеволосого мальчишки исчезает из поля зрения Паха Сапы, и теперь он видит присевшего перед ним воина.
– Черные Холмы? Тебя подстрелили?
Присевший на корточки воин строен, кожа у него бледнее, чем у большинства лакота, он вступил в схватку голым, как и полагается хейоке, на нем только набедренная повязка и мокасины, волосы заплетены в две длинные косички и украшены одним белым пером. Боевая раскраска тела стройного воина – градины и молния, что лишь усиливает первое впечатление о нем, будто он и в самом деле живой проводник молнии, хейока, один из созерцателей видений, защитник воинов, который отваживается стоять между народом Паха Сапы, вольными людьми природы, и безграничной яростью существ грома.
Моргнув, Паха Сапа видит камушек в серьге человека и узенький, но заметный шрам, протянувшийся назад от левой ноздри, – старое ранение, оставленное пулей на излете из ружья одного ревнивого мужа; из-за этого шрама губы у воина хейоки чуть вывернуты с левой стороны, что похоже скорее на гримасу, чем на улыбку, – и Паха Сапа понимает, что перед ним Т’ашунка Витко, Шальной Конь[3], двоюродный брат старшей жены Сильно Хромает.
Паха Сапа пытается ответить на вопрос Шального Коня, но призрак так сильно сдавил его грудь и горло, что изо рта мальчика выходят только сдавленные звуки. До пылающих легких Паха Сапы доходит лишь тоненькая струйка воздуха. Он снова пытается заговорить, понимая, что, наверное, похож на рыбу, вытащенную из воды, – рот широко раскрыт, глаза выпучены.
Шальной Конь издает звук то ли презрения, то ли отвращения, поднимается и одним ловким движением запрыгивает на спину своего пони, не выпуская ружья из руки, и скачет прочь, а его приверженцы с криками устремляются следом.
Паха Сапа заплакал бы, если б мог. Сильно Хромает так гордился, когда всего четырьмя днями ранее в вигваме Сидящего Быка[4] представлял знаменитого двоюродного брата своей старшей жены приемному сыну, а тут такое беспримерное унижение…
По-прежнему лежа на спине, Паха Сапа раскидывает как можно шире ноги и руки. Он потерял мокасины и теперь впивается пальцами ног и рук в землю, как делал с самого младенчества, когда к нему пришло первое видение «коснись земли, чтобы полететь». И сразу же его захлестывают старые ощущения: будто он цепляется за наружную поверхность быстро вращающегося шара, а не лежит на плоской земле, будто небо висит не над, а под ним, а мчащееся солнце – всего лишь одно из многих небесных тел, несущихся по небу, как звезды или луна. И с приходом знакомой иллюзии Паха Сапа начинает дышать глубже.
Но то же самое делает и призрак. Паха Сапа чувствует, как тот вдыхает и выдыхает глубоко внутри. И с ужасом, от которого холодеет его хребет, мальчик понимает, что призрак говорит с ним. Или по меньшей мере изнутри Паха Сапы говорит с кем-то.
Паха Сапа закричал бы, если б мог, но его все еще перегруженные легкие затягивают в себя лишь тонкую струйку воздуха. И при этом он слышит, как неспешно и настойчиво призрак нашептывает что-то – резкие и неразборчивые слова вазичу резонируют в черепной коробке Паха Сапы, вибрируют в его зубах и костях. Паха Сапа не понимает ни одного слова. Он прижимает ладони к ушам, но внутреннее шипение и шепот не прекращаются.
Вокруг него, пробираясь среди мертвецов, двигаются новые фигуры. Паха Сапа слышит трели женских голосов – это женщины лакота, и он с невероятным усилием переворачивается на живот и поднимается на колени. Он опозорил себя и своего дядю-отца перед Шальным Конем, но, когда здесь женщины, он не может позволить себе лежать, словно он тоже мертвец.
Встав, Паха Сапа видит, что напугал ближайшую из женщин – он знает ее: это хункпапа по имени Орлиная Одежда, он видел, как она сегодня пристрелила черного разведчика вазикуна по имени Сосок, которого Сидящий Бык называл своим другом. Женщина в испуге поднимает тот же тяжелый кавалерийский пистолет вазичу, из которого убила черного разведчика, поднимает его обеими руками, целится Паха Сапе в грудь с расстояния всего десять футов и нажимает спусковой крючок. Боек либо дает осечку, либо в патроннике нет патрона.
Паха Сапа на нетвердых ногах делает несколько шагов в ее направлении, но Орлиная Одежда и три другие женщины вскрикивают и бросаются прочь, быстро исчезая в облаках пыли и порохового дыма, все еще ползущих по склону холма. Паха Сапа опускает глаза и видит, что он почти весь, с головы до ног, в крови – в крови его убитой кобылы, крови призрака-вазикуна и других трупов, как человеческих, так и лошадиных, по которым он летел, на которых лежал.
Паха Сапа знает, что должен делать. Он должен вернуться к трупу вазикуна, над которым совершил деяние славы[5], и каким-то образом убедить призрака вернуться обратно в свое тело. Задыхаясь, все еще не в состоянии махнуть едва видимым в дыму воинам или окликнуть их, скачущих в пыли на своих пони, Паха Сапа карабкается вверх к мертвецу, лежащему среди мертвецов.
Сражение снова смещается на юг, пыль и пороховой дым понемногу рассеиваются, уносимые легоньким вечерним ветерком, переваливающим через вершину холма, – высокие травы колышутся и шуршат, когда ветер прикасается к ним, – и Паха Сапа видит, что перед ним лежит около сорока мертвых лошадей вазичу. Похоже, что большинство из них пристрелены самими синими мундирами. Тел вазичу приблизительно столько же, сколько и тел мертвых лошадей, но мертвых солдат раздели женщины лакота, и теперь те выделяются на склоне холма, словно белые речные камни, на фоне коричневой земли, залитой кровью зеленой травы и более темных оттенков разорванного конского мяса.
Паха Сапа перешагивает через человека, скальпированная голова которого раздавлена почти в лепешку. Сгустки мозга повисли на высокой траве, которую колышет вечерний ветерок. Воины или, что вероятнее, женщины вырезали глаза и язык мертвеца, перерезали ему горло. Его живот вскрыт, и внутренности вывалились, словно у забитого на охоте бизона, – осклизлые пряди серых кишок вьются и колышутся, как переливающиеся мертвые гремучие змеи в окровавленной траве, – и еще Паха Сапа отмечает, что женщины отрезали у человека се и яйца. Кто-то стрелял из лука во вскрытое тело вазикуна, и его почки, легкие и печень многократно пробиты. Сердце у мертвеца отсутствует.
Паха Сапа с трудом карабкается вверх по склону. Белые тела повсюду, они распростерлись там, где упали, многие из них рассечены на куски, большинство искалечены и лежат среди громадных кровавых разводов или на собственных мертвых конях, но он не может найти того вазикуна, чей призрак теперь дышит и шепчет глубоко в нем. Он понимает, что в лучшем случае пребывал в полубессознательном состоянии, а потому с того момента, когда он совершал деяние славы над этим человеком, возможно, прошло больше времени, чем ему кажется. Кто-то, может быть какой-нибудь оставшийся в живых вазичу, унес тело с поля боя (в особенности если мертвец был офицером), и тогда Паха Сапа может никогда не избавиться от призрака.
Он уже почти уверовал, что того мертвеца нет среди десятков других тел на кровавом поле, но тут видит высокий голый лоб вазикуна, торчащий среди груды белых тел. Раздетое тело полусидит, припав к двум другим обнаженным вазичу. Какая-то женщина или воин располосовали его правое бедро, как это делают лакота с телами мертвых врагов, но скальпа с него не сняли. Паха Сапа тупо смотрит на залысины, на светлые, коротко подстриженные волосы и понимает, что скальп просто не стоил того, чтобы его снимать.
Волосы мертвеца очень светлые, то ли рыжеватые, то ли желтоватые. Неужели это Длинный Волос? Неужели Паха Сапа несет теперь в себе, словно жуткий плод, призрак Длинного Волоса? Это кажется невероятным. Какие-нибудь воины лакота и шайенна наверняка узнали бы своего старого врага и сильнее надругались бы над его телом или воздали бы ему бо́льшие почести, чем получил этот фактически оставшийся незамеченным мертвец.
Кто-то, вероятно женщина, пронзил тело стрелой высоко над обвислым в смерти, навсегда теперь опавшим белым се.
Паха Сапа опускается на колени, чувствуя, как ему в кожу впиваются отстрелянные гильзы, наклоняется вперед, обеими руками упирается в белую грудь вазикуна, располагая ладони вблизи большой рваной раны в том месте, где с левой стороны вошла первая пуля. Вторая, куда более опасная рана – высоко на бледном левом виске человека – похожа на простую круглую дыру. Веки мертвеца опущены, глаза почти закрыты, словно во сне, и под удивительно пушистыми ресницами видны лишь тонюсенькие полумесяцы белков. Этот вазикун, в отличие от многих других, кажется спокойным, почти умиротворенным.
Паха Сапа тоже закрывает глаза, он с трудом выдыхает слова, надеясь, что они подходят для ритуала.
– Призрак, изыди! Призрак, оставь мое тело!
Паха Сапа повторяет эти судорожные заклинания, давя на грудь мертвеца, он молится шести пращурам о том, чтобы давление повело призрака по его руке и пальцам назад в холодное белое тело.
Рот вазикуна открывается, и мертвец протяжно, удовлетворенно рыгает.
Паха Сапа в ужасе отдергивает руки: призрак словно смеется над ним из своего безопасного гнезда внутри мозга Паха Сапы, – но потом мальчик понимает, что он просто выдавил последние пузырьки воздуха из кишечника, чрева или легких мертвого вазикуна.
Тело Паха Сапы сотрясается, он снова упирается руками в холодную плоть, но без всякого проку. Призрак не уходит. Он обосновался в теплом, живом, дышащем теле Паха Сапы и не собирается возвращаться в пустой сосуд, который лежит теперь среди таких же пустых сосудов его мертвых друзей.
Рыдая, десятилетний Паха Сапа (который всего час назад считал себя мужчиной) снова становится ребенком, отползает от груды тел, падает на землю и сворачивается, как неродившееся существо. Теперь он способен только сосать палец и плакать, скорчившись между закоченевших ног мертвого кавалерийского коня. Солнце красным шаром спускается по пыльному небу к западным горам, его алый цвет превращает небеса в отражение кровавой земли под ними.
Призрак продолжает шептать и бубнить внутри мозга Паха Сапы, и мальчик соскальзывает в некое состояние изнеможения, почти в сон. Шепот и бубнеж призрака продолжаются, когда вскоре после захода солнца Сильно Хромает находит Паха Сапу и уносит его, так еще и не пришедшего в сознание, назад в скорбящую и празднующую деревню лакота, расположенную внизу в долине.
2. На Шести Пращурах[6]
Февраль 1934 г.
Сейчас должна взорваться голова Томаса Джефферсона.
В грубоватом наброске на камне видны разделенные пробором волосы, которые у него опускаются на лоб гораздо ниже, чем у Вашингтона, расположившегося чуть левее и выше относительно проявляющегося Джефферсона. А из бело-коричневого гранита под волосами и лбом возникает длинный прямоугольник намеченного вчерне носа, заканчивающегося почти на одном уровне с четкой линией подбородка Вашингтона. Уже проявились нависающие брови, намечены глаза, правый глаз ближе к завершению (если можно говорить о завершении круглого отверстия внутри овального). Но даже неискушенному человеку кажется, что две головы – одна почти готова, другая только проявляется – расположены слишком близко одна к другой.
Как-то предыдущим летом Паха Сапа сидел в тени силовой станции в долине, осторожно и медленно перебирая содержимое своего ящика с динамитом, хотя официально проект был приостановлен. И услышал, как спорят две пожилые дамы-туристки, спрятавшиеся от солнца под своими зонтиками.
– Спереди Джордж, значит, рядом – Марта[7].
– Нет-нет, я из достоверных источников знаю, что тут будут только президенты.
– Чепуха! Мистер Борглум никогда не стал бы высекать двух мужчин, прильнувших друг к другу! Это было бы просто неприлично! Я уверена, что это Марта.
Итак, сегодня, в четыре пополудни, первый Джефферсон должен исчезнуть.
Ровно в четыре часа воют сирены. Все – мигом с каменных голов, все – мигом с лиц, все – бегом вниз по лестницам, все – бегом вниз по каменистому склону. После этого воцаряется полная тишина, которую не нарушает ни карканье ворон с припорошенных снежком сосен по обеим сторонам и внизу Монумента, ни постоянный скрип тросов лебедок, поднимающих и опускающих вагонетки с грузами, а затем по долине неожиданно прокатываются три взрыва, и голова Джефферсона взрывается изнутри. Потом кратчайшая пауза – падают камни, рассеивается пыль, а следом еще один взрыв – едва намеченная масса волос и выступающие брови Джефферсона разлетаются тысячами гранитных осколков, некоторые размером с «форд» модели Т. Затем следует еще более короткая пауза, во время которой со склона осыпаются новые камни, а вороны черной волной вспархивают с деревьев, после чего нос Джефферсона, его правый глаз и оставшаяся часть намеченной щеки рассыпаются под действием полудюжины последних взрывов, грохот которых раскатывается по долине, а потом эхо приносит его назад, уже приглушенным и с металлическим отзвуком.
Ощущение такое, будто обломки продолжают падать и скатываться несколько долгих минут, хотя главная работа проделана за секунды. Когда холодный ветерок уносит остатки дыма и пыли, на торце скалы остаются только несколько едва видимых складок и выступающих ребер, которые придется сбивать вручную. Томас Джефферсон исчез, словно и не существовал никогда.
Паха Сапа против всех правил, но по особому разрешению во время взрывов висел в своей люльке там, откуда взрыва было не видно, за восточной стороной массивной головы Вашингтона, его ноги упирались в небольшой выступ на длинной плоскости девственно-чистой белой породы, уже очищенной для работы над новой головой Джефферсона. Теперь он отталкивается ногой, машет Гасу, стоящему за лебедкой, и начинает движение по выступу волос, щеке и носу Джорджа Вашингтона. Лебедочный шкив наверху вращается ровно, Паха Сапа словно летит и вспоминает то, что всегда вспоминает, когда двигается подобным образом, – Питер Пэн! Он видел эту постановку в резервации Пайн-Ридж (ее много лет назад давала заезжая труппа из Рэпид-Сити) и навсегда запомнил, как молодая женщина, игравшая мальчика, летала над сценой на слишком заметных привязных ремнях. Стальной трос, который удерживает Паха Сапу на высоте в несколько футов над долиной, имеет толщину в одну восьмую дюйма и гораздо незаметнее, чем у той девушки, которая играла Питера Пэна, но Паха Сапа знает, что трос может выдержать восьмерых таких, как он. Поэтому он отталкивается сильнее и взлетает выше – чтобы первым увидеть последствия четырнадцати больших взрывов и восьмидесяти шести малых; он лично рассчитал мощность, пробурил шпуры и заложил эти заряды в голову Джефферсона сегодня утром и днем.
Балансируя на правой щеке Вашингтона, Паха Сапа знаками показывает Гасу, чтобы тот опустил его на уровень все еще находящихся в работе губ и рта первого президента, поворачивается налево и с удовольствием разглядывает плоды своих трудов.
Сработали все сто зарядов. Масса разделенных пробором волос, брови, глазницы, глаза, нос, зачатки губ – все исчезло, но при этом не осталось никаких вырубок или бугров в негодной породе, где по ошибке начали высекать первую голову Джефферсона.
Паха Сапа парит, отталкиваясь от правого угла подбородка Вашингтона, все еще в полутораста футах над высшей точкой каменистого склона внизу, когда скорее чувствует, чем слышит или видит, как на втором тросе с лебедки наверху спускается Гутцон Борглум.
Босс проскальзывает между люлькой Паха Сапы и остатками первого лица Джефферсона, высеченного в скале, почти минуту разглядывает обнаженную взрывом породу, а потом легко поворачивается к Паха Сапе.
– Ты, старик, упустил несколько ребрышек на дальней щеке.
Паха Сапа кивает. Эти ребрышки кажутся лишь мелкими тенями в пятне слабого февральского света, отраженного от щеки и носа Вашингтона на расчищенном теперь торце скалы. Паха Сапа чувствует, как холодает, по мере того как тускнеет свет на южном склоне. Он знает, что Борглум должен найти какой-нибудь изъян – он всегда так делает. Что касается обращения «старик», то Паха Сапе известно, что через несколько недель Борглум будет праздновать свое шестидесятишестилетие, но он никогда не говорит о своем возрасте и понятия не имеет об истинном возрасте Паха Сапы, которому в августе будет шестьдесят девять. Паха Сапа знает, что хотя Борглум называет его «стариком» и «старым конем» перед другими людьми, но на самом деле уверен, будто единственному индейцу, который работает на него, пятьдесят восемь, как об этом написано в его личном деле, заведенном на шахте «Хоумстейк».
– Да, Билли, ты был прав касательно размеров зарядов. Я сомневался, что нужно использовать столько маленьких, но ты оказался прав.
Голос Борглума, как всегда, похож на недовольное журчание. Немногие рабочие любят его, но уважают – почти все, а Борглуму ничего другого и не надо. Паха Сапа не любит и не уважает Борглума, но он знает, что то же самое можно сказать о его отношении к любому вазикуну, за исключением нескольких уже ушедших из жизни и одного живого по имени Доан Робинсон[8]. Паха Сапа, прищурившись, смотрит на чистую скалу, где полчаса назад стоял трехмерный набросок Джефферсона.
– Да, сэр, мистер Борглум. Если бы еще на несколько зарядов побольше, то эта трещина расширилась бы, и вам пришлось бы ее латать шесть месяцев. А заложи мы малых зарядов поменьше, пришлось бы взрывать целую неделю, а потом еще месяц выравнивать.
Это самая длинная речь, произнесенная Паха Сапой за несколько месяцев, но Борглум в ответ только хмыкает. Паха Сапа хочет, чтобы Борглум поскорее ушел, потому что чувствует динамитную головную боль – в буквальном смысле динамитную. Паха Сапа целый день работал на холоде без рукавиц – резал, формовал и размещал заряды с самого утра, а в динамите, как известно всем взрывникам, содержится что-то такое (возможно, из-за нитроглицерина), что выступает капельками на поверхность, словно опасный пот, просачивается через кожу взрывника, доходит до основания его черепа и вызывает такие пульсации и головные боли с потерей зрения, по сравнению с которыми обычные мигрени просто тьфу. Паха Сапа пытается сморгнуть с глаз красную пленку, которая неизменно сопровождает головную боль.
– Ну, я думаю, можно было и чище сработать. И уверен, ты сумел бы израсходовать меньше динамита и сэкономить нам немного денег. Готовься к установке новых зарядов на верхней трети новой площадки рано утром. Будем взрывать в полдень.
Борглум дает отмашку своему сыну Линкольну, стоящему у лебедки: давай поднимай.
Паха Сапа кивает, чувствует, как кивок вызывает приступ боли и головокружения, ждет, когда Борглум достигнет сарая с лебедкой, после чего собирается пройти еще раз по кругу, чтобы рассмотреть все тщательнее. Но босс, прежде чем исчезнуть в темном прямоугольнике выступающего днища сарая, кричит ему:
– Билли… ты, похоже, не прочь и под Вашингтона подложить побольше динамита?
Паха Сапа отклоняется назад как можно дальше, касаясь скалы только носками, его тело принимает почти горизонтальное положение в люльке, и над долиной на высоте в две сотни футов его удерживает всего лишь металлический трос толщиной в одну восьмую дюйма. Он смотрит на темную фигуру Гутцона Борглума, висящую в пятидесяти футах над ним, – крошечный силуэт на фоне быстро белеющего февральского неба Южной Дакоты, цвет которого такой же голубой, как у мертвого солдата-кавалериста вазичу.
– Еще рано, босс. Я подожду, пока вы закончите все головы, а уж тогда их взорву.
Борглум натужно смеется, дает знак сыну и исчезает в проеме.
Это их старая шутка, вопрос и ответ всегда одни и те же, а потому юмор потерял почти всю свою остроту. Но Паха Сапа спрашивает себя, догадывается ли Борглум, что его главный взрывник говорит ему чистую правду?
3. На Сочной Траве
Июнь 1876 г.
Паха Сапа прихлебывает теплый суп. Пламя костров, повсюду горящих в деревне, бросает оранжевые отблески на тщательно выскобленные бизоньи шкуры на стенах вигвама Сильно Хромает. Уже поздно, но еще слышна какофония пения и причитаний да бой барабанов – какофония для ушей Паха Сапы, потому что это резкая и необычная смесь песен радостей и траура, пронизанная воплями скорбящих женщин, восторженными выкриками победоносных воинов и непрекращающейся оружейной пальбой, как внутри деревни, так и вдалеке. Выстрелы эхом отражаются от темных холмов за рекой на юго-востоке. Сотни воинов, многие из которых уже пьяны до бесчувствия, пытаются по очереди пробраться к оставшимся в живых вазичу, окруженным в том районе, стреляют в солдат, если им кажется, что показались черные очертания головы или туловища кого-то из синих мундиров, окопавшихся на темной вершине холма.
В вигваме Сильно Хромает присутствуют еще трое старейшин: Татанка Ийотаке (Сидящий Бык), Глупый Лось и старый камнегадатель, шаман-йювипи по имени Долгое Дерьмо. Паха Сапа, который лишь вполуха слушает несвязный разговор стариков, понимает: Долгое Дерьмо рассказывает, что большую часть вечернего сражения он провел, совещаясь с Шальным Конем, и даже развел священный костер из бизоньих лепешек, чтобы помолиться над ним во время одной из пауз, когда Шальной Конь и его люди собирали свежих пони. Стоит Паха Сапе услышать имя Шального Коня, как он заливается краской стыда. Мальчик надеется, что ему больше никогда не доведется увидеть двоюродного брата старшей жены Сильно Хромает.
– Черные Холмы, скажи нам то, что ты должен сказать.
Эту команду отдает Сидящий Бык. Хотя большинство молодых воинов кричат и хвастают так, словно дневные труды завершились их великой победой, голос Сидящего Быка звучит грустно. Можно подумать, что день принес горькое поражение лакота и шайенна. И если Сильно Хромает, Долгое Дерьмо и более молодой Глупый Лось одеты как подобает этому вечеру, то на Сидящем Быке, который довольно стар (Сильно Хромает говорит, что тот видел не меньше сорока двух зим), повседневная одежда – рубаха из лосиной кожи с бахромой, украшенная только зелеными иглами дикобраза и скромными кисточками человеческих волос, прикрепленными к плечам, наголенники, мокасины и красная набедренная повязка. Его косы обернуты в мех выдры и украшены единственным орлиным пером, торчащим прямо вверх.
Паха Сапа кивает, отставляет миску с супом, садится, скрестив ноги, на мягкую шкуру, и думает о том, что скажет. Сильно Хромает рассказал трем собравшимся о призраке, именно поэтому они сегодня здесь, а не празднуют, или скорбят, или (как это сделал бы Глупый Лось) стреляют по оставшимся в живых вазичу на вершине холма, и Паха Сапа знает, что двух шаманов и воина, который считается другом Шального Коня, больше всего интересует личность синего мундира, чей дух вселился в Паха Сапу.
Паха Сапа закрывает на минуту глаза, вызывая из дыма и сумятицы страшных воспоминаний события сегодняшнего дня. Он надеется, что когда откроет глаза и начнет говорить (и говорить так кратко, как его учил Сильно Хромает, когда Паха Сапа был маленьким мальчиком, и так четко, как только может, хотя призрак вазикуна продолжает болтать и метаться в его мозгу), то у него родятся несколько простых, бесстрастных слов чуть ли не в форме монотонного песнопения. Но Паха Сапа, прежде чем открыть глаза и начать рассказ, делает паузу, чтобы вспомнить все в подробностях.
Он пришел не для того, чтобы сражаться. Паха Сапа знал, что он не воин (этому его научил единственный печальный поход против кроу прошлой весной), но в этот день, когда на юго-восточной оконечности огромной деревни, состоящей из множества типи, наполнявших долину, началась стрельба, он вместе с Сильно Хромает выбежал из вигвама. Шумиха стояла невероятная. Акисита пытались поддерживать порядок, но молодые воины не обращали внимания на племенную полицию, они кричали, вскакивали на коней и мчались на шум сражения. Другие воины спешили нанести на себя боевую раскраску, найти оружие и затянуть песни смерти. Хотя Паха Сапа знал, что в душе он не воин, но, слыша, что стрельба не утихает, и видя, как на востоке и над утесами по другую сторону реки поднимаются клубы пыли, а из деревни продолжают выезжать все новые и новые всадники всех возрастов, почувствовал, как в нем нарастает возбуждение.
– Сражение – на дальнем конце деревни.
Сильно Хромает показал в сторону юго-востока.
– Я хочу, чтобы ты оставался здесь, пока я не вернусь.
И Сильно Хромает без всякого оружия медленно двинулся в направлении стрельбы.
Паха Сапа оставался на месте, даже когда Волчий Глаз, Левая Нога и несколько других молодых людей, которых он встретил здесь в толпе у дороги, проскакали мимо, с издевкой крича ему, найди, мол, себе пони. Но они умчались на юг, прежде чем Паха Сапа решил, что ему делать.
Потом послышалась стрельба почти с противоположной стороны – от оврага в северной оконечности деревни. Несколько минут назад Паха Сапа поднял глаза и увидел колонну вазичу на лошадях – они двигались на север по гребню холма. Может быть, подумал Паха Сапа, атака синих мундиров с юго-востока на самом деле была ложной, отвлекающим маневром, а настоящая атака должна произойти здесь, на противоположном конце деревни, где собираются женщины и дети? Всего три дня назад Сидящий Бык говорил Сильно Хромает, что именно такую тактику использовал Длинный Волос, когда атаковал деревню Черного Котла.
Какая-то женщина прокричала, что синие мундиры идут по оврагу и пересекают вброд реку неподалеку от жилища Сильно Хромает, вблизи места, где собралось много мужчин и женщин. Группа воинов – их кони и умащенные маслом тела были покрыты пылью после сражения на юго-востоке – промчалась по деревне на север, в сторону новой угрозы, разметав по пути стариков, женщин и вопящих младенцев. В конце этой группы скакала лошадь без наездника, на ее чепраке алело кровавое пятно. Всадники замешкались на несколько мгновений, чтобы дать возможность женщинам уйти с дороги, кобыла без всадника остановилась позади лошадей и кричащих воинов, ее глаза бешено вращались.
Паха Сапа, не отдавая себе отчета в том, что делает, вскочил на спину кобылы и обеими руками вцепился в гриву. Когда всадники протиснулись сквозь толпу вопящих женщин и поскакали к реке, Паха Сапа, крепко держась за гриву, ударил пятками по вздымающимся бокам кобылы. Необходимости в этом не было – животное, как и Паха Сапа, было так взвинчено, что инстинктивно следовало за остальными лошадьми.
Из длинного оврага, который тянулся вдоль реки до холмов, все еще доносились звуки выстрелов, и Паха Сапа сквозь пыль и дым увидел лежащие там на земле тела – несколько вазичу, несколько жителей деревни, – но воин, возглавляющий отряд, не обращая внимания на овраг, повел своих людей на северо-восток вдоль реки, мимо групп разбегающихся женщин и детей, мимо последних жилищ лакота и шайенна, через тополиную рощу; и наконец тридцать или около того всадников с Паха Сапой в качестве замыкающего, разбрызгивая воду, устремились через второй брод и затем вверх по склону глубокого оврага в направлении поросших травой холмов. Паха Сапа чуть не свалился с кобылы, но удержался, ухватившись обеими руками за гриву и сжав изо всех сил коленями ходящие туда-сюда бока лошади, которая, хрипя и роняя пену, с трудом взбиралась по травянистому склону. Легкие ее работали, словно продранные меха.
Паха Сапа едва успевал смотреть направо-налево, ловя какие-то обрывочные впечатления; крутые хребты справа, там же воины и вазичу на лошадях, впереди слева еще один длинный кряж, окутанный дымом и пылью, группки пеших вазичу и отдельные кучки воинов, стреляющих друг в друга и сражающихся на всем протяжении травянистого склона, который поднимается к другому, более высокому хребту, почти в миле к северо-западу. Усевшись покрепче, мальчик бросил взгляд через плечо в направлении долины, но не увидел внизу кружочков тысяч типи – над долиной висели дым и пыль.
Он понял, что в отряде воинов, к которому он присоединился, нет никакого порядка, как и в других группках людей, разбросанных повсюду по склонам; в его группе были в основном лакота, несколько миниконджу, один-два шайенна. Их глава, человек, которого он никогда не видел прежде, вроде бы был хункпапа. Он прокричал: «Хокахей!» – и воины, за которыми следовал Паха Сапа, хлестнули своих пони, ударили им в бока пятками и поскакали навстречу синим мундирам, стреляя в сторону спешенных группок на склоне холма слева. Повсюду в дыму ржали и падали кони вазичу и пони воинов. Некоторых пристреливали сами синие мундиры, чтобы укрыться за ними, других убивали под всадниками, третьих – рядом с солдатами, которые держали поводья. Грохот стрельбы не стихал, но за ним слышался и становящийся все громче хор воплей, криков, стонов, заклинаний и окликов. Женщины, сгрудившись на склонах, издавали пронзительные кровожадные крики, воодушевляя воинов. А Паха Сапа тем временем, следуя за остальными, преодолевал последние заросли кустарников перед вершиной холма.
Следующие несколько минут просто стерлись из памяти Паха Сапы; у него остались какие-то смутные воспоминания о пороховом дыме, дерганые картинки волн воинов на лошадях, которые накатывались на пеших вазичу и сметали их, нечеткие образы пеших воинов, окружающих группы синих мундиров и их мертвых лошадей, страшное ощущение, что лошади (включая и его кобылу) в панике бессмысленно носятся туда-сюда между стреляющих в них людей. Перед его мысленным взором мелькали какие-то воистину безумные сцены – например, солдат-вазикун скачет на коне, а за ним пять воинов лакота. Солдат вроде бы уже уходит от погони, но вдруг поднимает пистолет и вышибает себе мозги. Потрясенные воины останавливают своих коней, переглядываются и скачут на юг, откуда доносятся громкие звуки сражения; они даже ничего не пожелали делать с телом сумасшедшего вазикуна.
Паха Сапа отчетливо помнил, что ни разу не пытался остановить кобылу, чтобы взять ружье, лук, пику или револьвер у кого-нибудь из множества мертвецов, лежащих здесь и там на склоне холма. Но даже если бы и попытался, не смог бы. Бока обезумевшей лошади стали липкими от ее собственной крови, и тут мальчик понял, что в нее попало несколько ружейных и пистолетных пуль, а за правой ногой Паха Сапы в лошадиное тело глубоко вонзилась стрела. С каждым прыжком кобыла издавала хрип, и из ее ран било фонтаном все больше крови, которую относило назад, на шею Паха Сапы, на его грудь и лицо. Попадая мальчику в глаза, она ослепляла его.
Потом воины повернули налево, словно стая гусей, изменившая курс, и Паха Сапа увидел, что они атакуют группу вазичу, которая спешилась на длинном склоне немного ниже гребня. Его кобыла начала спотыкаться, еще одна атака была ей явно не по силам, – и Паха Сапа решил совершить деяние славы. Именно для этого он и выехал из деревни. У него не было оружия – ни ножа, ни жезла славы, поэтому деяние славы придется совершать голыми руками. Паха Сапа помнит теперь, как он улыбался во весь рот (может быть, впав в безумие), когда принял это решение.
Среди множества мертвых и умирающих вазичу несколько синих мундиров стояли на коленях, лежали ничком или стояли и стреляли. Один из них, с непокрытой головой, короткими волосами, лысеющий (кожа на его голове была такая белая, что на мгновение Паха Сапе показалось, будто того уже скальпировали), спокойно стоял и стрелял из красивого ружья. Когда приблизился отряд с Паха Сапой, оружие у вазикуна либо заклинило, либо кончились патроны, – волны воинов скакали мимо этих и других пеших воинов и падающих вазичу, – и синий мундир, на которого обратил внимание Паха Сапа, теперь аккуратно поставил свое ружье, вытащил два пистолета и начал стрелять в его, Паха Сапы, направлении.
Тут-то кобыла Паха Сапы и рухнула, ее передние ноги подкосились, и мальчик перелетел через ее шею и голову. Как это ни невероятно, как ни невозможно, но он приземлился на ноги и побежал, так и не упав, почти полетел со скоростью его мертвой кобылы, передавшейся его ногам, он промчался каким-то чуть ли не волшебным образом среди мертвых и умирающих вазичу, пока конные воины, крича и стреляя из луков и ружей, мчались по обе стороны от него. Паха Сапа не сводил глаз с вазикуна, который теперь был от него всего в двадцати шагах. Тот увидел его, развернулся, поднял один из своих пистолетов и в этот момент получил пулю.
Пуля попала лысеющему вазикуну высоко в левую часть груди, сбила его с ног, и он упал спиной на мертвую лошадь. Один из его пистолетов взлетел в воздух и пропал из виду в облаке пыли, но другой остался в его руке, и он поднял его и невозмутимо прицелился в окровавленное лицо бегущего Паха Сапы, который с каждым шагом приближался к нему.
Когда вазикун выстрелил, скачущий пони почти сбил Паха Сапу с ног. Паха Сапа услышал, как пуля просвистела на расстоянии ладони от его уха. Он вскочил и снова побежал вперед, а синий мундир хладнокровно и тщательно прицелился в него, и в этот миг какой-то воин выстрелил над плечом Паха Сапы и пуля попала в левый висок вазикуна. Голова человека откинулась назад, и его красивый пистолет произвел безвредный выстрел в воздух в тот момент, когда Паха Сапа уперся ладонью и пятью пальцами в грудь белого человека.
И вот в этот самый момент в него и прыгнул призрак.
Когда Паха Сапа перестает говорить – он сжал все подробности до нескольких слов, – раздаются покашливания, а за ними – долгое молчание. Наконец Сидящий Бык нарушает тишину, обращаясь к Сильно Хромает:
– Когда вернешься в свою деревню, нужно провести обряд завладения призраком и устроить большие раздачи.
Теперь наступает очередь Сильно Хромает откашляться. Паха Сапа, всегда чувствительный к настроениям приемного отца, по этому уклончивому звуку понимает, что старик не согласен с Сидящим Быком и, на его взгляд, обряд призрака не годится для такого случая вселения духа.
Долгое Дерьмо вытягивает руку, требуя тишины и внимания.
– Мы должны узнать, не Длинный ли Волос наслал призрака на мальчика. Черные Холмы, ты видел, как умер тот человек, – ты думаешь, это был Длинный Волос?
– Я не знаю, дедушка. У вазикуна были очень короткие волосы. Я думаю, он был офицером. Еще у него было очень красивое оружие – два пистолета и ружье. Когда я вернулся к телу, они уже исчезли.
Глупый Лось откашлялся, он явно стеснялся говорить в обществе трех старших шаманов.
– Говорят, что у Длинного Волоса ружье с граненым стволом. Ты этого не заметил, Черные Холмы?
– Нет. Только то, что оно было очень красивое и стреляло быстрее, чем карабины других синих мундиров.
Паха Сапа молчит некоторое время.
– Я не воин. Мне жаль, что я не замечаю таких вещей.
Сидящий Бык кряхтит и машет рукой – мол, это не имеет значения.
– Никто не должен извиняться за то, что он не воин. Ты все еще мальчик и явно не хочешь становиться воином. Ты есть то, чего хочет от тебя Вакан Танка. И будешь таким. Никто не в силах изменить этого.
Словно смущенный своей длинной речью, Сидящий Бык чихает и продолжает:
– Хесету. Митакуйе ойазин. «Быть по сему. И да пребудет вечно вся моя родня – вся до единого!»
Это означает, что обсуждение, по крайней мере на сегодня, закончено.
Сидящий Бык кивает другим, тяжело встает на ноги и выходит из вигвама, не произнеся больше ни слова. Долгое Дерьмо и Глупый Лось докуривают свои трубки, а потом следуют за ним, задержавшись, чтобы прошептать что-то Сильно Хромает.
Оставшись наедине со своим приемным сыном, Сильно Хромает внимательно смотрит на него. Взгляд у него усталый, возможно, печальный.
– Завтра утром сворачивают деревню, но, если не появятся новые вазичу, чтобы спасти своих друзей, мы с Сидящим Быком встанем пораньше, пойдем и попытаемся найти тело синего мундира, который вселил в тебя призрака, и постараемся определить, Длинный Волос это был или нет. Ты поведешь нас к нему.
Паха Сапа кивает. Руки его дрожат с того самого момента, когда он этим вечером проснулся в вигваме Сильно Хромает, и мальчик сжимает кулаки, чтобы скрыть дрожь.
Сильно Хромает касается его спины.
– Постарайся уснуть снова, мой сын, хотя в деревне и стоит такой сумасшедший шум. Мы должны встать пораньше, и, если другие роды отправятся на запад и север или назад в агентства[9] – я думаю, что Сидящий Бык поведет свое племя далеко на север, – мы с тобой направимся домой, на восток. Там мы посоветуемся с другими и решим, что делать с твоим призраком.
4. У Медвежьей горки
Август 1865 г.
Паха Сапа знает, что он родился во время Луны созревания в год, когда молния поразила пони.
Он знает, что детей лакота почти никогда не называют по горам или рекам (его имя, Паха Сапа, означает «Черные Холмы», и это очень необычно, поэтому другие мальчишки хмыкают, услышав его), но еще он знает, что в ночь его рождения у Медвежьей горки в конце жаркого, странного лета, когда молния три раза ударила в стадо пони, трем самым главным людям в деревне (их военному вождю, Сердитому Барсуку, их старому, усталому вичаза вакану, Громкоголосому Ястребу, и их лучшему и настоящему вичаза вакану, Сильно Хромает) снились Черные холмы.
Сердитый Барсук во сне видел белого волка, который спустился с темных холмов, очерченных и подсвеченных молнией, и волк говорил громом, а на спине зверя сидел плачущий голенький младенец.
Громкоголосому Ястребу приснилось, что он снова молод и может скакать на своем любимом коне Писко – Козодое, который пал более тридцати лет назад, и Козодой скакал так быстро, что унес Громкоголосого Ястреба в ночное небо и в саму молнию, а когда под ним были Черные холмы, огромный белый сетан – ястреб, вроде того, в честь которого он был назван семьдесят четыре зимы назад, – поднялся над этими холмами, неся в когтях голенького младенца.
Сильно Хромает было скорее видение, чем сон. Гром и молния разбудили его, и он, оставив двух своих жен, вышел в жаркую, бурную ночь (эта ночь была тем более бурной, что оглашалась криками Прядей-в-Воде, которая той ночью умирала в родах). На севере, за громоздкими очертаниями Мато-паха, Медвежьей горки, сверкали молнии, и тогда Сильно Хромает увидел лицо младенца, нарисованное молнией в тучах над Черными холмами.
Наутро, когда родился мальчик, чьего отца уже не было в живых, и когда мать его умерла от кровотечения и была подготовлена женщинами к захоронению, Сердитый Барсук, Громкоголосый Ястреб и Сильно Хромает шесть часов совещались в закрытом жилище, курили трубки и обсуждали свои сны и видения. Они решили, что (сколько бы ни удивлялись вольные люди природы) новорожденного сироту следует назвать Паха Сапа, потому что во всех видениях и снах младенец появлялся с Черных холмов.
Паха Сапа знает о своих умерших родителях и подробностях своего рождения больше, чем мог ожидать ребенок, который никогда не видел своих отца и матери. Например, он точно знает, что его мать, Пряди в Воде, которой было всего шестнадцать зим, умерла во время родов, как знает и то, что причиной смерти стала гибель его не менее юного отца, Короткого Лося, которого за три месяца до рождения Паха Сапы убили пауни.
Он знает, что Короткий Лось, который не прожил и семнадцати зим, захватил Пряди в Воде во время налета на деревню кроу, где Короткий Лось проявил то ли безудержную храбрость, то ли невероятную глупость. Отряд лакота напал на деревню кроу, разогнал их лошадей и выкрал нескольких женщин, включая Пряди в Воде, лакоту, которая четыре года провела в плену, а когда воины кроу наконец нашли своих лошадей, двенадцать воинов лакота уже успели бежать. Но Короткий Лось вернулся, прокричал «Хокахей!», поднял руки, словно в полете, и проскакал сквозь ряды кроу, которые стреляли по нему из ружей и луков. Но ни пуля, ни стрела не попали в Короткого Лося. Потом он проскакал сквозь порядки кроу в обратном направлении, закрыв глаза, откинув назад голову и раскинув в стороны руки. За такую смелость Сердитый Енот и другие воины наградили его Прядями в Воде, которая стала его женой.
Но потом, за три месяца до рождения Паха Сапы, Короткий Лось (вполне довольный собой и имеющий шесть прекрасных пони) присоединился к пяти воинам постарше, которые решили совершить налет на большую деревню пауни далеко на западе от Черных холмов. Налет делался только ради лошадей, и Волчий Поворот, старший из воинов, возглавлявший отряд, сказал остальным, что когда они захватят лошадей, то должны сразу скакать прочь и не останавливаться для схватки. Но Короткий Лось снова продемонстрировал свое геройство. Не подчинившись Волчьему Повороту во время бешеной скачки назад по долинам, Короткий Лось соскочил со своего пони, забил кол в землю, привязал к нему десятифутовый ремень, другой конец которого замотал у себя на поясе. Он думал, что ничто не сдвинет его с этого места. Короткий Лось крикнул пяти другим лакота:
– Они мне ничего не сделают! Я вижу будущее. Шесть пращуров берегут меня. Присоединяйтесь ко мне, друзья.
Пятеро воинов постарше остановили своих пони, но возвращаться не стали. Они смотрели с вершины поросшего травой холма в двухстах больших шагах от привязанного Короткого Лося, как пятьдесят гикающих пауни сбили их товарища с ног и – мстя за украденных лошадей – спрыгнули со своих пони, разрубили молодого кричащего воина на куски, но сначала выдавили ему, еще живому, глаза и, отрубив руки, вырезали еще бьющееся сердце и по очереди откусили от него. Пятеро лакота, наблюдавших за этим с вершины холма, немедленно оставили украденных лошадей пауни и в страхе поскакали по прерии назад в свою деревню.
Пряди-в-Воде пребывала в трауре – она плакала, кричала, стонала, рвала на себе волосы, разрезала себе до крови руки и бедра, плечи и даже груди – в течение трех полных месяцев между смертью Короткого Лося и рождением ее ребенка.
Паха Сапа знал все это, еще будучи малышом, но не потому, что начал задавать вопросы старшим, как только научился говорить, а из-за своей способности, которую он называл «прикоснись – и увидишь, что было».
Паха Сапа использовал способность «прикоснись – и увидишь» с тех пор, как научился ходить или говорить, и был он совсем маленьким сопливым мальчишкой, когда понял, что далеко не все так умеют.
Действовала эта штука не всегда. Но изредка – и он никогда не знал когда – юный Паха Сапа мог прикоснуться к коже другого человека и воспринять чужие беспорядочные воспоминания, голоса, звуки и образы. Ему понадобилось гораздо больше времени, чтобы научиться упорядочивать краткие мощные потоки чужих мыслей и разбираться в них, чем ушло на то, чтобы научиться говорить или ходить, скакать на пони или стрелять из лука.
Он помнил, что, когда ему было около трех зим, он прикоснулся к обнаженной руке Косы Ворона, младшей жены Сильно Хромает (кормилицы Паха Сапы после смерти его настоящей матери), и воспринял волну сумбурных воспоминаний Косы Ворона о смерти ее собственного младенца всего за несколько недель до рождения Паха Сапы и ее гнев на Сильно Хромает за то, что тот принес в дом этого ребенка. А еще – ее странную ненависть к Прядям-в-Воде, умершей матери Паха Сапы, за то, что та, после смерти ее глупого мальчишки-мужа разрезала себе ножом руки и бедра в знак траура, когда полагающееся для подобного поведения время уже прошло, за то, что молодая женщина потеряла много крови и ослабла из-за этого, в особенности еще и потому, что была такой маленькой, с узкими бедрами и вообще недостаточно сильной после долгого плена у кроу.
Паха Сапа в возрасте трех зим посредством своего «прикоснись – и увидишь» знал, что его мать чуть не убила себя, когда полосовала себе ножом руки и ноги перед его рождением. Большинство женщин лакота гордились тем, с какой легкостью они вынашивают детей, зная, что Вакан Танка – который есть Всё – избрал их и уменьшил для них боль и опасность, которую испытывают все женщины. Но в возрасте трех зим Паха Сапа, прикоснувшись к Косе Ворона, увидел свою молодую мать, бледную, ослабевшую и в поту, с раскинутыми ногами, увидел ее шан – ее женскую виньян шан, – открытую, разорванную и кровоточащую, увидел, как Коса Ворона, Женщина Три Бизона и другие женщины с помощью мха, теплой глины и даже кожаных ремней, размягченных до тонкости материи, пытаются остановить жуткое кровотечение, тогда как другие женщины держат его, а он вопит во все горло и пуповина у него еще не перерезана.
Паха Сапа вскрикнул и поковылял от Косы Ворона в тот день, когда ему было «прикоснись – и увидишь», и его приемная мать – которая всегда по-доброму к нему относилась, почти как к собственному сыну, – спросила у него, что случилось, но Паха Сапа в том возрасте почти не умел говорить на языке икче вичаза, вольных людей природы, он только вскрикнул и убежал, а после этого болел, у него был жар весь тот день, и ночь, и следующий день.
После этого Паха Сапа одновременно страшился и жаждал своих «прикоснись – и увидишь, что было» и медленно учился тому, как задавать вопросы или направлять разговоры к тому, что ему действительно хотелось узнать, а потом, словно случайно, прикоснуться к одному или нескольким людям в надежде воспринять поток воспоминаний и мысленных образов.
Иногда эта магия срабатывала; чаще – нет.
Но Паха Сапе это казалось чем-то постыдным (словно поднять полог вигвама и увидеть, как раздевается молодая девушка, или подсмотреть, как совокупляется Сильно Хромает с Косой Ворона или со своей старшей женой, Женщиной Три Бизона, в теплую ночь, когда бизоньи шкуры скинуты), а потому он не рассказывал о своей способности приемному отцу, пока ему не исполнилось девять зим, и случилось это в год Пехин Ханска Казата – уничтожения Длинного Волоса на Сочной Траве, в год, который коренным образом изменил жизнь Паха Сапы.
В свою девятую зиму, когда он рассказывает Сильно Хромает об этих видениях, тот задает Паха Сапе вопросы, выискивая вранье или противоречия, поскольку явно считает, что мальчик узнал обо всем из других источников (ведь в типи вообще не существует никаких тайн, и в их роду всего восемнадцать жилищ). Но когда Паха Сапа рассказывает о том случае «прикоснись – и увидишь, что было», который произошел у него с Женщиной Три Бизона, когда она вспоминала себя девочкой, пленницей у черноногих пикани, и все мужчины племени по очереди насиловали ее, а потом обожгли ее промежность раскаленными добела камнями, Сильно Хромает замолкает и впадает в исступленную задумчивость. Паха Сапа благодаря все той же своей способности «прикоснись – и увидишь, что было» знает, что Женщина Три Бизона никому, кроме Сильно Хромает, не рассказывала о тех днях, да и Сильно Хромает – всего раз, много лет назад, когда он предложил ей (они тогда собирали ягоды у Бобрового ручья) выйти за него замуж. И больше они никогда не возвращались к этому разговору и никому об этом не рассказывали.
– Почему ты, Черные Холмы, называешь эту свою способность «прикоснись – и увидишь, что было», а не «видения от духов»? – спрашивает наконец Сильно Хромает.
Паха Сапа медлит. Он ни разу в жизни не солгал Сильно Хромает, но боится ответить честно.
– Потому что я знаю… эти видения… они не ханблецея[10], дедушка.
Паха Сапа называет своего опекуна Сильно Хромает тункашилой – дедушкой – только в самые официальные или задушевные моменты.
– Ты знаешь, Черные Холмы, я тебя спрашиваю не об этом. Я спрашиваю, почему ты называешь это «прикоснись – и увидишь, что было». Ты что, можешь прикасаться к людям и видеть в их головах?.. А может, ты видишь, что случится с ними, со всеми нами?
Паха Сапа опускает голову, словно кто застал его, когда он трогает свой се.
– Хан, тункашила. Да, дедушка.
– Ты не хочешь мне рассказать, какие видения «прикоснись – и увидишь, что будет» были у тебя, когда ты прикасался ко мне и к другим из нашего рода?
– Нет, дедушка.
Сильно Хромает надолго погружается в молчание. Стоит позднее лето, та неделя, когда родился Паха Сапа, и они вдвоем забрались на холм так высоко, что вигвамы в деревне под тополями кажутся тряпичными типи, в какие играют девочки, а пасущиеся лошади – всего лишь черными точками, двигающимися по бурой траве, которая щекочет их животы. Пока Сильно Хромает молчит, Паха Сапа прислушивается к протяжному, неторопливому шуршанию травы, которая вздыхает и шевелится на ветерке. Он услышит этот звук снова, десять месяцев спустя на Сочной Траве, когда смолкнут крики и прекратятся выстрелы.
– Ну что ж, Черные Холмы. Ты выказал мужество, поведав мне об этом. Я не буду требовать, чтобы ты рассказывал мне о видениях «прикоснись – и увидишь, что будет», пока ты сам не почувствуешь, что готов к этому, но только не медли, если увидишь нечто такое, что важно для выживания нашего народа.
– Не буду, тункашила. То есть, конечно, скажу – не буду медлить, тункашила.
Сильно Хромает кашляет.
– Пока я ничего не скажу о твоих видениях Сердитому Еноту, или Он Потеет, или Громкоголосому Ястребу. Они и без того считают, что ты не такой, как все. Но мы с тобой должны подумать, как это отразится на твоей ханблецее в Черных холмах на следующий год. Пользуйся своей способностью осторожно, Паха Сапа. Такая способность – вакан.
Священна. Полна таинственной силы.
– Да, дедушка.
– Это не означает, что ты должен стать вичаза ваканом, шаманом вроде меня, но, возможно, ты был избран шестью пращурами, чтобы стать ваайатаном, человеком, который видит будущее, как мой молодой двоюродный брат Черный Лось или племянник твоего отца по имени Хока Уште из рода Хорошего Грома. Ваайатан часто дает своему племени вакинианпи, которые могут определять судьбу рода.
– Да, тункашила.
Сильно Хромает молча хмурится, глядя на него, и Паха Сапа знает (ему для этого даже не нужно прикасаться к старику), что мудрый вичаза вакан думает, будто он, Паха Сапа, слишком молод, слишком зелен для такого волшебного дара и его необычная способность может для всех обернуться бедой. Наконец Сильно Хромает ворчит:
– Хесету. Митакуйе ойазин – «Быть по сему. И да пребудет вечно вся моя родня – вся до единого».
Мистический.
Паха Сапа узнает значение этого слова вазичу на английском почти через сорок пять лет после Пехин Ханска Касата – уничтожения Длинного Волоса Кастера на Сочной Траве – и на пятьдесят шестом году жизни.
«Мистический», говорит ему учитель, поэт и историк Доан Робинсон, означает нечто повседневное, но заряженное и живое духовным или сверхъестественным смыслом, недоступным обычному пониманию.
Паха Сапа чуть ли не смеется. Он не говорит мистеру Робинсону, что его, Паха Сапы, жизнь была мистической до того времени, пока ею не завладели вазичу и мир вазикуна.
Его детство в буквальном смысле было наполнено невидимым смыслом, связями и чудесами; даже камни имели свои жизни и истории. Деревья хранили священные тайны. В шелесте трав прерии слышались истины, подслушанные у шепчущих духов, которые окружали его и его род вольных людей природы. Солнце было таким же реальным существом, как его дедушка или другие люди, проходящие мимо него при свете дня; звезды в небе мерцали от дыхания мертвецов, которые бродят между ними; горы на горизонте наблюдали и ждали его со своими откровениями.
Мистический. Паха Сапа чуть ли не улыбается, когда Доан Робинсон учит его этому замечательному слову.
Но не все детство Паха Сапы было наполнено таинственными знамениями, воспоминаниями или судьбами других людей, о которых он узнавал благодаря своей волшебной способности «прикоснись – и увидишь, что было / будет».
Бо́льшую часть своего детства Паха Сапа был обычным мальчишкой. Отсутствие живых родителей почти никак не сказывалось на его жизни – и, уж конечно, доставляло гораздо меньше проблем, чем странное имя, – потому что мальчиков лакота обучали, воспитывали, наказывали, хвалили и растили не их родители. Все родители лакота были великодушно освобождены от забот о детях и не питали к ним ничего, кроме вежливого равнодушия. С того времени, когда Паха Сапа подрос настолько, что смог оторваться от груди Косы Ворона, всему, что он должен был знать, его учили другие мальчишки: и тому, куда отойти за пределы деревни, чтобы справить большую нужду, и тому, какими тростниками или травами безопасно подтирать задницу.
У мальчиков лакота было мало обязанностей (кроме наблюдения за стадом пасущихся пони, когда они – мальчики – достаточно для этого подрастут), и Паха Сапа играл с раннего утра до позднего вечера. После наступления темноты он сидел у костра, пока Женщина Три Бизона или Сильно Хромает не отсылали его, и слушал, как разговаривают старшие, как, освещенные мерцающим пламенем, они рассказывают разные истории.
У Паха Сапы были зимние игры и летние игры. Были игры с палками и с шарами, завернутыми в шкуры, а еще игры на реке, рядом с которой они почти всегда разбивали стоянку, а еще игры с руками и игры с лошадьми. В большинстве мальчишеских игр, в которых участвовал Паха Сапа, нужно было толкать, давить, изредка драться на кулаках, что частенько заканчивалось травмами. Это устраивало Паха Сапу. Возможно, он не станет воином – в то время он еще не был в этом уверен и не очень занимал себя мыслями о том, выйдет ли из него вичаза вакан, шаман, как его любимый тункашила Сильно Хромает, – но ему нравились жестокие игры, и он был готов противостоять в схватке ребятам постарше его.
Многие мальчишеские игры были военными играми – подготовкой, и Паха Сапе особенно нравилась игра, в которой мальчишки с несколькими ребятами постарше уходили без присмотра взрослых в прерию и строили собственную деревню из травяных типи. А потом они планировали налет на настоящую деревню. В отряде всегда был старший мальчик-советник, и он посылал других в деревню украсть мясо у взрослых. Это было достаточно серьезное, а потому щекочущее нервы испытание, поскольку женщины (и с гораздо меньшей вероятностью – воины) могли отшлепать, а то и побить любого мальчишку, застигнув его за воровством мяса.
Паха Сапа и другие ползком пробирались в высокой траве, как если бы делали налет на деревни кроу, или пауни, или шайенна, или черноногих, или шошони, а не на свою собственную, потом нужно было подкрасться к мясу (больше всего ценился язык бизона), которое подвешивалось для подвяливания или перед готовкой, или даже украсть кусок из чьего-нибудь типи, а потом бежать со всех ног в деревню мальчиков, чтобы тебя не догнали, или все же быть пойманным рассерженным конным воином. Вернувшись в свою деревню из травяных типи, мальчики разводили собственный костер и поджаривали мясо, рассказывая выдуманные истории о собственной храбрости и величине добычи (настоящие воины такое хвастовство называли «брехней про добычу»), и часто мальчик постарше высоко держал нанизанный на палку поджаренный, шипящий, сочащийся бизоний язык, а младшие подпрыгивали, пытаясь откусить кусочек. Тому, кто не мог допрыгнуть, ничего не доставалось.
У всех мальчиков имелись маленькие луки, сделанные им отцами, дядьями или какими-нибудь добросердечными воинами, но у стрел было совсем немного перьев и затупленный кончик, а не каменный или стальной, как у взрослых. И все же при попадании было довольно больно, и мальчики немало времени проводили, выслеживая друг друга группами на берегах реки, в ивовых рощах, в колеблемой ветром высокой траве. Десятилетия спустя Паха Сапа помнит, какой восторг вызывали у них эти охотничьи поиски.
Став постарше, Паха Сапа (хотя ростом он и не вышел) присоединялся к самым старшим ребятам, которые играли в игру, называвшуюся «сбрось-с-коня». В эту игру играли совсем голыми, и во многих отношениях она была больше похожа на настоящее сражение, чем на игру, только без убитых в конце. В особенности нравилось им играть в эту игру, когда в ней участвовали мальчики из нескольких родов, большинство из них многочисленнее, чем маленький род Паха Сапы, во главе которого стоял Сердитый Барсук; они тогда строили свои жилища у Медвежьей горки или в одной из укромных долин.
Мальчики соединялись в отряды, намазывали тела ягодным соком, глиной и другими красками, подражая боевой раскраске, потом они выстраивали лошадей в линию и с криками и воплями атаковали друг друга, ржущие, встающие на дыбы лошади сталкивались, поднимая тучи пыли. Голые мальчишки хватали друг друга, тащили, толкали, пихали, ударяли локтями и кулаками. Если мальчик падал на землю, он считался мертвым и должен был оставаться мертвым. Последний мальчик, оставшийся на лошади, объявлялся победителем сражения и вечером у костра мог рассказывать истории о собственной храбрости.
Иногда по окончании игры на коне оставался Паха Сапа, но чаще (поскольку он был невысоким и худеньким) его сбрасывали на землю, а один раз он грохнулся на колючий куст. Тем вечером Женщина Три Бизона несколько часов вытаскивала колючки из ног, спины и живота Паха Сапы, а Сильно Хромает, время от времени посмеиваясь, курил свою неизменную трубку. На следующее утро Паха Сапа снова отправился на игру, хотя и пытался при этом приподниматься на лошадиной спине, потому что его голая задница распухла и болела.
Были и другие летние игры для мальчиков. Например, та-ху-ка-кан-кле-ска – игра с мячом. Мячи изготавливались из обрезков оленьей кожи, свернутых в комок и покрытых большим куском оленьей кожи, связанным жилами. Позднее, играя за кистонскую бейсбольную команду (а Гутцон Борглум требует, чтобы его работники каждое лето участвовали в турнире, в котором соревнуются города и клубы Южной Дакоты, – иногда Борглум нанимает людей на работу каменотесами на горе Рашмор именно потому, что они хорошо играют в бейсбол), Паха Сапа часто вспоминал маленькие твердые мячи для та-ху-ка-кан-кле-ска, какими он играл в детстве. Били по этим мячам специальными ясеневыми палками – бить нужно было на бегу, – и твердые мячи та-ху-ка-кан-кле-ска служили столько же, а то и дольше, чем мячи от «Уилсона» или «Роулингса», которыми играет бейсбольная команда Борглума.
У мальчиков и девочек из рода Паха Сапы было немало игр и зимой, и летом. Играли, например, в «скользи-палкой-по-снегу-или-льду» – ху-та-на-чу-те для мальчиков, пте-хес-те или па-сло-хан-пи для девочек. Иногда, если поблизости имелись холмы, мальчики постарше делали из грудных клеток бизона или лося салазки – их называли кан-во-сло-хан, – а полозья изготовлялись из костей, и порою мальчики разрешали девочкам съехать вместе с ними по склону холма или прокатиться по замерзшей реке в их кан-во-сло-хан.
В течение долгих дней и даже недель зимой, когда дни были коротки, а погода слишком снежной, ветреной или холодной, не позволяя много времени проводить на открытом воздухе, если того не требовала необходимость, они играли в домашние игры, например в та-си-ха. Предмет для этой игры изготавливался из таранных костей оленя, которые привязывались на ремешок из оленьей кожи узким концом вниз. К концу этих бус привязывалось несколько маленьких костей. Паха Сапа помнит, что в игре использовалось около восьми костей та-си-ха и что другой конец ремешка прикреплялся к орлиному крылу.
Когда мальчики и девочки играли вместе, они по очереди брали в правую руку кость со стороны орлиного крыла, а в левую – другой конец со связкой малых косточек и принимались раскручивать перед собой ремень с нанизанными на него таранными костями. Если другому игроку удавалось схватить первую кость, то игра продолжалась. Если ему или ей не удавалось, то та-си-ха передавали следующему. Паха Сапа здорово играл в эту игру. У него были быстрые руки и верный глаз. Схватив первую кость десять раз, команды переходили ко второй, третьей и так далее, пока связка малых косточек не побывает у всех десяти игроков. Среди других игр в доме Паха Сапа помнит и-ча-сао-хе, что-то вроде игры в камушки, хотя найти для игры абсолютно круглые камушки было очень трудно. Мальчики молились шести пращурам и самому Вакану Танке, чтобы они помогли им найти абсолютно круглые камушки для и-ча-сио-хе, и такие камушки всегда находились.
Была еще и глупая игра, называвшаяся истокикичастакапи, которая позволила Паха Сапе открыть в себе способность «коснись земли, чтобы лететь».
Ему семь зим, и он играет в истокикичастакапи с несколькими маленькими мальчиками, большинство из которых его возраста или еще младше. По ходу игры нужно жевать ягоды шиповника, потом сплевывать пережеванное в ладонь и с размаху кидать в лицо кому-нибудь, чтобы он не успел увернуться.
В тот день играет противный мальчик по имени Толстая Лягушка (и это имя очень подходит ему, потому что он не только толстый, он еще и такоха, избалованный, испорченный внук ленивого старика по имени Ноги-в-Огне), и когда они бегают в своем кружке около ручья, Толстая Лягушка хватает Паха Сапу, подтягивает его голову к своей и плюет ему в лицо. В плевке почти нет пережеванных ягод шиповника – одна слюна. Все лицо Паха Сапы в сгустках и подтеках слюны Толстой Лягушки.
Паха Сапа, не задумавшись ни на секунду, сжимает кулаки и бьет Толстую Лягушку прямо в его толстое лицо, отчего у того из носа начинает хлестать кровь, а сам он падает в колючий куст. Толстая Лягушка вопит и зовет трех своих стоящих поблизости старших двоюродных братьев, которые тоже живут в доме ленивого Ноги-в-Огне. Три старших мальчика набрасываются на Паха Сапу и начинают бить его ногами, руками и ветками ивы, а Толстая Лягушка тем временем зажимает свой кровоточащий нос и кричит, что Паха Сапа сломал его, и он скажет об этом деду, и Ноги-в-Огне придет и убьет Паха Сапу ножом, которым уже скальпировал десятерых вазичу.
Устав драться, двоюродные братья Толстой Лягушки пнули Паха Сапу под ребра два-три раза и ушли. Все тело у Паха Сапы болит, но он лежит и даже не хочет плакать. Ему смешно, в особенности когда он представляет себе старого, толстого Ноги-в-Огне, который бегает за ним с ножом для снятия скальпов. Паха Сапа очень надеется, что и в самом деле сломал нос Толстой Лягушке.
Встав и отряхнувшись от пыли, Паха Сапа понимает, что весь перед его почти новой одежды из оленьей шкуры забрызган кровью, в основном, думает он, его собственной. Дома Женщина Три Бизона наверняка изобьет его.
Паха Сапа только трясет головой – ему все еще смешно – и, прихрамывая, уходит: ему хочется какое-то время побыть наедине с самим собой.
Отойдя от деревни чуть дальше мили – отсюда ему не видны ни типи, ни лошади, ни мальчики, ни воины, охраняющие деревню, – Паха Сапа видит поляну, где травы прерии почему-то не так высоки, она напоминает газон; пока он не знает этого слова, но со временем узнает. Паха Сапа ложится на мягкую траву и мягкую землю и сбрасывает с себя свои хан’па – мокасины.
Он лежит там на спине, широко раскинув руки, сильно прижав подошвы к вечерней прохладной земле, и изогнутые, цепкие пальцы ног – его сипха – глубоко вдавливаются в землю.
Паха Сапа прикрывает глаза, щурится сквозь что-то похожее на слезы, хотя он и не плакал, и смотрит на бледнеющее вечернее небо темной голубизны, которая кажется мальчику тревожно знакомой. Он полностью расслабляется: сначала отпускает мышцы напряженной шеи, потом позволяет обмякнуть рукам, потом – изогнутым пальцам рук и ног, потом освобождает что-то, находящееся глубоко в его животе. По какой-то причине он вскрикивает: «Хокахей!», словно воин, скачущий в бой.
То, что происходит потом, ему впоследствии никак не удается толком описать, даже себе самому. Он расскажет об этих случаях «коснись земли, чтобы полететь» своему дорогому тункашиле Сильно Хромает лишь несколько лет спустя.
Паха Сапа чувствует, как вращается земля, словно она похожа на шар, а не плоская, как лепешка. Он видит, как движутся звезды в вечернем небе, хотя они еще не появились. Он слышит песню, которую поет заходящее солнце, слышит и ответные песни трав и деревьев, когда свет начинает тускнеть. Потом мальчик чувствует, как его тело начинает холодеть, тяжелеть и удаляться от него, а сам он – дух Паха Сапы – становится все легче и легче. Потом дух воспаряет над его телом и плывет прочь от земли.
Он поднимается несколько минут и наконец решает перевернуться в воздухе на живот и посмотреть вниз. Он так высоко, что не может видеть своего тела, оставленного на земле, так высоко, что деревня похожа на едва различимую россыпь типи под крохотными деревьями, вдоль исчезающей из виду реки. Паха Сапа снова переворачивается на спину и поднимается еще выше, минует кучку облаков, которые в свете заходящего солнца обрели розоватый оттенок, а потом оказывается выше над ними.
Он смотрит и снова переворачивается. Небо над ним чернеет, хотя облака далеко внизу начинают все больше розоветь, а тени на земле удлиняются. Паха Сапа знает, что здесь, за пределами оболочки его духа, очень холодно (холоднее любого зимнего воздуха, какой он когда-либо вдыхал), но это никак не сказывается ни на теле его духа, ни на его «я». Он перестает подниматься, когда небо вокруг становится совершенно черным, а звезды начинают гореть над синим одеялом воздуха внизу, он смотрит вниз, и зрение у него внезапно становится острым, как у орла.
И на этой круглой земле (с того места, в котором он безмолвно парит, ясно видно, что горизонт имеет округлые очертания) выделяются Паха-сапа – Черные холмы. Они представляют собой овал между рекой Бель-Фурш на севере и рекой Шайенна, где все еще живет и охотится народ шайенна, сто лет назад изгнанный народом сиу с Черных холмов. Как видит теперь Паха Сапа, Черные холмы располагаются на овальном пространстве, которое, как он узнает позднее, занимает площадь около сорока пяти квадратных миль темных деревьев и холмов, и находится в обрамлении чуть ли не сексуального вида овального обрамления красного песчаника, которое резко выделяет холмы среди окружающей их побуревшей и потускневшей зелени бесконечных поросших полынью прерий. Черные холмы похожи на женскую виньянь шан с розовыми открытыми губами. А может быть – на сердце.
Впервые увидев с высоты геологические впадины и подъемы, вокруг Черных холмов, Паха Сапа понимает, почему Сильно Хромает называет этот впалый овал, окружающий Черные холмы, Беговой Дорожкой, – история гласит, что все животные гонялись здесь друг за другом в те стародавние времена, когда мир был молод. Овал этот и в самом деле похож на беговую дорожку, вытоптанную ногами.
И еще Паха Сапа понимает, почему Сильно Хромает и его народ называют это место О’онакецин – Место Убежища. Он видит, что Черные холмы – это темная сердцевина континента, который, как он понимает теперь, уходит во все стороны до самой дымки, окутавшей округлый горизонт и скрывающей все подробности. Это место, где могут найти убежище животные и вольные люди природы, когда в долинах страшно завывают зимние ветра и вся дичь исчезает. Наверное, поэтому Сердитый Барсук и другие называют Черные холмы Мясным Мешком. Паха Сапа, легко парящий в воздухе животом вниз с широко распростертыми руками, смотрит на вечерние тени, очерчивающие черные пики, и понимает, что в Черных холмах для его народа всегда будет убежище и всегда найдется дичь.
Потом он видит какое-то движение в Черных холмах – что-то серое и громадное поднимается из черных деревьев, словно рождаются новые горы. Оно напоминает фигуры людей, четырех людей, и даже с этого расстояния видно, что их размеры, вероятно, достигают сотен футов.
Но подробности он разглядеть не может. Внезапно умиротворение, которое сошло на него, когда он лежал на земле, уходит, и сердце мальчика начинает бешено колотиться, но у него такое ощущение, что эти гиганты – бледнолицые вазичу, чудовищные вазикуны.
Потом громадные серые формы оседают, заворачиваются в землю, словно в одеяло, и вот они снова укрыты и спрятаны темной почвой и еще более темными деревьями.
Паха Сапа начинает опускаться вниз. Делает он это медленно, лучи заходящего солнца окрашивают его ярко-красным цветом (мальчик рассеянно спрашивает себя, видят ли его люди в деревне), но душа и сердце Паха Сапы растревожены и взволнованы. Он не понимает, что он видел внизу, но знает: это что-то нехорошее.
Паха Сапа открывает глаза – он лежит на небольшой полянке в зарослях полыни. Где-то воет койот. А может быть, это подает сигнал воин пауни, кроу или шошони из вооруженного луками и томагавками отряда, готовящегося к налету на деревню.
Паха Сапа слишком устал и слишком взволнован, чтобы думать об этом. Он медленно встает на ноги и плетется к деревне. Койоту отвечают несколько других койотов. Это всего лишь койоты.
На следующий год, когда Паха Сапа признается Сильно Хромает в своей способности «прикоснись – и увидишь, что было», он отказывается сообщить подробности того, что видел, когда у него бывали «прикоснись – и увидишь, что будет», потому что ему являлись видения умирающих людей племени. Он не упомянет о случаях «коснись земли, чтобы полететь», потому что и сам начинает не верить в них.
Когда он приходит домой, Женщина Три Бизона и в самом деле колотит его (но без особого усердия) за то, что его почти новая одежда из оленьей шкуры вся в кровавых подтеках.
5. Джордж Армстронг Кастер[11]
Либби, моя дорогая Либби, моя дражайшая Либби, любимая моя Либби, моя жизнь, мое все, моя Либби…
Ты нужна мне, моя дорогая девочка.
Я лежал тут в темноте, думая о том, что было пять недель назад, 17 мая, – неужели всего пять недель назад? – когда я вывел полк из Форт-Авраам-Линкольн в эту экспедицию. Ты помнишь, моя дорогая, что утро перед восходом было холодным и туманным. Я накормил людей галетами и беконом – именно этим они должны были питаться в течение следующего месяца, пока мы будем в пути. Потом мы с генералом Терри провели колонну сквозь рассеивающийся туман в форт – ты всегда говорила мне, любимая, что у тебя вызывает недоумение, почему наши пограничные форты не обнесены стенами, – а потом по плацу колоннами по четыре, чтобы поднять настроение обеспокоенных жен, семей и остающихся солдат.
Но ты тогда не осталась в форту, моя дорогая девочка, моя возлюбленная. Другим офицерам пришлось попрощаться со своими семьями в форту, но ты в тот день поехала с нами – вместе с моей сестрой Магги и племянницей Эммой. Ты помнишь, когда мы проезжали Садс-роу, где квартируют женатые солдаты, все женщины поднимали своих плачущих сосунков, младенцев и даже ребят постарше? Это навело меня на мысль о триумфах, которые устраивались римским полководцам, возвращавшимся с победой, только в нашем случае все было до странности вывернуто наизнанку: еще до сражения жены абсолютно здоровых солдат решили, что они стали вдовами, и смотрели на своих детей как на сирот.
В тот день у нас в строю было больше семи сотен солдат, тридцать один офицер (большинство из них ехали в одной группе с тобой, со мной, Магги и Эммой), сорок пять разведчиков и проводников, а еще нам были приданы три роты с артиллерийской батареей из четырех орудий, которая в те первые дни шла в арьергарде. (Да, вероятно, мне не следовало отказываться от двух батарей пулеметов Гатлинга, – Терри предлагал мне взять их, но ты ведь помнишь, моя дорогая, как эти треклятые пулеметы замедляли наше продвижение в прошлых походах, а нередко утягивали за собой в пропасть солдат и лошадей, когда приходилось идти по кромкам оврагов или ущелий. Хорошее кавалерийское подразделение отправляется в поход налегке. Нет, если мне придется делать это еще раз, я все равно не возьму пулеметов Гатлинга.)
Какое великолепное зрелище, наверное, являл собой в то утро наш полк с его сопровождением. Колонна растянулась более чем на две мили. Я знаю, что полковой оркестр играл «Девушку, которую я оставил, уходя в поход» и «Гэри Оуэна»[12], – я всю войну любил эту песню, хотя признаюсь, дорогая, что в последние годы стал уставать от нее, – но мы с тобой не могли расслышать музыку из-за стука копыт, грохотания ста пятидесяти телег и постоянного мычания стада коров, которое мы взяли с собой.
Это не имело значения.
Ничто не имеет значения, кроме того, что случилось на тринадцатой миле, когда тебе пришло время поворачивать назад и возвращаться в форт. Ты помнишь? Я знаю, что помнишь, любимая. Меня здесь из моей холодной дремоты вывели воспоминания о том моменте.
Наша группа, включая Магги, Эмму, моего ординарца рядового Беркхама и старый фургон нашего казначея с небольшим сопровождением, ехала в полумиле за колонной, чтобы мы могли попрощаться. Ты удивила меня, спрыгнув с коня и предложив нам – только нам вдвоем – пройтись до ивовой рощи у берега реки. Кроме этих высоких деревьев и кустов, вокруг на много миль в сторону форта и далеко вперед не было ничего – только голая прерия.
Мы отошли меньше чем на пятьдесят ярдов от Буркхама, фургона и других женщин, когда ты неожиданно обняла меня и страстно поцеловала. Ты сняла с меня фуражку и, улыбаясь, провела рукой по моим коротко стриженным волосам. Ты не обошла вниманием то, что всегда называла «твои прекрасные локоны». Потом ты прижала ладонь к моему животу ниже пряжки и принялась гладить.
– Либби… – сказал я, оглядываясь через плечо в ту сторону, где сквозь заросли ив все еще были видны головы Эммы и Магги, потому что они так и не спешивались.
– Тсс… – сказала ты.
Потом ты опустилась на колени, но сначала – я помню это четко – сбросила с себя юбку (на тебе в тот день была моя любимая – синяя с маленькими шелковыми цветочками), а за ней и нижнюю, чтобы не запачкать их влажной травой.
А потом ты расстегнула мою ширинку.
– Либби…
Но больше я не мог произнести ни слова, моя дорогая, потому что ты взяла меня своими нежными ручками, а потом в рот, и я забыл Буркхама, ожидающий меня фургон, забыл моих сестру и племянницу, забыл даже семьсот солдат, сто пятьдесят телег и сотню коров, забыл весь полк, удалявшийся теперь от меня.
Я забыл обо всем, кроме твоих ласкающих рук, теплоты твоего рта, движений твоих губ и языка.
Я закинул назад голову, но глаз не закрывал. Голубые небеса – раннее утро с его туманом и росой перешло в жаркий майский день – почему-то вызывали у меня тревогу, словно цвет был предзнаменованием. И потому я перевел взгляд на тебя, на то, что ты делаешь со мной и для меня.
Я всегда смотрю, моя единственная любовь. И ты это знаешь. Ты все знаешь обо мне. Если бы это делала любая другая женщина – я никогда не знал других женщин, которые делали бы такое, – то она бы, я думаю, выглядела дико, нелепо, возможно, неприлично, но когда ты берешь меня вот так в рот и ходишь туда-сюда головой, а твои руки продолжают двигаться на мне, и твои губы и язык такие ненасытные, и твои милые глаза время от времени посматривают на меня из-под великолепных ресниц, то в этом твоем даре мне, в этой любви, которую ты демонстрируешь мне, не может быть ничего дикого, нелепого или неприличного. Ты прекрасна. Я возбуждаюсь вот в эту самую секунду, когда лежу здесь в темноте, при мысли о тебе, о твоих щечках, порозовевших и от солнца после долгого дня скачки, и от возбуждения, о твоей красивой головке, на которой солнце высвечивает отдельные волоски по обе стороны пробора и которая двигается все быстрее и быстрее.
Когда мы закончили – я знаю, это заняло всего минуту, но это была минута чистой радости и наслаждения перед неделями одиночества, напряжения и тяжких трудов, которые ждали меня, – ты вытащила припасенный носовой платок, окунула его в ручей, обмыла меня, засунула в ширинку и застегнула, как полагается, пуговицы на моих синих кавалерийских брюках.
Потом мы вернулись и простились официально перед Буркхамом и другими. У тебя и у меня в глазах стояли слезы, но мы оба не могли сдержать улыбки, правда, моя дорогая?
Когда фургон, ты и другие женщины превратились в точки, готовые исчезнуть в прериях, Буркхам заставил меня вздрогнуть, сказав:
– Нелегко это, да, генерал?
И мне снова захотелось улыбнуться, хотя я и заставил себя не делать этого. Помня, что Буркхам может оказаться одним из тех, у кого будут брать интервью журналисты (ты не забыла, что с нами отправились несколько корреспондентов, а другие ждали нас в Бисмарке и вообще на всем пути – вынюхивали малейшие сведения о нашей карательной экспедиции), я напустил на лицо самое серьезное, строгое выражение и сказал ему:
– Рядовой, запомни: хороший солдат – а я всегда был хорошим солдатом, Буркхам, – должен служить двум любовницам. Пока он предан одной, другая должна страдать.
Буркхам хмыкнул, мое красноречие явно не тронуло его.
– Может, вернемся к другой любовнице, генерал, пока ее арьергард не скрылся из виду? – предложил он, усевшись на своего мерина.
Либби, дорогая моя девочка. Я знаю, ты не против того, чтобы я говорил о таких вещах, ведь я написал тебе столько писем, наполненных подобными сокровенными мыслями, и шептал тебе эти слова, когда мы, обнаженные, лежали друг подле друга. Ты всегда была более открытой и щедрой в своей страсти, чем любая другая женщина в мире.
Ты ведь помнишь время, когда я больше не мог выносить разлуку с тобой (к тому же я узнал, что в Форт-Ливенуорте, где ты меня ждала, вспышка холеры) и писал тебе из моего лагеря на Рипабликан-ривер, прося немедленно приехать в Форт-Уоллас, откуда мои люди доставят тебя в лагерь на Рипабликан. Но в Канзасе повсюду действовали враждебные индейцы и Убийца Пауни[13], и я слишком поздно понял, что они почти наверняка нападут на богатый обоз фургонов, в котором поедешь ты, и потому приказал верным людям пристрелить тебя, но не отдавать в плен индейцам (позднее ты сказала мне, что это ужасно мило с моей стороны, и восприняла это как знак моей неугасающей любви), но когда обоз (обоз и в самом деле был атакован примерно пятью сотнями сиу и шайенна именно там, где и говорил тот тип, которого индейцы называют Медицинский Билл, но атака была отбита) вернулся из Форт-Уолласа, а тебя в нем не оказалось, я чуть с ума не сошел от тревоги и страсти. Я так сильно люблю тебя, моя дорогая, сладкая, любимая маленькая девочка.
Ты, конечно, помнишь, что на поиски моей колонны был отправлен лейтенант Лаймен Киддер[14] из Форт-Седжвика, и он с десятком своих людей исчез на территории между нами и Форт-Уолласом, как раз там, где тебе могла угрожать опасность. Тогда я снарядил экспедицию, которая форсированным маршем двинулась в Форт-Уоллас (в первую очередь это было вызвано беспокойством за тебя, моя дорогая), и мы нашли то, что осталось от Киддера и его людей, – все они были раздеты и разрублены на куски, индейцы разбросали их по небольшой лощине. Комсток[15] объяснил нам, о чем говорят следы: как Киддер и его небольшой отряд пытались убежать, как Убийца Пауни и его люди напали на них с тыла, догнали и обстреляли из луков, потом убили и искалечили. Стоял июль, и тела солдат и их части пролежали несколько дней на солнце, и вот тогда я усвоил урок, который никогда не забуду: если на тебя нападает превосходящий отряд индейцев, то нужно занять оборону и сражаться, используя свою большую огневую мощь, чтобы не подпустить этих дикарей на дальность выстрела из лука. Киддер в панике проскакал более десяти миль, и хотя наши кавалерийские лошади резвее индейских пони, индейцы умело заменяют своих уставших скакунов на свежих, а некоторые индейские пони просто никогда не устают.
В том июле девять лет назад, стоя среди этого смрада под жарким канзасским солнцем и глядя, как похоронная команда предает земле жуткие останки лейтенанта Киддера и его людей, я твердо выучил урок: никогда не убегай от индейцев. И все это время я не находил себе места из-за тревоги о тебе, моя дорогая, – я так беспокоился, что у меня все время болел живот, внутри все крутило.
Канзас горел, Убийца Пауни и другие враждебные индейцы сиу и шайенна убили более двух сотен белых, включая многих женщин и детей, в районе, который я должен был контролировать в ходе моей первой командировки на Запад, а мои кавалеристы убили к тому времени всего лишь двух краснокожих, и сделали это ребята из отряда Киддера, пока их не прикончили.
Поэтому я отменил предполагавшуюся кампанию и, снарядив в течение пятидесяти пяти часов сотню конников, отправился в путь за сто пятьдесят миль. Отставших не дожидались, их убивали воины Убийцы Пауни, но я не возвращался, чтобы захоронить мертвых или преследовать индейцев. Я мог думать только о тебе. 18 июля я добрался до Форт-Хайеса и оставил там девяносто четырех из моих людей. Я взял с собой только моего брата Тома, двух офицеров и двух солдат, и мы отправились за шестьдесят миль в Форт-Харкер, добравшись туда меньше чем за двенадцать часов. Там я оставил Тома и четырех своих людей и трехчасовым поездом отправился в Форт-Райли, где – я молился об этом Господу – ты ждала меня в относительной безопасности.
Ты помнишь ту нашу встречу, моя дорогая?
Ты оказалась дома, ходила из угла в угол, и на тебе было то зеленое платье, которое я похвалил месяц назад в Форт-Хайесе. Ты потом писала мне, что мое явление, когда я распахнул дверь и вошел в комнату, было ярче жаркого канзасского солнца: «И вот передо мной счастливый и жизнерадостный стоял мой муж!» – ты сказала мне позднее, что написала это в письме своей мачехе, но ты не сообщила дорогой супруге номер два судьи Бекон, что, да, я выглядел счастливым и жизнерадостным, но еще и самым очевидным образом вожделел к тебе, мой орган был напряжен и прям и требовал, чтобы его скорейшим образом пустили в дело, потому что прошло время сабли в ножнах, бьющей меня по ноге, и наступило его время.
Ты помнишь, моя дорогая, как я – все еще пыльный после скачки и железной дороги – распахнул дверь, подхватил тебя, отнес на кровать, покрыл тебя поцелуями, неловко расстегивая на тебе одежды, пока ты расстегивала пуговицы на моем мундире, как потом ты расшнуровала свой корсет и опустила верхнюю часть платья, а я срывал с тебя нижние юбки и панталоны. Ты помнишь, как мои шпоры стукнулись об изножье кровати (которую с таким трудом доставили в Форт-Райли), когда ты уложила меня на спину, уселась на меня, как я мог бы запрыгнуть на Вика, ухватила меня своей алчущей рукой и направила в себя.
Ты, наверное, помнишь, что мы кончили в считаные секунды (возможно, наши крики отвлекли внимание часовых на вышках), но, как и было заведено между нами с самого медового месяца, через несколько минут мы начали все сначала, срывая с себя те одежды, что еще на нас оставались, не переставая гладить, ласкать, целовать и лизать друг друга.
Я знаю, что потом, после второго любовного приступа, уснул; уснул в первый раз за пять нелегких дней пути, оставив позади пятьсот миль, но два часа спустя ты разбудила меня. Ты распорядилась, чтобы дневальные и солдаты натаскали ведрами горячей воды, и они, стараясь не шуметь, на цыпочках в своих высоких ботинках проходили мимо меня, а я храпел на кровати, лежа голым под легкой простыней (моя одежда в беспорядке валялась на полу, а тебе было наплевать, что они могут подумать по этому поводу), и когда я проснулся, занавески были задернуты, а ты голая стояла у кровати и манила меня в ванную.
Ах, эта роскошь ванны на когтистых львиных лапах в том дворце, каким стала для меня квартира для приезжающих погостить жен старших офицеров в Форт-Райли.
Нам пришлось тем же вечером уехать поездом, взять твою служанку Элизу и забрать кухонную плиту назад в Форт-Харкер, чтобы потом отправиться в долгий путь верхом и в фургоне в Форт-Уоллас, но тот час в горячей ванне… Ты помнишь, моя Либби, моя дорогая? Ты помнишь, как в этом пару прижималась ко мне спиной, а я держал в ладонях твои прекрасные груди и целовал твою прекрасную шею, и твои красивые ушки, и твои чудные губы, потом целовал тебя снова, когда ты вывернула голову, чтобы твои губы могли найти меня и чтобы ты могла развернуться и упасть на меня, а твоя рука ушла под воду, чтобы снова меня найти?
Ах, моя дорогая Либби… я помню мой язык в твоей сладкой киске, твой алчущий рот на моем естестве. В тот день мы восемь раз занимались любовью, и ты кончила десять раз, и мы оба не забывали, даже в нашей страсти и радости, что впереди нас ждут долгие дни трудного пути, когда мы не сможем уединиться хотя бы для того, чтобы обменяться поцелуем. Я помню, когда мы впопыхах одевались, чтобы засвидетельствовать почтение командиру, а потом мчаться с Элизой, сундуками и плитой на станцию (Элиза перед этим выстирала и отгладила мою грязную одежду, пока мы с тобой были еще наедине и голыми; она к этому привыкла), и я принялся застегивать ширинку, а ты в одном корсете, с еще влажными волосами на лобке, остановила мою руку, а потом опустилась на колени в последний раз…
Ты помнишь, моя дорогая, что по возвращении я был предан военно-полевому суду за то, что, среди прочих проступков, оставил свой пост. На год меня отстранили от командования, я не получал жалованья и был понижен в звании. Я готов тысячу раз быть преданным военно-полевому суду и тысячу раз быть отстраненным ради тебя, моя любимая. Но ты знаешь это. Ты всегда это знала.
Ты нужна мне, Либби. Я не знаю, где я. Здесь темно, темно и холодно. Я слышу звуки и голоса, но они такие приглушенные и, кажется, доносятся из какого-то очень далекого далека. Никак не могу вспомнить последние часы, дни, минуты, наш марш, индейцев, какая у нас произошла схватка… Я не помню почти ничего, кроме той абсолютной реальности, которая есть ты, моя любимая.
Говоря по правде, моя любовь, я не могу вспомнить, где я был и что случилось. Могу предположить, что меня ранили, может быть, серьезно, но я, похоже, не в состоянии прийти в себя настолько, чтобы понять, цело ли мое тело, на месте ли мои конечности. Иногда я слышу поблизости человеческие голоса, но никак не могу понять, что они там говорят. Может быть, я в каком-то госпитале, где есть немецкие сиделки? Я знаю только одно: я здесь, в этой коматозной темноте, все еще сохранил разум и мои воспоминания о тебе и о нашей любви. Надеюсь, это всего лишь солнечный удар или сотрясение мозга и скоро я в полной мере приду в сознание.
Ты же не хочешь, чтобы твой Оти[16] оказался искалеченным, чтобы стройное тело твоего красивого мальчика покрылось шрамами или лишилось нужных частей. Я обещал тебе… Я обещал тебе, покидая Форт-Линкольн… я всегда обещал тебе: во время войны, перед каждой кампанией здесь, на равнинах, – что я вернусь и мы навечно, навечно, навечно останемся вместе.
Ах, Либби… Либби, моя дорогая… моя любимая девочка, моя золотая жена. Моя любовь. Моя жизнь.
6. На Шести Пращурах
Август 1936 г.
Пятьсот шесть ступенек.
Паха Сапа останавливается у основания лестницы и окидывает взглядом пятьсот шесть ступенек, которые ему предстоит преодолеть. Это все те же пятьсот шесть ступенек, по которым он поднимался почти каждый рабочий день в течение последних пяти лет. Сейчас шесть часов сорок пять минут утра (21 августа, пятница), и солнце уже нагрело воздух в долине до такой же степени, что и здесь – на Черных холмах. Воздух полнится стрекотанием кузнечиков и сладковатым запахом разогретой желтой сосны. Сегодня пятница, и Паха Сапа знает, что бригада, которая спустится сегодня вечером сверху, будет играть в привычную игру «горный козел»; пятьсот шесть ступенек разделены на наклонные пролеты, их насчитывается около сорока пяти, между ними горизонтальные площадки, а суть игры состоит в том, что веселящиеся работяги будут прыгать с площадки на площадку, как горные козлы, стараясь не касаться пятидесяти или около того ступенек между ними. Паха Сапа знает, что пока это никому не удавалось, но никто еще шеи или ног тоже не сломал, так что козлиная игра состоится и в конце сегодняшнего длинного рабочего дня, дикие прыжки будут сопровождаться криками и улюлюканьем усталых бурильщиков, лебедочников, шахтеров и взрывников, уходящих на выходные.
Паха Сапа смотрит на пятьсот шесть ступенек и понимает, что устал, еще даже не начав подниматься.
Да, конечно, ему на днях исполняется семьдесят один год, но не в этом причина его ранней утренней усталости. Месяц назад Паха Сапе поставили диагноз «рак» – он, чтобы не узнали рабочие или Борглум, ездил для этого к доктору в Каспер, штат Вайоминг, а не в близлежащий Рэпид-Сити, – и болезнь уже начинает поедать его изнутри. Он чувствует это. Значит, у него осталось меньше времени, чем он рассчитывал.
Но Паха Сапа, хотя и тащит на плече сорокафунтовый ящик с взрывателями и динамитом, поднимается, не останавливаясь, чтобы передохнуть на одном из сорока пяти пролетов или площадок. Он всегда был удивительно силен для человека его габаритов, и не поддастся слабости сейчас, пока это не станет абсолютно необходимо. А пока такой необходимости нет.
Паха Сапа часто слышал, как посетители внизу оценивают высоту от поверхности долины (где расположены парковка и студия Борглума) до вершины каменных голов в «тысячу футов», но расстояние от самой низкой точки хаотических отвалов из обломков и валунов до макушек голов Вашингтона, Джефферсона и (появляющегося) Линкольна всего немногим более четырехсот футов. Тем не менее подняться туда – все равно что одолеть лестницу сорокаэтажного здания (Паха Сапа видел такие в Нью-Йорке), и человеку, чтобы взобраться на вершину того, что называется теперь горой Рашмор, нужно около пятнадцати минут.
Конечно, всегда можно воспользоваться канатной дорогой – открытым вагончиком размером с будку садового сортира, который со свистом проносится мимо Паха Сапы, пока тот тащится по очередному пролету в пятьдесят ступеней; но даже новички знают, что несколько лет назад, когда укосина на вершине горы обрушилась, вагончик (а вместе с ним трос и платформа, что была наверху) полетел на дно каньона. Борглум как раз ждал вагончика: он всегда катался туда-сюда, зависал где-то посредине, изучая тот или иной фрагмент работы, или же поднимал каких-либо важных персон, – но в тот день вагончик был загружен бидонами с водой, поэтому Борглум ждал и смотрел, как он падает. И несмотря на это, скульптор по-прежнему каждый день продолжает пользоваться канатной дорогой.
Но немногие рабочие следуют примеру Борглума, в особенности после второго происшествия, случившегося в начале этого лета, когда отвинтился стопорный болт футах в двухстах от вершины и вагончик с пятью рабочими полетел вниз, к машинному сараю. После первого случая вагончик оборудовали ручным тормозом, но он быстро перегревался, а потому замедлить вагончик можно было только одним способом: спускаться рывками и бросками, потом давать тормозу остыть, а потом снова тормозить, падая, рывками и бросками. Затем Гус Шрам, который весил, наверное, фунтов двести двадцать пять, с такой силой потянул цепочку, что ручка тормоза обломилась, и последнюю сотню футов вагончик преодолел без всяких ограничений. К счастью, Марту Райли в машинном сарае хватило духу засунуть здоровенную доску в барабан лебедки, что слегка замедлило падение, но в конце пять человек все же вывалились из вагончика: трое приземлились на погрузочную платформу, один на крышу, последний оказался на дереве. Линкольн Борглум, который в тот день был старшим на площадке, отправил всех пятерых на обследование в больницу, но в конечном счете на ночь остались шестеро. Гленн Джоунс, который отвозил пострадавших в Рэпид-Сити, решил хорошенько выспаться и принять в больнице болеутоляющее.
Летом рабочие должны приходить на площадку к семи часам (зимой – к семи тридцати), но Паха Сапа и другие взрывники обычно приходят к шести тридцати, потому что им заранее нужно приготовить динамитные заряды, которые в скором времени поместят в шпуры, пробуренные утром. Первый взрыв в этот день состоится в полдень, когда бурильщики спустятся со скалы на ланч. Паха Сапа знает, что «Виски» Арт Джонсон уже наверху вместе со своим помощником, нарезают динамит на маленькие сегменты (шестьдесят или семьдесят коротких шашек для каждого заряда), и что помощник Паха Сапы тоже скоро будет там.
Пройдя половину пути, Паха Сапа поднимает взгляд и смотрит на три головы.
Пока что год был довольно продуктивным, удалили более пятнадцати тысяч тонн гранита – достаточно, чтобы выстлать поле площадью в четыре акра гранитными блоками толщиной в фут. Большая часть отходов обвалилась с груди Вашингтона, очертания которого хорошо проявились, хотя немало тонн пришлось обрушить и с подбородка Джефферсона (он теперь приобретает формы на новом месте слева от Вашингтона, если смотреть с Монумента), а также при обработке лба, бровей и носа Авраама Линкольна.
Но основную часть отвала составляют обломки от спешной работы на лице Томаса Джефферсона: Борглум подгоняет рабочих, чтобы показать товар лицом во время визита в конце августа не кого-нибудь – самого президента Франклина Делано Рузвельта.
Слухи о визите президента ходят уже несколько месяцев, но теперь он почти наверняка состоится через неделю – 30 августа.
Паха Сапа, все еще поднимающийся с тяжелым ящиком на плече, думает, что, вероятно, это как раз подходящее для него время.
Он вовсе не хочет как-то повредить президенту Рузвельту, но не отказался от намерения снести головы трем другим президентам с торца Шести Пращуров. И не обретут ли его действия некую бо́льшую символичность, если он уничтожит этих уродующих гору вазичу перед лицом президента Соединенных Штатов, сидящего внизу в своем открытом автомобиле?
Паха Сапа знает, что Борглум планирует символические взрывные работы – хочет сделать их частью церемонии по приему президента. Его сын Линкольн уже получил указание найти наилучший способ завесить лицо Джефферсона громадным американским флагом: флаг будет висеть с одной стороны на длинной стреле крана над головами. Нужно будет построить трибуну для всяких важных персон за машиной Рузвельта, а еще будут радиомикрофоны для трансляции и с полдюжины кинокамер. Если в это воскресенье Паха Сапе удастся установить заряды на всех трех головах, то никто не пострадает, но весь мир увидит сцену окончательного уничтожения трех голов на том, что они называют Монументом на горе Рашмор.
Три головы.
Но это только часть его проблемы. Паха Сапа прекрасно осведомлен о плане Гутцона Борглума сделать там четыре головы: последняя – Теодора Рузвельта – будет втиснута между Джефферсоном и Линкольном. Специалисты по обработке камня уже бурят шурфы и отбирают пробы, чтобы убедиться, что гранит в этом месте подходит для каменотесных работ; и хотя многие возражают против того, чтобы высекать там президента, который был у власти совсем недавно[17], – к тому же еще одного республиканца, – Паха Сапа знает, насколько упрям Борглум. Если скульптор проживет еще сколько-то лет (а даже если и нет, у него есть преемник – сын Линкольн), то на горе Рашмор появится и голова Тедди Рузвельта.
В видении Паха Сапы были четыре больших каменных головы вазичу на Шести Пращурах, четыре гигантских каменных вазичу, которые уничтожали землю и деревья на Черных холмах, эти четыре ужасных гиганта презрительно взирали на то, как исчезают народ Паха Сапы, бизоны и сам образ жизни вольных людей природы.
Разве не обязан он взорвать все четыре головы, чтобы не сбылось его видение?
Но главное, понимает Паха Сапа, приближаясь к последнему пролету ступенек: может быть, у него нет времени дожидаться, когда появится четвертая голова.
Несколько месяцев – так сказал ему седоволосый доктор в Каспере, сказал торжественно, но без всяких чувств: подумаешь, еще один старый индеец на его смотровом столе. «Может быть, год, если вам не повезет».
Паха Сапа понял, что, сказав «не повезет», доктор имел в виду боль, обездвиженность и недержание, которые сопутствуют этой форме рака, если умирание затягивается.
Паха Сапа проходит деревянную площадку и ровный, засыпанный гравием участок земли между валунами, где пять лет назад, когда Борглум нанял его на работу, каждое утро в течение нескольких недель его поджидали работяги.
Нужно отдать им должное: они никогда не набрасывались на него все сразу. Каждое утро они выдвигали нового чемпиона, чтобы тот одержал верх над старым индейцем, избив его, избив так, чтобы тот был вынужден уйти. В первых нападениях участвовали самые сильные и буйные шахтеры.
И каждое утро Паха Сапа не покорялся. Он яростно дрался с противником – кулаками, ладонями, головой, лягался, бил более крупного противника ногой по яйцам, когда это удавалось. Иногда он побеждал. Чаще оказывался побежденным. Но и его противникам каждое утро неизменно доставалось. И никогда белому здоровяку в одиночку не удавалось избить его настолько, чтобы он, Паха Сапа, после этого не смог поднять свой бур или ящик с взрывчаткой, шлем со всем снаряжением и продолжить мучительный подъем к пороховому складу, где он начинал работу. И хотя за эти недели ему сломали нос, наставили синяков под глазами и разбили губы, никому ни разу не удалось изуродовать его лицо настолько, чтобы он не смог надеть респиратор и начать работу.
Наконец на это обратил внимание Борглум и собрал рабочих у своей студии на Доан-маунтин, против рабочей площадки.
– Что тут у нас, черт побери, происходит?
Работяги как воды в рот набрали. Обычно громкий голос Борглума превратился в громогласный рев, за ним даже не стало слышно грохота только что запущенного компрессора.
– Я говорю серьезно, черт вас подери. У меня работает взрывник, которого каждый день колотят, как отбивную, и две дюжины рабочих ходят с выбитыми зубами и переломанными носами. Так вот, я хочу знать, что тут, черт возьми, происходит, и я узнаю это немедленно. Тут, в Южной Дакоте, тысячи безработных шахтеров, рабочих и взрывников, которые через минуту заменят вас, а я через пятнадцать секунд готов выгнать вас к чертовой матери и предложить им вашу работу.
Ответ донесся откуда-то из глубины толпы:
– Это все индеец.
– Что?!
На сей раз рев Борглума был таким громким, что компрессор и в самом деле остановился: компрессорщик – единственный, кто не присутствовал на собрании, – явно решил, что технику заклинило.
– Какой, к чертовой матери, индеец? Неужели вы думаете, что я нанял бы на эту работу индейца?
Ответом ему было молчание и мрачное посапывание.
– Что ж, вы правы, черт побери, я бы нанял индейца, если бы он лучше всех подходил для этой работы… да и ниггера бы нанял, если на то пошло. Но Билли Словак никакой не индеец.
Вперед вышел Хауди Петерсон.
– Мистер Борглум… сэр. Его имя не Билли Словак. На шахте «Хоумстейк», а прежде на шахте «Ужас царя небесного» он был известен как Билли Вялый Конь… сэр. И потом, он… он похож на индейца, мистер Борглум, сэр.
Борглум покачал головой, и в этом его жесте сожаления было не меньше, чем отвращения.
– Черт побери, Петерсон. Вы тут что, все норвежцы или сюда все же просочился какой-нибудь маленький черномазый, шайенна или итальяшка? И кому какая разница? Этого человека, которого я нанял, зовут Билли Словак, он наполовину чех, или какой-то центральноевропеец, или бог его знает кто. И почему меня это должно волновать? Но он был главным взрывником на этой треклятой хоумстейкской шахте, когда я его нанял. Вы знаете, сколько обычно работает взрывник на «Хоумстейке»… гораздо меньше, чем в той дьявольской яме, которая называлась «Ужас царя небесного». Три месяца. Три… месяца… черт побери. А потом они либо подрываются, а с ними и полбригады, либо спиваются, у них сдают нервы, и они отправляются искать работу где-нибудь в другом месте. Билли Словак – и это его имя, джентльмены, – проработал там двенадцать лет, и ни разу у него не сдали нервы, и ни разу он не покалечил ни других, ни оборудования.
Рабочие сопели, поглядывая друг на друга, потом уставились в землю.
– Так что или вы кончаете это говно, или вы больше здесь не работаете. Хороший взрывник мне нужен больше, чем глупые драчуны. Словак остается… дьявольщина, он даже будет играть на первой базе в команде, когда придет лето. А вы можете сами решать, хотите ли вы и заслуживаете ли того, чтобы остаться здесь. Я вообще-то слышал, что найти хорошо оплачиваемую, постоянную работу вроде той, что даю я, в этот треклятый год господа бога нашего тысяча девятьсот тридцать первый все равно что раз плюнуть. В общем, если еще раз нападете на Словака – или на любого, кого я найму, – то можете получить недельное жалованье у Денисона и убираться. А теперь… либо отправляйтесь к своим машинам и валите отсюда, либо возвращайтесь к работе.
На самом деле шестидесятишестилетний Паха Сапа ни в первое лето 1931 года, ни в любое другое не играл на первой базе. Он играл между второй и третьей базами.
Наконец Паха Сапа останавливается, чтобы передохнуть, ставит ящики с динамитом и взрывателями, отирает пот с лица. Он добрался до самого верха и теперь идет в пороховой сарай.
Успеет он подготовиться за восемь дней?
Взрывчатка у него есть – почти две тонны; он припрятал ее в полуразрушенном сарае и в погребе той развалюхи, что снимает в Кистоне.
Динамит не так опасен, как считает большинство обывателей. То есть новый динамит. Паха Сапа учил начинающих взрывников, что новый, свежий динамит можно ронять, пинать, бросать, даже жечь, и при этом не будет никакого риска взрыва. Или почти никакого. Чтобы по-настоящему взорвать динамит, нужны маленькие медные цилиндрики капсюлей с прикрепленными к ним электрическими проводами длиной в четыре фута.
Когда имеешь дело со свежим динамитом, объясняет Паха Сапа боязливым новичкам, опасен капсюль с электрическим детонатором, и вот с ним всегда нужно обращаться очень осторожно. Самое малое, что о них можно сказать, об этих капсюлях, – то, что они чувствительные: замкнешь случайно электрическую цепь, уронишь капсюль или ударишь его обо что-нибудь, даже если он еще не соединен с динамитной шашкой, – и руки, лицо или живот себе точно поранишь.
Но почти две тонны динамита (и двадцать коробок с детонаторами), которые Паха Сапа украл и припрятал в полуразрушенном сарае и погребе в Кистоне, – это не новый динамит. Он был старым (и бесхозным), когда Паха Сапа украл его на закрытой шахте «Ужас царя небесного» (названной так в память о жене бывшего владельца), где он когда-то работал главным взрывником. Владельцы «Ужаса царя небесного» мало ценили человеческую жизнь и меньше всего – жизни своих взрывников. Они переводили остатки динамита из одного года в другой, что абсолютно запрещено на любых золотых, серебряных и угольных шахтах, если хозяева хоть немного думают о безопасности.
Паха Сапа всегда с удовольствием показывает молодым взрывникам, как потеет динамит (нитроглицерин просачивается через бумагу и капельками собирается снаружи) и как можно пальцем снять капельку динамитного пота и стряхнуть ее на ближайший валун. Новички всегда вздрагивают, когда эта капелька взрывается, ударившись о камень, со звуком выстрела из пистолета калибра 0,22.
Потом Паха Сапа рассказывает о динамитных головных болях.
Но старый динамит, складированный в его погребе и сарае, не только потеет смертельным потом. Нитроглицерин в большинстве своем собрался и кристаллизовался до такой степени и стал таким чувствительным, что одно только перемещение ящиков – уже не говоря о перевозке их в легковушке, грузовике или коляске собственного мотоцикла Паха Сапы – сравнимо с игрой в русскую рулетку при всех шести пулях в барабане. (Паха Сапа с трудом сдерживает улыбку, представляя себе колонну машин президента Рузвельта 30 августа по пути к Монументу, самого президента в окружении агентов секретной службы, как они проезжают по Кистону в тридцати ярдах от сарая и погреба Паха Сапы, в которых взрывчатки достаточно, чтобы весь Кистон взлетел на воздух на тысячу футов.)
Но, снова думает он, никакого вреда президенту причинить он не хочет.
Даже если Паха Сапе удастся доставить нестабильный динамит с опасными взрывателями на вершину горы под покровом ночи незаметно для нескольких охранников, нанятых Борглумом, чтобы сторожить инструменты и оборудование, пронести его мимо компрессорной, машинного помещения, кузницы, мимо самой студии и жилья Борглума, а потом каким-то образом поднять две тонны нестабильной взрывчатки по пятисот шести ступенькам, которые он только что преодолел, ему ко всему этому еще придется пробурить сотни шпуров в трех головах.
В обычный день вроде этого августовского дня 1936 года – ничем не примечательного, кроме изнурительной жары, – на рабочих площадках у трех голов уже находятся около тридцати или более человек (а под ними еще около дюжины на груди Вашингтона): они бурят, бурят, ревет компрессор, скрежещут буровые долота, – и еще множество подсобников, рабочих снуют туда-сюда по скале, заменяя износившийся буровой инструмент на новый, спуская затупившиеся долота по канатной дороге на заточку в кузнице по другую сторону долины. Скоро «Виски» Арт, Паха Сапа и их помощники спустятся по торцу скалы к лицам президентов и присоединятся к бурильщикам, чтобы разместить в заранее выбранных шпурах сотни зарядов, а потом поставить на них электрические взрыватели с проводами.
Громко, с грохотом работают десятки – иногда сотни – людей, чтобы в полдень или в четыре часа, когда рабочие уйдут с торца, произвести небольшой взрыв и обрушить тонну-другую камня. Для разрушения голов вазичу Паха Сапе придется трудиться всю ночь, начиняя неустойчивым динамитом сотни шпуров, расположенных на головах, чтобы обрушить в сотни раз больше породы, чем при рабочем взрыве, и действовать он должен будет беззвучно, в темноте и в одиночку.
И тем не менее именно это он и должен сделать, если собирается уничтожить эти три головы, уже восстающие из камня. И у него уже давно родился план, который, возможно, дает ему некоторый шанс. Но теперь, учитывая новость о том, что его поедает рак, и подтверждение даты приезда Рузвельта на церемонию, Паха Сапа знает: ему придется проделать все это за неделю, начиная с послезавтра, чтобы «демонстрационный взрыв» на глазах у президента Рузвельта и собравшихся важных персон перед кинокамерами стал бесповоротным концом для каменных вазичу, которые поднимаются из его священных холмов.
7. На Дир-Медисин-рокс, неподалеку от большой излучины реки Роузбад
Июнь 1876 г.
Сильно Хромает взял Паха Сапу на Роузбад и на Сочную Траву не для того, чтобы мальчик был там во время сражения с вазичу и убийства Длинного Волоса. Они вдвоем поскакали на всеобщее собрание сиу и шайенна, созванное Сидящим Быком и Шальным Конем. Хотя Паха Сапе до одиннадцатилетия остается два месяца, а потому он еще не вполне готов для церемонии посвящения в мужчины, Сильно Хромает чувствует, что мальчика с его особыми способностями пора представить Сидящему Быку, Шальному Коню и некоторым из вичаза вакан, что будут на собрании.
И Сильно Хромает берет Паха Сапу, чтобы он увидел виваньяг вачипи – танец Солнца. Его будет исполнять Сидящий Бык, и он сам сообщил об этом.
До битвы остается еще две недели. Место это не на Сочной Траве, где в Паха Сапу вселится призрак вазикуна, а к северо-востоку от него, в сухой, жаркой долине вблизи большой излучины реки Роузбад[18], неподалеку от Дир-Медисин-рокс – необычных высоченных, отдельно стоящих камней с высеченными на них рисунками, которые старше Первого человека. В этом виваньяг вачипи могут участвовать только лакота, а это входящие в лакота санс арки, хункпапа, миннеконджу, оглала и несколько бруле. Когда Сильно Хромает и юный Паха Сапа прибывают туда на ранней Жиреющей луне, там есть еще несколько шайела из народа шайенна (они тоже считают, что Дир-Медисин-рокс – вакана, то есть священные, сильные, но шайенна присутствуют там только в качестве наблюдателей).
Сидящий Бык исполняет эту святыню из святынь для икче вичаза, вольных людей природы, – виваньяг вачипи, танец Солнца.
В первый день и вечер у Дир-Медисин-рокс Сильно Хромает показывает восторженному, но нервничающему Паха Сапе разных великих икче вичаза; тункашила вичаза вакан Сильно Хромает хочет, чтобы мальчик знал их в лицо и, возможно, познакомился с ними, но не прикасался к ним, если только те сами не попросят об этом.
Паха Сапа, несмотря на молодость, понимает, что тункашила хочет, чтобы эти знаменитые люди знали о его способности «прикоснись – и увидишь, что было / что будет», но чтобы мальчик не использовал свою способность ясновидения (даже если бы мог применять ее в любое время по своему желанию, чего он не умеет), пока его об этом не попросят. Паха Сапа кивает в знак понимания.
Весь день знаменитые люди со своим сопровождением съезжаются туда со всех сторон. Присутствуют все роды лакота. От оглала приезжают Большая Дорога и Шальной Конь, знаменитый двоюродный брат старшей жены Сильно Хромает. Из хункпапа присутствуют Ссадина, Ворон, Черная Луна и сам Сидящий Бык. От санс арков приехал Меченый Орел. От миннеконджу прибывают Быстрый Бык и Молодой Горб. Тупой Нож приехал с несколькими шайенна, которым позволено присутствовать. (Другой знаменитый вождь шайенна, Ледяной Медведь, решил остаться в более крупной деревне, южнее.)
Называя имена каждого из великих прибывающих, Сильно Хромает сопровождает их выкриком:
– Хетчету алох! (Так оно воистину и есть!)
Уже собрались более тысячи лакота. Паха Сапа думает, что никогда еще не видел такого великолепного собрания, оно даже величественнее, чем большие собрания на Мато-пахе – Медвежьей горке – раз в два года, но Сильно Хромает говорит ему, что эта временная деревня создана для танца Солнца, который будет исполнен Сидящим Быком, и что в ночь полнолуния и следующие за этим дни во время церемонии соберется еще больше лакота и шайенна.
Паха Сапа с восторгом маленького мальчика наблюдает за приготовлениями Сидящего Быка к виваньягу вачипи, но еще он испытывает необычную отстраненность, которая нисходит на него в такие времена. Ему кажется, будто несколько разных Паха Сапа смотрят его глазами, включая и более взрослые его «я», которые глядят назад сквозь время, сосуществуя в уме худенького мальчишки.
Сначала почтенный вичаза вакан из народа хункапа – а не любимый тункашила Паха Сапы – отправляется на выбор вага чуна, «шуршащего дерева», или тополя, который будет стоять в середине танцевального круга.
Когда вичаза вакан, имя которого Зовущая Утка (он друг детства Сильно Хромает), возвращается с известием, что нужное дерево найдено, многие из сотен собравшихся людей украшают себя цветами, сорванными на берегах реки. После этого несколько воинов, выбранных за отвагу, производят над этим деревом деяние славы, а самый отважный – в нынешний год это молодой оглала, сопровождающий Шального Коня, зовут его Один Убивает Шестерых – наносит дереву последний и самый громкий удар. Паха Сапа узнает, что Один Убивает Шестерых, пока будет продолжаться танец Солнца, устроит большую раздачу, во время которой раздаст почти все, что имеет (включая и двух молодых жен, которых он совсем недавно завоевал в сражении).
После деяния славы над высоким, гордым (но не слишком высоким, толстым или старым) вага чуном, который стоит в одиночестве на лугу среди высокой травы, к дереву подходят несколько девственниц с топорами, напевая песню, в которой говорится: если кто знает, что они не девственницы или не добродетельны в чем-либо, то этот мужчина или эта женщина должны сейчас заговорить, а если они промолчат сейчас, то должны будут онеметь навечно. Потом, когда никто ничего не говорит, девственницы начинают рубить дерево.
Сильно Хромает ведет Паха Сапу к группе воинов, мальчиков и стариков, которые должны подхватить дерево, когда оно будет падать. Он поясняет, что дерево не должно коснуться земли. После этого шестеро вождей, чьи отцы тоже были вождями, несут священное дерево к тому месту, где состоится виваньяг вачипи.
Пока с вага чуна обрубают ветки и ставят его, Сильно Хромает выводит Паха Сапу из травяного круга для танца, и мальчик (а вместе с ним и его тункашила) смотрит, как десятки воинов на лошадях окружают священное место. По сигналу, поданному Сидящим Быком, молодые люди бросаются к священному месту в центре круга, где будет стоять дерево, все они толкаются, пихаются, дерутся, делают обманные движения, чтобы первым коснуться определенной точки в земле. Стоя в мешанине пыли, мельтешения копыт, встающих на дыбы лошадей, криков воинов и тех, кто наблюдает за ними, Паха Сапа улыбается. Это очень похоже на взрослый вариант его мальчишеской игры «сбрось-с-коня». Но прежде чем мальчик успевает совершить ошибку и громко рассмеяться, Сильно Хромает прикасается к его плечу и шепчет ему на ухо, что тот, кто первым коснется священного места, не будет убит в этом году в сражении.
В тот вечер ближе к реке, чем к Дир-Медисин-рокс, устраивается великолепный пир, и очень голодный Паха Сапа получает порцию бизоньего мяса и свое любимое лакомство – вареную собаку. Роды принесли в жертву к этому празднику по нескольку щенков, так что этого деликатеса хватает на всех. Потом воины обрубают нижние ветки выбранного дерева, раскрашивают его в синий, зеленый, желтый и красный цвета. Тункашила Паха Сапы объясняет, что каждый цвет обозначает свое направление – север, восток, запад и юг, потом у середины этого сакрального обруча строится ивовая парилка и солнечный козырек, после чего начинаются настоящие молитвы. Вичаза вакан берет табак и набивает трубку – это Птехинчала Хуху Канунпа, самая священная Трубка Малоберцовой Бизоньей Кости, которая вот уже двенадцать поколений почитается народом лакота, – и заново освящает все это место, дерево и церемонию, обращаясь не только к четырем направлениям плоской видимой земли, но и к небу, и к самой бабушке-земле, а также ко всем земным видимым и невидимым летающим тварям и четвероногим, он просит каждого по очереди способствовать тому, чтобы эта церемония была совершена правильно, чтобы угодить им и угодить Вакану Танке, Всему, Великой Тайне, Отцу, Пращуру всех пращуров.
Потом собравшиеся люди делают то, что должны сделать, чтобы превратить дерево в целебный вигвам.
Под гораздо более низкие песнопения мужчин и непрекращающиеся трели женщин они поднимают высокий тонкий вага чун.
Двадцатью восемью раздвоенными вешками они намечают круг у дерева. На каждой из этих вешек устанавливается длинный шест, который привязывают к священному дереву, оставив только специальный вход на востоке, через который внутрь могут проникнуть лучи восходящего солнца.
Теперь, когда в затянувшихся летних сумерках все собираются вокруг дерева, превращенного в целебный вигвам, приближаться к вага чуну и танцевать вокруг него разрешается только женщинам с заметной беременностью. Паха Сапа понимает, что Всё, Вакан Танка и конкретный вакан Солнца любят плодородие, а потому и беременных женщин, не меньше, чем дух Солнца любит танцы.
Паха Сапа смотрит на восток, в сторону прерии – травы там сейчас шелестят под усиливающимся вечерним ветром, они как переливы меха у живого зверя – и видит, как поднимается полная луна. Сильно Хромает объяснил, что такой важный винань-янг вачипи всегда приурочивается к Жиреющей луне или Луне чернеющих вишен, когда наступает полнолуние и изгоняется неведение черных небес, а летняя ночь становится более похожей на светлые дни, столь любимые духом Солнца.
В ту ночь Паха Сапа спит хорошо. Ночь такая теплая, что они с дедушкой даже не делают шалаша из ивовых веток, а спят под открытым небом на одеялах и шкурах, которые привезли с собой. Паха Сапа просыпается только раз и то потому, что полная луна ярко светит ему в лицо. Он недовольно ворчит, переворачивается, ложится поближе к своему дяде-дедушке и снова засыпает.
Ранним утром следующего дня, за едой, Паха Сапа смотрит на вереницу кормящих матерей, которые приносят своих младенцев и кладут их у основания преобразованного вага чуна. Теперь эти младенцы-мальчики вырастут воинами, а девочки станут матерями воинов. Сильно Хромает и другие вичаза ваканы сидят все утро вокруг площадки, прокалывая уши этим младенцам. Считается, что родители младенца, удостоившегося такой чести, должны подарить пони тому, кому он нужен.
Весь день Сидящий Бык и другие воины, участвующие в танце Солнца, очищаются в парилках и готовятся к важной работе, которая начнется следующим утром. В течение предшествующих лет (в особенности зимой, когда еды было мало и близкие болели) многие мужчины и женщины, собравшиеся здесь, давали обет принести жертву священному дереву. Другие, готовящиеся здесь, – это мальчики, некоторые немногим старше Паха Сапы; они будут танцевать – это часть церемонии их посвящения в мужчины.
Жертвы будут состоять в надрезании одной руки или груди или вырезании квадратиков плоти из какого-нибудь места, а может быть, отрезании пальца. Но те, что будут приносить самые серьезные жертвы, пройдут полную церемонию прокалывания и будут танцевать перед шестом.
На церемонию уже съехались тысячи лакота. Прерия вблизи Дир-Медисин-рокс и по обеим сторонам Роузбада ярко освещена кострами.
Начинается ночь перед танцем, и Сильно Хромает ведет Паха Сапу к Сидящему Быку.
Даже при мерцающем огоньке в маленьком вигваме Сидящего Быка Паха Сапа видит, что тот готовился к ритуалу, который – как говорит Сильно Хромает – исполнялся Сидящим Быком много раз со времени церемонии посвящения его в мужчины. За несколько дней до этого Сидящий Бык смыл с себя все краски, удалил перья из волос и ослабил косички. По медленным движениям и чуть заметной слабости Паха Сапа понимает, что Сидящий Бык постился. И тем не менее после представления Паха Сапы, когда старшие усаживаются и начинают беседовать о прежних временах, вождь подносит Сильно Хромает свою зажженную трубку. Голос у Сидящего Быка низкий, движения неспешные; наконец он обращает взор на Паха Сапу.
– Мой друг Сильно Хромает говорит мне, что Вакан Танка, видимо, наделил тебя способностью видеть прошлое и будущее человеческих существ, Черные Холмы.
Сердце Паха Сапы громко бьется. Единственное, на что он способен, – это кивнуть в ответ. Глаза у Сидящего Быка светящиеся и пронзительные.
– Я тоже могу видеть временами будущее, маленький Черные Холмы, но мне видения даются только после больших усилий, мучений и жертвоприношения. Ты еще не прошел ханблецею, мальчик?
– Нет, ате.
Ате – отец – уважительное обращение.
Сидящий Бык неторопливо кивает, смотрит на Сильно Хромает, потом переводит пронзительный взгляд на лицо Паха Сапы.
– Значит, маленькие видения, что посещают тебя, не настоящие. Может быть, это какая-то способность, что дарована тебе духами или Ваканом Танкой, а может быть, это шутки, которые играет с тобой какая-то сила, которая не любит вольных людей природы. Будь осторожен, маленький Черные Холмы, не слишком доверяй видениям, которые вовсе и не видения.
И опять Паха Сапа может только кивнуть в ответ.
– Возможно, ты узнаешь, откуда это берется, когда пройдешь настоящий обряд ханблецеи.
Сидящий Бык смотрит на Сильно Хромает, и в его взгляде – вопрос. Сильно Хромает говорит:
– Мы наметили провести обряд следующим летом, когда весь род соберется снова у Черных холмов. По всем понятиям и с учетом обстоятельств его рождения, Паха Сапа должен пройти обряд ханблецеи именно там, но род сейчас далеко от Медвежьей горки и Черных холмов, а для мальчика десяти или одиннадцати зим предпринять путешествие в одиночестве в такое время было бы опасно.
Сидящий Бык кряхтит.
– Верно говоришь. Длинный Волос и его конники вазичу сейчас на марше, как генерал Крук[19] и другие. Мальчик, путешествующий по равнинам в одиночестве или вместе со своим приемным тункашилой, будет подвергаться большой опасности – его могут взять в плен или убить, в особенности если у нас будет крупное сражение у Роузбада или Литл-Биг-Хорна, – а я надеюсь, что оно будет, – и мы убьем много вазикунов. Другие вазичу тогда будут жаждать крови. Но я думаю, Сильно Хромает, что ты должен послать Черные Холмы на его ханблецею до следующего лета. Гораздо раньше. Не позднее Луны цветных листьев или Луны падающих листьев. Этот его… дар… он может быть опасен. И не только для мальчика. Пусть он будет обладать способностью видения, если Отец или шесть пращуров поднесут ему этот дар.
Сильно Хромает в ответ лишь неопределенно кряхтит. Сидящий Бык подается к огню и Паха Сапе.
– Черные Холмы, извини за то, что я говорил так, будто тебя здесь нет. Мы, старики, иногда делаем это, когда речь идет о молодых. Хочешь прикоснуться ко мне и проверить, работает ли со мной твое «прикоснись – и увидишь, что было / что будет»?
Паха Сапа долгое мгновение хранит молчание. Потом дрожащими губами произносит:
– Нет. Пиламайе, ате.
Он не знает, почему добавил «спасибо».
Сидящий Бык улыбается.
– Ваштай! Хорошо. Я бы не позволил тебе прикоснуться ко мне для такого видения. Не в ночь перед моим собственным танцем.
Сидящий Бык поворачивается к Сильно Хромает и берет его за руку.
– Я пощусь, потому не присоединюсь к вам, но, прежде чем ты уйдешь, мой друг, ты и твой внук должны вкусить горячую педжута сапу. Я нашел ее на теле мертвого вазикуна всего неделю назад, и сегодня вечером моя жена смолола ее. А потом мы вместе покурим.
Брови у Паха Сапы ползут наверх. Педжута сапа – «черное лекарство», кофе – один из самых волшебных напитков, когда-либо перенятых у вазичу, силой своей он уступает разве что мни вакену, огненной воде, виски.
Пока Сидящий Бык готовит трубку, Паха Сапа пьет свою чашку педжута сапы, отхлебывая, только когда отхлебывает тункашила (из опасения, что в ритуале питья может быть какая-то деталь, ему неизвестная). Паха Сапа никогда не пробовал ничего такого крепкого, такого черного, такого горького и такого замечательного.
Потом Сидящий Бык и Сильно Хромает курят особую трубку – это та самая Птехинчала Хуху Канунпа, священная Трубка Малоберцовой Бизоньей Кости, которую использовали во время обряда приготовления дерева; курят ее долго, до самой ночи.
В какой-то момент, когда Сидящий Бык выходит из вигвама помочиться в высокую траву, Паха Сапа шепчет своему дедушке:
– Эту трубку нельзя курить так, как если бы она была… просто трубкой?
Прежде чем Сильно Хромает успевает ответить, из темноты отвечает Сидящий Бык, который, входя, открывает клапан типи.
– Йохакскан каннонпа эл войлаг йапе ло. Эхантан наджин ойате мака ситомнийан каннонпа кин хе униваканпело («Она используется для всего. С тех самых пор, когда стоячие люди появились на земле, эта трубка была вакан»).
Потом Сидящий Бык добавляет:
– И это лучшая трубка для курения табака, какая у меня есть.
Когда они наконец закончили и Сильно Хромает и Паха Сапа, оба, поднимаются и выходят в пахнущую дымом темноту, чтобы вернуться в свой вигвам, – у Паха Сапы сна нет ни в одном глазу, – Сидящий Бык выходит наружу вместе с ними и легонько касается плеча Паха Сапы концом своего жезла славы.
– Приходи завтра посмотреть мой танец, Черные Холмы. Смотри и учись, как просить Вакана Танку и всех духов о настоящем видении.
– Хан, ате.
После этого Сидящий Бык легко похлопывает его жезлом по плечу и говорит тихонько напевным голосом:
– Токша аке чанте иста васинйанктин ктело, Паха Сапа («Я увижу тебя снова глазами моего сердца, Черные Холмы»).
8. Черно-желтая дорога
Декабрь 1923 г.
– Ты не против того, чтобы посидеть за рулем, Билли?
– Нет. Это красивая машина.
– Ужасно красивая. И почти с иголочки. Я взял ее в Рэпид-Сити в конце октября. Я не был уверен, хочу ли я «нэш» – для поэта и историка, мне кажется, должен сгодиться «форд». Но мой шурин знаком с новым дилером фирмы и… ну… «нэш» такой привлекательный. Я мог бы взять «Нэш сорок один» почти на четыреста долларов дешевле. Он тоже четырехцилиндровый, но не закрытый. В такие дни – температура не больше двадцати – лучше ездить в закрытом седане, как ты думаешь?
– Да.
– Конечно, я мог бы добавить еще пару сотен и купить «Нэш сорок семь», а он, конечно, приятнее, но у него нет багажника или вообще лишнего места. Никакого.
– Никакого?
– Ну да. Но с другой стороны, если бы я и в самом деле хотел потратить больше – а продавец определенно пытался убедить меня, что именно так и нужно поступить, – то я бы мог подняться до фаэтона «Нэш сорок восемь» или – хотя об этом даже и говорить глупо – до нового фаэтона «Нэш шестьсот девяносто семь» с шестицилиндровым двигателем. Шесть цилиндров, Билли! Представляешь, как бы мы поднимались на эти холмы с шестью цилиндрами?!
– Четыре цилиндра, мне кажется, вполне справляются, мистер Робинсон.
– Да, похоже, он неплохо преодолевает подъемы. Конечно, если бы я надумал потратить пятьсот или больше долларов на автомобиль, то я бы купил «Лафайет сто тридцать четыре». Он весит больше двух тонн – по крайней мере, я где-то читал об этом – и может разгоняться до девяноста миль в час. Скажи мне, Билли… зачем кому-то нужно или кому захочется ехать со скоростью девяносто миль в час? Ну разве что на индианапольских гонках?
– Не знаю.
– Но я же не Джимми Мерфи[20], и потом, чтобы соревноваться, мне бы пришлось купить «дюзенберг», а меня вполне устраивает «нэш». Ты не возражаешь, если я буду делать записи, когда мы продолжим наш разговор о прежних днях?
– Пожалуйста.
– Если уж речь зашла о гонках, Билли… Я слышал, что есть такая резервация Беговая Дорожка, но на картах Службы национальных парков и вообще на известных мне картах никакого такого места или образования нет.
– Мы ехали по ней, выезжая из Рэпид-Сити, мистер Робинсон.
– Правда?
– Беговая Дорожка – это старое лакотское и шайеннское название долины вокруг Черных холмов… длинная овальная долина между наружной границей красного Хогбэк-Риджа и самими холмами. Если подняться высоко на аэроплане, то вы, наверное, смогли бы увидеть весь красноватый овал, окружающий холмы. Это и есть Беговая Дорожка.
– Господи боже мой, Билли. Я всю жизнь прожил вблизи холмов… и к тому же в качестве главного историка штата. Но я никогда не замечал, что долина окружает холмы, и не знал, что у твоего народа есть для нее название. Беговая Дорожка. Почему Беговая Дорожка – потому что утопленный овал долины напоминает дорожку?
– Нет. Потому что он был беговой дорожкой.
Паха Сапа бросает взгляд на Робинсона, который наскоро делает записи. Доану Робинсону шестьдесят семь лет (сегодня, в последний день 1923 года, он на девять лет старше Паха Сапы), и на морозе он не надевает шапку (обогреватель в «нэше» – одно название), хотя и лыс как колено. Не сходящую с губ Робинсона легкую улыбку дополняют добрые глаза, которые сегодня утром частично скрывают круглые очки в роговой оправе.
Робинсон, который прежде был адвокатом (он выступал от имени племен сиу в их первых процессах против штата и федерального правительства), давно поменял юриспруденцию на литературу и стал популярным юмористом и поэтом Южной Дакоты. Еще он официальный историк штата. И самое главное, за эти редкие разговоры о «прежних днях» (в которых Паха Сапа рассказывает очень мало чего существенного и почти ничего личного) Паха Сапа получает разрешение брать книги из обширной домашней библиотеки историка и писателя. Такая договоренность позволила пятидесятивосьмилетнему Паха Сапе за шесть лет получить то, что он называет своим личным и тайным «университетским образованием».
Робинсон отрывает взгляд от записок.
– Неужели сиу и шайенна устраивали там бега?
– Это было до лакота и шайенна, мистер Робинсон. Это, возможно, было еще до того, как через Вашу-нийя, Дышащую пещеру, в мир пришел Первый человек и его двоюродные братья. Служба национальных парков называет эту пещеру Пещерой ветра.
– Да-да. Я давно знаю, что шайенна, сиу и другие индейцы равнин считают, что человек пришел в мир через Пещеру ветра. Но почему она называется Дышащей пещерой, а не, скажем, Пещерой рождения или как-нибудь так?
– Потому что зимой можно увидеть, как пещера дышит через разные свои отверстия. Более теплый воздух выходит через определенные интервалы, как обычное дыхание, почти совпадающее с дыханием бизона.
– Так-так-как…
Робинсон наскоро делает запись в своей тетради. Паха Сапа сосредоточивается на дороге – вести широкую машину по подмерзшим колеям нелегко. Он поворачивает направо, на Нидлз-хайвей. Двигатель «нэша» без труда возьмет подъем, вот только коробка передач у него никуда не годится (не сравнить с коробками «фордов» и «шевроле», какие водил Паха Сапа), и ему приходится быть внимательным, чтобы не перемолоть шестерни любимой игрушки историка.
Робинсон поднимает голову, на его круглых очках сверкает солнечный лучик.
– Билли, а бизоны и люди пришли в мир одновременно? Я на этот счет слышал разные мнения.
– Сначала пришли бизоны. Первые бизоны, пришедшие через Вашу-нийя, были крохотные, размером с муравья, но трава на Черных холмах была такой сочной, что они быстро набрали жирку и выросли до их нынешних размеров.
Паха Сапа улыбается, сказав это, но Доан Робинсон продолжает с серьезным видом делать записи. Наконец он поднимает взгляд и в недоумении смотрит на Столбы[21] – он словно забыл, что они на Черных холмах. В конце декабря солнце яркое, но слабое, тени от Столбов неясные. Робинсон постукивает авторучкой по нижней губе.
– Так кто же бегал по беговой дорожке, если на холмах еще не было людей?
Паха Сапа переключает передачу – машина катит вниз по склону. Муфта сцепления «нэша» не рассоединяется, пока нога водителя чуть не уходит в хилый полик. Паха Сапа знает, что придет время, и Нидлз-хайвей покроют асфальтом, но пока тут замерзшие глубокие колеи, которые вмиг вскроют «нэш» мистера Робинсона, как консервную банку, если узкие колеса соскользнут с высоких кромок.
– Говорят, что крылатые и четвероногие существа соревновались между собой за то, кому править миром. Они готовы были войной решить этот вопрос, но в конечном счете решили устроить большие гонки вокруг Вамакаогнака э’кантге.
Робинсон прекращает писать. Когда он начинает говорить, его дыхание на мгновение повисает в воздухе, словно Дышащая пещера находится внутри машины, только здесь дыхание изморозью оседает на ветровом стекле и на уже схваченных морозцем боковых стеклах.
– Вамакаогнака э’кантге означает «центр мироздания», верно я говорю, Билли?
– Среди прочего. Я предпочитаю трактовать это как «суть всего сущего». Но все это значит Паха-сапа – Черные холмы.
– Значит, четвероногие и летающие существа согласились решить, кто будет править миром, по результатам гонки вокруг Черных холмов?
Ручка бегает по листу бумаги. На дороге в этот предновогодний день нет других машин. За стеной Столбов Паха Сапа видит самую высокую и священную гору Черных холмов – Холм злого духа, переименованный вазичу в Харни-пик в честь знаменитого убийцы индейцев[22], а за Холмом злого духа – длинный гранитный хребет Шести Пращуров, где ему сорок семь лет назад было видение.
– Да, существуют разные версии этой истории, но мой дедушка рассказывал мне, что летающие существа, чтобы выиграть бега, использовали волшебные краски. Так ворон впервые стал черным, а сорока использовала белую землю и уголь, чтобы сделать себя вакан…
– Священной.
– Да. Трупиал[23] счел, что выиграть ему поможет желтый цвет. И вот четвероногие и двуногие – а последние все были тогда летающими существами, но для большой гонки они согласились не отрываться от земли – принялись бегать вокруг Черных холмов: сто, тысячу кругов, они и утрамбовали землю, превратив ее в сегодняшнюю Беговую Дорожку. Из четвероногих самыми быстрыми оказались бизон и олень, а кровавая пена, вытекавшая из их ртов и носов, окрасила землю почти по всему кругу. Они бегали дни и ночи, недели и луны.
– И кто победил?
– Победили сорока и ворон, которые бегали от имени всех двуногих, включая и нас, людей, хотя мы еще и не выползли из Дышащей пещеры. А к тому времени Беговая Дорожка уже была такой же широкой, глубокой и с красным ободком, как сегодня. Вообще-то мой дедушка иначе называл этот овал с красным ободом, что окружает Вамакаогнака э’кантге.
– И как, Билли?
– Виньянь шан.
– Странно. Я столько лет записываю слова сиу, но этого не встречал ни разу. Что оно означает, Билли?
– Влагалище.
Доан Робинсон навинчивает колпачок на авторучку, снимает очки, протирает их платком из нагрудного кармана пиджака толстой шерсти. Паха Сапа видит румянец на щеке историка и сожалеет, что смутил старика.
– Притормози здесь. На площадке у основания столба.
Паха Сапа останавливает «нэш». Грунтовая дорога петляет здесь между Столбов – отдельно стоящих гранитных колонн, высота некоторых из них достигает сотни и более футов, а площадка у основания предназначена для того, чтобы люди могли подъехать и насладиться видом именно этого толстого каменного пальца, который торчит совсем рядом с обочиной дороги.
Робинсон нащупывает дверную ручку, сделанную на новый манер.
– Ну что, Билли, выйдем?
– Ветер сильный, мистер Робинсон. Там холодно.
– Идем-идем. Мы ведь еще молодые. Я хочу тебе показать кое-что.
Здесь холоднее, чем думал Паха Сапа. Эта часть узкой дороги была проложена вдоль хребта горной гряды, и высокие пики не защищают ее от промозглого ветра, обдувающего холмы с севера. Паха Сапа застегивает свое красное с черным шерстяное пальто и замечает сине-черные тучи далеко на северо-западном горизонте. К ночи разгуляется метель. Он подсчитывает, сколько потребуется времени, чтобы доставить Робинсона домой и добраться на мотоцикле до собственного дома неподалеку от Дедвуда. Нет, в такой вечер, в темень и метель, он не хочет оказаться на узкой, петляющей горной дороге, в особенности еще и потому, что у мотоцикла нет фары.
Доан Робинсон показывает на один из столбов.
– Ты замечал, Билли, что в недавно созданном парке десятки и десятки – уйма таких вот шпилей?
– Да.
– А ты знаешь о Блэкхиллском и Йеллоустонском хайвее?
– Черно-желтой дороге. Конечно. По пути в Черные холмы из Рэпид-Сити мы ехали мимо выкрашенных в желтое и черное столбиков.
Паха Сапа думает о грунтовой, лишь кое-где засыпанной гравием дороге, которая теперь проходит с запада на восток через Южную Дакоту и которую этот вазичу наделяет гордым именем «хайвей». Черно-желтые полосатые придорожные столбики тянутся по прерии чуть ли не в бесконечность.
– Этот хайвей соединяет Чикаго с Йеллоустонским парком, и его строили, чтобы туристы ездили на запад. Будущее Южной Дакоты зависит от туризма. Помяни мои слова. Если экономически мы и дальше будем развиваться такими же темпами, то вскоре у каждого американца будет по машине, и они захотят оставить свои перенаселенные города на Востоке и Среднем Западе и посмотреть, что представляет собой Запад.
Паха Сапа поднимает воротник пальто, защищаясь от промозглого ветра. Румянец Доана Робинсона сменился белыми и красными пятнами на щеках и носу, и Паха Сапа понимает, что ему нужно усадить историка в машину (двигатель которой он не заглушил), прежде чем этот умник отморозит себе что-нибудь. На нем в такой холод даже перчаток нет. Когда особенно сильный порыв ветра грозит сдуть Робинсона с замерзшей дороги в кусты под гранитной колонной, Паха Сапа хватает его за руку.
– Ты бывал в Чикаго, Билли?
– Да. Один раз.
Перед глазами Паха Сапы и сейчас встает большое колесо мистера Ферриса[24], поднимающееся над Белым городом[25] вечером 1893 года, когда все вокруг залито светом электрических огней. Администрация Чикагской Колумбовской выставки[26] решила, что шоу «Дикий Запад» Буффало Билла не хватает респектабельности, а потому мистеру Коди[27] пришлось демонстрировать свое представление за пределами выставочной территории; в результате шоу привлекало огромные толпы зрителей, а Буффало Биллу не приходилось делиться доходами с организаторами выставки. Но Белый город с его огромным Дворцом электричества и Дворцом машин… весь курдонер, освещенный сотнями уличных электрических фонарей и прожекторов, толпы людей – ничего поразительнее Паха Сапа за свою двадцативосьмилетнюю жизнь еще не видел.
– Бывал? Ну, тогда ты можешь представить, почему жители этого набитого людьми города ждут не дождутся, когда можно будет поехать на запад, вдохнуть свежего воздуха и увидеть наши удивительные пейзажи.
– Аттракцион?
– Да, да! Мне всего несколько недель назад пришло в голову, что если в Йеллоустонском парке имеются гейзеры, медведи гризли и горячие источники и этого вполне достаточно, чтобы кто-то приехал туда по черно-желтому хайвею из Чикаго или из каких-нибудь мест на востоке, то единственное, чем может наш благородный штат привлечь отважных путешественников, это парк – здесь, в Черных холмах. А все, что могут предложить холмы, – только холмы.
Паха Сапа безмолвно взирает на историка штата. Глаза мистера Робинсона слезятся от мороза, а с носа обильно капает. При каждом новом порыве ветра только твердая рука Паха Сапы удерживает более крупного и пожилого человека, которого иначе сдуло бы с холма на сосны и пихты, которые растут у оснований Столбов. Паха Сапа по длине теней видит, что день быстро клонится к вечеру, – им пора уезжать, если он хочет добраться в Дедвуд до наступления темноты и начала метели. В воздухе пахнет приближающимся снегопадом.
Робинсон вытягивает свободную руку и показывает пальцем в направлении гранитного шпиля.
– И тут, Билли, мне пришло в голову. Voilà. Скульптуры.
– Скульптуры?
Паха Сапа чувствует, насколько глуп его, похожий на эхо, вопрос, хотя обычно мало заботится, как звучит его речь в таком лишенном нюансов языке, как английский.
– Эти столбы идеальны для скульптурных работ, Билли. Я абсолютно уверен, что гранит из всех камней больше всего подходит для скульптурных работ. И потому несколько дней назад я написал это письмо лучшему скульптору Америки… а может, и мира!
Робинсон шарит во внутреннем кармане пиджака под пальто, которое полощется на ветру, извлекает сделанный под копирку экземпляр напечатанного на машинке письма. Налетевший порыв ветра вырывает папиросную бумагу из правой руки Робинсона, и только ястребиная реакция Паха Сапы не позволяет письму бесследно исчезнуть в лесу.
– Нам следует прочесть и обсудить это в машине, мистер Робинсон.
– Ты прав, Билли. Абсолютно прав. Я, кажется, не чувствую ни кончика носа, ни ушей.
Вернувшись в «нэш», Паха Сапа пытается включить примитивный обогреватель машины, но тот уже и так отбирает от двигателя все то тепло, которым тот благоволит поделиться. Паха Сапа разглаживает помятое письмо на широкой баранке руля и читает:
28 декабря, 1923 г.
Мистеру Лорадо Тафту[28]
6016 Эллис-авеню
Чикаго, Иллинойс
Дорогой мистер Тафт!
Южная Дакота открыла великолепный парк штата в Черных холмах. Прилагаю брошюру, в которой Вы найдете описание некоторых его достопримечательностей. На обложке Вы увидите шпили – мы называем их Столбами, – расположенные высоко на склоне Харни-пика. Вершины тех, что Вы видите на обложке, находятся на высоте более 6300 футов над уровнем моря. Столбы эти гранитные.
Помня о Вашем проекте «Большой индеец», я подумал, что некоторые из шпилей представляют собой прекрасную основу для громадных скульптур, и я пишу Вам, чтобы узнать, можно ли, по Вашему мнению, высечь из этих глыб человеческие фигуры. Я при этом думаю о некоторых заметных деятелях народа сиу, таких как Красное Облако[29], который жил и умер под сенью этих столбов. Если один из них окажется пригодным, то в конечном счете станет понятно, как использовать другие.
Эти шпили находятся непосредственно над хайвеем, они стоят отдельно на основаниях. Их высота около сотни футов, и они хорошо видны с разных точек.
У этого гранита довольно грубозернистая текстура, но он очень прочен. Поблизости видны также высокие белые стены, на которых можно высечь групповые рельефы.
Показанные столбы дают только общее представление о пейзаже, многие другие выглядят еще лучше – всего несколько футов в диаметре, они исключительно выигрышны.
Буду рад получить от Вас ответ, и, если Вам мое предложение покажется реализуемым, мы, возможно, пригласим Вас, чтобы Вы могли увидеть все это собственными глазами.
Искренне Ваш
Доан Робинсон.
Паха Сапа ведет машину назад к Рэпид-Сити с такой скоростью, какую только могут выдержать на скользкой дороге тощие шины «нэша». Он не спрашивает мистера Робинсона, ответил ли скульптор Лорадо Тафт на письмо, поскольку времени для ответа практически не было. Он ведет машину в тишине, если не считать рева четырехцилиндрового двигателя и громкого, но освежающего жужжания обогревателя.
– Ну, что скажешь, Билли?
Доан Робинсон нравится Паха Сапе, ему нравится его мягкость, ученость и искренний интерес к истории народа Паха Сапы, пусть этот интерес и направлен не совсем туда, куда нужно. А как Паха Сапа любит библиотеку Доана Робинсона и тот взгляд на мироздание, который подарили ему книги! Но в этот момент он думает, что если бы Робинсон показал ему письмо скульптору до отправки, то Паха Сапа достал бы простой складной нож с костяной ручкой и пятидюймовым лезвием, который и теперь лежит у него в кармане, и перерезал бы горло историку и писателю, оставив его тело в лесу у хайвея Нидлз, а его «нэш» столкнул бы в пропасть, отъехав подальше от Черных холмов.
– Билли? Что ты думаешь об этой идее? Как по-твоему, Красное Облако достоин того, чтобы его первым из вождей сиу вырезали на одном из этих столбов?
Макхпийя Лута, Красное Облако, знаменит своей победой в Сражении ста убитых[30], но эти битвы закончились, когда Паха Сапе было всего две зимы. Паха Сапа знал старого Красное Облако в первую очередь как индейца-отступника, который отдал равнины и земли последних вольных людей природы, и Паха Сапа был поблизости от агентства Красного Облака в Кэмп-Робинсоне в 1877 году, когда завистливый племянник Красного Облака предал Шального Коня, заманив его в форт, где того и убили. Красное Облако пережил многих настоящих вождей-воинов – Сидящего Быка, Шального Коня – и умер глубоким стариком всего четырнадцать лет назад – в 1909 году.
– Я вообще-то не знал Красного Облака.
– А что ты тогда скажешь насчет Шального Коня? Как по-твоему, достоин Т’ашунка Витко того, чтобы его огромная статуя появилась здесь, в Черных холмах?
Паха Сапа кряхтит. Здесь, с восточной стороны хребта, вечерние тени быстро сгущаются, и ему приходится вести машину очень осторожно, чтобы «нэш» не сломал ось в какой-нибудь глубокой, замерзшей колее. Как Паха Сапе объяснить этому кроткому человеку, что Шальной Конь предпочел бы, чтобы его кишки выпотрошили через дыру в животе (или, скорее, перерезал бы всю большую семью Доана Робинсона), чем позволил вазичу, которые предали и убили его, высечь его подобие в граните Черных холмов? Он набирает в легкие воздуха.
– Вы помните, мистер Робинсон, что Шальной Конь никогда не позволял фотографам фронтира[31] снимать его.
– Да, Билли, ты, конечно, прав. Он, как и многие индейцы Равнин, явно боялся, что камера «похитит его душу». Но я абсолютно уверен, что скульптура, сделанная великим художником, не оскорбила бы чувств Т’ашунки Витко.
Паха Сапа абсолютно уверен: Шальной Конь не боялся, что камера «похитит его душу». Воин просто никогда бы не позволил врагу взять в плен даже его изображение.
– Ну а что ты скажешь о Сидящем Быке? Как ты думаешь, лакота сочтут за честь, если здесь, в холмах, появится скульптура Татанки Ийотаке?
Дорога здесь – сплошные выбоины и ухабы (настоящий Бэдлендс[32] в миниатюре), и Паха Сапа молчит – он ведет машину наполовину по обочине, наполовину по замерзшей дороге, выбирая наименее опасные участки. Он помнит то время, всего девять лет спустя после уничтожения Длинного Волоса у Литл-Биг-Хорна, когда Сидящий Бык отправился на восток вместе с шоу Билла Коди «Дикий Запад» (это было за восемь лет до того, как Паха Сапа с этой же труппой отправился в Чикаго), и какое на него тогда произвели впечатление число и сила вазичу, размер их городов и скорость их железных дорог. Но Паха Сапа разговаривал с миссионером, который знал Татанку Ийотаке после его возвращения в агентство, и Сидящий Бык сказал тогда бледнолицему священнику: «Бледнолицые порочны. Я хочу, чтобы ты научил мой народ читать и писать, но они не должны походить на бледнолицых по образу жизни и мыслей: это плохая жизнь. Я не смог бы позволить им жить так. Я бы сам скорее умер индейцем, чем жил бледнолицым».
Паха Сапе трудно дышать. Сердце бешено бьется, а от давления в черепной коробке в глазах появляется туман. Со стороны можно подумать, что у него инфаркт или инсульт, но Паха Сапа знает: это призрак Длинного Волоса тараторит и баламутит внутри его, пытаясь выбраться наружу. Может быть, Длинный Волос слышит эти слова ушами Паха Сапы, видит Столбы глазами Паха Сапы и представляет себе громадные скульптуры названных лакота (Робинсон, конечно, не станет предлагать высечь и скульптуру Кастера), заглядывая в мысли Паха Сапы.
Паха Сапа не знает. Он много раз задавал себе подобные вопросы, но хотя призрак и разговаривает с ним по ночам, Паха Сапа не знает, видит ли тот и слышит ли через него, проникает ли в его мысли, как обречен это делать Паха Сапа, читающий мысли Длинного Волоса.
– Так ты, Билли, знал Сидящего Быка?
Голос Доана Робинсона звучит озабоченно, может быть, смущенно, словно он опасается, что обидел индейца лакота, которого он называет Билли Вялый Конь.
– Совсем немного, мистер Робинсон.
Паха Сапа старается говорить как можно дружелюбнее.
– Я время от времени встречался с Сидящим Быком, но я был всего лишь мальчишкой, когда он сражался, потом сдался, а потом был убит индейцем-полицейским, который пришел его арестовывать.
Виваньяг вачипи, танец Солнца около Дир-Медисин-рокс, за две недели до того, как они убили Длинного Волоса, продолжался всего два дня.
Мальчики постарше, юноши, приехавшие на обряд посвящения, лежали у основания высокого вага чуна, теперь украшенного с помощью краски, шестов и ленточек. Подобным же образом Сильно Хромает и другие шаманы раскрасили мальчиков и молодых мужчин, которые стояли не шелохнувшись и не плача, когда вичаза вакан надрезали полоски кожи на их груди или спинах, чтобы под сильные грудные или спинные мышцы можно было засунуть петельки сыромятной кожи, к которым обычно были привязаны маленькие кусочки дерева. Потом эти петельки длинными лентами прикреплялись к самой вершине вага чуна.
Потом молодые люди, по раскрашенному телу которых сочилась кровь, вставали и начинали петь и танцевать, то подаваясь к священному дереву, то отходя от него так, что лента натягивалась и готова была вырвать кусочек сыромятной кожи из-под их мышц. И, распевая и танцуя, они всегда смотрели на солнце. Иногда они танцевали целых два дня подряд. Но чаще они танцевали и прыгали, пока не теряли сознания от боли или – если им везло и Вакан Танка улыбался им – пока кусочек кожи не прорывал мощную спинную или грудную мышцу и они таким образом не освобождались.
Сидящий Бык в юности не раз танцевал так, но теперь, на глазах Паха Сапы, Сильно Хромает и двух тысяч других, смотревших на происходящее летом 1876 года, он, обнаженный до пояса, подошел к вага чуну и сел спиной к священному дереву. Паха Сапа помнит, что заметил крохотную дырочку в подошве одного из старых, но красиво обшитых бусинами мокасин.
Прыгающий Бык, друг Сидящего Быка, подошел, напевая, к вождю, опустился на колени рядом с ним, прожившим сорок две зимы, и с помощью стального шила приподнял кожу снизу на руке Сидящего Быка. Осторожно, чтобы не повредить мышцу, Прыгающий Бык вырезал квадратик кожи – размером с ноготь на мизинце Паха Сапы. Потом вырезал еще такой же кусочек. Прыгающий Бык подошел к правой руке Сидящего Быка и в общей сложности вырезал пятьдесят таких квадратиков.
Все это время, не обращая внимания на кровотечение и никак не реагируя на боль, Сидящий Бык распевал молитвы, прося милости для своего народа и победы в предстоящем сражении с вазичу.
Срезание кожи с правой руки Сидящего Быка, как помнит Паха Сапа (думая теперь о времени в понятиях вазикуна), заняло около сорока пяти минут. После этого Прыгающий Бык принялся срезать еще пятьдесят кусочков с левой руки Сидящего Быка.
Когда Прыгающий Бык закончил срезать квадратики кожи с рук Сидящего Быка, на его живот, набедренную повязку, ноги и землю вокруг вага чуна стекло больше крови, чем было на нем обрядовой краски, Сидящий Бык встал и, продолжая распевать и молиться, протанцевал остаток этого долгого июньского дня, и всю ночь полной луны, и половину следующего влажного, знойного, безоблачного, наполненного жужжанием насекомых дня.
Когда вождь уже терял сознание, его подхватил старый друг Сидящего Быка – Черная Луна. И тогда Сидящий Бык прошептал что-то Черной Луне, а Черная Луна встал и прокричал ждущим тысячам:
– Сидящий Бык хочет, чтобы я сказал вам: он только что слышал голос: «Я даю тебе это, потому что у них нет ушей», и тогда Сидящий Бык поднял глаза и увидел над собой и над всеми нами солдат, нескольких наших вольных людей природы и наших союзников на конях, и много вазичу падали, как кузнечики, и головы их клонились, и шляпы слетали с них. Вазичу падали прямо на нашу стоянку.
И Паха Сапа помнит радостный крик, который разнесся по деревне, когда люди услышали про это видение.
Они знали, что в видении Сидящего Быка у синих мундиров не было ушей, так как вазикуны не хотели слышать, что лакота и шайенна хотят одного – чтобы их оставили в покое, и что лакота отказываются продавать свои любимые Черные холмы. Женщины будут протыкать швейными шилами барабанные перепонки мертвых вазичу на поле боя, чтобы открыть эти уши.
И на этом виваньяг вачипи закончился по прошествии всего двух дней, и после этого победного видения Сидящего Быка тысячи людей переместились на юго-запад и образовали более крупную стоянку на Сочной Траве, где Длинный Волос и его солдаты вазичу из Седьмого кавалерийского полка пойдут на них в атаку и где призрак Длинного Волоса вселится в Паха Сапу.
Паха Сапа покидает историка и «нэш» с наступлением темноты. Уже идет снег – слабый, но постепенно усиливающийся. Доан Робинсон следует за Паха Сапой по дорожке туда, где Паха Сапа натягивает свою просторную кожаную куртку, кожаные перчатки, кожаный шлем и очки – все это лежит у него в коляске мотоцикла. Снежинки летят горизонтально под горящим уличным фонарем над ними.
– Билли, погода неважная. Останься на ночь. Дорога до Дедвуда ужасная даже днем и в сухую погоду. А через полчаса там и на машине, наверное, будет не проехать.
– Ничего, мистер Робинсон. У меня есть где остановиться по пути… если уж придется.
– Красивый мотоцикл. Я никогда не обращал на него внимания. Это американский?
– Да. «Харлей-дэвидсон джей» тысяча девятьсот шестнадцатого года.
– По крайней мере, у него есть фара.
– Да. Это первый мотоцикл такого класса с фарой. Правда, луч у нее слабоват, и она неустойчива. К тому же фара сломана. Все время собираюсь ее починить.
– Оставайся на ночь у нас, Билли.
Паха Сапа перекидывает ногу через седло. Мотоцикл прекрасен – удлиненный, холеный, голубого цвета с красновато-оранжевой надписью «харлей-дэвидсон». Над сломанной фарой расположен коротенький клаксон, который находится во вполне рабочем состоянии. Трубка воздушного коллектора имеет искривленную форму, на взгляд Паха Сапы, это настоящее произведение искусства – впускной смеситель питает надежный простенький четырехтактный двигатель с V-образным расположением цилиндров объемом шестьдесят один кубический дюйм. Он первый в своем классе имеет кик-стартер. У мотоцикла мягкое кожаное сиденье для пассажира над задним колесом (правда, без спинки), и хотя коляска съемная, Паха Сапа всегда ездит с ней – возит свои инструменты.
Он ключом врубает магнето с задней стороны двигателя. Три удара по кик-стартеру – и двигатель, взревев, оживает. Паха Сапа дает газку, а потом сбавляет обороты, чтобы слышать историка.
– Билли, он такой красивый! Давно у тебя этот мотоцикл?
– Это не мой. Моего сына. Он дал мне им попользоваться, пока не вернется с войны.
Доан Робинсон дрожит от холода. Потирает щеки.
– Но война закончилась уже… О, господи боже мой…
– Доброй ночи, мистер Робинсон. Пожалуйста, дайте мне знать, если мистер Лорадо Тафт вам ответит.
9. К востоку от Тощей горки на Гранд-ривер, в девяноста милях к северу от Черных холмов
Июль 1876 г.
На обратную дорогу с реки Сочная Трава у Паха Сапы и Сильно Хромает уходит гораздо меньше времени, но известие об уничтожении Длинного Волоса уже дошло до их деревни – его на быстрых конях принесли молодые воины из их рода и другие группы лакота, проезжавшие мимо. Известие о поражении Седьмого кавалерийского полка и Пехин Ханска Казата, гибели Длинного Волоса, в ту неделю распространяется по миру племен, населяющих Великие равнины, быстрее, чем по армии вазичу и их телеграфным линиям.
В течение нескольких дней после его возвращения ни у кого нет времени или интереса, чтобы выслушать рассказ Паха Сапы о деянии славы и переселении в него призрака.
Паха Сапа всегда сожалел, что в то утро после встречи с Сидящим Быком, Долгим Дерьмом и другими у него не было времени, чтобы подняться на холм и показать им тело вазикуна, чей призрак вселился в него. В то утро на севере был виден столб пыли, там майор Рено и его еще оставшиеся в живых солдаты сражались, прижатые к склону холма в трех милях от того места, где Паха Сапа прикоснулся к умирающему вазикуну; и если вазичу думали, что у индейцев сохраняется численное превосходство, то разведчики Сидящего Быка, Шального Коня и других вождей знали, что оттуда, откуда пришел Кастер со своими людьми, движется много конников в синих мундирах, и это почти наверняка генерал Терри, который наступает с того же перевалочного пункта – там, где в месте слияния Йеллоустон-ривер и реки Роузбад причалил к берегу пароход «Дальний Запад».
Сидящий Бык был слишком занят – нужно было сняться со стоянки, оставить в вигвамах павших смертью храбрых, договориться о месте встречи различных групп воинов, а потому не мог отправиться на холм с Паха Сапой и Сильно Хромает в то утро, а когда Паха Сапа на восходе солнца повел тункашилу вверх по склону оврага, они увидели свежие войска вазичу на северном горизонте и быстро вернулись в долину к своему разобранному вигваму и оставленным пони.
Громадная деревня снялась за два часа (остались только типи, каркасы для мертвых и шесты для типи, которые не забрали с собой, потому что на это не оставалось времени, – унесли только шкуры), и к тому времени, когда ближе к вечеру вазичу спустились в долину, Сидящий Бык увел около восьми тысяч лакота и шайенна на запад к горам Биг-Хорн, где разделил их на две колонны, одну направил на юго-запад, а другую – в которой были Паха Сапа и Сильно Хромает – на юго-восток. От этих двух основных потоков стали отделяться роды и отдельные семьи, которые разбрелись по коричневым долинам или направились к горам.
В деревне Паха Сапы неподалеку от Тощей горки ночи были почти такими же, как первая ночь у Сочной Травы: странное сочетание траура и ликования, но, поскольку из рода Сердитого Барсука в этих двух больших сражениях (первое сражение с генералом Круком на юге, второе – с Кастером) погибли только два воина, слабые траурные костры и утренние самобичевания совсем потерялись среди затянувшегося за полночь празднества.
В первые дни новой луны, Луны красных вишен, появился слух, что, хотя многие воины, участвовавшие в сражении у Сочной Травы, потихоньку возвращаются в различные агентства и резервации, люди Сидящего Быка и воины Шального Коня не расходятся, продолжая войну. Спустя несколько дней Одинокая Утка, воин из рода Сердитого Барсука (и еще один двоюродный брат Женщины Три Бизона), который не расставался с Шальным Конем уже три боевых сезона, приезжает сообщить, что Сидящий Бык и Шальной Конь попрощались – последние слова вождя, обращенные к более молодому воину, были такими: «Мы хорошо проведем время!» – и Сидящий Бык направит свои многочисленные семейства и относительно небольшое число молодых воинов зимовать в страну Бабушки (Бабушкой зовется королева Виктория) на дальнем севере, а Шальной Конь, чьи последователи почти все молодые воины, двигается в направлении Тощей горки, убивая вазичу, если они попадаются ему на пути.
Но потом приходит еще один слух, что вазичу пришли в бешенство, узнав о смерти Длинного Волоса и более чем двух сотен его людей. Отовсюду движутся колонны солдат. Воины приносят известия, что один из родов шайенна был атакован в долине к северо-западу от агентства Красного Облака подразделениями Пятого кавалерийского полка и солдаты теперь бахвалятся тем, что за тридцать один час преодолели восемьдесят пять миль, чтобы перехватить шайенна, которых даже не было на Сочной Траве и которые не имеют никакого отношения к смерти Кастера.
Проходящие мимо разведчики сообщают, что почти все остатки Седьмого кавалерийского вернулись в базовый лагерь у истоков Йеллоустон-ривер и, ожидая там приказа, пьют много виски (который привозят с низовьев реки разные пароходы). Лакота, шайенна и даже некоторые кроу, которые всегда были друзьями Кастера и его кавалерии, сообщают из агентств, что боятся мести бледнолицых.
Три Звезды, генерал Крук, которого Шальной Конь здорово побил на Роузбаде за девять дней до гибели Длинного Волоса, и командир Длинного Волоса генерал Терри, как сообщается, дождались подкреплений и вскоре двинутся вверх по Роузбад-Вэлли. Разведчики лакота в особенности подчеркивают то, что старый враг индейцев – разведчик по имени Коди, прославившийся убийством множества бизонов[33], – по прошествии многих лет вернулся в армию, чтобы помочь Круку, Терри и другим вазикунам найти лакота и шайенна и убить их.
Все в деревне согласны с тем, что Коди – достойный соперник и что его длинные, ниспадающие волной волосы, почти такие же роскошные, какие были когда-то у Длинного Волоса, будут достойно смотреться на шесте типи любого воина.
Несмотря на то что он почти не спит – ему мешает неугомонный, бубнящий и разговаривающий все ночи напролет голос внутри его, – Паха Сапа надеется, что остальные забудут о призраке из-за всей этой суматохи, страхов и ночных празднований, приходов и уходов людей из других родов.
Но призрак не забыт. Ирония судьбы в том, что само присутствие других родов, их вождей и шаманов теперь привлекает внимание к Паха Сапе и его призраку.
По мере того как надвигающиеся события начинают определять атмосферу на Великих равнинах, Паха Сапа видит и чувствует сумятицу, охватившую его маленькую тийоспайе, вигвамную группу. Вождь их рода, Сердитый Барсук, редко ведет себя в соответствии со своим именем. Лакота считают, что барсук – самое свирепое животное на земле, а его кровь обладает магическими свойствами. (Так, например, если посмотреть в сосуд с барсучьей кровью, то можно увидеть себя в далеком будущем.) Известно, что барсуки хватают лошадей и утаскивают в свои норы, а воины в ужасе смотрят на это.
Сердитый Барсук – невысокий, крепкого сложения человек, проживший около пятидесяти зим. Лицо у него широкое, плоское, женственное и почти всегда хмурое, но безудержный гнев оно выражает редко. Ему свойственны меланхолия и нерешительность, и он никогда не был Решателем – не входил в группу вождей, выбираемых ежегодно, чтобы осуществлять надзор за охотой родов оглала и для назначения акисита, племенной полиции. Он принимает решения с осторожностью и всегда полагается на мудрость ведущих воинов и охотников своего маленького рода, а в особенности на советы Сильно Хромает и старого, становящегося с каждым годом все более немощным Громкоголосого Ястреба.
А теперь, когда знаменитые воины, их телохранители и сражающиеся роды наводнили Тощую горку и южное разветвление Гранд-ривер, куда Сердитый Барсук привел своих людей для охоты на бизонов до наступления зимы, вождь стал совсем невменяемым.
В молодости Сердитый Барсук был отважным воином – род сочинил песни, увековечивающие его деяния, – но вождь он плохой, и свежесть его юношеских подвигов увядает все сильнее с каждой осенью, прошедшей с тех пор, как он в последний раз выходил на тропу войны. Паха Сапа, которому до одиннадцати зим осталось подождать совсем немного, поражается личностям тех, кто ненадолго останавливается в их тийоспайе или разбивает стоянку неподалеку. (Несколько десятилетий спустя, читая «Илиаду» Гомера в переводе Чапмана[34], взятую из библиотеки Доана Робинсона, Паха Сапа проникается симпатией к Сердитому Барсуку, когда доходит до того места, где Агамемнон испытывает чувство зависти в присутствии Ахилла и других героев-полубогов.)
Среди знаменитых воинов, что находятся теперь на расстоянии нескольких часов или дней езды от их деревни, есть и сам Шальной Конь – харизматичный воин, который грозится сместить Сидящего Быка с поста военного вождя, потому что пожилой вождь бежит в страну Бабушки, тогда как Шальной Конь вместе с некоторыми из своих друзей и единомышленников, наводящих ужас на бледнолицых, продолжает ежедневно атаковать и убивать вазичу. Среди пришедших – Черная Лиса и Собака Идет, отважные Беги Бесстрашно, Лягающийся Медведь, Бык Больное Сердце и Летающий Ястреб. Каждый из них – глава или вождь воинов, по праву заслуживший свое положение, и за каждым тянется след собственных легенд, как за Ахиллом с его мирмидонянами[35]. Кроме подчиненных Шальному Коню вождей его сопровождают группы акисита, телохранителей из племенной полиции, у каждого из них боевая раскраска и внешний вид более броские, чем у Шального Коня, и среди них Смотрящий Конь, Короткий Бык и Низкая Собака из народа оглала, а также странноватый миннеконджу Пролетая Мимо, который так жаждет разделить растущую военную славу Шального Коня, что, говорят, поскакал бы на восток, чтобы попытаться захватить самого Бледнолицего Отца, если бы Шальной Конь ему приказал.
Другие вожди акисита, которые приходят на южное разветвление Гранд-ривер в то знойное, влажное, грозовое лето, – это близкие друзья Шального Коня: Лягающийся Медведь и Маленький Большой Человек. Последний (названный так за невысокий рост и коренастое сложение; шрамы от танца Солнца на груди Маленького Большого Человека такие жуткие, каких Паха Сапа еще не видел, а Маленький Большой Человек ходит обнаженным по пояс до самого глубокого снега, когда демонстрировать их уже трудновато из-за холода) пользуется особой славой среди лакота, и, как только он появляется, женщины, дети и старики из рода Сердитого Барсука собираются и толкаются, чтобы увидеть воина и прикоснуться к нему. (Паха Сапа слушает, как Маленький Большой Человек у главного костра в первую ночь приезда рассказывает о своих подвигах на Сочной Траве, и думает, что такая нескромность выглядит неподобающе рядом с молчанием Шального Коня и его нежеланием говорить о своих победах, но мальчик понимает, что эти двое взаимно дополняют друг друга. Маленький Большой Человек – гроза и воспитатель недисциплинированных или непослушных молодых воинов, которые следуют за ними; Шальной Конь – молчаливая и наводящая страх живая легенда.)
Сердитый Барсук, который не участвовал ни в сражении на Сочной Траве, ни в сражении с Круком на Роузбаде неделей ранее, поскольку предпочел остаться со своим маленьким родом и вести его на север после добычи последнего в этот сезон бизона, хранит молчание и хмурится во время этих визитов.
История сражения на Сочной Траве и уничтожения Пехина Хански – Длинного Волоса, Кастера, все больше сводится к поединку между Пехином Хански и Шальным Конем и все меньше – к руководству Сидящего Быка, который на восемь зим старше Длинного Волоса и был слишком ослаблен жертвоприношениями своей плоти во время танца Солнца, а потому не мог участвовать в сражении. Паха Сапе с помощью Сильно Хромает становится все понятнее, что видение Сидящего Быка всегда будет считаться чудом, вакан, а руководство Шального Коня и его участие в сражении в тот день превращается в ту материю, из которой создаются боги.
И конечно, в ходе своего первого четырехдневного пребывания в тийоспайе Сердитого Барсука (вдоль ручья, текущего у Тощей горки, было возведено двадцать новых вигвамов – больше, чем было во всей деревне) Шальной Конь узнает, что во время схватки на Сочной Траве в мальчика Паха Сапу вселился призрак, и военный вождь выражает желание встретиться с мальчиком в вигваме Сильно Хромает. Паха Сапа приходит в ужас. Он прекрасно помнит выражение отвращения на лице Т’ашунки Витко в день сражения, когда почти обнаженный воин хейока нашел Паха Сапу, который, целый и невредимый, лежал на холме среди мертвых и никак не мог набрать воздуха в легкие.
Но пусть и охваченный ужасом, Паха Сапа понимает, что встреча в вигваме Сильно Хромает с Шальным Конем на следующий вечер после первого приезда военного вождя – это большая честь.
Погода стоит невероятно жаркая и влажная, и хотя с заходом удлиняются тени от редких тополей, типи, лошадей и травы, сумерки не приносят облегчения от жары. Тяжелые грозовые тучи собираются на юге, севере и востоке. Боковины типи подняты настолько высоко, насколько это позволяют правила приличия и личной жизни (в вигваме Сильно Хромает – почти на длину руки взрослого человека), но под тяжелыми крашеными шкурами не чувствуется ни малейшего дуновения ветерка.
Паха Сапа удивлен, что допрос ему учинять собираются только Шальной Конь, один из его помощников Беги Бесстрашно, их собственный вождь Сердитый Барсук, шаман Долгое Дерьмо, старый Громкоголосый Ястреб и Сильно Хромает. Женщин из вигвама отослали. Хотя известно, что Шальной Конь любит уединение и нередко бродит в одиночестве целыми днями, а то и неделями, за время его посещения тийоспайе Сердитого Барсука не было ни одного мгновения, когда его не окружали бы телохранители, другие вожди, воины и люди Сердитого Барсука. Почему-то тот факт, что здесь только Шальной Конь, Беги Бесстрашно, Долгое Дерьмо, Громкоголосый Ястреб и тункашила Паха Сапы, вселяет в мальчика еще больший страх. Ноги у него дрожат под лучшими его штанами из оленьей шкуры.
Сильно Хромает представляет его, хотя Паха Сапа мельком уже и был представлен Шальному Коню на Сочной Траве. После этого шесть мужчин и мальчик садятся в кружок. Шкуры вигвама опущены пониже для вящей конфиденциальности, и в душном, застоялом воздухе с носов и подбородков собравшихся капает пот.
Разговор начинается без трубки, без церемонии, без вступления. Шальной Конь мрачно смотрит на Паха Сапу с таким же безразличием и явно с таким же отвращением, с какими он смотрел на него двумя неделями ранее на поле боя. Начав говорить, он обращает вопросы напрямую к Паха Сапе, и голос у военного вождя тихий и властный.
– Долгое Дерьмо и другие говорят мне, что ты можешь видеть прошлое и будущее людей, если прикоснешься к ним. Это верно?
Сердце у Паха Сапы колотится как сумасшедшее, от этого даже голова начинает кружиться.
– Иногда…
Он хотел прибавить почтительное обращение к своему ответу, но «ате» – «отец», кажется ему, не подходит этому свирепому человеку. Он оставляет свой ответ без обращения, надеясь, что не получит удар кулаком по носу за неуважение.
– А правда ли, что призрак вазикуна вошел в тебя неподалеку от того места, где я видел тебя во время сражения на Сочной Траве в тот день, когда мы убили Пехина Ханску, – ты там валялся без всякого дела?
– Да, Т’ашунка Витко.
Паха Сапа надеется, что произнесение имени Шального Коня с должным уважением заменит почтительное обращение.
Хмурое выражение на лице Шального Коня не меняется.
– И это был призрак Длинного Волоса?
– Не знаю, Т’ашунка Витко.
– Он говорит с тобой?
– Он говорит… сам с собой. В особенности по ночам, когда я слышу его лучше всего.
– И что он говорит?
– Я не знаю, Т’ашунка Витко. Он произносит много слов и очень быстро, но все эти слова на языке вазикуна.
– И ты не понимаешь этих слов?
– Нет, Т’ашунка Витко. Прости меня.
Шальной Конь качает головой, словно извинение Паха Сапы злит его.
– Есть ли такие слова, которые призрак повторяет много раз?
Паха Сапа облизывает губы и задумывается. Со стороны Черных холмов доносится удар грома. Где-то смеется ребенок. Раздаются визгливые голоса двух женщин, словно они играют в какую-то игру. В тяжелом летнем воздухе Паха Сапа чувствует запах конского пота и навоза.
– Есть одно слово… Ли-Би… Т’ашунка Витко. Призрак повторяет его снова и снова. Ли-Би. Но я понятия не имею, что оно значит. Он произносит его с болью, будто оно источник раны.
Шальной Конь смотрит на Беги Бесстрашно, Долгое Дерьмо, Громкоголосого Ястреба, но ни вождь, ни шаман не знают этого слова вазичу. Сердитый Барсук тоже качает головой, он, кажется, раздражен и Паха Сапой, и вообще разговором. Шальной Конь переводит свирепый взгляд на тункашилу Паха Сапы, но Сильно Хромает только пожимает плечами.
Тогда Шальной Конь гаркает, поворачиваясь к Беги Бесстрашно:
– Приведи сюда кроу.
Возвращаясь, Беги Бесстрашно толкает и тащит пленника кроу. Руки пленника связаны спереди, а ноги спутаны, как у стреноженного коня. Паха Сапа сразу же догадывается, что это один из разведчиков кроу, продавшихся Седьмому кавалерийскому, он был захвачен в плен воинами Шального Коня на Сочной Траве и пока что оставлен в живых. Его лицо распухло и в синяках, один глаз, кажется, затек навсегда, и кто-то играючи пытал пленника – три пальца на его правой руке отсутствуют, одно ухо и два пальца на левой руке отрезаны.
Не в первый раз (и не в последний) Паха Сапа чувствует внутри себя странную реакцию: волну отвращения или, возможно, неодобрения – но это не его реакция. Тот Паха Сапа, который прожил почти одиннадцать зим, не чувствует сострадания к плененному врагу. И это явно не реакция поселившегося в нем призрака – Паха Сапе не передаются эмоции или мысли призрака, он слышит только его бесконечные разговоры на языке вазичу. Нет, скорее, это другой, может быть, постаревший Паха Сапа внутри Паха Сапы нынешнего, который всегда наблюдает и реагирует на происходящее несколько иначе, чем мальчик по имени Паха Сапа. Это беспокоит его.
– Вот один из разведчиков Длинного Волоса, – говорит Шальной Конь. – Жаль, что нам не удалось взять в плен тех четырех, что были ближе других к Длинному Волосу, – Кудрявого, На Побегушках-у-Бледнолицего, Идет Впереди и Волосатого Мокасина. Имя этого не имеет значения.
Кроу кряхтит, словно подтверждая имена других разведчиков. Паха Сапа видит, что у пленника отсутствуют все передние зубы.
Шальной Конь поворачивается к Беги Бесстрашно.
– Спроси его на языке кроу, не знал ли Длинный Волос кого-то по имени…
Он смотрит на Паха Сапу.
– Ты слышал какое-то имя вазичу в снах своего призрака? Какое?
Сердце Паха Сапы бешено колотится.
– Ли-Би.
Беги Бесстрашно задает вопрос на языке кроу. Некоторые слова Паха Сапа узнает (языки лакота и кроу родственны), и потом Беги Бесстрашно повторяет вопрос на разный манер.
На лице кроу появляется неторопливая улыбка. Он произносит короткую фразу, которая вызывает явное недовольство Беги Бесстрашно.
– Что он сказал? – нетерпеливо спрашивает Шальной Конь.
– Он говорит: «Зачем мне сообщать вам что-то о Длинном Волосе? Вы все равно будете пытать меня, а потом убьете».
Шальной Конь достает длинный нож из ножен, украшенных бусинами.
– Скажи ему: если он ответит честно и скажет все, что знает, то умрет быстро, как мужчина. Если нет, то у него не останется мужского достоинства, с которым он мог бы умереть.
Улыбка исчезает с лица кроу. Он выкрикивает какие-то слова, и Беги Бесстрашно повторяет…
– Ли-Би.
Несмотря на боль, кроу вроде бы опять улыбается. Сквозь распухшие губы и десны он, словно пережеванную кашу, выплевывает несколько предложений.
Беги Бесстрашно несколько секунд смотрит на кроу, прежде чем перевести.
– Он говорит, что это слово часто произносилось в форте и на марше. Эта Ли-Би – женщина Длинного Волоса, его женщина. Элизабет Бекон Кастер. Длинный Волос называл ее Ли-Би.
Все взрослые в вигваме, включая кроу, какое-то мгновение хранят молчание. Они по-новому смотрят на Паха Сапу.
Долгое Дерьмо нарушает молчание за секунду до того, как новый удар грома прокатывается по деревне. Звук такой низкий и громкий, что шкуры на типи вибрируют, как кожа на барабане.
– Черные Холмы носит в себе призрака Длинного Волоса Кастера.
Шальной Конь кряхтит и вполголоса говорит, обращаясь к Беги Бесстрашно:
– Выведи кроу и убей его. Одной пулей. В голову. Скажи ему, что его тело не будет искалечено, его похоронят, как положено. Он заслужил смерть воина.
Кроу, кажется, понял слова Шального Коня и, когда Беги Бесстрашно выводит его, ковыляющего, начинает бормотать слова своей песни смерти.
Сильно Хромает, шевельнувшись, начинает говорить:
– Ты же не поверил этому человеку, Т’ашунка Витко. У этого кроу есть все основания, чтобы солгать тебе. Откуда третьестепенному разведчику может быть известно имя женщины Длинного Волоса?
Шальной Конь в ответ на это только кряхтит. Снаружи доносится короткий, глухой звук пистолетного выстрела. Постоянный фоновый шум деревни – привычный, успокаивающий и неслышный, как и неизбежный треск кузнечиков поздним летом здесь, на равнине, – на секунду стихает. Шальной Конь продолжает смотреть на Паха Сапу.
– Теперь выйдите все. Я хочу поговорить с мальчиком с глазу на глаз.
Паха Сапа чувствует, что Сильно Хромает не хочет выходить, он перехватывает взгляд своего дедушки, видит его, не может понять, что пытается сказать шаман этим взглядом, но Долгое Дерьмо, Сердитый Барсук, Громкоголосый Ястреб и Сильно Хромает встают и выходят, закрывая за собой клапан типи.
Паха Сапа смотрит в глаза Шального Коня и думает: «Этот человек может меня убить».
Шальной Конь подсаживается поближе к мальчику и хватает его за плечо. Сильно хватает.
– Ты можешь видеть будущее человека, Черные Холмы? Можешь?
– Я не знаю, Т’ашунка Витко. Думаю, что могу. Иногда…
Шальной Конь встряхивает десятилетнего Паха Сапу так, что зубы его стукаются друг о дружку, как семена в тыкве.
– Можешь или нет? Видишь ли ты судьбу человека? Да или нет?
– Я думаю, что иногда могу, Т’ашунка Витко…
Шальной Конь еще сильнее встряхивает Паха Сапу, потом с такой силой хватает его за руку, что тому кажется, кости его вот-вот треснут.
– К черту твое «иногда»! Скажи мне одну вещь, которую я должен знать. Умру ли я от рук вазичу? Ответь «да» или «нет», или клянусь Ваканом Танке и существами грома, которым я служу, что сегодня же убью тебя. Умру ли я от руки какого-нибудь вазикуна из вазичу? Да или нет?
Шальной Конь тянет раскрытые руки Паха Сапы к своей мощной, мускулистой и покрытой шрамами груди и с силой прижимает к себе маленькие пальцы и ладони.
Паха Сапа вздрагивает, словно его ударила молния. Воздух внутри типи внезапно начинает пахнуть озоном. Глаза мальчика под трепещущими веками закатываются, и он предпринимает слабую попытку отодвинуться от Шального Коня, но тот крепко держит его. Из далекого далека Паха Сапа слышит раскат настоящего грома и не менее низкое требовательное рычание Шального Коня:
– Умру ли я от рук вазичу? Убьет ли меня бледнолицый? Да или нет?
Это похоже на другие видения, которые были у Паха Сапы: вспышки образов, взрывы звуков, странное отсутствие цвета и связного содержания, отсутствие возможности влиять, отсутствие понимания того, что происходит, где и когда, – но на сей раз черно-белые образы становятся четче, быстрее и ужаснее.
Паха Сапа чувствует страх и отчаяние Шального Коня. По мятущимся, испуганным, непокорным, скачущим мыслям Шального Коня он узнает лица и вспоминает имена.
Они находятся в некоем подобии лагеря вазичу – в форту, укреплении, агентстве, но Паха Сапа никогда не видел такого места и не узнает его, и все более отчаянные мысли Шального Коня не дают ему никакой подсказки. Стоит жара, как летом или очень ранней осенью, но какой это год, Паха Сапа не знает. Он видит глазами Шального Коня, но одновременно он находится выше напирающей толпы, смотрит на Шального Коня и окружающих его сверху, словно он, Паха Сапа, видит все глазами ворона или воробья, а потому ему ясно, что Шальному Коню почти столько же лет, сколько сейчас, вот в это мгновение, когда он трясет Паха Сапу и прижимает его внезапно похолодевшие ладони к своей груди воина и…
– Я пленник?
Это Литл-Бордо-Крик в пятнадцати милях от того места, где разведчики заявились в лазарет, там царят шум и гам; на Шардон-Крик пасется скот. Лакота на коне. Теперь они в лагере, вокруг бревенчатые здания, две сотни, три сотни индейцев лакота, но еще бруле и другие: Большая Дорога, Железный Ястреб, Поворачивающийся Медведь, миннеконджу Деревянный Нож, какой-то вазикун… Звуки «ка-пи-тан Кен-нинг-тон» стучат в мозгу Паха Сапы, как удары томагавком… и еще бруле: Быстрый Медведь, Черный Ворон, Воронова Собака, Стоячий Медведь… Бордо, переводчик Билли Гарнет… и Коснись Облаков с сыном, а еще Быстрый Гром… ведут Шального Коня, люди кричат, Шального Коня тащат в одно из строений форта вазичу… на страже стоят солдаты в синих мундирах…
– Что это за место?
Кто это кричит – Шальной Конь? Паха Сапа не знает. Он пролетает над массой голов: черные волосы, скрученные в косички, широкополые, пропитанные потом шляпы, перья; а теперь он снова внизу, перед глазами Шального Коня, которого тащат вперед, вперед, в маленький дом Маленький Большой Человек и ка-пи-тан Кен-нинг-тон.
– Я не пойду туда.
Толкотня. Вопли. Крик разведчика: «Иди! Пистолет у меня! Делайте с ним что хотите!» Шальной Конь пытается вырваться из цепких рук, прыгает вперед – прочь из темноты, к свету. Маленький Большой Человек кричит: «Племянник, не делай этого! Не делай этого, племянник! Племянник! Нет! Не делай этого!»
– Отпустите меня! Уберите руки… Отпустите… меня!
Поднимаются клинки, поднимаются ружья. Это штыки вазичу на ружьях в руках вазичу. Шальной Конь достает свой нож для резки табака, вспарывает плоть Маленького Большого Человека между большим и указательным пальцами. Маленький Большой Человек вскрикивает, а Шальной Конь принимается полосовать его предплечье ножом, представляя себе при этом, что срезает длинные полоски мяса с белой оленьей кости.
– Убейте этого мерзавца! Убейте этого мерзавца! Убейте эту сволочь! Убейте его! Убейте его! Убейте этого мерзавца! – это кричит Кен-нинг-тон.
Это язык призрака, поселившегося в Паха Сапе, и он все еще не понимает этого языка. Но видит, чувствует и понимает, как в лицо Шального Коня попадает плевок, а вазикун тем временем продолжает кричать солдатам в синих мундирах и охранникам с поднятыми ружьями и штыками.
Возможно, охранник вазичу за спиной Шального Коня хочет только подтолкнуть его штыком, но Шальной Конь в этот миг резко подается назад, теряет равновесие, и клинок, который должен был лишь разорвать одежду на Шальном Коне над его левой ногой, вонзается в нижнюю часть спины военного вождя, а дальнейшее движение загоняет сталь еще глубже – в почки и кишечник. Шальной Конь мычит. Паха Сапа вскрикивает, но продолжает, словно птица, парить наверху, под крышей, – парить и в то же время видеть глазами Шального Коня.
Накатывает красная волна, Шальной Конь мычит от боли. Охранник вазичу выдергивает штык, приклад ударяется о бревенчатую стену внутри сторожевой будки, а потом (словно придя в ужас, как и все остальные, но осененный ужасным деянием), будто по команде (на раз, два, три – но только молча), вазичу снова тычет штыком, острие которого глубоко уходит в тело Шального Коня между ребрами и вверх в захрипевшее левое легкое (отчего вождь на несколько мгновений теряет дыхание и дар речи), после чего охранник, крякнув, снова вытаскивает штык, сталь легко и безразлично выходит из кровоточащей плоти Шального Коня.
– Отпустите меня теперь.
Это негромкий голос Шального Коня среди воплей, криков, суеты, толкотни и воплей.
– Отпустите меня теперь. Вы меня убили.
Стражник вазичу заходит спереди, выставляя ружье перед собой, и снова наносит удар, теперь уже спереди и в направлении живота Шального Коня. Но клинок под рукой Шального Коня проходит мимо и втыкается в дерево дверного косяка. Маленький Большой Человек держит другую руку Шального Коня и кричит, обращаясь к вазичу, призывая их сделать что-нибудь – вонзить в него штык еще раз?
Дядюшка Шального Коня, миннеконджу по имени Меченая Ворона, хватает заклиненное ружье, высвобождает клинок и бьет прикладом длинного ружья в живот Маленького Большого Человека, отчего низкорослый предатель, охнув, падает на четвереньки.
– Ты уже и раньше так поступал! Ты всегда суешься!
Это кричит Меченая Ворона, а Шальной Конь в этот момент падает на руки Быстрого Медведя и двух других. Один из этих троих высокомерно, безумным голосом говорит раненому воину:
– Мы тебе говорили, чтобы ты держал себя в руках! Мы тебя предупреждали!
Шальной Конь стонет и наконец сгибается, оседает и падает. Ощущение такое, что его движение занимает несколько долгих минут. Слышно, как окружающие вазичу загоняют патроны в патронники, взводят бойки. Шальной Конь протягивает обе свои окровавленные ладони к людям вокруг – индейцам и бледнолицым.
– Видите мои раны? Видите? Я чувствую, как кровь вытекает из меня!
Бруле Закрытое Облако приносит одеяло, укрывает им умирающего вождя, но Шальной Конь хватает бруле за косы и начинает трясти его, хотя при этом и сам в боли и ярости дергает головой.
– Вы все заманили меня сюда. Вы все говорили мне, чтобы я пришел сюда. А потом вы убежали и оставили меня! Вы все оставили меня!
Пес берет одеяло из рук Закрытого Облака, складывает его в подушку и подсовывает под голову Шального Коня. Потом Пес снимает с плеча собственное одеяло и накрывает им упавшего воина.
– Я отвезу тебя домой, Т’ашунка Витко.
После этого Пес уходит по плацу в направлении здания.
Паха Сапа закрывает глаза, внутренние и внешние, и теперь больше не может видеть. Но он все равно продолжает видеть. Он кричит, чтобы не слышать того, что слышит.
Он приходит в себя и видит Шального Коня, который стоит над ним, опустившись на одно колено, как он делал это на Сочной Траве, но на лице воина еще более свирепое выражение, чем тогда, похожее на отвращение, которого он не скрывал на поле боя. Шальной Конь брызгает водой из кувшина в лицо Паха Сапе.
– Что ты видишь, Черные Холмы? Ты видишь мою смерть?
– Не знаю! Я не могу… Это не… Не знаю.
Шальной Конь еще сильнее встряхивает Паха Сапу, и от этого резкого движения мальчик клацает челюстями.
– Я умру от руки вазичу? Вот что мне нужно знать!
Шальной Конь с таким неистовством встряхивает и бьет по лицу Паха Сапу, что концовка воспоминаний мальчика смазывается. Этого не могли сделать даже зажмуренные глаза и закрытые уши. Паха Сапа готов разрыдаться. Мало того что в него вселился призрак, который бубнит и мямлит что-то по ночам, теперь Паха Сапа знает, что поток ощущений и воспоминания, которые влились в него во время контакта с Шальным Конем, почти наверняка представляют собой все воспоминания этого необычного воина с раннего детства до самой его смерти, которая произойдет через несколько секунд после окончания видения Паха Сапы. Нет сомнений в том, что рана, нанесенная Шальному Коню штыком бледнолицего солдата, будет смертельна.
– Не знаю! Я не видел… окончания… завершения, Т’ашунка Витко.
Шальной Конь бросает Паха Сапу на шкуры и одежды и вскакивает на ноги. Его смертоносный нож у него в руке, глаза горят безумным блеском.
– Ты лжешь мне, Черные Холмы. Ты знаешь, но боишься сказать. Но ты мне скажешь. Я тебе обещаю – скажешь.
Воин разворачивается и выходит. И теперь Паха Сапа начинает рыдать, он плачет, уткнувшись лицом себе в руку, чтобы Сильно Хромает и другие у вигвама не услышали этого. Он не видел, сколько времени будет Шальной Конь умирать от штыковой раны… и Шальной Конь в отрывочных видениях Паха Сапы был немногим старше того человека, который только что вышел из типи, может быть, на год, не больше чем на два… но что Паха Сапа видел, так это абсолютную решимость в сердце и мыслях Шального Коня, когда военный вождь заставил его использовать свой дар.
Шальной Конь собирается убить Паха Сапу, скажет ему мальчик правду о его будущем или нет.
Паха Сапе выделили отдельный вигвам за пределами деревни. Сильно Хромает приходит к нему тем же вечером, позднее. Шальной Конь и его люди ускакали в собственную тийоспайе, но вождь сказал, что вернется к полудню следующего дня вместе с Долгим Дерьмом и другими вичаза ваканами, чтобы определить, что за вазикун поселился в мальчике, а потом изгнать призрака, даже если на церемонию изгнания потребуется несколько недель. Паха Сапе сказали, что он должен поститься и очиститься в парилке, которую воздвигли рядом с его отдельно стоящим типи.
– Дедушка, я видел, что Т’ашунка Витко собирается меня убить.
Сильно Хромает кивает и кладет свою громадную руку на худенькое плечо Паха Сапы.
– Я согласен с тобой, Черные Холмы. У меня нет твоей способности видеть прошлое или будущее, но я согласен, что Шальной Конь убьет тебя, если ты скажешь ему, что он падет от руки вазичу или что он не падет от руки вазичу. И даже если ты будешь хранить молчание. Он уверен, что вселившийся в тебя призрак – это призрак Длинного Волоса, а Шальной Конь боится его. Он хочет, чтобы этот призрак умер вместе с тобой.
Паха Сапа стыдится своих девчоночьих слез. Теперь он чувствует себя опустошенным и совсем маленьким.
– Что мне делать, дедушка?
Сильно Хромает выводит его из типи. В сотне шагов отсюда на северной границе деревни сверкают костры. Лает собака. Перекликаются два парня, которые охраняют лошадей, пасущихся по другую сторону ручья. На тополе у ручья ухает сова. Надвинулись низкие тучи, словно серое одеяло, накрывшее луну и звезды. С юга продолжают доноситься ворчливые раскаты грома, но еще не упало ни одной капли дождя. Невыносимая жара.
Паха Сапа понимает, что в темноте стоят две лошади. Любимый конь Сильно Хромает по кличке Червь, превосходный скакун чалой масти, а рядом – кобыла с широкой спиной, принадлежащая Женщине Три Бизона. Кобыла навьючена аккуратно привязанными одеждами и утварью, а на Черве собственное одеяло Паха Сапы, лук, колчан со стрелами, копье и другие принадлежности.
Сильно Хромает показывает на юг.
– Ты должен покинуть деревню сегодня. Возьмешь Червя и кобылу – Женщина Три Бизона называет ее Пеханска. Ты должен ехать на итокагата, на юг, мимо Медвежьей горки на Черные холмы. Езжай подальше в Черные холмы, но будь осторожен – разведчики Шального Коня и Сердитого Барсука говорят, что бледнолицые за последние несколько лун наводнили наши священные холмы и даже построили там города. Шальной Конь поклялся перед всеми, что на следующей неделе он отправится на Черные холмы и будет убивать там всех вазичу, какие ему попадутся.
– Дедушка, если Шальной Конь и его воины скоро отправятся на Черные холмы, почему ты и меня посылаешь туда? Не безопаснее ли мне отправиться на север, в страну Бабушки?
– Безопаснее. И я скажу Шальному Коню, что дал тебе моих лошадей, чтобы ты отправился в страну Бабушки.
– Он убьет тебя за то, что ты помог мне, тункашила.
Сильно Хромает кряхтит и качает головой.
– Нет, не убьет. Это развязало бы войну между родами, а Шальной Конь хочет убить в этом году тысячу вазичу, а не других лакота. Пока что. А ты должен ехать в Черные холмы, потому что там ты пройдешь ханблецею… Твое видение должно посетить тебя там – и только там. Это я точно знаю. Ты помнишь все, что я рассказывал тебе о самоочищении, строительстве парилки и молитве шести пращурам?
– Я помню, дедушка. А когда я смогу вернуться?
– Только после успешной ханблецеи, Паха Сапа. Даже если на это уйдут недели или месяцы. Но когда будешь скакать на юг, а потом назад, на север, будь осторожен – по возможности не поднимайся на хребты, прячься в ивах, выбирай путь по руслам ручьев, веди себя так, будто ты в стране пауни. И Шальной Конь, и вазичу убьют тебя, если только ты им попадешься. Наша стоянка будет где-нибудь между Тощей горкой и страной арикара на севере, но, даже возвращаясь в деревню, будь осторожен… Спрячься и наблюдай за деревней не меньше дня, ночи и еще дня, пока не убедишься, что там безопасно.
– Хорошо, дедушка.
– А теперь езжай.
Сильно Хромает подсаживает мальчика на Червя, дает ему поводья Пехански – Белой Цапли – и вглядывается в полуночную темень на юге.
– Я думаю, сегодня ночью начнется гроза и дождь будет идти много дней. Это хорошо. Шальному Коню будет трудно выследить тебя, а он всегда считался неважным следопытом. Но ты езжай на запад, куда повернет ручей на юге от Тощей горки, и как можно дольше оставайся в воде, а после этого старайся ехать по жесткой, каменистой земле. Если почувствуешь что-то не то – прячься. До свидания, Паха Сапа.
– До свидания, дедушка.
– Токша аке чанте иста васиньянктин ктело, Паха Сапа («Я увижу тебя снова глазами моего сердца, Черные Холмы»).
Сильно Хромает разворачивается и спешит назад, в освещенную кострами деревню. Причмокнув, чтобы лошади вели себя тихо, Паха Сапа поворачивает их на юго-запад и скачет в ночь.
10. Джордж Армстронг Кастер
Либби, дорогая моя.
Я лежал здесь, в целительной темноте, и вспоминал, как ты выглядела, когда я познакомился с тобой (официально познакомился, потому что видел я тебя еще маленькой девочкой и даже восхищался тобой в прежние годы, еще до Монро) в 1862 году на вечеринке в День благодарения в школе-пансионе для девочек. В ту ночь твои темные волосы, все в аккуратных кудряшках, ниспадали на твои голые плечи. Я помню, как был поражен, увидев темные росчерки твоих бровей над умопомрачительными, выразительными глазами и как даже при малейшей и самой целомудренной из улыбок у тебя на щеках появлялись ямочки. Той осенью тебе был двадцать один, и ты уже перестала быть худенькой девочкой в синем передничке, которую я видел время от времени на главных улицах Монро, – теперь ты созрела и налилась. Платье, которое было на тебе в вечер Дня благодарения, имело достаточно низкий вырез, чтобы я мог оценить твою пышную грудь. А осиную талию можно было обхватить пальцами двух рук.
Ты помнишь последнюю осень, наш отпуск, который мы проводили в Нью-Йорке, уехав из Форт-Линкольна? Мы были так бедны (за все годы службы и, как могли бы сказать некоторые, годы славы я так и не научился извлекать материальные выгоды из службы отечеству), так бедны, что нам пришлось остановиться в жутком пансионе и ездить на различные приемы и обеды в холоднющих, продуваемых всеми ветрами конках, потому что на кеб у нас не хватало денег. У меня был гражданский костюм. Единственный. У тебя было несколько милых платьев для балов и приемов, но ты их надевала, чинила, изменяла понемногу в течение многих сезонов и таскала за собой в сундуке по прерии.
Ты помнишь, что в ту холодную осень и еще более холодную зиму в Нью-Йорке мы сорок раз ходили смотреть постановку «Юлия Цезаря» – не потому, что тебе или мне так уж нравилась эта пьеса (я в конечном счете возненавидел ее), а потому, что актер и наш друг Лоренс Баррет[36] оставлял нам две контрамарки каждый раз, когда выходил на сцену. Мы сорок раз выстрадали «Юлия Цезаря» в те холодные месяцы, потому что это было бесплатно и давало нам возможность выбраться из шумного, переполненного, провонявшего едой пансиона.
А помнишь тот декабрь, редкую тихую ночь в номере нашего пансиона, когда, казалось, все, кроме нас, ушли, мы с тобой лежали в кровати и говорили о том, что жаль, нам не довелось встретиться в детстве?
– И что бы ты сделал со мной, если бы узнал меня, когда я еще писалась в кроватку? – спросила ты.
– Соблазнил бы, – прошептал я. – Сразу же занялся бы с тобой любовью.
А потом, помнишь, моя дорогая, ты попросила меня выбрить твой восхитительный лоскуток черных волос с помощью моей полевой бритвы и пансионного мыла для бритья. И ты помнишь, как я зажег дополнительную свечу и установил маленькое зеркальце – по твоей просьбе, чтобы ты могла наблюдать за изменениями по ходу дела. Ах, как ты мне доверяла, моя дорогая. И как тебя пробрала дрожь наслаждения, как ты зарделась, когда я поцеловал твой ставший бледным и безволосым лобок, а потом стал целовать ниже.
И когда мы сидели в ложе во время очередного представления «Юлия Цезаря» или приезжали в дом к какому-нибудь генералу или политику – я был генералом-мальчишкой, возможно, самым молодым генералом во время войны и весьма востребованным, как и ты из-за твоей красоты, – ты сжимала мою руку, не глядя на меня, и покрывалась самым обаятельным румянцем, и я знал, что ты думаешь о своем бритом лобке под шелковым платьем и нижними юбками. И мы оба думали только об одном: скорей бы закончились пьеса или прием и мы вернулись в наше маленькое святилище в мерзком пансионе.
Моя дорогая Либби.
Я вспоминаю осень три года назад, после моей Йеллоустонской кампании, когда ты наконец приехала ко мне в Форт-Авраам-Линкольн. Каркасный дом, который построили для нас солдаты, был прекрасен, фактически это был наш первый с тобой настоящий дом.
В первую субботу там мы с тобой поднялись до рассвета и поскакали далеко-далеко по дакотской равнине – солнце еще не успело взойти, а форт уже потерялся вдали. Ты была недовольна, потому что, согласно правилам приличия, для тебя приготовили дамское седло, тогда как ты предпочитала ездить по-мужски. К девяти часам мы были очень далеко в прерии, повторяя приблизительно петляющий маршрут маленького поезда, который пыхтел, направляясь на восток к Бисмарку, форту и реке Миссури. Если не считать короткой общипанной травы, полыни и юкки, то единственными признаками жизни здесь были несколько ив вдоль жалкого маленького ручейка.
Мы встретили одного бизона, и я попросил тебя отойти назад, собираясь пристрелить его, но ты ехала вплотную за мной, держась свободной рукой за седельный рожок, а лошадь твоя скакала быстрее, чем позволительно скакать даме на таком седле. Бизон был настолько старым и, возможно, настолько одиноким, что он, вяло пробежав неровным шагом с милю, просто остановился посреди прерии, опустил голову и время от времени рассеянно принимался жевать короткую травку – словом, вел себя так, будто мы не представляли для него никакой угрозы.
Мы с тобой спешились. Ты держала поводья обеих лошадей, а я достал из чехла свой, изготовленный по особому заказу, спортивный «ремингтон». Ни дерева, ни ветки, чтобы опереться, здесь не было, и я опустился на колено и прицелился из моего относительно короткоствольного, но тяжелого ружья.
Спортивный «ремингтон» № 1 стал моим любимым ружьем во время Йеллоустонской экспедиции, когда я убивал из него антилоп, бизонов, лосей, чернохвостых оленей, белых волков, гусей и тетеревов с расстояния в шестьсот тридцать ярдов. (Признаюсь тебе, Либби, что от тетеревов при попадании в них пули весом двадцать семь граммов калибра 0,50 с семьюдесятью гранами черного пороха оставались только пух да перья.) Калибр 0,50–0,70 позволил мне свалить сорок одну антилопу с расстояния в двести пятьдесят ярдов, а потому у меня не было сомнений, что я свалю и этого старого бизона, – ведь расстояние было меньше ста ярдов.
Хватило всего одной пули прямо в сердце. Этот древний бык свалился так, словно только и думал о том, как бы ему поскорее покинуть сей мир, в котором он так одинок.
Когда мы с тобой подъехали к убитому животному, ты сказала:
– И что ты будешь делать теперь, дорогой?
А я ответил:
– Ну, пришлю людей, чтобы вырезали мясо, хотя я думаю, что у такого старика оно будет жестковато. Но голова великолепна.
– А что бы стали делать индейцы? – спросила ты.
– Индейцы? – удивленно переспросил я. – Ты имеешь в виду сиу или шайенна?
– Да, – ответила ты, нежно улыбаясь мне. День стоял жаркий, под нами поскрипывали седла, на кровь мертвого бизона уже начали слетаться мухи.
– Индейцы тут же разрезали бы ему брюхо и съели бы всю или часть печени этого бедняги, – сказал я.
Ты соскользнула со своего седла и посмотрела на меня. Твое лицо, светившееся в ясных лучах теплого осеннего солнца, загорелось новым желанием, какого я не видел в тебе прежде.
– Давай сделаем это, Оти, – сказала ты.
Я помню, что остался сидеть в седле и только рассмеялся.
– Мы оба будем в крови по уши, – сказал я. – Вряд ли жене старшего офицера подобает возвращаться в таком виде с прогулки в первую же ее неделю в Форт-Эйб-Линкольне. Что подумают солдаты?
В ответ на это ты принялась раздеваться. Я помню, что встревоженно оглянулся, но прерия, как всегда ранней осенью, была коричневатой выжженной пустыней. Если не считать невысокого ряда ив вдоль ручья в миле от нас, глазу повсюду открывалось только двадцать миль плоского полуденного пустого пространства. Я спешился и стал торопливо раздеваться рядом с тобой.
Когда мы остались обнаженными, если не считать сапог (прерия – это живой игольник крохотных кактусов и вовсе не таких уж крохотных иголок, колючек и быстро ползающих кусачих тварей), я вытащил мой охотничий нож из отделанных бисером ножен и вспорол вздутое брюхо бизона по всей длине. Изнутри легко, словно содержимое черного волосатого кошелька, выпали внутренние органы, соединительные сосуды и бесконечные ярды серых и блестящих кишок. Ты не верила своим глазам, когда я вырезал печень и взял ее в руки.
– Господи милостивый! – Ты возбужденно рассмеялась. – Здоровая – как человеческая голова.
– Больше, чем человеческая голова, – сказал я и начал полосовать тяжелую массу. Вместе с кровью в местах надрезов запузырилась тягучая черная жидкость. – Хочешь первый кусок? – спросил я, бросая взгляд через плечо, чтобы еще раз убедиться, что мы одни и нас никто не видит.
– Нет, – сказала ты. – Не нарезай ее так, будто мы сидим за столом, Оти. Давай договоримся, будто мы индейцы сиу или шайенна.
Ты взяла печень – я помню, тебе едва хватило сил ее удержать, мне пришлось помочь тебе, – и твои идеальные белые зубы блеснули жемчугом, глубоко вонзаясь в печень старого бизона. Ты прикусила здоровенный кусок, оторвала его, а потом не проглотила, а принялась медленно жевать. Кровь и желчь (или как там называется эта более темная жидкость) стекали по твоему подбородку и щекам, по голым грудям и едва заметной выпуклости живота.
Я бы рассмеялся, не будь чего-то слишком уж обрядового, слишком древнего, слишком плотского… слишком ужасающего… в том, как ты оторвала еще один кусок печени, и теперь кровь стекала по твоему подбородку, как красная Ниагара.
Напрягшись (на твоих плечах и предплечьях обозначились мускулы, которых я не замечал прежде), ты протянула мне тяжелую, сочащуюся кровью массу.
Мне удалось отгрызть три здоровенных куска. Обычно мне нравится приготовленная печень бизона, антилопы, оленя или коровы, вывалянная в муке и зажаренная с беконом и луком, но этот сырой орган в тонкой кожице был поразительно горьким. У меня во рту было столько же крови и вязкой жидкости, сколько и мяса.
Я не смеялся. Я медленно, ритуально жевал, а потом швырнул тяжелую печень назад в притягивающее мух месиво кишок, сердца, желудка и еще кишок.
После этого мы напились из наших фляг.
Я посмотрел на нас (потеки, ручейки, брызги крови повсюду на моем покрытом шрамами теле и на твоей белой, как слоновая кость, коже; глядя на меня, можно было подумать, что я надел красные перчатки по локоть) и сказал:
– Что теперь, моя дорогая?
Ты аккуратно закрепила свою флягу в седле, делая это с осторожностью, чтобы не оставлять слишком много кровавых отпечатков, а потом сказала:
– Мы можем доехать до ручья на одном коне?
Я посмотрел на неровную линию ив на севере.
– На одном коне? – И тут я понял твою логику. – Немногим коням я мог бы доверить это, и один из них – Вик, – сказал я и стал снимать с него седло и сбрую.
Оставив только потник, я запрыгнул на широкую (но не очень) спину Вика. Мой гнедой (ты помнишь, дорогая Либби, что у Виктора была звездочка на лбу и белые носки) почувствовал кровь на земле и на нас, испугался, но я натянул поводья и попросил тебя встать на седло, лежащее на земле и ухватиться за меня, чтобы я помог тебе запрыгнуть на коня мне за спину.
– Нет, – сказала ты, и на твоем лице снова появилось странное, лучезарное, смешливо-безумное выражение. – Перед тобой, Оти.
– Тебе будет удобнее ехать за мной и держаться за… – начал было я.
Ты прижалась своими грудями и лицом к моей голой ноге.
– Перед тобой, Оти, – прошептала ты. – И лицом к тебе.
Так мы и проехали милю до невидимого ручья. Твои груди прижимались ко мне, и кровь бизона стекала по ним на меня и вниз. Твои руки с силой держали меня. В левом кулаке ты сжала свернутые в комок нижние юбки – наши полотенца, если мы доберемся до ручья.
Я пустил Вика шагом, но потом пришпорил его, переводя на легкий галоп, и ты положила руки мне на плечи и подтянулась повыше, твои залитые кровью белые бедра поднялись и обхватили меня. Я был и без того возбужден. А тут ты уселась на меня.
Я чувствовал твое горячее дыхание у себя на шее.
– Скорее, – застонала ты.
Я перевел Вика на ровный, но в то же время бешеный галоп. Я поднимался и падал в тебя с каждым движением его копыт и громадной дыбящейся спины. Я плотно прижимал тебя к себе правой рукой, а левой держал поводья. Мой гнедой хотел мчаться во всю мочь. Я позволил ему.
Мы, кажется, вскрикнули одновременно, сжимая друг друга в немыслимо тесных объятиях, сближаясь еще больше, когда подскакивали и опускались в ритме тяжелого галопа Вика. Мы не могли бы быть ближе. Мы одновременно закидывали далеко назад головы, и наши крики неслись к солнцу.
Я помню, что наслаждение было так велико, что переходило в боль. Мы были в крови, кровь капала с нас, оставляла след за Виком, который несся галопом, и я не видел в этом ничего предосудительного. Даже горьковатое послевкусие крови с желчью было частью боли, солнечного света и освобождения – источником невероятной и неповторимой силы и страсти.
И любви.
В ручейке оставалось немного воды – достаточно, чтобы смыть с нас бо́льшую часть крови и грязи, но нам приходилось по очереди ложиться в самую глубокую часть русла, наши тела были шире ручья, и мы катались по усеянному галечником дну, терлись об него, словно обезумевшие выдры. В конечном счете нам пришлось использовать нижние юбки как губки, а не полотенца, а закончив, мы запрятали их в ил и тростники.
Когда мы вышли из ив, чтобы снова усесться на Вика, я поделился с тобой, дорогая Либби, моими страхами: весь Седьмой кавалерийский может появиться с востока, когда мы усядемся на коня и будем все еще в миле от нашей второй стреноженной лошади и одежды.
Это вызвало у нас приступ смеха. На обратном пути ты сидела сзади, твои груди, полные и требовательные, прижимались к моей спине, одна твоя рука обхватывала меня за грудь, а другая по-хозяйски лежала у меня между ног, и мы продолжали смеяться, даже одеваясь (твоей амазонке явно не пошло на пользу наличие всего лишь одной оставшейся нижней юбки). Большую часть обратного пути до форта мы смеялись, а когда нам все же удавалось взять себя в руки, то стоило одному из нас посмотреть на другого – и смех возобновлялся.
Конечно, Либби, это были любовь и страсть, но именно ты позднее сказала: «Я никогда не чувствовала себя более живой, Оти!» Я испытывал это чувство прежде, но только в разгар боя. Тогда я не сказал тебе этого, а теперь говорю, потому что знаю: ты поймешь.
Иногда, моя дорогая, я думаю, может, этот благодатный сон, в котором я пребываю, перейдет в кому, а кома неотвратимо – в смерть, но потом я вспоминаю что-нибудь вроде того нашего утра в прерии и понимаю: это невозможно… Я не умру, не могу, не должен умереть, не увидев тебя еще раз. Не поговорив с тобой еще раз.
Не занявшись с тобой любовью еще раз.
11. На Шести Пращурах
Август 1936 г.
Стало известно, что президент Рузвельт наверняка приедет на Черные холмы.
На рабочих площадках на торце скалы и на самих лицах обсуждают новость: президент уступил бесконечным уговорам Борглума и включил в свой плотный график пребывания в Южной Дакоте официальное открытие головы Томаса Джефферсона, вероятно, произойдет это в воскресенье, 30 августа.
Остается меньше недели, думает Паха Сапа. К тому времени он должен успеть подготовиться.
Работы на горе Рашмор продолжаются в самом высоком темпе за всю историю проекта, несмотря на то что это лето 1936 года – самое жаркое за всю историю наблюдений вазичу.
Каждый день Паха Сапа слушает разговоры других людей о температуре и о лесных пожарах на севере и о Пыльной Чаше[37] на юге. Средняя зафиксированная в июле температура была на десять градусов выше нормы, а в августе дела обстояли еще хуже. На равнинах, где изнемогает от жары Рэпид-Сити, средняя дневная температура составляет сто десять градусов, а по меньшей мере один раз доходила и до ста пятнадцати[38]. Паха Сапа и другие, работающие на торце скалы Рашмор, словно находятся в гигантской солнечной чаше, которая фокусирует солнечные лучи. На рабочих воздействует не только солнце, от которого кожа на спинах облезает и шелушится, но еще и жар и свет, которые отражаются от белых слоев гранита, напоминающего некий тепловой рефлектор из журнала научной фантастики.
Весь август камень разогревался до такой температуры, что к нему в течение долгих дневных часов невозможно было прикоснуться голой рукой. Паха Сапа и другие взрывники рисковали больше обычного, размещая заряды: даже новые шашки и капсюли становились менее надежными на обжигающей, сконцентрированной жаре, и сама порода грозила воспламениться из сотен укороченных и оснащенных капсюлями шашек при их закладке в шпур. В этом августе, несмотря на гонку, чтобы побыстрее закончить голову Джефферсона, случались дни, когда Борглум приказывал рабочим уйти на несколько часов с площадки, по крайней мере до того времени, когда удлиняющиеся тени не принесут хоть малого облегчения от удушающей жары.
Обезвоживание – серьезная угроза. Предположительно разъедаемое раком тело Паха Сапы постоянно чувствует его, но теперь обезвоживания опасаются все. Борглум организовал доставку воды рабочим, которые весь день проводят в подвесных люльках, буря шпуры и полируя поверхности, но, похоже, не имеет значения, сколько человек пьет, потому что его организм просит еще и еще. Паха Сапа никогда еще не видел таких усталых рабочих, как эти сгорбившиеся, с заплетающимися ногами, покрытые пылью фигуры, спускающиеся каждый вечер по пятистам шести деревянным ступеням. Даже самые молодые и сильные к концу рабочего дня плетутся, как ходячие мертвецы с красными глазами в белых одеяниях.
До прибытия президента Рузвельта остается меньше недели, и Паха Сапа проводит рабочие часы, формируя и размещая динамитные шашки и думая о том, как доставить тонну с лишком взрывчатки, которая понадобится ему в следующее воскресенье, чтобы снести головы всех трех президентов на глазах потрясенной толпы (но – и он об этом позаботится – чтобы никто не пострадал). Посетившее его на прошлой неделе откровение вызывает у Паха Сапы улыбку; последнее время он думал об этой проблеме так, словно устанавливал заряды в заранее пробуренные шпуры (многие сотни шпуров для взрыва такой силы), а чтобы их пробурить, нужно несколько недель, если не месяцев. Но ведь не об осторожной, как всегда, обработке гранита идет речь, а о разрушении. И потом, не будет корректирующих взрывов, бурения или полировки – это будет уничтожение, и ни Борглум, ни кто другой никогда не сможет высечь здесь скульптуры. Паха Сапа снова улыбается собственной глупости, причина которой коренится в долгих годах работы на горе в качестве преданного и умелого мастера.
Все, что ему нужно сделать к следующему воскресенью, – это спрятать в точно выбранных и укрытых местах на трех головах и вокруг них около двадцати больших ящиков с динамитом, которые он хранит у себя в сарае в Кистоне. Для каждого ящика будет достаточно одного электрического взрывателя. Если заранее завезти ящики, то он сможет поднять их на гору, спрятать и установить взрыватели в субботу ночью, а всякая суета и спешка в пятницу и субботу в основном сведутся ко всяким косметическим работам – полировке камня, в особенности на голове Джефферсона, и натягивании флага, которым Борглум хочет закрыть ее до торжественной церемонии.
Паха Сапа качает головой при мысли о простоте решения и собственной глупости: как же он не увидел такой возможности несколькими месяцами, а то и годами раньше. Он может объяснить это редкими инъекциями морфия, к которым начал прибегать, чтобы быть в состоянии продолжать работу.
Еще шесть дней? Неужели его пять лет на этой скале, все эти прошедшие тысячи дней, могут свестись к шести дням?
Он не думает о последствиях (он собирается погибнуть вместе с головами при взрыве, который на многие недели займет место на первых полосах газет, станет предметом разговоров на радио, будет показываться в киножурналах новостей), но знает, что его назовут преступником. На какое-то время он заменит собой печально известного Бруно Гауптмана[39], а может, этого нового немецкого преступника, Адольфа Гитлера, и станет «самым ненавидимым человеком в Америке».
Паха Сапа читал, что Рузвельт приезжает в Южную Дакоту и на Запад исключительно по политическим причинам. («А бывают ли у президентов и других политиков иные причины?» – спрашивает себя Паха Сапа.)
Южная Дакота с незапамятных времен считалась республиканским штатом, с тех самых времен, когда бизоны и краснокожие дикари были здесь единственными (неголосующими) гражданами, но Рузвельт прибрал этот штат к рукам в 1932 году и не собирается возвращать его республиканцам на выборах 1936 года, до которых остается два месяца и еще десяток пыльных дней. И он не просто обхаживает Южную Дакоту в разгар депрессии, лесных пожаров и рекордной жары, нет, это впоследствии назовут «поездкой президента-щеголя по Пыльной Чаше» – первой попыткой Рузвельта своими глазами увидеть разорение, которое производит все ухудшающийся климат на громадных просторах той страны, которой он правит из Вашингтона и тенистого Гайд-Парка[40], хотя Паха Сапа и знает, что такие пункты на маршруте президента, как Рэпид-Сити и гора Рашмор, находятся в сотнях милях к северу от самой северной границы настоящей Пыльной Чаши.
Нарезая динамитные колбаски на рабочие куски (такую тонкую работу приходится делать без перчаток, значит, сегодня вечером жди головной боли) и готовя запалы и капсюли, он вспоминает свою встречу с так называемой Пыльной Чашей.
К весне предыдущего, 1935 года работы на Монументе периодически прекращались из-за нехватки финансирования. Проблемы с финансированием (нередко столь же воображаемые, сколь и реальные), вызывавшие краткие перерывы в работе, стали обычным явлением на горе Рашмор, и люди привыкли к ним, но в 1935 году перерыв был больше связан с баталиями между Гутцоном Борглумом, Джоном Боландом (теоретически – боссом Борглума в комиссии, которая осуществляла надзор за проектом) и сенатором Питером Норбеком (самым горячим сторонником Монумента).
Борглум никогда не мог смириться с «надзором», и той весной он подрывал собственные позиции нападками на Боланда, Норбека и других самых преданных его сторонников. И потому за несколько дней до Пальмового воскресенья[41] 1935 года у Паха Сапы и всех остальных не было ни работы на скале, ни жалованья.
Потом Борглум вызвал Паха Сапу и сообщил, что он, Паха Сапа, сын Борглума Линкольн и еще два человека поедут в Южное Колорадо, чтобы забрать два двигателя с подводной лодки.
Паха Сапа слышал об этих двигателях.
Компрессоры, буры, двадцать с чем-то отбойных молотков, лебедки, привод вагонетки для канатной дороги и другое оборудование требовали огромного расхода паровой и электрической энергии, и Борглум уже несколько раз обновлял свою энергетическую систему. Сначала переместил ее с исходного места в Кистоне сюда в долину, а потом уже увеличивал размеры паровых котлов и электрогенераторов. Но с точки зрения Борглума, энергии всегда не хватало, и недавно скульптор обвинил члена комиссии Джона Боланда в том, что тот закрыл электростанцию Инсулл в Кистоне не по причине ее износа, как это утверждал Боланд, а ради личной выгоды.
Сенатор Норбек сообщил Борглуму, что такого рода кавалерийские наскоки на Боланда могут привести к закрытию проекта, но Борглум не прекратил обвинять Боланда в том, что тот был лично заинтересован в закрытии старой электростанции и лоббировании более крупных двигателей, турбин и генераторов на новой.
Ответ был получен зимой 1934 года, и в нем говорилось, что ВМФ подарит два отработавших свое, но все еще сохранивших ресурс дизельных двигателя с подлодки, которую они списывают.
Наверное, какой-то старый хлам, оставшийся от Гражданской!
Борглум швырнул письмо в угол комнаты.
В каком бы состоянии ни находились двигатели, военное министерство быстро доставило их по неверному адресу – не к горе Рашмор, и не в Кистон, и не в Рэпид-Сити. ВМФ отправил их по железной дороге на электростанцию Райан-Рашмор сталелитейного завода в Пуэбло, штат Колорадо. И там, на тупиковой ветке, под брезентовым навесом два гигантских блока простояли два месяца. ВМФ и военное министерство признали свою небольшую ошибочку, но сказали, что доставка громадных двигателей из Колорадо в Южную Дакоту – это уже проблема Борглума.
Борглум казался, как всегда, рассеянным и рассерженным, когда Паха Сапа 10 апреля явился к нему в кабинет.
– Билли, Линкольн поедет с тобой, Редом Андерсоном и Хутом Линчем на пикапе и большой доджевской автоплатформе, которую мы арендуем у строительной компании кузена Хауди Петерсона. Ты должен доставить сюда эти треклятые двигатели.
– Хорошо, босс. Нам заплатят за эту поездку?
Борглум смерил его самым своим злобным взглядом.
Паха Сапа зашел с другой стороны:
– Я не знаю, сколько весит двигатель с подводной лодки, мистер Борглум, но нам ведь понадобится кран, чтобы погрузить их на платформу. И вероятность того, что подвеска «доджа» под таким весом не выйдет из строя в пути от самого Колорадо, очень мала.
Борглум одним покашливанием отмел беспокойство Паха Сапы на сей счет.
– Дизельные монстры находятся на сталелитейном заводе, старик. У них найдутся кран, пандус и все, что угодно, чтобы их погрузить. Линкольн обо всем позаботится. У него будут деньги на всякие расходы для тебя, Реда и Хута. Считай это своим отпуском за нынешний год. Если вы отправитесь через час, то еще до темноты будете в Небраске.
Паха Сапа кивнул и отправился на поиски сотоварищей.
Они и в самом деле добрались до Небраски к вечеру – два автомобиля взяли курс на юг. Линкольн Борглум вел фордовский пикап. Хут Линч и Ред Андерсон теснились на пассажирском сиденье. Эти двое были близкими приятелями и хотели поболтать в дороге, к тому же им не очень нравился Паха Сапа.
Паха Сапа был не против того, чтобы ехать в одиночестве, наоборот, он даже предпочитал такой вариант, но вести «додж» 1928 года с его большими фарами, резиновыми отбойниками и удлиненной грузовой платформой – это вовсе не сахар. «Додж» с открывающимся ветровым стеклом, которое фиксировалось медными держателями, был динозавром первых дней автомобилестроения. Держатели отсутствовали, ветровое стекло никогда не садилось на место герметично, а в результате если им везло и они находили участок хайвея, по которому можно было ехать со скоростью тридцать миль в час, то в кабину проникал холодный воздух, обдувавший Паха Сапу со всех сторон. На нем была кожаная мотоциклетная куртка его сына и самые теплые перчатки, но пальцы у него занемели уже после первых двадцати пяти миль, к тому же у большого грузовика был такой тяжелый руль, что руки Паха Сапы к началу первого вечера начали болеть.
Паха Сапа не возражал против боли. Она отвлекала его от худшей боли внутри него.
Вскоре после наступления темноты они остановились, потому что ветер нес пыль, а Борглум наказал сыну прекращать движение, если пыльная буря ухудшит видимость. Они получили разрешение остановиться на фермерском поле, съехали с дороги за худосочную полосу сосновых деревьев, посаженных поколение назад для защиты от ветра. Перед этим они сделали остановку в Кистоне у гастронома Халлис – лучшего из двух подобных магазинов в городе (Паха Сапа постоянно ждал, что магазин Арта Линдо обанкротится, потому что предоставляет слишком большие кредиты шахтерам и другим местным) и купили там хлеба, копченой колбасы и консервов.
Какого-нибудь топлива для костра на стоянке не нашлось, поэтому они разогрели свинину и бобы на спиртовках «стерно», хотя «стерно» были плохими заменителями настоящего костра. Затем они забрались в спальные мешки – у Паха Сапы было только два одеяла – и несколько минут пытались переговариваться, но в семь часов уже погрузились в глубокий сон.
Ветер и небольшая пыльная буря неизбежно сделали темой разговора длительную засуху и вообще погоду. И Северная, и Южная Дакота повидали летучую грязь (всего год назад, в 1934-м, на горе Рашмор и в районе Рэпид-Сити было два темных дня, когда бесчисленные тонны почвы, поднятые высоко в воздух, затмили солнце; этот «пыльник» в конечном счете добрался до Нью-Йорка и Атлантического океана), но Небраска и штаты, расположенные южнее, высохли и дошли до ужасающего состояния. В Южной Дакоте хотя бы сохранилась трава в прериях.
Ред Андерсон откашлялся.
– Я говорил с одним из боссов ГКО[42], и он сказал, что президент Рузвельт разослал по всему свету людей в поисках подходящих пород сосны или ели. У президента есть всякие там эксперты, они говорят, что могут создать громадную ветрозащитную полосу, каких нет в мире, она протянется от Мексики до Канады, и фермеры смогут обосноваться под ее защитой.
Линкольн Борглум и Хут усмехнулись, представив себе это. Ред нахмурился, глядя на них.
– Я серьезно. Он именно так и сказал.
Линкольн кивнул.
– И готов поспорить, они думают о такой лесозащитной полосе, хотя где они найдут сосну, которой нипочем жара и засуха, какие случаются в Техасе, ума не приложу. А еще один босс из ГКО говорил мне, что эти так называемые эксперты советуют президенту в целях экономии эвакуировать Южную Небраску, большую часть Канзаса, почти всю Оклахому, восток Колорадо и весь Техас от Панхандла до Лаббока: пусть, мол, распаханную плодородную почву унесет ветер, и будем надеяться, что трава вернется через поколение-другое.
Хут Линч, вычерпывая остатки бобов, фыркнул.
– Если вы спросите меня, то я скажу, что это дерьмовая идея.
Ред бросил взгляд на своего дружка, и Хут мотнул головой в сторону сына Борглума.
– Извините, не хотел… Я хотел…
– Я не против брани, Хут. Если кроме нее есть и что-то еще. Я не мормон, – ухмыльнулся Линкольн Борглум.
Двое других рассмеялись, услышав это, и Паха Сапа поймал себя на том, что едва сдерживает улыбку. Он знал, что отец Линкольна, Гутцон Борглум, когда-то был мормоном – его родители были мормонами, и у отца были две жены, и женщина, которую Борглум называл своей матерью, на самом деле была второй женой отца, а его настоящая мать оставила семью, когда начались преследования мормонов и они вынуждены были уехать.
Паха Сапа знал это, потому что у него в голове хранились путаные воспоминания Гутцона Борглума, включая и самые дорогие его тайны, – хранились с того дня в 1931 году, когда Борглум пришел на шахту «Хоумстейк» нанять его, Паха Сапу, а когда они договорились, протянул руку. Паха Сапа от этого рукопожатия едва удержался на ногах, потому что все воспоминания Борглума хлынули в него. Точно так же поздним летом 1876 года наводнили его воспоминания Шального Коня.
Точно так же, как это случилось и с воспоминаниями Рейн в тот вечер, когда они впервые поцеловались.
К счастью, жизненные воспоминания этих трех человек (а жизнь Рейн оказалась трагически короткой) были пассивны и не сбили Паха Сапу с толку; проникая в него, они не кричали, не вмешивались в его жизнь и не болтали без перерыва за полночь, как делал призрак Кастера.
Иногда Паха Сапа был уверен, что масса, бремя и шум чужих воспоминаний, не говоря уж о призраке, который вот уже почти шестьдесят лет колотился в его голове, сведут его с ума. Но случалось, что он радовался этим воспоминаниям и ловил себя на том, что бродит по коридорам прошлого Борглума или Шального Коня (реже – Рейн, потому что это было слишком больно), как Доан Робинсон, возможно, бродит среди стеллажей какой-нибудь выдающейся библиотеки справочной литературы.
Линкольн обратился к Паха Сапе:
– Ты закрепил цепь-антистатик под «доджем», как я говорил?
– Да.
Они теперь въезжали на территорию пыльников и черных метелей (существовало еще двадцать других названий для этих внезапных, яростных, иногда затягивавшихся на неделю пыльных бурь), и разряды статического электричества могли стать реальной угрозой. Без заземляющей цепи-антистатика белая шаровая молния статического электричества способна в мгновение ока уничтожить всю систему зажигания, и тогда они наверняка застряли бы в сотне миль от ближайших, не считая их самих, механиков. (У них не было запасных частей для двигателей, хотя в багажниках обеих машин имелись дополнительные комплекты колес и покрышек, ремней вентилятора и других деталей.)
Ветер усиливался, хотя пыли в нем было не так уж много. Линкольн, воспользовавшись водой из одного баллона, изобразил мытье тарелок.
– Если повезет, завтра вечером будем ночевать в настоящих кроватях. Или хотя бы в сарае. Постарайтесь выспаться. Нам предстоят несколько дней тяжелой езды, а в конце пути нас ждут только два снятых с подводной лодки бесполезных двигателя, которые никому не нужны, даже моему отцу.
Линкольн даже не подозревал, насколько он был прав. Двигатели оказались, наверное, самыми раздолбанными и неприглядного вида машинами вазичу, какие доводилось видеть Паха Сапе. Сдвоенные головки блоков дизельных двигателей в длину наращенной платформы «доджа» были выше кабины и представляли собой модели, разработанные в начале 1920-х, – ужасающее соединение поршней, стали, масляных трубок, шлангов, валов, ржавчины, грязи и зияющих каверн. Паха Сапа и представить себе не мог, что столько тонн стали и чугуна когда-то могли плавать по морю.
Они добрались до Пуэбло, штат Колорадо, в субботу вечером (13 апреля) и быстро нашли сталелитейный завод и его ассоциированные компании, сгрудившиеся вокруг, как множество поросят, которые тычутся в перепачканные сажей соски громадной черной свиноматки самого сталелитейного предприятия. Создавалось впечатление, что завод обанкротился и заброшен (десять акров парковки пустовали, из высоких труб не шел дым, на воротах висели цепи), но сторож Джоко объяснил, что в эти тяжелые времена завод работает через неделю и часть рабочих или даже все появятся в следующий понедельник. Джоко досконально знал, где хранятся дизельные двигатели, и повел четверку прибывших на место – тупиковую ветку с тыльной стороны заброшенного здания за горами шлака. Когда Линкольн, Ред, Хут и «Билли Словак» стянули с громадной массы металла пыльный брезент, беззубый старик с шиком прокричал: «Voilà![43]»
Линкольн спросил сторожа, поможет ли им кто-нибудь погрузить двигатели на «додж». В понедельник, ответил старик, поскольку единственный крановщик – а железнодорожный кран стоит вон там, за шламоотстойником, – Вернер, но Вернер, конечно, скорее всего, в такую прекрасную весеннюю субботу отправился поохотиться, и ему и в голову не придет вернуться раньше утра понедельника.
В конечном счете из рук в руки перешли две относительно новые двадцатидолларовые купюры (за последние годы Паха Сапа видел не так уж много двадцатидолларовых купюр): одна для старого пердуна Джоко, другая для Вернера (который, вероятно, сидел где-нибудь в баре на соседней улице), чтобы он пришел и перегрузил двигатели из вагона на длинную и хлипкую платформу «доджа».
Джоко пообещал, что приведет Вернера к пяти часам, и Линкольн с тремя своими усталыми и покрытыми пылью рабочими поехал в центр маленького городка при сталелитейном заводе поискать место, где можно выпить пива, и место, где можно переночевать.
Паха Сапа должен был признать, что мысль о настоящей кровати воистину грела ему душу. («Тоже мне лакота», – подумал он и вдруг понял, что думает по-английски, а не по-лакотски, словно его обамериканившийся мозг добавил к душевной травме и оскорбление.)
«Ты стареешь и становишься изнеженным, Черные Холмы, – прошептал призрак Длинного Волоса. – Ты еще успеешь превратиться в бледнолицего, этакого разжиревшего и рыхлого кабана-альбиноса без ног».
«Заткнись!» – безмолвно приказал ему Паха Сапа.
За те несколько лет с тех пор, как между ним и призраком установился контакт (теперь призрак не бубнил бесконечно в темноте, а Паха Сапе не приходилось слушать его), Паха Сапа не много получил от этих разговоров. Он не мог себе представить, что призрак убитого человека стареет, но этот старел, становился ворчливым и саркастичным.
В городе, где половину населения составляли шахтеры и их семьи (шахты располагались в нескольких милях к западу, в предгорье), а другую половину сталелитейщики и их семьи (множество немцев, чехов, шведов, цыган и всяких прочих), наверняка должны были быть хорошие бары, и через пять минут Линкольн с его рабочими нашли один из них.
Первые порции пива были холодными (кружки и в самом деле охлаждались, пока не появлялся ледок), и Ред Андерсон не мог сдержать ухмылку.
– Я бы с удовольствием забрался в какой-нибудь темный маленький бар вроде этого и отсиделся бы в нем, пока не кончатся трудные времена.
Линкольн вздохнул и отер верхнюю губу.
– Так уже поступали многие, в остальном довольно неплохие ребята, Ред. Мы проведем ночь вон в том пансионе напротив, но до понедельника я тут ждать ни в коем разе не намерен.
Ред и Хук переглянулись за спиной Линкольна, и Паха Сапа легко прочел их мысли – для этого ему даже не понадобилось к ним прикасаться: эти двое готовы были остаться тут на всю неделю, пока мифический Вернер не вернется с охоты.
Но одна волшебная двадцатидолларовая бумажка вернула Вернера на завод еще до захода солнца, так что этому невысокому, коротко остриженному человеку хватило времени до наступления темноты перегнать железнодорожный кран с основного заводского двора и перенести махину двигателей с поддонами, брезентом и всем остальным на платформу «доджа». Платформа просела на восемь дюймов на несуществующей подвеске, но при этом покрышки не лопнули, колеса не отскочили, оси не поломались. По крайней мере, пока.
Когда с погрузкой покончили и четверка оплела двигатели таким числом тросов и ремней, что им вполне могли бы позавидовать лилипуты, привязывавшие Гулливера (одна из первых книг, которую он взял в библиотеке Доана Робинсона), Паха Сапа отвел «додж» за сотню ярдов на парковку у заводских ворот, запертых стальной цепью («додж», слегка вихляя, все же ехал, но Паха Сапа был уверен, что любой подъем круче одного процента преодолеть ему не по силам, и если раньше крутить баранку было тяжело, то теперь стало почти невозможно), и четверка оставила эту массу металла и вернулась в кафе пообедать, чтобы потом отправиться в пансион.
Джоко прокричал им напоследок:
– Вы мне кажетесь добрыми христианами. По крайней мере, трое из вас. Если останетесь, чтобы послушать службы в Пальмовое воскресенье, то я покажу вам, как пройти в методистскую и баптистскую церкви.
Никто из четверых не оглянулся.
Линкольн проводил троих рабочих в их комнату – щедрость Борглума не предусматривала отдельных комнат для всех, кроме Линкольна, и им пришлось довольствоваться тремя койками в тесной необогреваемой комнате на втором этаже, где изношенные одеяла имели такой вид, будто вот-вот поднимутся и улетят сами по себе, если их не приколотить гвоздями.
Паха Сапа принес свои одеяла и дополнительные подстилки. Ред и Хут с сомнением посмотрели на пружинные койки, потом глянули в окно в ту сторону, куда их манили слабые огни скромного, но весьма серьезного в смысле разврата местного квартала красных фонарей. (Хотя сухой закон был вот уже два года как отменен, у баров все еще сохранялись тайные залы и смотровые глазки.)
Голос Линкольна звучал устало и подавленно, а может быть, пыльный город со сталелитейным заводом угнетал его не меньше, чем Паха Сапу.
– Вы двое, не больше двух кружек пива и ничего серьезнее сегодня. Мы уезжаем на рассвете. Вы по очереди будете управлять «доджем». Сначала едем на восток в Канзас, а потом – на север. День будет трудным.
Все кивнули, но не прошло и двадцати минут, как Хут и Ред, держа ботинки в руках, вышли на цыпочках за дверь. Паха Сапа услышал тихий скрип лестницы, потом натянул на голову свои собственные плотные и почти без паразитов одеяла и заснул. Когда он в последний раз взглянул на часы, они показывали 20.22.
Хут и Ред вернулись, когда шел шестой час. Они едва держались на ногах, и несло от них не только виски и пивом. Один из них деловито блевал в ведро, которое принес с собой. В 5.20 Линкольн Борглум не только громко постучал в дверь, но и вошел в комнату и перевернул койки с двумя сонями. Паха Сапа уже был на ногах, одетый, собранный, он умывал лицо той каплей воды, что осталась в поколотом кувшине, предоставленном в их распоряжение скуповатым хозяином. Из клубка одеял доносились жалобные стоны.
Линкольн и Паха Сапа завтракали в одиночестве в маленьком кафе на другой стороне улицы.
Пикап и перегруженный «додж» еще до семи часов выехали из города и покатили на восток. Улицы были пусты. Воздух для середины апреля прогрелся уже довольно сильно, на небе ни облачка.
Что-то странное чувствовал Паха Сапа в течение всего долгого утра и начала дня, когда они держали путь на северо-восток. Конечно, медленно ползущий «додж» с массой мертвого груза (если бы он съехал вперед, то Паха Сапа даже не успел бы выскочить наружу, хрупкая старая кабина была бы смята) приковывал к себе почти все внимание Паха Сапы, который в буквальном смысле боролся с ним, когда требовалось сделать простейший поворот, а если попадался едва заметный подъем, то приходилось чуть ли не подгонять машину кнутом. Линкольн отправил Хута в «додж» на подмену, и все утро, а потом и часть дня тот храпел, вытянувшись на продранном пассажирском сиденье, изредка пробуждаясь, чтобы открыть дверь, выпрыгнуть из кабины, проблеваться в сорняках, а потом догнать ползущий, как черепаха, «додж».
Редкие машины, даже древние модели Т, обгоняли грузовик и фордовский пикап, который плелся впереди.
Но как бы ни отвлекали Паха Сапу храп, доносившийся с пассажирского сиденья, рев перегруженного двигателя и необходимость полностью сосредоточиться на езде, он чувствовал что-то необычное… что-то неправильное в мире.
Птицы как-то спешно летели на юг. Те немногие животные, которых он заметил: несколько зайцев, суетливые полевки, один олень, даже скот в покрытых пылью полях – тоже стремились на юг. Они пытались спастись. Паха Сапа чувствовал это.
Но от чего спастись? Небеса оставались чистыми. Воздух теплый, слишком теплый. В кабине воняло виски и потом Хута, и теперь Паха Сапа радовался тому, что ветровое стекло не защелкивается.
Эта земля лишь в малой мере походила на то, что впоследствии будет названо Пыльной Чашей, простирающейся на тысячи миль, но эта малость сразу же бросалась в глаза. Фермы были заброшены. Но даже на тех, где еще оставались обитатели, краска с домов облупилась, словно ее содрали пескоструем. Песок подбирался к домам и другим строениям. Почву нанесло к заборам до такой высоты, что можно было видеть только последний фут несущих столбиков. Он знал, что фермеры и владельцы ранчо дальше на юге говорили, будто можно идти долгие мили по нанесенной почве, из которой торчат останки их скота, скопившиеся у засыпанных заборов, но даже здесь, в юго-восточном уголке Колорадо, наносы земли были видны повсюду. Несколько раз Паха Сапе приходилось сбрасывать скорость и даже останавливаться – Линкольн впереди в фордовском пикапе пробивался через груды красновато-коричневой почвы, которые, словно снежные сугробы, покрывали дорогу.
Но несмотря на ясное небо и теплый день, Паха Сапа чувствовал, что в мире что-то неправильно.
Это случилось около двух часов – они приближались к границе с Канзасом, когда оно настигло их.
– Хай-йай! Хай-йай! Митакуйе ойазин!
Паха Сапа не отдавал себе отчета в том, что кричит по-лакотски. Он тряхнул храпящего и сопящего Хута – тот проснулся.
– Хут, просыпайся! Посмотри на север. Просыпайся, черт тебя подери!
На них, словно земляное цунами, неслась черная стена высотой в три или больше тысячи футов.
Хут привскочил на сиденье. Он указал вперед через открытое ветровое стекло.
– Черт возьми! Пыльник. Черная метель!
Паха Сапа сразу же остановил «додж». Пикап перед ними сбросил скорость, потом остановился.
Менее чем в сотне ярдов позади было пересечение с грунтовой дорогой, и Паха Сапа чуть не поломал коробку передач, включив заднюю и резко пустив перегруженный грузовик назад в направлении этого перекрестка – он помнил, что там, среди нескольких засохших деревьев, стояла маленькая, занесенная пылью ферма.
– Ты что это делаешь, Билли, черт тебя дери?
– Мы должны развернуть машины и накинуть на двигатели брезент, чтобы эта стена земли не ударила в них. Иначе нам больше ни в жисть их не завести.
В обычной обстановке Паха Сапе потребовалось бы пять минут осторожных маневров, чтобы сдать тяжелый грузовик назад на грунтовку и развернуть его. Сейчас он развернулся за тридцать безумных секунд, все время глядя через плечо на наступающую стену черноты.
Линкольн подъехал к «доджу» и прокричал, перегнувшись через Реда Андерсона, смотревшего перед собой широко распахнутыми глазами.
– Ну и жуткий пыльник идет!
Паха Сапа прокричал в ответ:
– Мы должны добраться до фермы.
Ветхое, полуразвалившееся сооружение было от них на расстоянии менее полумили впереди и слева, когда они двинулись назад, на юго-восток. Если бы не легковушка модели А на подъездной дорожке и два ржавых трактора под навесом, полузасыпанным землей и пылью, то можно было подумать, что ферма заброшена. Но все это настолько проржавело, что вполне могло быть брошено вместе с фермой.
Паха Сапа не думал, что они успеют. И они не успели. Хут на пассажирском сиденье рядом с ним твердил, словно какую-то молитву, одну и ту же мантру:
– Ни хрена себе, Господи Иисусе! Ни хрена себе, Господи Иисусе! Ни хрена себе, Господи Иисусе!
Позднее Паха Сапа узнал, что увидел бы эту гигантскую волну, даже если бы остался на горе Рашмор. В то утро холодный фронт прошел по обеим Дакотам, уронил температуру на тридцать градусов, занося Рэпид-Сити и тысячу более мелких городков пылью, оглушая их воем ветра. Но фронт вскоре покинул Дакоту, перекатился в Небраску, где увеличил силу, скорость и добрал многие тысячи тонн пыли и земли.
Еще Паха Сапа узнал, что, когда западная оконечность катящейся черной волны проходила по Денверу, температура менее чем за час упала на двадцать пять градусов. Ширина фронта бури к тому времени, когда Паха Сапа и три его спутника увидели, как она приближается к юго-восточному углу Колорадо, достигала более двухсот миль и продолжала расширяться (она надвигалась, как непробиваемая защитная линия одетых в коричневатую форму игроков в американский футбол), а к тому времени, когда она на юге и востоке добралась до штатов, которые попали в Пыльную Чашу по-настоящему, ее ширина уже составляла почти пятьсот миль.
Но все это не имело значения для Паха Сапы, когда он вдавливал в пол педаль газа и перегруженный грузовик набирал максимально возможную скорость – двенадцать миль в час; одновременно он смотрел в зеркало заднего вида и через свое плечо – на монстра, который настигал их.
Паха Сапа всю жизнь прожил на Равнинах и легко мог оценить высоту черной двигающейся стены: пыльник переваливал через низкую гряду сильно выветренных холмов на севере и северо-западе, на северо-востоке холмы были пониже (хотя «додж» с двумя двигателями на грузовой платформе вряд ли преодолел бы и такой склон), и, наблюдая, как холмы, камни и несколько сосен исчезают в пасти черной метели, Паха Сапа знал, что высота стены три тысячи футов и что она продолжает расти. Поскольку Паха Сапа провел большую часть жизни, наблюдая за лошадьми, которые скакали к нему или от него по равнинам, он мог довольно точно определять скорость; эта двигающаяся стена набегала на них со скоростью шестьдесят пять миль в час, если не больше. Низкая гряда холмов, из-за которой появилась стена, была от них не дальше чем в двенадцати милях. За последнюю минуту или около того черная стена пыльника преодолела половину этого расстояния.
Паха Сапа смотрел, как пикап Линкольна врезается в засыпанную землей подъездную дорожку полуразрушенной фермы, потом снова бросил взгляд через плечо и понял, что стена внизу черная, а более чем в полумиле выше, у вершины, светлее, но эти странные вихрящиеся, похожие на смерчи белые столбы двигались перед сплошной стеной, как бледные ковбои, пытающиеся управлять взбесившимся стадом. Что бы ни представляли собой эти столбы (а Паха Сапа так никогда и не узнал – что), они словно тащили за собой со все возрастающей скоростью черную стену по направлению к Паха Сапе и его грузовику.
Он понял, что Хут кричит уже что-то иное – не прежнюю мантру.
– Долбаный Христос! Мы не успеем.
Добраться до фермы – не успеют. Паха Сапа это сразу понял. Подъездная дорожка к сараю была в сотне футов, а времени уже не оставалось – черная стена ревела у них за спиной, теперь они и слышали, и ощущали ее, потому что чернота затмила солнце и температура вокруг упала на двадцать или тридцать градусов. Паха Сапа включил фары «доджа», и тут стена догнала их, обрушилась на них, оказалась теперь повсюду вокруг.
Их словно проглотил какой-то громадный хищник.
Паха Сапа поймал себя на том, что едва сдерживается, чтобы не воскликнуть «Хокай хей!» и не прокричать Хуту, чтобы тот услышал за ревом и статическими разрядами: «Сегодня хороший день, чтобы умереть!»
Но кричать было бесполезно. Рев стал слишком громок.
Откуда-то из огороженного поля фермы выбежала белая лошадь. Она потеряла ориентацию и совсем обезумела при виде стены летящей земли – она бежала в сторону бури. Но Паха Сапа увидел – и никогда этого и не забудет – ореол зигзагообразной молнии, шаровой молнии, огней святого Эльма и других статических разрядов, украсивших лошадь электрическим пламенем. Молния плясала в гриве и хвосте скачущей лошади, прыгала по ее спине.
Потом статические разряды окутали «додж», и двигатель машины кашлянул и мгновенно заглох.
Длинные волосы Паха Сапы встали дыбом, черные пряди извивались, как наэлектризованные змеи. Под грузовиком полыхали яркие импульсные вспышки, и Паха Сапа на секунду решил, что загорелся громадный бак грузовика, но потом понял, что это разряды молнии от цепи-антистатика, прикрепленной к задней оси. В резко наступившей темноте эти вспышки высвечивали все вокруг на пятьдесят футов.
Грузовик остановился, и через открытое ветровое и боковые стекла внутрь ворвались, рассыпаясь взрывами, комья земли. Пыль мгновенно проникла повсюду – ослепила их, лишила воздуха, забилась в ноздри и уши, закрытые рты. Паха Сапа дернул заполоскавшуюся фланелевую рубашку Хута.
– Прыгай! Быстро!
Они вывалились в абсолютную темноту, которую пронизывали ничего не освещающие разряды молний. Двигатель «доджа», казалось, загорелся, капот раскрылся, но это были всего лишь электрические разряды, облепившие металл. Паха Сапа потащил Хута вперед, ощущая, что такое «вперед», только на ощупь – вдоль кабины, отбойника к бамперу; он остановился, чтобы сорвать большой брезентовый мешок с водой, привязанный к радиатору. Паха Сапа, пропитав платок водой, обвязал им лицо. Он полил водой в глаза, чувствуя, как земляная жижа стекает по его лицу. Мощной левой рукой он удерживал Хута, чтобы тот не убежал, а правой протянул ему мешок с водой.
Платка у Хута не было. Он попытался закрыть нос и рот подолом рубашки, одновременно поливая их водой.
Темнота сгущалась, по мере того как усиливался грохот. Хут подался вперед и прокричал что-то в ухо Паха Сапы, но слова были заглушены еще до того, как вышли из его рта. Паха Сапа, держа Хута за рубашку, потащил его в ревущую тьму за грузовиком. Глаза он закрыл и потому направление и расстояние до подъездной дорожки и дома мог оценивать только внутренним чутьем.
Хут, казалось, противился, старался вырваться – вернуться в грузовик? – но Паха Сапа тащил его вперед.
Паха Сапа понял, что фары «доджа» почему-то продолжают гореть, но через три-четыре шага они стали невидимы. Молнии вокруг по-прежнему ничего не освещали. Паха Сапа подумал, что их вполне может растоптать обезумевшая белая лошадь, если развернется и бросится к своему сараю или полю, и эта мысль вызвала у него неожиданное желание рассмеяться. Он знал, что никогда не заслужит некролога в газете, но такой конец семидесятилетней жизни был бы вполне достоин упоминания.
Паха Сапа пробирался вперед (стоять прямо было невозможно, но, хотя они опустились почти на четвереньки, вихрь вполне мог свалить их на землю и покатить вдоль канавы, по полю, словно свалявшиеся под напором ветра обломки); наконец, решив, что они уже добрались до дорожки, он потащил все еще сопротивляющегося и вырывающегося Хута налево, позволив ветру подталкивать их на юг.
Они уткнулись в темноте во что-то неподвижное и плотное, но оказалось, что это всего лишь пикап Линкольна, брошенный на дорожке. Водительская дверь была распахнута, и Паха Сапа почувствовал, что пыль уже наполняет кабину. Они не стали задерживаться у машины.
Крыльцо он нашел, споткнувшись о ступеньку. На секунду, падая вперед в ревущей темноте, он потерял Хута, но тут же выпростал руки и ухватил ковыляющего вазичу за волосы, а потом – за воротник. Он уже чувствовал, как его легкие наполняются вихрящимися, всепроникающими, летающими комочками земли – зернышки песка и кремнезема, словно острые осколки стекла молекулярного размера, врезались в слизистую его носа и горла. Останься они на полчаса в этой буре, и их легкие, если только их тела когда-нибудь найдут, будут так начинены землей, что патологоанатом закономерно сможет уподобить их мешочку пылесоса, который ни разу не вытряхивали.
Входная дверь! Паха Сапа в темноте ударил по ней тыльной стороной ладони и, чтобы убедиться, нащупал ее кромки. Да, это была дверь.
И она была заколочена досками.
Подавляя в себе желание рассмеяться, или заплакать, или обратиться к Вакану Танке или к Хитрецу Койоту[44] с песней мертвеца, Паха Сапа потащил Хута сквозь темень, нащупывая путь вдоль дома влево от двери.
Они оба свалились с низкого просевшего крыльца. Паха Сапа через секунду уже вскочил на ноги и метнулся к стене дома. Он понимал, что если он потеряет дом, то им конец.
Такая маленькая жалкая развалюха, но они, казалось, шли вдоль стены целую вечность. Паха Сапа своими потрескавшимися ладонями нащупал забитое досками окно. Если им не удастся попасть в дом…
Он отогнал от себя эту мысль и потянул за собой Хута. Этот крепкий шахтер свалился на землю и так и не смог подняться на ноги. Паха Сапа тащил его. Вокруг его ног наметало сыпучую землю. Внезапно он потерял ориентацию, он будто поднимался по крутому склону, словно плоская, спекшаяся земля фермы в Восточном Колорадо превратилась в вертикальную стену горы Рашмор, оскверненных Шести Пращуров.
Паха Сапа вдруг ощутил прилив какого-то восторга. И тут он и в самом деле заплакал. Слезы в его глазах превращались в комочки грязи, спекались, не давали векам разомкнуться.
Ему не придется стать разрушителем четырех голов на священной горе в священных холмах.
Вакан Танка и существа грома сделали дело за него. Эта жуткая буря, жуткое затмение сокрушат все на свете.
Линкольн, Хут и Ред говорили, будто президент Рузвельт подумывает, не эвакуировать ли ему все равнинные штаты срединной Америки, если лесозащитная полоса не сможет защитить фермы, ранчо и насквозь пропесоченные призраки умирающих городов здесь и к югу. Внезапно Паха Сапа понял, что боги лакота и Вакан Танка, а возможно, и родовые духи-призраки его народа уже сделали свое дело. Вот уже пять лет дули ветра, и плодородный слой сдуло с земли в небеса, отчего земля перестала рожать и фермы погрязли в собственных отходах, а павший скот на ранчо исчислялся тысячами, потому что почва высохла и, сдуваемая ветром, уносила с собой остатки выгоревших трав.
Боги действовали. Ничто на земле не может выдержать столько таких бурь. Паха Сапа знал, что подобная буря (эта черная метель, этот въедливый пыльник, этот громадный вал) не по силам изнеженным, жирным, возносящим молитвы своему Богу вазичу. Паха Сапа знал природу как свои пять пальцев, и эта буря, все бури нарастающей силы, о которых он читал, сюжеты о которых видел в киножурналах, которые в более мягкой форме испытал на собственной шкуре в Южной Дакоте, – они не были частью природы. Не было таких природных циклов в истории Северной Америки или даже мира, чтобы подобные ветра дули месяцами, чтобы годы такой засухи следовали один за другим, не было таких визжащих, воющих, роящихся стен удушающей смерти.
Это боги его народа говорили вазичу: уходите отсюда навсегда.
Паха Сапа безмолвно рыдал под своим платком, рыдал главным образом от облегчения при мысли о том, что ему не придется стать проводником уничтожения вазичу. Он состарился. Он устал. Он слишком хорошо знал врага. Он хотел, чтобы эта чаша миновала его… и пока она его миновала.
В его сердце, голове, груди бубнил призрак Длинного Волоса. Теперь Паха Сапа, конечно, понимал слова (он мог их понимать большую часть своей жизни – со времен Кудрявого, Седьмого кавалерийского и сражения на Тощей горке), но сейчас он решил не слушать.
Вдруг левая рука Паха Сапы схватила пустоту – они дошли до тыльной стороны дома.
Он затащил тело Хута через высокий нанос в благословенную подветренную сторону дома, защищавшую от бури.
Но и здесь в воздухе кружились комочки земли, набивались повсюду, не давали вздохнуть, и облегчения не наступило. Паха Сапа поднес свободную руку к залепленному землей лицу и постарался открыть веки, склеенные грязью и обжигающими частичками.
Ничего. Он, без преувеличения, не мог видеть своей руки всего в нескольких дюймах от лица. Молния запрыгала, обвиваясь вокруг него, – от невидимого водосточного желоба к невидимому шесту для бельевой веревки, от невидимого насоса к невидимому гвоздю в крыльце, к так и не увиденным им ограде или калитке в двадцати футах. Молнии и статические разряды прыгали и метались вокруг, но при этом ничего не освещали.
Паха Сапа потащил тело Хута вперед, прижимаясь правым плечом к стене дома. Теперь, когда ветер не толкал его сзади и не валил с ног, как на дорожке, он совсем потерял ориентацию. Если бы не стена дома, он упал бы лицом вниз и никогда не поднялся.
Он вдруг понял, что откуда-то спереди доносится бешеный грохот, словно кто-то стоит в роящейся темноте и стреляет из тяжелой магазинной винтовки или пулемета. Паха Сапа подумал о своем сыне.
Пока бешено колотящаяся в петлях сетчатая дверь не ударила его по голове и чуть не сшибла с ног, Паха Сапа так и не смог определить источника этих взрывов. Он подпер дверь телом Хута и попытался открыть тяжелую вторую дверь. Либо ее заело, либо она была заперта.
Паха Сапа навалился плечом, всем своим весом, вкладывая в это движение все оставшиеся у него силы.
Тяжелая некрашеная дверь со скрипом подалась внутрь, откидывая нанесенную внутрь землю.
Паха Сапа нагнулся и затащил Хута внутрь, а потом с силой захлопнул дверь.
Вой стих на несколько децибел. Поначалу Паха Сапа решил, что внутри такая же темнота и черная метель, как снаружи, и промозглый холод, – но потом он увидел что-то вроде слабенького мерцания. Словно пламя костра с расстояния в несколько миль.
Таща за собой стонущего Хута, он двинулся в том направлении.
Это была керосиновая лампа на полу кухни не далее чем в шести футах. Мерцание ее на глазах ослабело и исчезло, но Паха Сапа все же успел разглядеть лица сидящих вокруг лампы – только лица, тела оставались в темноте, и заляпанные грязью одежды были не видны: лица худого как жердь фермера с усами щеточкой и его еще более худой жены, трех их детей и широко распахнутые глаза Линкольна Борглума и Реда Андерсона. Они все сгрудились вокруг едва мерцающей лампы на полу, словно средневековые идолопоклонники вокруг какого-то священного артефакта.
У широко распахнутых глаз было время, чтобы выразить удивление, вызванное появлением Паха Сапы и Хута в наполненном воем пространстве, после чего лампа моргнула и погасла окончательно. В воздухе не хватало кислорода, чтобы поддерживать горение.
Паха Сапа прошептал: «Ваштай хесету!» («Хорошо, пусть так и будет!») – и рухнул на потрескавшийся и съехавший желтый линолеум. У него перехватило дыхание.
Час спустя оглушающий, неутихающий шум перешел в звериное ворчание. Лампу снова зажгли, и пламя не погасло. Жена фермера сняла со стола еще одну лампу и зажгла ее. Теперь свет проникал на шесть-восемь футов в роящийся мрак. Но монстр снаружи продолжал стучать, рычать, колотиться в дверь и окна, забитые досками, требовать, чтобы его впустили.
– Эй, ребята, хотите пить? – прокричал фермер.
За всех ответил безмолвным кивком Линкольн Борглум, чьи прежде светлые глаза теперь покраснели. Паха Сапа понял, что лежит на боку и его платок давно уже душит его. Он сел и прислонился спиной к буфету. Хут стоял на четвереньках, опустив голову, как больная собака, и поскуливал в тон усиливающемуся или утихающему реву и стону ветра.
Фермер встал, оступился, пошатнулся и подошел к раковине. Паха Сапа уже мог видеть на расстоянии шести, восьми, десяти футов, и его глаза дивились сумрачной ясности.
Фермер нажимал, нажимал и нажимал рычаг насоса у раковины.
«Нет, – подумал Паха Сапа, – насос не может работать теперь, когда мир вокруг уничтожен».
Фермер вернулся с одной-единственной чашкой, наполненной водой, и пустил ее по кругу – глоток на каждого, начиная с детей, потом четыре гостя, потом его жена. Когда чашка вернулась к нему, она была пуста. Он, казалось, слишком устал, чтобы вернуться и наполнить ее еще раз.
Тридцать или сорок минут спустя – Паха Сапа руководствовался своим чутьем; его часы остановились в первые минуты пыльной атаки – рев стал слабее, и фермер с женой пригласили четырех гостей к обеду.
– Боюсь, что в основном овощи. И индеец тоже приглашается.
Это проговорила страшноватая на вид жена фермера.
И опять за всех ответил Линкольн Борглум, но только после того, как очистил рот от грязи и комьев земли:
– Мы будем вам очень признательны, мадам.
И после минутного молчания, когда никто – кроме детей, которые отползли в темноту, чтобы заниматься тем, чем они собирались заниматься, – еще и не пошевелился, снова заговорил Линкольн:
– Слушайте, а может, вам нужны два здоровенных двигателя с подводной лодки?
Паха Сапа улыбается, повиснув в обжигающей скальной чаше августовского света и жары. Он находится под намеченным вчерне носом Авраама Линкольна. Нос дает небольшую тень, по мере того как день, окутанный синеватой дымкой, склоняется к вечеру. Паха Сапа устанавливает последние заряды. Уже почти подошло время четырехчасового взрыва, нужно только, чтобы люди спустились с каменных голов.
И тут улыбка сходит с лица Паха Сапы: он вспоминает, как схлынул его восторг год назад, когда он понял, что никакие бури, насланные существами грома, а может быть, и самим Всё, Ваканом Танкой, не изгонят вазичу из мира вольных людей природы.
В конечном счете это придется сделать ему самому.
Президент Рузвельт будет здесь всего через несколько дней, в следующее воскресенье, к открытию головы Джефферсона.
Паха Сапе нужно столько всего сделать, прежде чем он позволит себе уснуть.
12. Медвежья горка
Август 1876 г.
Наступает и проходит одиннадцатый день рождения Паха Сапы, но мальчик слишком занят: он, спасая свою жизнь, торопится по равнинам к Черным холмам и к своей ханблецее, которая должна ознаменовать эту дату, хотя он и не заметил бы ее, если бы остался в деревне.
Сильно Хромает посоветовал ему скакать с двумя лошадьми по ночам, а днями, если нужно, прятаться от Шального Коня и его людей, но пока этого не требуется. В полночь того дня, когда он покинул деревню, начался дождь, и не перестает, и не перестанет. В течение трех дней он льет и льет, сопровождаемый громами и молниями, которые заставляют Паха Сапу держаться подальше от тех немногих деревьев, что растут по берегам ручьев, и ежиться на скаку; даже днем видимость не превышает сотни футов, потому что над пропитанной влагой прерией колышется серый занавес дождя.
Паха Сапа едет и ночью и днем, но медленно, и он весь промок. Никогда за свою короткую жизнь Паха Сапа не видел, чтобы Луна созревающих ягод была столь влажной и дождливой. Обычно последний месяц лета такой сухой, что табуны коней никогда не отходят от речушек, в которых почти не остается воды, а кузнечики плодятся в неимоверном количестве, поэтому, прогуливаясь по высокой хрупкой коричневатой траве, приходится идти по волнам скачущих насекомых.
Сейчас, по прошествии трех бессонных дней и ночей почти без еды, терзаемый постоянным страхом Паха Сапа проникся абсолютным отвращением к себе. Любой воин его возраста в состоянии найти убежище и развести костер даже при таком дожде; кремень и кресало у него действуют – высекают искры, но он не может найти ничего сухого, чтобы поджечь. И убежища он не может найти. Известные ему неглубокие пещеры и свесы расположены по берегам рек, но теперь они залиты водой, поднявшейся на три или более фута. Хотя тюки с одеждой и всякой утварью тщательно увязаны в несколько слоев вывернутых наизнанку шкур, они пропитались водой. В течение нескольких часов каждую ночь он ежится под одной из лошадей, кутаясь в два одеяла, но от них промокает еще больше и еще сильнее падает духом.
А ко всему этому еще и голоса.
Голос мертвого вазикуна теперь еще назойливее, он становится громче, стоит несчастному мальчику попытаться уснуть. За те несколько дней, что прошли с того момента, когда Паха Сапа прикоснулся к Шальному Коню и принял его воспоминания, – иногда Паха Сапе кажется, что совершенное над ним насилие было равносильно тому, как если бы на него мочились и заставляли пить это, – от трескотни и бормотания чужих воспоминаний мальчик заболел.
Воспоминания Шального Коня не так бесцеремонно-навязчивы, как ночная болтовня призрака, но тревожат мальчика гораздо сильнее.
Эмоции переполняют Паха Сапу. Он прожил всего лишь одиннадцать не богатых особыми событиями лет, тогда как Шальному Коню, который обрушил свои воспоминания на агонизирующий мозг Паха Сапы, этим летом должно исполниться тридцать четыре, и каким-то образом, несмотря на его внутреннее сопротивление, видение Паха Сапы простирается на год или два вперед, вплоть до смерти Шального Коня от штыка.
Паха Сапа, конечно, ничего не помнит о собственных родителях, поскольку его мать умерла при родах, а его отец – за несколько месяцев до этого, но зато теперь он помнит родителей мальчишки по имени Кудрявый Волос, или просто Кудрявый: его мать бруле и его отца – шамана по имени Шальной Конь. Он ясно, слишком ясно, помнит шестнадцатое лето Кудрявого, когда тот проявил невиданную отвагу во время налета на арапахо (он был тогда ранен стрелой в ногу, убив перед этим несколько арапахо, но боль от того ранения помнит теперь Паха Сапа), и после этого отец Кудрявого, Шальной Конь, дал сыну собственное имя, а сам до конца жизни носил имя Червь.
Воспоминания Паха Сапы о собственном детстве теперь приглушены ложными воспоминаниями Кудрявого, или Шального Коня, о его жизни в деревне лакотских оглала, но воспоминания Кудрявого (Шального Коня) окрашены красным цветом эмоций насилия, близости к безумию и постоянного ощущения враждебности. Паха Сапа – приемный сын Сильно Хромает, и он надеется стать шаманом, как и его уважаемый тункашила, а Кудрявый (Шальной Конь), сын другого шамана, хотел – всегда хотел – стать хейокой, ясновидцем и слугой существ грома.