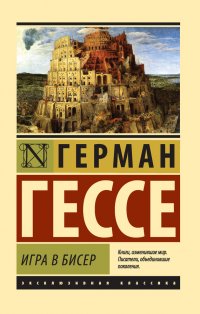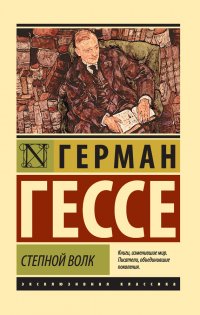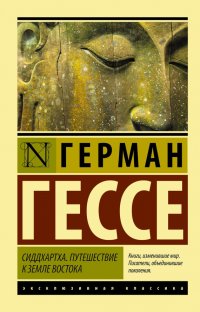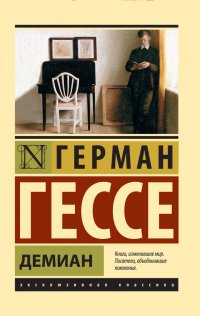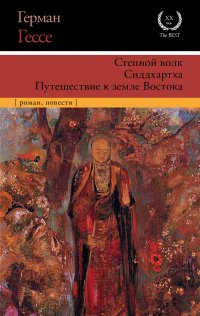
Читать онлайн Степной волк. Сиддхартха. Путешествие к земле Востока бесплатно
- Все книги автора: Герман Гессе
Hermann Hesse
Der Steppenwolf. Siddhartha. Die Morgenlandfahrt
© Hermann Hesse, 1922, 1927, 1932
© Перевод. С.К. Апт, наследники, 2011
© Перевод. Н.Н. Федорова, 2015
© Перевод. Е.В. Шукшина, 2015
© Издание на русском языке AST Publishers, 2016
Степной волк
Предисловие издателя
Эта книга содержит оставшиеся нам записки того, кого мы, пользуясь выражением, которое не раз употреблял он сам, назвали Степным волком. Нуждается ли его рукопись во вступительном слове, трудно сказать; у меня, во всяком случае, есть потребность прибавить к страницам Степного волка некоторое количество собственных, где я пытаюсь записать свои воспоминания, с ним связанные. Знаю я о нем мало, а его происхождение, да и все его прошлое мне так и неизвестны. Но у меня осталось сильное и, что бы там ни было, приятное впечатление от его личности.
Степной волк был человек лет пятидесяти, который несколько лет назад зашел в дом моей тетки в поисках меблированной комнаты. Сняв мансарду и смежную с ней спаленку, он через несколько дней явился с двумя чемоданами и большим, набитым книгами ящиком и прожил у нас месяцев девять-десять. Жил он очень тихо и замкнуто, и если бы не соседство наших спален, повлекшее за собой случайные встречи на лестнице и в коридоре, мы, наверно, так и не познакомились бы, поскольку общительностью он не отличался, он был в высшей, неведомой мне дотоле степени необщителен, он был и правда, как он иногда называл себя, Степным волком, чужим, диким и одновременно робким, даже очень робким существом из иного мира, чем мой. С каким глубоким одиночеством свыкся он из-за своих склонностей и своей судьбы и сколь сознательно усматривал он в таком одиночестве свою судьбу, это я узнал, впрочем, лишь из нижеследующих, оставшихся от него записей; но уже и раньше, благодаря коротким встречам и разговорам, я в какой-то мере его распознал и нахожу, что образ, вырисовывающийся передо мной из его записей, в общем, соответствует той, более бледной и менее полной, конечно, картине, которую я составил себе на основании нашего личного знакомства.
Случайно я присутствовал при том, как Степной волк впервые переступил порог нашего дома и снял жилье у моей тетки. Он пришел в обеденное время, тарелки еще стояли на столе, а у меня оставалось еще полчаса до ухода в контору. Я не забыл странного и очень двойственного впечатления, которое он произвел на меня с первого взгляда. Вошел он через застекленную дверь, предварительно позвонив в нее, и в полутемной передней тетка спросила его, что ему нужно. А он, Степной волк, запрокинул, принюхиваясь, свою острую, коротковолосую голову, повел нервным носом, потягивая воздух вокруг себя, и, прежде чем ответить или назвать свое имя, сказал:
– О, здесь хорошо пахнет.
Он улыбнулся, и моя добрая тетка тоже улыбнулась, а я нашел эти приветственные слова довольно смешными и почувствовал к нему какую-то неприязнь.
– Ну да, – сказал он, – я пришел по поводу комнаты, которую вы сдаете.
Когда мы втроем поднимались по лестнице в мансарду, я сумел рассмотреть его лучше. Он был не очень высок, но обладал походкой и осанкой рослого человека, носил модное и удобное зимнее пальто, да и вообще одет был прилично, но небрежно, выбрит гладко, и волосы его, совсем короткие, мерцали проседью. Сначала его походка мне не понравилась, в ней была какая-то напряженность и нерешительность, не соответствовавшая ни его острому, резкому профилю, ни тону и темпераменту его речи. Лишь позже я заметил и узнал, что он болен и ходить ему трудно. Со странной улыбкой, которая тоже была мне тогда неприятна, он осмотрел лестницу, стены, и окна, и старые высокие шкафы в лестничной клетке, все это ему как бы и нравилось, и в то же время чем-то смешило его. Было вообще такое впечатление, что он явился к нам из другого мира, из каких-то заморских стран, и находит все здешнее хоть и красивым, но немного смешным. Держался он, ничего не скажешь, вежливо, даже приветливо, сразу же и безоговорочно одобрил дом, комнату, плату за жилье и завтрак и прочее, и все-таки от него веяло чем-то чужим, чем-то, как мне показалось тогда, недобрым или враждебным. Он снял комнату, снял заодно и спаленку, осведомился об отоплении, воде, услугах и правилах распорядка, выслушал все внимательно и любезно, со всем согласился, сразу же предложил задаток, и все же казалось, что он не очень-то в это вникает, что он сам себе смешон в своей роли и не принимает ее всерьез, что ему странно и ново снимать комнату и говорить с людьми по-немецки, ибо, по сути, внутренне он занят совсем другим. Таково примерно было мое впечатление, и оно осталось бы неблагоприятным, если бы с ним не пошли вразрез и его не исправили всякие мелкие черточки. Прежде всего – лицо нового жильца, которое мне с самого начала понравилось; несмотря на что-то диковинное во взгляде, оно понравилось мне, это было лицо, может быть, несколько необычное и печальное, но живое, очень осмысленное, четко вылепленное и одухотворенное. Примирительнее настроило меня и то, что в его вежливости и приветливости, хотя они, видимо, стоили ему некоторых усилий, не было ни тени высокомерия – напротив, в них было что-то почти трогательное, что-то похожее на мольбу; объяснение этому я нашел лишь позднее, но это сразу же немного расположило меня к нему.
Еще до того, как осмотр обеих комнат и остальные переговоры закончились, истек мой обеденный перерыв, и мне пришлось отправиться на службу. Я откланялся и оставил его в обществе тетки. Вечером, когда я вернулся, она сказала мне, что он снял жилье и на днях переберется, но попросил не прописывать его в полиции, потому что он, по своему нездоровью, терпеть не может всяких формальностей, хождения по канцеляриям и так далее. Хорошо помню, как это меня тогда озадачило и как я посоветовал тетке не соглашаться с таким условием. Именно в сочетании со всем непривычным и чужим в облике нашего посетителя его страх перед полицией показался мне подозрительным. Я заявил тетке, что, имея дело с совершенно незнакомым человеком, никак нельзя уступать этому и вообще-то странному требованию, исполнение которого может при случае повлечь за собой весьма неприятные для нее последствия. Но тут оказалось, что тетка уже обещала ему исполнить его желание и что она вообще уже очарована и покорена незнакомцем, ведь она никогда не пускала жильцов, если не чувствовала возможности какого-то человеческого, дружеского, заботливо-родственного, точнее даже – материнского отношения к ним, чем многие прежние жильцы вовсю пользовались. Так и получилось, что в первые недели я находил у нового жильца всякие недостатки, а тетка каждый раз горячо защищала его.
Поскольку эта история с уклонением от прописки мне не понравилась, я пожелал хотя бы выяснить, что знает тетка о незнакомце, о его происхождении и его намерениях. Оказалось, что она кое-что знает, хотя после моего полуденного ухода он задержался у нее совсем ненадолго. Он сказал, что собирается пробыть в нашем городе несколько месяцев, воспользоваться местными библиотеками и осмотреть здешние древности. Тетку, собственно, не устраивал жилец на столь короткий срок, но он явно уже расположил ее к себе, несмотря на свое несколько странное появление. Короче говоря, комнаты были сданы, и мои возражения запоздали.
– С какой стати он сказал, что здесь хорошо пахнет? – спросил я.
Тогда моя тетушка, у которой иногда бывали довольно верные догадки, сказала:
– Мне это совершенно ясно. У нас здесь пахнет опрятностью и порядком, пахнет уютной и благопристойной жизнью, и это ему понравилось. Похоже, что он к этому не привык и в этом нуждается.
Ну что ж, подумал я, вполне возможно.
– Однако, – сказал я, – если он не привык к упорядоченной и благопристойной жизни, то что же получится? Что ты сделаешь, если он нечистоплотен и будет везде оставлять грязь или являться по ночам пьяный?
– Посмотрим, – сказала она и засмеялась, и я оставил эту тему.
Мои опасения оказались и правда напрасными. Хотя наш квартирант отнюдь не вел упорядоченной и размеренной жизни, он не обременял нас и не причинял нам никакого ущерба, мы и поныне любим о нем вспоминать. Но внутренне, психологически, этот человек обоим нам, тетушке и мне, еще как мешал и был еще каким бременем, и, честно говоря, я от него еще далеко не освободился. Иногда я вижу его ночами во сне и чувствую, что он, что самый факт существования такого человека, по сути, мешает мне и тревожит меня, хотя я его прямо-таки полюбил.
Два дня спустя извозчик доставил вещи незнакомца, которого звали Гарри Галлер. Очень красивый кожаный чемодан произвел на меня хорошее впечатление, а большой плоский кофр свидетельствовал о прежних дальних поездках – во всяком случае, он был облеплен пожелтевшими ярлыками отелей и транспортных агентств разных стран, даже заморских.
Потом появился он сам, и началась та пора, когда я постепенно узнавал этого необычного человека. Сначала я со своей стороны ничего для этого не предпринимал. Хотя Галлер заинтересовал меня, едва я его увидел, в первые несколько недель я не сделал ни шагу, чтобы встретиться с ним или вступить с ним в разговор. Однако, признаюсь, я с самого начала немного за ним наблюдал, даже захаживал в его отсутствие к нему в комнату и вообще немножко шпионил из любопытства.
О внешности Степного волка я уже кое-что сообщил. Он безусловно и с первого же взгляда производил впечатление человека значительного, редкого и незаурядно одаренного, лицо его было полно ума, а чрезвычайно тонкая и живая игра его черт отражала интересную, необыкновенно тонкую, чуткую работу духа. Когда он, что случалось не всегда, выходил в беседе из рамок условностей и, как бы вырвавшись из своей отчужденности, говорил что-нибудь от себя лично, нашему брату ничего не оставалось, как подчиниться ему, он думал больше, чем другие, и в вопросах духовных обладал той почти холодной объективностью, тем продуманным знанием, что свойственны лишь людям действительно духовной жизни, лишенным какого бы то ни было честолюбия, не стремящимся блистать, или убедить другого, или оказаться правыми.
Мне вспоминается одно такое высказывание последней поры его пребывания здесь, собственно, даже и не высказывание, ибо состояло оно только в брошенном им взгляде. В актовом зале университета должен был выступить с докладом один знаменитый философ и историк культуры, человек с европейским именем, и мне удалось уговорить Степного волка, который сперва всячески отнекивался, послушать этот доклад. Мы пошли вместе и в зале сидели рядом. Взойдя на кафедру и приступив к лекции, оратор разочаровал многих слушателей, ожидавших увидеть чуть ли не пророка, своим щеголеватым и суетным видом. Когда он для начала сказал несколько лестных слов слушателям, поблагодарив аудиторию за ее многолюдность, Степной волк бросил мне короткий взгляд, выразивший критическое отношение к этим словам и вообще к оратору, – о, взгляд незабываемый и ужасный, о смысле которого можно написать целую книгу! Его взгляд не только критиковал данного оратора, уничтожая знаменитого человека своей убийственной, хотя и мягкой иронией, это еще пустяк. Взгляд его был скорее печальным, чем ироническим, он был безмерно и безнадежно печален; тихое, почти уже вошедшее в привычку отчаяние составляло содержание этого взгляда. Своей отчаянной ясностью он просвечивал не только личность суетного оратора, высмеивал не только сиюминутную ситуацию ожидания и настроение публики, несколько претенциозное заглавие объявленной лекции – нет, взгляд Степного волка пронзал все наше время, все мельтешение, весь карьеризм, всю суетность, всю мелкую возню мнимой, поверхностной духовности – да что там, взгляд этот проникал, увы, еще глубже, был направлен гораздо дальше, чем только на безнадежные изъяны нашего времени, нашей духовности, нашей культуры. Он был направлен в сердце всего человечества, в одну-единственную секунду он ярко выразил все сомнение мыслителя, может быть, мудреца в достоинстве, в смысле человеческой жизни вообще. Этот взгляд говорил: «Вот какие мы шуты гороховые! Вот каков человек!» – и любая знаменитость, любой ум, любые достижения духа, любые человеческие потуги на величие и долговечность шли прахом и оказывались шутовством!
Я сильно забежал вперед и, собственно, вопреки своему намерению и желанию в общем-то уже сказал самое существенное о Галлере, хотя сперва собирался нарисовать его портрет лишь исподволь, путем последовательного рассказа о моем с ним знакомстве.
Раз уж я так забежал вперед, то не стоит больше распространяться насчет загадочной «диковинности» Галлера и подробно излагать, как я постепенно почувствовал и узнал причины и смысл этого чрезвычайного и ужасного одиночества. Так будет лучше, ибо свою собственную персону мне хотелось бы по возможности оставить в тени. Я не хочу ни писать исповедь, ни рассказывать истории, ни пускаться в психологию, а хочу лишь как очевидец прибавить кое-какие штрихи к портрету этого странного человека, от которого остались эти записки Степного волка.
Уже с первого взгляда, когда он вошел через тетушкину застекленную дверь, запрокинул по-птичьи голову и похвалил хороший запах нашего дома, я заметил в незнакомце что-то особенное, и первой моей наивной реакцией было отвращение. Я почувствовал (и моя тетка, человек в отличие от меня совсем не умственный, почувствовала примерно то же самое) – я почувствовал, что он болен, то ли как-то душевно, то ли какой-то болезнью характера, и свойственный здоровым инстинкт заставил меня обороняться. Со временем это оборонительное отношение сменилось симпатией, основанной на большом сочувствии к тому, кто так глубоко и долго страдал и чье внутреннее умирание происходило у меня на глазах. В этот период я все больше и больше осознавал, что болезнь этого страдальца коренится не в каких-то пороках его природы, а, наоборот, в великом богатстве его сил и задатков, не достигшем гармонии. Я понял, что Галлер – гений страдания, что он, в духе некоторых тезисов Ницше, выработал в себе гениальную, неограниченную, ужасающую способность к страданию. Одновременно я понял, что почва его пессимизма – не презрение к миру, а презрение к себе самому, ибо, при всей уничтожающей беспощадности его суждений о заведенных порядках или о людях, он никогда не считал себя исключением, свои стрелы он направлял в первую очередь в себя самого, он ненавидел и отрицал себя самого в первую очередь…
Тут я должен вставить одно психологическое замечание. Хотя я мало что знаю о жизни Степного волка, у меня есть все причины полагать, что любящие, но строгие и очень благочестивые родители и учителя воспитывали его в том духе, который кладет в основу воспитания «подавление воли». Так вот, уничтожить личность, подавить волю в данном случае не удалось, ученик был для этого слишком силен и тверд, слишком горд и умен. Вместо того чтобы уничтожить его личность, удалось лишь научить его ненавидеть себя самого. И против себя самого, против этого невинного и благородного объекта, он пожизненно направлял всю гениальность своей фантазии, всю силу своего разума. Ибо в том-то он и был, несмотря ни на что, истинным христианином и истинным мучеником, что всякую резкость, всякую критику, всякое ехидство, всякую ненависть, на какую был способен, обрушивал прежде всего, первым делом на себя самого. Что касалось остальных окружающих, то он упорно предпринимал самые героические и самые серьезные попытки любить их, относиться к ним справедливо, не причинять им боли, ибо «люби ближнего твоего» въелось в него так же глубоко, как ненависть к самому себе, и, таким образом, вся его жизнь была примером того, что без любви к себе самому невозможна и любовь к ближнему, а ненависть к себе – в точности то же самое и приводит к точно такой же изоляции и к такому же точно отчаянию, как и отъявленный эгоизм.
Но пора мне отставить собственные домыслы и перейти к фактам. Итак, первое, что я узнал о Гарри Галлере, – отчасти благодаря своему шпионству, отчасти из замечаний тетушки, – касалось его образа жизни. Что он человек умственно-книжный и не имеет никакого практического занятия, выяснилось вскоре. Он всегда залеживался в постели, часто вставал чуть ли не в полдень и проделывал в халате несколько шагов, отделявших маленькую спальню от его гостиной. Эта гостиная, большая и приятная мансарда с двумя окнами, уже через несколько дней приобрела другой вид, чем при прежних жильцах. Она наполнилась – и со временем наполнялась все больше. Вешались картины, прикалывались к стенам рисунки, иногда вырезанные из журналов иллюстрации, которые часто менялись. Южный пейзаж, фотографии немецкого провинциального городка, видимо родины Галлера, висели здесь вперемежку с яркими, светящимися акварелями, о которых мы лишь впоследствии узнали, что они написаны им самим. Затем фотография красивой молодой женщины или девушки. Одно время на стене висел сиамский Будда, смененный сперва репродукцией «Ночи» Микеланджело, а потом портретом Махатмы Ганди. Книги не только заполняли большой книжный шкаф, но и лежали повсюду – на столах, на красивом старом секретере, на диване, на стульях, на полу, книги с бумажными закладками, постоянно менявшимися. Книги непрестанно прибавлялись, ибо он не только приносил целые кипы из библиотек, но и получал весьма часто бандероли по почте. Человек, который жил в этой комнате, мог быть ученым. Такому впечатлению соответствовал и сигарный дым, все здесь окутывавший, и разбросанные повсюду окурки сигар, и пепельницы. Однако изрядная часть книг была не ученого содержания, подавляющее большинство составляли сочинения писателей всех времен и народов. Одно время на диване, где он часто проводил лежа целые дни, валялись все шесть толстых томов сочинения под названием «Путешествие Софии из Мемеля в Саксонию» – конца восемнадцатого века. Зачитанный вид был у полных собраний сочинений Гете и Жан-Поля, а также Новалиса, Лессинга, Якоби и Лихтенберга. В нескольких томах Достоевского густо торчали исписанные листки. На большом столе среди книг и рукописей часто стоял букет цветов, там же пребывал и этюдник с акварельными красками, всегда, впрочем, покрытый пылью, рядом с ним – пепельницы и, не стану об этом умалчивать, всевозможные бутылки с напитками. В оплетенной соломой бутылке было обычно красное вино, которое он брал в лавочке поблизости, иногда появлялась бутылка бургундского или малаги, а толстая бутылка с вишневой наливкой была, как я видел, за короткий срок почти опорожнена, но потом исчезла в каком-то углу и пылилась без дальнейшего убывания остатка. Не стану оправдывать своего шпионства и честно признаюсь, что первое время все эти приметы хоть и наполненной духовными интересами, но все же довольно-таки беспутной и разболтанной жизни вызывали у меня отвращение и недоверие. Я не только человек бюргерской размеренности в быту, я к тому же не пью и не курю, и эти бутылки в комнате Галлера не понравились мне еще больше, чем прочий живописный беспорядок.
Так же как в отношении сна и работы, незнакомец не соблюдал решительно никакого режима в еде и питье. В иные дни он вообще не выходил из дому и не подкреплялся ничем, кроме утреннего кофе, единственным порой остатком его трапезы, который находила тетка, оказывалась брошенная кожура от банана, зато в другие дни он ел в ресторанах, иногда в хороших, изысканных, иногда в какой-нибудь харчевне на окраине города. Крепким здоровьем он, видимо, не обладал; кроме скованности в ногах, которыми он часто с явным трудом преодолевал лестницы, его мучили, видимо, и другие недуги, и как-то он вскользь заметил, что уже много лет не знает ни нормального пищеварения, ни нормального сна. Я приписал это прежде всего тому, что он пил. Позднее, когда я захаживал с ним в одну из его рестораций, мне доводилось наблюдать, как он быстро и своенравно пропускал рюмку-другую, но по-настоящему пьяным ни я, ни еще кто-либо его ни разу не видел.
Никогда не забуду нашей первой более личной встречи. Мы были знакомы лишь шапочно, как бывают знакомы между собой соседи, живущие в одном доме. Однажды вечером, возвращаясь из конторы, я, к своему удивлению, застал господина Галлера сидящим на лестничной площадке между вторым и третьим этажами. Он сидел на верхней ступеньке и подвинулся в сторону, чтобы меня пропустить. Я спросил его, не чувствует ли он себя плохо, и предложил ему проводить его до самого верха.
Галлер посмотрел на меня, и я понял, что вывел его из какого-то сонного состояния. Он медленно улыбнулся своей красивой и грустной улыбкой, которой так часто надрывал мне сердце, а потом пригласил меня сесть рядом с ним. Я поблагодарил и сказал, что не привык сидеть на лестнице перед чужими квартирами.
– Ах да, – сказал он и улыбнулся еще раз. – Вы правы. Но погодите минутку, я покажу вам, почему я здесь присел.
Тут он указал на площадку перед квартирой второго этажа, где жила одна вдова. На крошечном пятачке паркета между лестницей, окном и застекленной дверью стоял у стены высокий шкаф красного дерева со старинными оловянными украшениями, а на полу перед шкафом, в больших горшках на двух низких подставочках, стояли два растения – азалия и араукария. Растения выглядели красиво и содержались всегда безупречно опрятно, что я уже с удовольствием отмечал.
– Видите, – продолжал Галлер, – эта площадочка с араукарией, здесь такой дивный запах, что я часто прямо-таки не в силах пройти мимо, не помешкав минутку. У вашей тетушки тоже все благоухает и царят порядок и чистота, но эта вот площадочка с араукарией – она так сверкающе чиста, так вытерта, натерта и вымыта, так неприкосновенно опрятна, что просто сияет. Мне всегда хочется здесь надышаться – чувствуете, как здесь пахнет? Как этот запах воска, которым натерт пол, и слабый привкус скипидара вместе с красным деревом, промытыми листьями растений и всем прочим создают благоухание, создают высшее выражение мещанской чистоты, тщательности и точности, исполнения долга и верности в малом. Не знаю, кто здесь живет, но за этой стеклянной дверью должен быть рай чистоты, мещанства без единой пылинки, рай порядка и боязливо-трогательной преданности маленьким привычкам и обязанностям.
Поскольку я промолчал, он продолжил:
– Пожалуйста, не думайте, что я иронизирую! Дорогой мой, я меньше всего хотел бы подтрунивать над этим мещанским порядком. Верно, я сам живу в другом мире, не в этом, и, пожалуй, не выдержал бы и дня в квартире с такими араукариями. Но хоть я и старый, немного уже облезлый Степной волк, я тоже как-никак сын своей матери, а моя мать тоже была мещанка, она разводила цветы, следила за комнатой и за лестницей, за мебелью и за гардинами и старалась придать своей квартире и своей жизни как можно больше опрятности, чистоты и добропорядочности. Об этом напоминает мне запах скипидара, напоминает араукария, и вот я порой сижу здесь, гляжу на этот тихий садик порядка и радуюсь, что такое еще существует на свете.
Он хотел встать, но это оказалось ему трудно, и он не отстранил меня, когда я ему немного помог. Я продолжал молчать, но поддался, как то уже произошло с моей тетушкой, какому-то очарованию, исходившему подчас от этого странного человека. Мы медленно поднялись вместе по лестнице, и перед своей дверью, уже держа в руке ключ, он снова прямо и очень приветливо посмотрел мне в лицо и сказал:
– Вы пришли сейчас из своей конторы? Ну да, в этом я ничего не смыслю, я живу, знаете ли, несколько в стороне, несколько на отшибе. Но, наверно, вы тоже интересуетесь книгами и тому подобным, ваша тетушка сказала мне как-то, что вы окончили гимназию и были сильны в греческом. Сегодня утром я нашел одну фразу у Новалиса, можно показать вам ее? Вам это тоже доставит удовольствие.
Он завел меня в свою комнату, где сильно пахло табаком, вытащил из кучи какую-то книгу, полистал, поискал…
– И это тоже хорошо, очень хорошо, – сказал он, – послушайте-ка: «Надо бы гордиться болью, всякая боль есть память о нашем высоком назначении». Прекрасно! За восемьдесят лет до Ницше! Но это не то изречение, которое я имел в виду, – погодите – нашел. Вот оно: «Большинство людей не хочет плавать до того, как научится плавать». Разве это не остроумно? Конечно, они не хотят плавать! Ведь они созданы для суши, а не для воды. И, конечно, они не хотят думать; ведь они рождены для того, чтобы жить, а не для того, чтобы думать! Ну а кто думает, кто видит в этом главное свое дело, тот может очень в нем преуспеть, но он все-таки путает сушу с водой, и когда-нибудь он утонет.
Так он залучил меня к себе и заинтересовал, и я задержался у него на несколько минут, и с тех пор мы часто, встречаясь на лестнице или на улице, немного беседовали. При этом сначала, так же как в тот раз возле араукарии, я не мог отделаться от чувства, что он иронизирует надо мной. Но это было не так. Он испытывал ко мне, как и к араукарии, поистине уважение, он так глубоко проникся сознанием своего одиночества, своей обреченности плавать, своего отщепенства, что порой и в самом деле, без всякой насмешки, мог прийти в восторг от какого-нибудь слуги или, скажем, трамвайного кондуктора. Сперва мне казалось это довольно смешным преувеличением, барской причудой, кокетливой сентиментальностью. Но мало-помалу я убеждался, что, глядя на наш мещанский мирок из своего безвоздушного пространства, из волчьей своей отчужденности, он действительно восхищался этим мирком, воистину любил его как нечто прочное и надежное, как нечто недостижимо далекое, как родину и покой, путь к которым ему, Степному волку, заказан. Перед нашей привратницей, славной женщиной, он всегда снимал шляпу с неподдельным почтением, и, когда моя тетушка с ним болтала или напоминала ему, что его белье требует починки или что у него отрывается пуговица на пальто, он слушал ее на редкость внимательно и серьезно, словно изо всех сил, но безнадежно старался проникнуть через какую-нибудь щелку в этот спокойный мирок и сродниться с ним хотя бы на час.
Уже в ходе того первого разговора возле араукарии он назвал себя Степным волком, и это тоже немного удивило и покоробило меня. Что за манера выражаться?! Но я не только примирился с этим выражением благодаря привычке, а я сам стал вскоре мысленно называть нашего жильца не иначе как Степным волком, да и сейчас не нашел бы более меткого определения для него. Степной волк, оплошно забредший к нам в города, в стадную жизнь, – никакой другой образ точнее не нарисует этого человека, его робкого одиночества, его дикости, его тревоги, его тоски по родине и его безродности.
Однажды мне довелось наблюдать его в течение целого вечера на симфоническом концерте, где он, к моему изумлению, сидел поблизости от меня, но меня не заметил. Сперва давали Генделя, благородную и красивую музыку, но Степной волк сидел безучастно, погруженный в свои мысли, и не обращал внимания ни на музыку, ни на окружающих. Отрешенный, одинокий, чужой, он сидел с холодным, но озабоченным видом, опустив глаза. Потом началась другая пьеса, маленькая симфония Фридемана Баха, и я поразился, увидев, как после первых же тактов мой отшельник стал улыбаться, заражаясь игрой, – он совершенно ушел в себя и минут, наверное, десять пребывал в таком счастливом забытьи, казался погруженным в такие сладостные мечты, что я следил не столько за музыкой, сколько за ним. Когда пьеса кончилась, он пробудился, сел прямее, собрался было встать и уйти, но все же остался в кресле, чтобы выслушать и последнюю пьесу – это были вариации Регера, музыка, которую многие находили несколько затянутой и утомительной. И Степной волк тоже, слушавший поначалу внимательно и доброжелательно, снова отвлекся, он засунул руки в карманы и снова ушел в себя, но на сей раз не счастливо-мечтательно, а печально и наконец зло, его лицо снова отдалилось, посерело, потухло, он казался старым, больным, недовольным.
После концерта я опять увидел его на улице и пошел следом за ним; кутаясь в пальто, он невесело и устало шагал по направлению к нашему кварталу, но, остановившись у одного старомодного ресторанчика, нерешительно взглянул на часы и вошел внутрь. Мне вдруг взбрело в голову последовать за ним. Он сидел за столиком мещанского заведения, хозяйка и официантки приветствовали его как завсегдатая, я тоже поздоровался и подсел к нему. Мы просидели там час, и за это время я выпил два стакана минеральной воды, а ему принесли пол-литра, а потом еще четверть литра красного вина. Я сказал, что был на концерте, но он не поддержал этой темы. Прочитав этикетку на моей бутылке с водой, он спросил, не выпью ли я вина, которым он меня угостит. Когда он услыхал, что вина я вообще не пью, на лице его снова появилось выражение беспомощности, и он сказал:
– Да, вы правы. Я тоже годами жил в воздержании и подолгу постился, но сейчас я опять пребываю под знаком Водолея, это темный и влажный знак.
И когда я в шутку подхватил это замечание и нашел странным, что именно он верит в астрологию, он снова взял тот слишком вежливый тон, который меня часто обижал, и сказал:
– Совершенно верно, и в эту науку поверить я, к сожалению, не могу.
Я попрощался и ушел, а он вернулся домой лишь поздно ночью, но походка его не отличалась от обычной, и, как всегда, лег он в постель не сразу (все это я, благодаря соседству наших комнат, прекрасно слышал), а провел еще около часа в своей освещенной гостиной.
Помнится мне и другой вечер. Я был один дома, тетка куда-то ушла, позвонили у парадного, я отворил, увидел перед собой молодую, очень красивую даму и, когда она спросила господина Галлера, узнал ее: это была та, чья фотография висела у него в комнате. Я показал ей его дверь и удалился, она некоторое время пробыла наверху, но вскоре я услыхал, как они вместе спускаются по лестнице и выходят, оживленно и очень весело шутя и болтая. Меня очень удивило, что у нашего отшельника есть возлюбленная, и притом такая молодая, красивая и элегантная, и все мои догадки насчет него и его жизни опять под вопросом. Но не прошло и часа, как он вернулся домой, один, тяжелой, печальной поступью, с трудом поднялся по лестнице и потом часами тихо шагал по своей гостиной взад и вперед, совсем как волк в клетке, и всю ночь, почти до утра, в его комнате горел свет.
Я решительно ничего не знаю об этих отношениях и добавлю только, что с той женщиной видел его еще один раз, где-то на улице. Они шли под руку, и у него был счастливый вид, и я опять подивился тому, каким милым, даже детским могло быть порой его озабоченное, отрешенное лицо, и понял эту женщину, и понял участие, которое проявляла к нему моя тетка. Но и в тот день он вечером вернулся домой печальный и несчастный; я встретил его у парадного, он нес под пальто, как уже бывало, итальянскую бутылку, за которой и просидел потом полночи в своем логове. Мне было жаль его: какой он жил безотрадной, загубленной, беззащитной жизнью!
Хватит, однако, разглагольствовать. Не нужно никаких больше рассказов и описаний, чтобы показать, что Степной волк вел жизнь самоубийцы. И все же я не думаю, что он покончил с собой, когда вдруг, не попрощавшись, но погасив все задолженности, покинул наш город и исчез. Мы ничего о нем с тех пор не слыхали и все еще храним несколько писем, пришедших потом на его имя. Осталась от него только рукопись, написанная им, когда он здесь жил, – из нескольких строк, к ней приложенных, явствует, что он дарит ее мне и что я волен делать с ней что угодно.
Я не имел возможности проверить, насколько соответствуют действительности истории, о которых повествует рукопись Галлера. Не сомневаюсь, что они по большей части сочинены, но это не произвольный вымысел, а попытка выразить что-то, облекая глубоко пережитое душой в форму зримых событий. Фантастические отчасти истории в сочинении Галлера относятся, вероятно, к последней поре его пребывания здесь, и я не сомневаюсь, что основаны они и на некоторых подлинных внешних впечатлениях. В ту пору поведение и вид нашего гостя действительно изменились, он часто, иногда целыми ночами, не бывал дома, и книги его лежали нетронутые. Во время наших редких тогда встреч он казался поразительно оживленным и помолодевшим, иногда даже веселым. Потом, однако, сразу последовала новая тяжелая депрессия, он по целым дням оставался в постели, не принимая никакой пищи, и как раз на ту полосу пришлась бурная, можно сказать, грубая ссора с его вновь появившейся возлюбленной, ссора, которая всколыхнула весь дом и за которую Галлер на следующий день просил прощения у моей тетки.
Нет, я убежден, что он не покончил с собой. Он еще жив, он где-нибудь ходит усталыми своими ногами по лестницам чужих домов, разглядывает где-нибудь сверкающие паркеты и ухоженные араукарии, просиживает дни в библиотеках, а ночи в кабаках или валяется на диване, который взял напрокат, слышит, как живут за окнами люди и мир, знает, что он отрезан от них, но не накладывает на себя руки, ибо остаток веры твердит ему, что он должен испить душою до дна эту боль, эту страшную боль и что умереть он должен от этой боли. Я часто о нем думаю, он не облегчил мне жизнь, не был способен поддержать и утвердить во мне силу и радость, о нет, напротив!
Но я не он, и я живу не его жизнью, а своей, маленькой, мещанской, но безопасной и наполненной обязанностями. И мы вспоминаем о нем с мирным и дружеским чувством, я и моя тетушка, которая могла бы поведать о нем больше, чем я, но это останется скрыто в ее доброй душе.
Что касается записок Галлера, этих странных, отчасти болезненных, отчасти прекрасных и глубокомысленных фантазий, то должен сказать, что, попадись мне эти листки случайно и не знай я их автора, я бы их, конечно, с негодованием выбросил. Но благодаря знакомству с Галлером я смог их отчасти понять, даже одобрить. Я бы поостерегся открывать их другим, если бы видел в них лишь патологические фантазии какого-то одиночки, несчастного душевнобольного. Но я вижу в них нечто большее, документ эпохи, ибо душевная болезнь Галлера – это мне теперь ясно – не выверты какого-то одиночки, а болезнь самой эпохи, невроз того поколения, к которому принадлежит Галлер, и похоже, что неврозом этим охвачены не только слабые и неполноценные индивидуумы, отнюдь нет, а как раз сильные, наиболее умные и одаренные.
Нижеследующие записи – не важно, в какой мере основаны они на реальных событиях, – попытка преодолеть большую болезнь эпохи не обходным маневром, не приукрашиванием, а попыткой сделать самую эту болезнь объектом изображения. Они представляют собой, в полном смысле слова, сошествие в ад, то боязливое, то мужественное сошествие в хаос помраченной души, предпринятое с твердым намерением пройти через ад, помериться силами с хаосом, выстрадать все до конца.
Ключ к пониманию этого дало мне одно замечание Галлера. Однажды, после разговора о так называемых жестокостях Средневековья, он мне сказал:
– На самом деле это никакие не жестокости. У человека Средневековья весь уклад нашей нынешней жизни вызвал бы омерзение, он показался бы ему не то что жестоким, а ужасным и варварским! У каждой эпохи, у каждой культуры, у каждой совокупности обычаев и традиций есть свой уклад, своя, подобающая ей суровость и мягкость, своя красота и своя жестокость, какие-то страдания кажутся ей естественными, какое-то зло она терпеливо сносит. Настоящим страданием, адом человеческая жизнь становится только там, где пересекаются две эпохи, две культуры и две религии. Если бы человеку Античности пришлось жить в Средневековье, он бы, бедняга, в нем задохнулся, как задохнулся бы дикарь в нашей цивилизации. Но есть эпохи, когда целое поколение оказывается между двумя эпохами, между двумя укладами жизни в такой степени, что утрачивает всякую естественность, всякую преемственность в обычаях, всякую защищенность и непорочность! Конечно, не все это чувствуют с одинаковой силой. Такой человек, как Ницше, выстрадал нынешнюю беду заранее, больше, чем на одно поколение, раньше других, – то, что он вынес в одиночестве, никем не понятый, испытывают сегодня тысячи.
Читая записки Галлера, я часто вспоминал эти слова. Галлер принадлежит к тем, кто оказался между двумя эпохами, кто ничем не защищен и навсегда потерял непорочность, к тем, чья судьба – ощущать всю сомнительность человеческой жизни с особенной силой как личную муку, как ад.
В этом, по-моему, состоит смысл, который имеют для нас его записи, и поэтому-то я и решился их опубликовать. Вообще же я не хочу ни брать их под защиту, ни судить о них, пусть каждый читатель сделает это, как велит ему совесть!
Записки Гарри Галлера
Только для сумасшедших
День прошел, как и вообще-то проходят дни, я убил, я тихо сгубил его своим примитивным и робким способом жить; несколько часов я работал, копался в старых книгах, в течение двух часов у меня были боли, как и вообще-то у пожилых людей, я принял порошок и порадовался, что удалось перехитрить боль, полежал в горячей ванне, вбирая в себя приятное тепло, трижды получил почту и просмотрел все ненужные мне письма и бандероли, проделал свои дыхательные упражнения, а умственные упражнения из лени сегодня отставил, часок погулял и увидел на небе прекрасные, нежные, редкостные узоры перистых облаков. Это было очень славно, так же как читать старые книги, как лежать в горячей ванне, но, в общем, день был совсем не чудесный, отнюдь не сиял счастьем и радостью, а был просто одним из этих давно уже обычных и привычных для меня дней – умеренно приятных, вполне терпимых, сносных, безликих дней пожилого недовольного господина, одним из этих дней без особых болей, без особых забот, без настоящего горя, без отчаяния, дней, когда даже вопрос, не пора ли последовать примеру Адальберта Штифтера и смертельно порезаться при бритье, разбирается деловито и спокойно, без волнения и страха.
Кто знает другие дни, скверные, с приступами подагры или с ужасной головной болью, гнездящейся за глазными яблоками и своим дьявольским колдовством превращающей из радости в муку всякую деятельность, для которой нужны зрение и слух, или те дни духовного умирания, те черные дни пустоты и отчаяния, когда среди разоренной и высосанной акционерными обществами земли человеческий мир и так называемая культура с их лживым, дешевым, мишурным блеском то и дело вызывают у нас тошноту, а самым несносным их средоточием становится наша собственная больная душа, – кто знает эти адские дни, тот очень доволен такими нормальными, половинчатыми днями, как сегодняшний, он благодарно сидит у теплой печки, благодарно отмечает, читая утреннюю газету, что и сегодня не вспыхнула война, не установилась новая диктатура, не вскрылось никакой особенной гадости в политике и экономике, он благодарно настраивает струны своей заржавленной лиры для сдержанного, умеренно радостного, почти веселого благодарственного псалма, которым нагоняет скуку на своего чуть приглушенного бромом половинчатого бога довольства, и в спертом воздухе этой довольной скуки, этой благодарности, безболезненности они оба, половинчатый бог, клюющий носом, и половинчатый человек, с легким ужасом поющий негромкий псалом, похожи друг на друга, как близнецы.
Прекрасная вещь – довольство, безболезненность, эти сносные, смирные дни, когда ни боль, ни радость не осмеливаются вскрикнуть, когда они говорят шепотом и ходят на цыпочках. Но со мной, к сожалению, дело обстоит так, что именно этого довольства я не выношу, оно быстро осточертевает мне, и я в отчаянии устремляюсь в другие температурные пояса, по возможности путем радостей, а на худой конец, и с помощью болей. Стоит мне немного пожить без радости и без боли, подышать вялой и пресной сносностью так называемых хороших дней, как ребяческая душа моя наполняется безнадежной тоской, и я швыряю заржавленную лиру благодарения в довольное лицо сонного бога довольства, и жар самой лютой боли милей мне, чем эта здоровая комнатная температура. Тут во мне загорается дикое желание сильных чувств, сногсшибательных ощущений, бешеная злость на эту тусклую, мелкую, нормированную и стерилизованную жизнь, неистовая потребность разнести что-нибудь на куски, магазин, например, собор или себя самого, совершить какую-нибудь лихую глупость, сорвать парики с каких-нибудь почтенных идолов, снабдить каких-нибудь взбунтовавшихся школьников вожделенными билетами до Гамбурга, растлить девочку или свернуть шею нескольким представителям мещанского образа жизни. Ведь именно это я ненавидел и проклинал непримиримей, чем прочее, – это довольство, это здоровье, это прекраснодушие, этот благоухоженный оптимизм мещанина, это процветание всего посредственного, нормального, среднего.
Вот в каком настроении закончил я, когда стемнело, этот заурядный сносный день. Закончил я его не так, как то полагалось бы и было полезно человеку недомогающему: не лег в приготовленную постель, где меня, как приманка, ждала грелка, а выполнив свой небольшой, не принесший удовлетворения и опротивевший урок работы, уныло надел башмаки, пальто и в туманной темноте отправился в город, чтобы в гостинице «Стальной шлем» выпить то, что пьющие мужчины, по старому обычаю, называют «стаканчиком вина».
Итак, я стал спускаться из своей мансарды по лестницам, по этим трудным для подъема лестницам чужбины, лестницам благопристойного трехквартирного доходного дома, на чердаке которого находится моя келья. Не знаю, почему так получается, но я, безродный Степной волк, одинокий враг мещанского мира, живу всегда в самых что ни на есть мещанских домах, это моя старая слабость. Не во дворцах и не в пролетарских домах, а неукоснительно в этих благопристойных, скучнейших, содержащихся в безупречном порядке мещанских гнездах, где попахивает скипидаром и мылом, где пугаешься, если услышишь, что дверь парадного громко хлопнула, или если войдешь в грязных ботинках. Я люблю эту атмосферу, несомненно, со времен детства, и моя тайная тоска по какому-то подобию родины снова и снова безнадежно ведет меня этими старыми, глупыми путями. Да и нравится мне контраст между моей жизнью, моей одинокой, не знающей любви, затравленной, донельзя беспорядочной жизнью и этой семейно-мещанской сферой. Я люблю вдыхать на лестнице этот запах тишины, порядка, чистоты, благопристойности и обузданности, запах, в котором всегда, несмотря на свою ненависть к мещанству, нахожу что-то трогательное, люблю переступать затем порог собственной комнаты, где все это кончается, где среди нагроможденных книг валяются окурки сигар и стоят бутылки из-под вина, где все неуютно, все в беспорядке и запустении и где все – книги, рукописи, мысли – отмечено и пропитано бедой одиноких, трудностью человеческого бытия, тоской по новой осмысленности человеческой жизни, утратившей смысл.
И вот я миновал араукарию. На втором этаже этого дома лестница проходит мимо маленькой площадки перед квартирой, которая, несомненно, еще безупречнее, чище, прибраннее, чем другие, ибо эта площадочка сияет сверхчеловеческой ухоженностью, она – маленький светящийся храм порядка. На паркетном полу, ступить на который боишься, стоят здесь две изящные скамеечки, и на каждой – по большому горшку, в одном растет азалия, в другом – довольно-таки красивая араукария, здоровое, стройное деревце, совершенное в своем роде, каждая иголочка, каждая веточка промыта до блеска. Иной раз, когда знаю, что меня никто не видит, я пользуюсь этим местом как храмом, сажусь над араукарией на ступеньку, немного отдыхаю, складываю молитвенно руки и благоговейно гляжу вниз, на этот садик порядка, берущий меня за душу своим трогательным видом и смешным одиночеством. За этой площадкой, как бы под священной сенью араукарии, мне видится квартира, полная сверкающего красного дерева, видится жизнь, полная порядочности и здоровья, жизнь, в которой рано встают, исполняют положенные обязанности, умеренно весело справляют семейные праздники, ходят по воскресеньям в церковь и рано ложатся спать.
С наигранной бодростью шагал я по сырому асфальту улиц; слезясь и расплываясь, глядели огни фонарей сквозь холодную морось и высасывали тусклые отражения из мокрой земли. Мне вспомнились забытые годы юности – как любил я тогда такие темные и хмурые вечера поздней осени и зимы, как жадно в ту пору и опьяненно впитывал я в себя атмосферу одиночества и грусти, когда чуть ли не по целым ночам, в дождь и бурю, бродил, закутавшись в пальто, среди враждебной, оголенной природы, одинокий уже и в ту пору, но полный глубокого счастья и полный стихов, которые затем записывал при свете свечи, сидя на краю кровати у себя в комнатке! Что ж, это прошло, эта чаша была выпита и больше не наполнялась. Жалел ли я об этом? Нет, не жалел. Ничего не было жаль, что прошло. Жаль было моего сегодня, всех этих бесчисленных часов, которые я потерял, которые только вытерпел, которые не принесли мне ни подарков, ни потрясений. Но, слава богу, исключения тоже бывали, бывали иногда, редко, правда, и другие часы, они приносили потрясения, приносили подарки, ломали стены и возвращали меня, заблудшего, к живой душе мирозданья. С грустью и все-таки с большим интересом попытался я вспомнить последнее впечатление такого рода. Это было на концерте, играли прекрасную старинную музыку, и между двумя тактами пиано деревянных духовых мне вдруг снова открылась дверь в потусторонний мир, я взлетел в небеса и увидел Бога за работой, я испытал блаженную боль и больше уже ни от чего на свете не защищался, больше уже ничего не боялся на свете, всему сказал «да», отдал свое сердце всему. Продолжалось это недолго, каких-нибудь четверть часа, но в ту ночь вернулось во сне и с тех пор нет-нет да поблескивало украдкой и в самые унылые дни, иногда я по несколько минут отчетливо это видел – как золотой божественный след, проходящий через мою жизнь: он почти всегда засыпан грязью и пылью, но вдруг опять вспыхнет золотыми искрами, и тогда кажется, что его уже нельзя потерять, а он вскоре опять пропадает. Однажды ночью, лежа без сна, я вдруг заговорил стихами, стихами слишком странными и прекрасными, чтобы мне пришло в голову их записать, а утром я их уже не помнил, но они затаились во мне, как тяжелый орех в старой, надтреснутой скорлупе. Иной раз это находило, когда я читал какого-нибудь поэта, когда задумывался над какой-нибудь мыслью Декарта, Паскаля, иной раз это вспыхивало и вело меня золотой нитью в небеса, когда я бывал с любимой. Увы, трудно найти этот божественный след внутри этой жизни, которую мы ведем, внутри этой, такой довольной, такой мещанской, такой бездуховной эпохи, при виде этой архитектуры, этих дел, этой политики, этих людей! Как же не быть мне Степным волком и жалким отшельником в мире, ни одной цели которого я не разделяю, ни одна радость которого меня не волнует! Я долго не выдерживаю ни в театре, ни в кино, не способен читать газеты, редко читаю современные книги, я не понимаю, какой радости ищут люди на переполненных железных дорогах, в переполненных отелях, в кафе, оглашаемых душной, назойливой музыкой, в барах и варьете элегантных, роскошных городов, на всемирных выставках, на праздничных гуляньях, на лекциях для любознательных, на стадионах – всех этих радостей, которые могли бы ведь быть мне доступны и за которые тысячи других бьются, я не понимаю, не разделяю. А то, что в редкие мои часы радости бывает со мной, то, что для меня – блаженство, событие, экстаз, воспарение, – это мир признает, ищет и любит разве что в поэзии, в жизни это кажется ему сумасшедшим, и в самом деле, если мир прав, если правы эта музыка в кафе, эти массовые развлечения, эти американизированные, довольные столь малым люди, значит, не прав я, значит, я – сумасшедший, значит, я и есть тот самый Степной волк, кем я себя не раз называл, зверь, который забрел в чужой непонятный мир и не находит себе ни родины, ни пищи, ни воздуха.
С этими привычными мыслями шел я дальше по мокрому асфальту, через один из наиболее тихих и старых кварталов города. Напротив, на другой стороне улицы, стояла в темноте старая серая каменная стена, на которую я всегда любил смотреть, такая старая, она всегда так беспечно стояла между маленькой церковью и старой больницей, днем взгляд мой часто отдыхал на ее неровной плоскости, ведь мало было таких тихих, славных, молчащих плоскостей в центре города, где на каждом квадратном метре выкрикивали свои имена то магазин, то адвокат, то изобретатель, то врач, то цирюльник или мозольных дел мастер. Старая эта стена и сейчас пребывала, я видел, в тишине и покое, но что-то в ней все-таки изменилось, я растерялся, когда вдруг увидел в середине ее красивые воротца со стрельчатым сводом, потому что не мог сказать, были ли они здесь всегда или появились теперь. Вид у них был, несомненно, старый-престарый; наверно, уже много веков тому назад эти запертые воротца с темной деревянной створкой вели в какой-нибудь сонный монастырский двор, да и сегодня, наверно, вели туда же, хотя от монастыря ничего не осталось, и, вероятно, я их сотни раз видел, но просто не замечал, может быть, их покрасили заново, и потому они бросились мне в глаза. Во всяком случае, я остановился и внимательно поглядел туда, но не перешел на ту сторону, очень уж раскисла мокрая мостовая; я стоял на тротуаре и только глядел туда, было уже очень темно, и мне показалось, что ворота украшены венком или чем-то пестрым. И, присмотревшись получше, я увидел над воротами светлую вывеску, на которой, так мне показалось, было что-то написано. Я напряг зрение и в конце концов, несмотря на грязь и на лужи, перешел на ту сторону. Тут я увидел над воротами, на серо-зеленой от старости стене, тускло освещенное пятно, по нему быстро бежали пестрые буквы, они сразу же исчезали, возвращались и вновь рассеивались. Ну вот, подумал я, теперь и эту старую славную стену испоганили световой рекламой! Между тем я разобрал несколько промелькнувших слов, прочесть их было трудно, приходилось больше догадываться, буквы появлялись неравномерно, очень бледные и чахлые, и очень скоро гасли. Человек, собиравшийся сделать на этом дельце, умением не отличался, он был степной волк, бедняга; почему он пустил свои буквы сюда, на эту стену, в самом темном закоулке старого города, в это время суток, да еще в дождь, когда здесь никто не ходит, и почему они такие летучие, такие воздушные, такие причудливые и неразборчивые? Но вот наконец-то мне удалось поймать несколько слов подряд, а именно:
Магический театр
Вход не для всех —
не для всех
Я попытался отворить ворота, тяжелая старая ручка не поддавалась, как я ни нажимал на нее. Игра букв кончилась, она прекратилась внезапно, с грустью поняв свою тщетность. Я сделал несколько шагов назад, влез в самую грязь, буквы больше не появлялись, игра их угасла, я долго стоял в грязи и ждал, но напрасно.
И вдруг, когда я перестал ждать и уже вернулся на тротуар, передо мной, отражаясь в мокром асфальте, мигнуло несколько букв.
Я прочел:
Только – - для – - сума – - сшедших!
Я промочил ноги и замерз, но еще долго простоял в ожидании. Ничего больше. И когда я все еще стоял и думал о том, как красиво мелькают блуждающие огоньки пестрых букв на влажной стене и в черном блеске асфальта, ко мне вдруг вернулся отрывок из моих прежних мыслей – сравнение с золотым светящимся следом, который вдруг теряется вдалеке.
Я замерз и пошел дальше, мечтая об этом следе, тоскуя по воротам в волшебный театр, открытый только для сумасшедших. Тем временем я вышел в район рынка, где не было недостатка в вечерних развлечениях, на каждом шагу здесь висели афиши и зазывали надписи: женская хоровая капелла – варьете – кино – танцы, но все это было не для меня, это было для «всех», для нормальных людей, которые и в самом деле везде, как я видел, толпами валили в подъезды. И все же моя грусть немного рассеялась, до меня все-таки дошел привет из другого мира, пляска нескольких цветных букв играла в моей душе и задела сокровенные струны, золотой след опять замерцал.
Я отыскал допотопный кабачок, где со времен первого моего приезда в этот город, лет двадцать пять тому назад, ничего не изменилось, и хозяйка, еще прежняя, и многие из нынешних гостей сидели здесь и тогда на тех же местах, за теми же стаканами. Я зашел в это скромное заведение, здесь было убежище. Всего-навсего, правда, такое же, как на лестнице перед араукарией, здесь тоже я не находил ни родины, ни общества, а находил лишь, как зритель, тихое место перед сценой, где чужие люди играли чужие пьесы, но даже и это тихое место чего-то стоило: ни многолюдья, ни гама, ни музыки, лишь несколько спокойных обывателей за непокрытыми деревянными столиками (ни мрамора, ни эмалированного металла, ни плюша, ни меди), и перед каждым – вечерний напиток, хорошее, добротное вино. Может быть, эти несколько завсегдатаев со сплошь знакомыми мне лицами были самые настоящие филистеры, и дома у них, в их филистерских квартирах, стояли скучные домашние алтари перед тупыми идолами довольства, а может быть, они были, как я, одинокими, сбившимися с пути забулдыгами, тихо и задумчиво топящими в вине свои обанкротившиеся идеалы, такими же степными волками и беднягами, как я; этого я не знал. Каждого из них тянула сюда какая-то ностальгия, какая-то разочарованность, какая-то потребность в замене, женатый искал здесь атмосферы своей холостяцкой поры, старый чиновник – отзвука своих студенческих лет, все они были довольно молчаливы, и все пили, предпочитая, как я, сидеть за бутылкой эльзасского, чем перед женской хоровой капеллой. Здесь я бросил якорь, здесь можно было продержаться час, а то и два. Пригубив эльзасского, я сразу почувствовал, что с самого утра еще ничего не ел.
Поразительно, чего только не может проглотить человек! Минут десять я читал какую-то газету, вводя в себя через глаза умишко какого-то безответственного субъекта, который пережевывает, а затем изрыгает чужие слова, смочив их слюной, но не переварив. Этого я съел целый столбец. А потом я сожрал изрядный кусок печенки, вырезанной из тела убитого теленка. Поразительно! Лучше всего было эльзасское. Я не люблю, во всяком случае в обычные дни, диких, буйных вин, ударяющих в голову и знаменитых своим особым вкусом. Милее всего мне совершенно чистые, легкие, скромные местные вина без каких-либо особых названий, их можно пить помногу, и они так приятно отдают сельским простором, землей, небом и лесом. Стакан эльзасского и ломоть хорошего хлеба – вот лучшая трапеза. Но я уже съел порцию печенки – с необычным удовольствием, вообще-то я редко ем мясо, – и передо мной стоял второй стакан. Поразительно было и то, что где-то в зеленых долах здоровые, славные люди возделывают виноград и выдавливают из него сок, чтобы в разных местах земли, далеко-далеко от них, какие-то разочарованные, тихо спивающиеся обыватели и растерянные степные волки взбадривались и оживлялись, осушая стаканы.
Ну что ж, пускай это и было поразительно! Это было хорошо, это помогало, оживление пришло. Словесная каша газетной статьи вызвала у меня запоздалый, но полный облегчения смех, и вдруг я опять вспомнил забытую мелодию того пиано, она, сверкая, поднялась во мне, как маленький мыльный пузырь, блеснула, уменьшенно и ярко отразив целый мир, и снова мягко распалась. Если эта небесная маленькая мелодия тайно пустила корни в моей душе и вдруг снова расцвела во мне всеми драгоценными красками прекрасного своего цветка, разве я погиб окончательно? Пусть я заблудший зверь, не понимающий мира, который его окружает, но какой-то смысл в моей дурацкой жизни все-таки был, что-то во мне отвечало на зов из далеких высот, что-то улавливало его, и в мозгу моем громоздились тысячи картин.
Сонмы ангелов Джотто с маленького церковного свода в Падуе, а рядом шествовали Гамлет и Офелия в венке, прекрасные символы всех печалей и всех недоразумений мира, стоя в горящем шаре, трубил в рог воздухоплаватель Джаноццо, Аттила Шмельцле нес в руке свою новую шляпу, Боробудур вздымал в небо гору своих изваяний. Не беда, что все эти прекрасные образы живут в тысячах других сердец, имелись еще десятки тысяч других, неизвестных картин и звуков, чьей родиной, чьим видящим оком и чутким ухом была единственно моя душа. Старая, обветшавшая больничная стена, в серо-зеленых пятнах, в щелях и ссадинах которой угадывались тысячи фресок, – кто дал ей ответ, кто впустил ее в свое сердце, кто любил ее, кто ощущал волшебство ее чахнущих красок? Старые книги монахов с мягко светящимися миниатюрами, книги немецких поэтов двухсотлетней и столетней давности, забытые их народом, все эти истрепанные, тронутые сыростью тома, печатные и рукописные страницы старинных музыкантов, плотные, желтоватые листы нотной бумаги с застывшими звуковыми виденьями – кто слышал их умные, их лукавые и тоскующие голоса, кто пронес в себе их дух и их волшебство через другую, охладевшую к ним эпоху? Кто вспоминал о том маленьком, упрямом кипарисе на горе над Губбио, который был сломлен и расколот лавиной, но все-таки сохранил жизнь и отрастил себе новую, пускай не столь густую вершину? Кто воздал должное рачительной хозяйке со второго этажа и ее вымытой до блеска араукарии? Кто читал ночью над Рейном облачные письмена ползущего тумана? Степной волк. А кто искал за развалинами своей жизни расплывшегося смысла, страдал от того, что на вид бессмысленно, жил тем, что на вид безумно, тайно уповал на откровение и близость Бога даже среди последнего сумбура и хаоса?
Я задержал в руке стакан, который хозяйка снова хотела наполнить, и поднялся. Довольно было вина. Золотой след блеснул, напомнив мне о вечном, о Моцарте, о звездах. Я снова мог какое-то время дышать, мог жить, смел существовать, мне не нужно было мучиться, бояться, стыдиться.
Моросящий дождь, разбрызгиваясь на холодном ветру, звякал о фонари и светился стеклянным блеском, когда я вышел на затихшую улицу. Куда теперь? Если бы в этот миг свершилось чудо и могло исполниться любое мое желание, передо мной сейчас оказался бы небольшой красивый зал в стиле Людовика Шестнадцатого, где несколько хороших музыкантов сыграли бы мне две-три пьесы Генделя и Моцарта. Сейчас это подошло бы к моему настроению, я смаковал бы эту холодную, благородную музыку, как боги нектар. О, если бы сейчас у меня был друг, друг в какой-нибудь чердачной клетушке, и он сидел бы, задумавшись, при свече, а рядом лежала бы его скрипка! Я прокрался бы в ночную его тишину, бесшумно пробрался бы по коленчатым лестницам, я застал бы его врасплох, и мы отпраздновали бы несколько неземных часов беседой и музыкой! Когда-то, в былые годы, я часто наслаждался этим счастьем, но и оно со временем удалилось и ушло от меня, между теми днями и нынешними пролегли увядшие годы.
Я неторопливо направился к дому, подняв воротник пальто и упирая трость в мокрую мостовую. Как бы медленно я ни шагал, все равно слишком скоро я сидел бы в своей мансарде, в этих мнимо родных стенах, которых не любил, но без которых не мог обойтись, ибо прошли времена, когда мне ничего не стоило прошататься зимой всю ночь под дождем. Что ж, так и быть, ничто, решил я, не испортит мне хорошего вечернего настроения, ни дождь, ни подагра, ни араукария, и пусть не было камерного оркестра и не предвиделось никакого одинокого друга со скрипкой, та дивная мелодия все-таки звучала во мне, и я мог, напевая вполголоса с ритмичными передышками, приблизительно ее воспроизвести. Я задумчиво шагал дальше. Нет, свет не сошелся клином ни на камерной музыке, ни на друге, и смешно было изводить себя бессильной тоской по теплу. Одиночество – это независимость, его я хотел и его добился за долгие годы. Оно было холодным, о да, но зато и тихим, удивительно тихим и огромным, как то холодное тихое пространство, где вращаются звезды.
Когда я проходил мимо какого-то ресторана с танцевальной площадкой, меня обдало лихорадочной джазовой музыкой, грубой и жаркой, как пар от сырого мяса. Я на минуту остановился; как ни сторонился я музыки этого рода, она всегда привлекала меня каким-то тайным очарованием. Джаз был мне противен, но он был в десять раз милей мне, чем вся нынешняя академическая музыка, своей веселой, грубой дикостью он глубоко задевал и мои инстинкты, он дышал честной, наивной чувственностью.
Минуту я постоял, принюхиваясь к кровавой, пронзительной музыке, злобно и жадно вбирая в себя атмосферу наполненных ею залов. Одна половина этой музыки, лирическая, была слащава, приторна, насквозь сентиментальна, другая половина была неистова, своенравна, энергична, однако обе половины наивно и мирно соединялись и давали в итоге нечто цельное. Это была музыка гибели, подобная музыка существовала, наверно, в Риме времен последних императоров. Конечно, в сравнении с Бахом, Моцартом и настоящей музыкой она была свинством – но свинством были все наше искусство, все наше мышление, вся наша мнимая культура, если сравнивать их с настоящей культурой. А музыка эта имела преимущество большой откровенности, простодушно-милого негритянства, ребяческой веселости. В ней было что-то от негра и что-то от американца, который у нас, европейцев, при всей своей силе, оставляет впечатление мальчишеской свежести, ребячливости. Станет ли Европа тоже такой? Идет ли она уже к этому? Не были ли мы, старые знатоки и почитатели прежней Европы, прежней настоящей музыки, прежней настоящей поэзии, не были ли мы просто глупым меньшинством заумных невротиков, которых завтра забудут и высмеют? Не было ли то, что мы называем культурой, духом, душой, не было ли то, что мы называем прекрасным и священным, лишь призраком, не умерло ли давно то, что только нам, горстке дураков, кажется настоящим и живым? Может быть, оно вообще никогда не было настоящим и живым? Может быть, то, о чем хлопочем мы, дураки, было и всегда чем-то несбыточным?
Старый квартал города принял меня в свои стены, умершая, нереальная, стояла среди серой мглы маленькая церковь. Вдруг я вспомнил вечернее происшествие, загадочные сводчатые воротца, загадочную вывеску с глумливо плясавшими буквами. Какие там были надписи? «Вход не для всех». И еще: «Только для сумасшедших». Я испытующе взглянул на старую стену, тайно желая, чтобы волшебство началось снова, чтобы надпись пригласила меня, сумасшедшего, а воротца пропустили меня. Там, может быть, находилось то, чего я желал, там, может быть, играли мою музыку?
Темная каменная стена глядела на меня спокойно сквозь густой сумрак, замкнутая, глубоко погруженная в сон. И никаких ворот, никаких сводов, только темная, тихая стена без проема. Я с улыбкой пошел дальше, приветливо кивнув каменной кладке. «Спи спокойно, стена, я не стану тебя будить. Придет время, и они снесут тебя или облепят алчными призывами фирм, но ты еще здесь, ты еще прекрасна, тиха и мила мне».
Вынырнув из черной пропасти переулка вплотную передо мной, меня испугал какой-то прохожий, какой-то одинокий полуночник с усталой походкой, в кепке и синей блузе. На плече он нес шест с плакатом, а у живота, на ремне, лоток, какие бывают у ярмарочных разносчиков. Устало шагая передо мной, он не оборачивался ко мне, а то бы я поздоровался с ним и угостил его сигарой. При свете ближайшего фонаря я попытался прочесть его штандарт, его красный плакат на шесте, но тот качался, мне ничего не удалось разобрать. Тогда я окликнул его и попросил показать мне плакат. Он остановился и подержал свой шест немного прямее, и я смог прочесть пляшущие, шатающиеся буквы:
Анархистский вечерний аттракцион!
Магический театр!
Вход не для вс…
– Вас-то я и искал! – воскликнул я радостно. – Что это у вас за аттракцион? Где он будет? Когда?
Он уже снова шагал.
– Не для всех, – сказал он равнодушно, сонным голосом, продолжая шагать. С него было довольно, ему хотелось домой.
– Постойте! – крикнул я и побежал за ним. – Что там у вас в ящике? Я готов что-нибудь купить.
Не останавливаясь, он машинально полез в свой ящик, извлек оттуда какую-то книжечку и протянул мне.
Я быстро схватил ее и спрятал. Пока я расстегивал пальто, чтобы достать деньги, он свернул в какую-то подворотню, закрыл за собой ворота и исчез. Из двора донеслись его тяжелые шаги, сперва по булыжнику, потом по деревянной лестнице, а потом ничего не было слышно. И вдруг я тоже очень устал и почувствовал, что уже очень поздно и что хорошо бы сейчас вернуться домой. Я зашагал быстрее и вскоре, пройдя через спящую окраину, вышел в свой район, где среди парка, разбитого на месте старого городского вала, в опрятных доходных домиках за газончиками и плющом живут чиновники и мелкие рантье. Мимо плюща, мимо газона, мимо маленькой елочки я прошел к входной двери, нашел замочную скважину, нашел кнопку освещения, прокрался мимо стеклянных дверей, мимо полированных шкафов и горшков с растениями и отпер свою комнату, свою маленькую мнимую родину, где меня ждали кресло и печка, чернильница и этюдник, Новалис и Достоевский, ждали так, как ждут других, правильных людей, когда те приходят домой, мать или жена, дети, служанки, собаки, кошки.
Когда я снимал мокрое пальто, та книжечка опять попалась мне на глаза. Я вынул ее, это была тонкая, скверно напечатанная на скверной бумаге ярмарочная брошюрка, типа книжечек «Родившимся в январе» или «Как за восемь дней помолодеть на двадцать лет?».
Но, устроившись в кресле и надев очки, я изумленно, с мелькнувшим вдруг чувством, что это сама судьба, прочел на обложке своей книжонки ее заглавие: «Трактат о Степном волке. Не для всех».
И вот каково было содержание брошюрки, которую я со всевозрастающим интересом прочитал одним духом.
Трактат о Степном волке
Только для сумасшедших
Жил некогда некто по имени Гарри, по прозвищу Степной волк. Он ходил на двух ногах, носил одежду и был человеком, но по сути он был степным волком. Он научился многому из того, чему способны научиться люди с соображением, и был довольно умен. Но не научился он одному: быть довольным собой и своей жизнью. Это ему не удалось, он был человек недовольный. Получилось так, вероятно, потому, что в глубине души он всегда знал (или думал, что знает), что по сути он вовсе не человек, а волк из степей. Умным людям вольно спорить о том, был ли он действительно волком, был ли он когда-нибудь, возможно еще до своего рождения, превращен какими-то чарами в человека из волка или родился человеком, но был наделен и одержим душою степного волка, или же эта убежденность в том, что по сути он волк, была лишь плодом его воображения или болезни. Ведь можно допустить, например, что в детстве этот человек был дик, необуздан и беспорядочен, что его воспитатели пытались убить в нем зверя и тем самым заставили его вообразить и поверить, что на самом деле он зверь, только скрытый тонким налетом воспитания и человечности. Об этом можно долго и занимательно рассуждать, можно даже писать книги на эту тему; но Степному волку такие рассуждения ничего не дали бы, ему было решительно все равно, что именно пробудило в нем волка – колдовство ли, побои или его собственная фантазия. Что бы ни думали об этом другие и что бы он сам об этом ни думал, все это не имело для него никакого значения, потому что вытравить волка из него не могло.
Итак, у Степного волка было две природы, человеческая и волчья, такова была его судьба, судьба, возможно, не столь уж особенная и редкая. Встречалось уже, по слухам, немало людей, в которых было что-то от собаки или от лисы, от рыбы или от змеи, но они будто бы не испытывали из-за этого никаких неудобств. У этих людей человек и лиса, человек и рыба жили бок о бок, не ущемляя друг друга, они даже помогали друг другу, и люди, которые далеко пошли и которым завидовали, часто бывали обязаны своим счастьем скорее лисе или обезьяне, чем человеку. Это ведь общеизвестно. А с Гарри дело обстояло иначе, человек и волк в нем не уживались и уж подавно не помогали друг другу, а всегда находились в смертельной вражде, и один только изводил другого, а когда в одной душе и в одной крови сходятся два заклятых врага, жизнь никуда не годится. Что ж, у каждого своя доля, и легкой ни у кого нет.
Хотя наш Степной волк чувствовал себя то волком, то человеком, как все, в ком смешаны два начала, особенность его заключалась в том, что, когда он был волком, человек в нем всегда занимал выжидательную позицию наблюдателя и судьи, – а во времена, когда он был человеком, точно так же поступал волк. Например, если Гарри, поскольку он был человеком, осеняла прекрасная мысль, если он испытывал тонкие, благородные чувства или совершал так называемое доброе дело, то волк в нем сразу же скалил зубы, смеялся и с кровавой издевкой показывал ему, до чего смешон, до чего не к лицу весь этот благородный спектакль степному зверю, волку, который ведь отлично знает, что ему по душе, а именно – рыскать в одиночестве по степям, иногда лакать кровь или гнаться за волчицей, – и любой человеческий поступок, увиденный глазами волка, делался тогда ужасно смешным и нелепым, глупым и суетным. Но в точности то же самое случалось и тогда, когда Гарри чувствовал себя волком и вел себя как волк, когда он показывал другим зубы, когда испытывал ненависть и смертельную неприязнь ко всем людям, к их лживым манерам, к их испорченным нравам. Тогда в нем настораживался человек, и человек следил за волком, называл его животным и зверем, и омрачал, и отравлял ему всякую радость от его простой, здоровой и дикой волчьей повадки.
Вот как обстояло дело со Степным волком, и можно представить себе, что жизнь у Гарри была не очень-то приятная и счастливая. Но это не значит, что он был несчастлив в какой-то особенной мере (хотя ему самому так казалось, ведь каждый человек считает страдания, выпавшие на его долю, величайшими). Так не следует говорить ни об одном человеке. И тот, в ком нет волка, не обязательно счастлив поэтому. Да и у самой несчастливой жизни есть свои светлые часы и свои цветики счастья среди песка и камней. Так было и со Степным волком. Большей частью он бывал очень несчастлив, этого нельзя отрицать, и делал несчастными других – когда он любил их, а они его. Ведь все, кому случалось его полюбить, видели лишь одну его сторону. Многие любили его как тонкого, умного и самобытного человека и потом, когда вдруг обнаруживали в нем волка, ужасались и разочаровывались. А не обнаружить они не могли, ибо Гарри, как всякий, хотел, чтобы его любили всего целиком, и потому не мог скрыть, спрятать за ложью волка именно от тех, чьей любовью он дорожил. Но были и такие, которые любили в нем именно волка, именно свободу, дикость, опасную неукротимость, и их он опять-таки страшно разочаровывал и огорчал, когда вдруг оказывалось, что этот дикий, злой волк – еще и человек, еще и тоскует по доброте и нежности, еще и хочет слушать Моцарта, читать стихи и иметь человеческие идеалы. Именно эти вторые испытывали обычно особенное разочарование и особенную злость, и потому Степной волк вносил собственную двойственность и раздвоенность также и во все чужие судьбы, которые он задевал.
Но кто полагает, что знает Степного волка и способен представить себе его жалкую, растерзанную противоречиями жизнь, тот ошибается, он знает еще далеко не все. Он не знает, что (ведь нет правил без исключений, и один грешник при случае милей Богу, чем девяносто девять праведников) у Гарри тоже бывали счастливые исключения, что в нем иногда волк, а иногда человек дышал, думал и чувствовал в полную свою силу, что порой даже, в очень редкие часы, они заключали мир и жили в добром согласии, причем не просто один спал, когда другой бодрствовал, а оба поддерживали друг друга и каждый делал другого вдвое сильней. Иногда и в жизни Гарри, как везде в мире, все привычное, будничное, знакомое и регулярное имело, казалось, единственной целью передохнуть на секунду, прерваться и уступить место чему-то необычайному, чуду, благодати. А облегчали, а смягчали ли эти короткие, редкие часы счастья лихую долю Степного волка, уравновешивались ли на круг страдание и счастье, или короткое, но сильное счастье тех немногих часов, чего доброго, даже перекрывало всю совокупность страданий – это уже другой вопрос, над которым вольно размышлять людям праздным. Размышлял над ним часто и Степной волк, и это были его праздные и бесполезные дни.
Тут надо сделать еще одно замечание. Людей типа Гарри на свете довольно много, к этому типу принадлежат, в частности, многие художники. Все эти люди заключают в себе две души, два существа, божественное начало и дьявольское, материнская и отцовская кровь, способность к счастью и способность к страданию смешались и перемешались в них так же враждебно и беспорядочно, как человек и волк в Гарри. И эти люди, чья жизнь весьма беспокойна, ощущают порой, в свои редкие мгновения счастья, такую силу, такую невыразимую красоту, пена мгновенного счастья вздымается порой настолько высоко и ослепительно над морем страдания, что лучи от этой короткой вспышки счастья доходят и до других и их околдовывают. Так, драгоценной летучей пеной над морем страдания возникают все те произведения искусства, где один страдающий человек на час поднялся над собственной судьбой до того высоко, что его счастье сияет, как звезда, и всем, кто видит это сиянье, кажется чем-то вечным, кажется их собственной мечтой о счастье. У всех этих людей, как бы ни назывались их деяния и творения, жизни, в сущности, вообще нет, то есть их жизнь не представляет собой бытия, не имеет определенной формы, они не являются героями, художниками, мыслителями в том понимании, в каком другие являются судьями, врачами, сапожниками или учителями, нет, жизнь их – это вечное, мучительное движенье и волненье, она несчастна, она истерзана и растерзана, она ужасна и бессмысленна, если не считать смыслом как раз те редкие события, деяния, мысли, творения, которые вспыхивают над хаосом такой жизни. В среде людей этого типа возникла опасная и страшная мысль, что, может быть, вся жизнь человеческая – просто злая ошибка, выкидыш праматери, дикий, ужасающе неудачный эксперимент природы. Но в их же среде возникла и другая мысль – что человек, может быть, не просто животное, наделенное известным разумом, а дитя богов, которому суждено бессмертие.
У каждого типа людей есть свои признаки, свои отличительные черты, у каждого – свои добродетели и пороки, у каждого – свой смертный грех. Один из признаков Степного волка состоял в том, что он был человек вечерний. Утро было для него скверным временем суток, которого он боялся и которое никогда не приносило ему ничего хорошего. Ни разу в жизни он не был утром по-настоящему весел, ни разу не сделал в предполуденные часы доброго дела, по утрам ему никогда не приходило в голову хороших мыслей, ни разу не доставил он утром радость себе и другим. Лишь во второй половине дня он понемногу теплел и оживлялся и лишь к вечеру, в хорошие свои дни, бывал плодовит, деятелен, а иногда горяч и радостен. С этим и была связана его потребность в одиночестве и независимости. Никто никогда не испытывал более страстной потребности в одиночестве, чем он. В юности, когда он был еще беден и с трудом зарабатывал себе на хлеб, он предпочитал голодать и ходить в лохмотьях, но зато иметь хоть чуточку независимости. Он никогда не продавал себя ни за деньги, ни за благополучие, ни женщинам, ни сильным мира сего и, чтобы сохранить свою свободу, сотни раз отвергал и отметал то, в чем все видели его счастье и выгоду. Ничто на свете не было ему ненавистнее и страшнее, чем мысль, что он должен занимать какую-то должность, как-то распределять день и год, подчиняться другим. Контора, канцелярия, служебное помещение были ему страшны, как смерть, и самым ужасным, что могло ему присниться, был плен казармы. От всего этого он умел уклоняться, часто ценой больших жертв.
Тут сказывались его сила и достоинство, тут он был несгибаем и неподкупен, тут его нрав был тверд и прямолинеен. Однако с этим достоинством были опять-таки теснейшим образом связаны его страдания и его судьба. С ним происходило то, что происходит со всеми: то, чего он искал и к чему стремился самыми глубокими порывами своего естества, – это выпадало ему на долю, но в слишком большом количестве, которое уже не идет людям на благо. Сначала это было его мечтой и счастьем, потом стало его горькой судьбой. Властолюбец погибает от власти, сребролюбец – от денег, раб – от рабства, искатель наслаждений – от наслаждений. Так и Степной волк погибал от своей независимости. Он достиг своей цели, он становился все независимее, никто ему ничего не мог приказать, ни к кому он не должен был приспосабливаться, как ему вести себя, определял только он сам. Ведь любой сильный человек непременно достигает того, чего велит ему искать настоящий порыв его естества. Но среди достигнутой свободы Гарри вдруг ощутил, что его свобода – это смерть, что он в одиночестве, что мир каким-то зловещим образом оставил его в покое, что ему, Гарри, больше дела нет до людей и даже до самого себя, что он медленно задыхается во все более разреженном воздухе одиночества и изоляции. Оказалось, что быть одному и быть независимым – это уже не его желание, не его цель, а его жребий, его участь, что волшебное желание задумано и отмене не подлежит, что он ничего уже не поправит, как бы ни простирал руки в тоске, как бы ни выражал свою добрую волю и готовность к общению и единению. Теперь его оставили одного. При этом он вовсе не вызывал ненависти и не был противен людям. Напротив, у него было очень много друзей. Многим он нравился. Но находил он только симпатию и приветливость, его приглашали, ему дарили подарки, писали милые письма, но сближаться с ним никто не сближался, единения не возникало нигде, никто не желал и не был способен делить с ним его жизнь. Его окружал теперь воздух одиноких, та тихая атмосфера, то ускользание среды, та неспособность к контактам, против которых бессильна и самая страстная воля. Такова была одна из важных отличительных черт его жизни.
Другой отличительной чертой была его принадлежность к самоубийцам. Тут надо заметить, что неверно называть самоубийцами только тех, кто действительно кончает с собой. Среди этих последних много даже таких, которые становятся самоубийцами лишь, так сказать, случайно, ибо самоубийство не обязательно вытекает из их внутренних задатков. Среди людей, не являющихся ярко выраженными личностями, людей неяркой судьбы, среди дюжинных и стадных людей многие хоть и кончают с собой, но по всему своему характеру и складу отнюдь не принадлежат к типу самоубийц, и опять-таки очень многие, пожалуй, большинство из тех, кто по сути своей относится к самоубийцам, на самом деле никогда не накладывают на себя руки. «Самоубийца» – а Гарри был им – не обязательно должен жить в особенно тесном общении со смертью, так можно жить и самоубийцей не будучи. Но самоубийце свойственно то, что он смотрит на свое «я» – не важно, по праву или не по праву – как на какое-то опасное, ненадежное и незащищенное порождение природы, что он кажется себе чрезвычайно незащищенным, словно стоит на узкой вершине скалы, где достаточно маленького внешнего толчка или крошечной внутренней слабости, чтобы упасть в пустоту. Судьба людей этого типа отмечена тем, что самоубийство для них – наиболее вероятный вид смерти, по крайней мере в их представлении. Причиной этого настроения, заметного уже в ранней юности и сопровождающего этих людей всю жизнь, не является какая-то особенная нехватка жизненной силы, напротив, среди «самоубийц» встречаются необыкновенно упорные, жадные, да и отважные натуры. Но подобно тому, как есть люди, склонные при малейшем заболевании к жару, люди, которых мы называем «самоубийцами» и которые всегда очень впечатлительны и чувствительны, склонны при малейшем потрясении вовсю предаваться мыслям о самоубийстве. Если бы у нас была наука, обладающая достаточным мужеством и достаточным чувством ответственности, чтобы заниматься человеком, а не просто механизмами жизненных процессов, если бы у нас было что-то похожее на антропологию, на психологию, то об этих фактах знали бы все.
Сказанное нами о самоубийцах касается, конечно, лишь внешнего аспекта, это психология, а значит, область физики. С метафизической точки зрения дело выглядит иначе и гораздо яснее, ибо при таком подходе к нему «самоубийцы» предстают нам одержимыми чувством вины за свою обособленность, предстают душами, видящими свою цель не в самоусовершенствовании и собственном совершенстве, а в саморазрушении, в возврате к матери, к Богу, к вселенной. Очень многие из этих натур совершенно не способны совершить когда-либо реальное самоубийство, потому что глубоко прониклись сознанием его греховности. Но для нас они все же самоубийцы, ибо избавление они видят в смерти, а не в жизни и готовы пожертвовать, поступиться собой, уничтожить себя и вернуться к началу.
Если всякая сила может (а иногда и должна) обернуться слабостью, то типичный самоубийца может, наоборот, превратить свою кажущуюся слабость в опору и силу, да и делает это куда как часто. Пример тому и Гарри, Степной волк. Как и для тысяч ему подобных, мысль, что он волен умереть в любую минуту, была для него не просто юношески грустной игрой фантазии, нет, в этой мысли он находил опору и утешение. Да, как во всех людях его типа, каждое потрясение, каждая боль, каждая скверная житейская ситуация сразу же пробуждали в нем желание избавиться от них с помощью смерти. Но постепенно он выработал из этой своей склонности философию, прямо-таки полезную для жизни. Интимное знакомство с мыслью, что этот запасной выход всегда открыт, давало ему силы, наделяло его любопытством к болям и невзгодам, и, когда ему приходилось весьма туго, он порой думал с жестокой радостью, с каким-то злорадством: «Любопытно поглядеть, что способен человек вынести! Ведь когда терпение дойдет до предела, мне стоит только отворить дверь, и меня поминай как звали». Есть очень много самоубийц, которым эта мысль придает необычайную силу.
С другой стороны, всем самоубийцам знакома борьба с соблазном покончить самоубийством. Каким-то уголком души каждый знает, что самоубийство хоть и выход, но все-таки немного жалкий и незаконный запасной выход, что, в сущности, красивей и благородней быть сраженным самой жизнью, чем своей же рукой. Это знание, эта неспокойная совесть, имеющая тот же источник, что и нечистая совесть онанистов, толкает большинство «самоубийц» на постоянную борьбу с их соблазном. Они борются, как борется клептоман со своим пороком. Степному волку тоже была знакома эта борьба, он вел ее, многократно меняя оружие. В конце концов, дожив лет до сорока семи, он напал на одну счастливую и не лишенную юмора мысль, которая часто доставляла ему радость. Он решил, что его пятидесятый день рождения будет тем днем, когда он позволит себе покончить с собой. В этот день, так он положил себе, ему будет вольно воспользоваться или не воспользоваться запасным выходом, в зависимости от настроения. И пусть с ним случится что угодно, пусть он заболеет, обеднеет, пусть на него обрушатся страдания и горе – все ограничено сроком, все может длиться максимум эти несколько лет, месяцев, дней, а их число с каждым днем становится меньше! И правда, теперь он куда легче переносил всякие неприятности, которые раньше мучили бы его сильнее и дольше, а то бы и подкосили под корень. Когда ему почему-либо приходилось особенно скверно, когда к пустоте, одиночеству и дикости его жизни прибавлялись еще какие-нибудь особые боли или потери, он мог сказать этим болям: «Погодите, еще два года, и я с вами совладаю!» И потом любовно представлял себе, как утром, в день его пятидесятилетия, придут письма и поздравления, а он, уверенный в своей бритве, простится со всеми болями и закроет за собой дверь. Хороши тогда будут ломота в костях, грусть, головная боль и рези в желудке.
Остается еще объяснить феномен Степного волка и, в частности, его своеобразное отношение к мещанству, сведя оба явления к их основным законам. Возьмем за исходную точку, поскольку это напрашивается само собой, как раз его отношение к «мещанской» сфере!
По собственному его представлению, Степной волк пребывал совершенно вне мещанского мира, поскольку не вел семейной жизни и не знал социального честолюбия. Он чувствовал себя только одиночкой, то странным нелюдимом, больным отшельником, то из ряда вон выходящей личностью с задатками гения, стоящей выше маленьких норм заурядной жизни. Он сознательно презирал мещанина и гордился тем, что таковым не является. И все же в некоторых отношениях он жил вполне по-мещански: имел текущий счет в банке и помогал бедным родственникам, одевался хоть и небрежно, но прилично и неброско, старался ладить с полицией, налоговым управлением и прочими властями. А кроме того, какая-то сильная, тайная страсть постоянно влекла его к мещанскому мирку, к тихим, приличным семейным домам с их опрятными садиками, сверкающими чистотой лестницами, со всей их скромной атмосферой порядка и благопристойности. Ему нравилось иметь свои маленькие пороки и причуды, чувствовать себя посторонним в мещанской среде, каким-то отшельником или гением, но он никогда не жил и не селился в тех, так сказать, провинциях жизни, где мещанства уже не существует. Он не чувствовал себя свободно ни в среде людей исключительных, пускающих в ход силу, ни среди преступников или бесправных и не покидал провинции мещан, с нормами и духом которой всегда был связан, даже если эта связь и выражалась в противопоставлении и бунте. Кроме того, он вырос в атмосфере мелкобуржуазного воспитания и вынес оттуда множество представлений и шаблонов. Теоретически он ничего не имел против проституции, но лично был не способен принять проститутку всерьез и действительно отнестись к ней как к равной. Политического преступника, бунтаря или духовного совратителя, которого бойкотировали государство и общество, он мог полюбить как брата, но для какого-нибудь вора, взломщика, убийцы, садиста у него не нашлось бы ничего, кроме довольно-таки мещанской жалости.
Таким образом, одной половиной своего естества он всегда признавал и утверждал то, что другой половиной оспаривал и отрицал. Выросши в ухоженном мещанском доме, в строгом соблюдении форм и обычаев, он частью своей души навсегда остался привязан к порядкам этого мира, хотя давно уже обособился в такой мере, которая внутри мещанства немыслима, и давно уже освободился от сути мещанского идеала и мещанской веры.
«Мещанство» же, всегда наличное людское состояние, есть не что иное, как попытка найти равновесие, как стремление к уравновешенной середине между бесчисленными крайностями и полюсами человеческого поведения. Если взять для примера какие-нибудь из этих полюсов, скажем, противоположность между святым и развратником, то наше уподобление сразу станет понятно. У человека есть возможность целиком отдаться духовной жизни, приблизиться к божественному началу, к идеалу святого. Есть у него, наоборот, и возможность целиком отдаться своим инстинктам, своим чувственным желаниям и направить все свои усилия на получение мгновенной радости. Один путь ведет к святому, к мученику духа, к самоотречению во имя Бога. Другой путь ведет к развратнику, к мученику инстинктов, к самоотречению во имя тлена. Так вот, мещанин пытается жить между обоими путями, в умеренной середине. Он никогда не отречется от себя, не отдастся ни опьянению, ни аскетизму, никогда не станет мучеником, никогда не согласится со своей гибелью, – напротив, его идеал – не самоотречение, а самосохранение, он не стремится ни к святости, ни к ее противоположности, безоговорочность, абсолютность ему нестерпимы, он хочет служить Богу, но хочет служить и опьянению, он хочет быть добродетельным, но хочет и пожить на земле в свое удовольствие. Короче говоря, он пытается осесть посредине между крайностями, в умеренной и здоровой зоне, без яростных бурь и гроз, и это ему удается, хотя и ценой той полноты жизни и чувств, которую дает стремление к безоговорочности, абсолютности, крайности. Жить полной жизнью можно лишь ценой своего «я». А мещанин ничего не ставит выше своего «я» (очень, правда, недоразвитого). Ценой полноты, стало быть, он добивается сохранности и безопасности, получает вместо одержимости Богом спокойную совесть, вместо наслаждения удовольствие, вместо свободы удобство, вместо смертельного зноя приятную температуру. Поэтому мещанин по сути своей – существо со слабым импульсом к жизни, трусливое, боящееся хоть сколько-нибудь поступиться своим «я», легко управляемое. Потому-то он и поставил на место власти большинство, на место силы закон, на место ответственности процедуру голосования.
Ясно, что это слабое и трусливое существо, как бы многочисленны ни были его особи, не может уцелеть, что из-за своих качеств оно не должно играть в мире иной роли, чем роль стада ягнят среди рыщущих волков. И все же мы видим, что, хотя во времена, когда правят натуры сильные, мещанина сразу же припирают к стене, он тем не менее никогда не погибает, а порой даже вроде бы и владычествует над миром. Как же так? Ни многочисленность его стада, ни добродетель, ни здравый смысл, ни организация не в состоянии, казалось бы, спасти его от гибели. Тому, чьи жизненные силы с самого начала подорваны, не продлит жизнь никакое лекарство на свете. И все-таки мещанство живет, оно могуче, оно процветает. Почему?
Ответ: благодаря Степным волкам. На самом деле жизненная сила мещанства держится вовсе не на свойствах нормальных его представителей, а на свойствах необычайно большого числа аутсайдеров, которых оно, мещанство, вследствие расплывчатости и растяжимости своих идеалов, включает в себя. Внутри мещанства всегда живет множество сильных и диких натур. Наш Степной волк Гарри – характерный пример тому. Хотя развитие в нем индивидуальности, личности ушло далеко за доступный мещанину предел, хотя блаженство самосозерцания знакомо ему не меньше, чем мрачная радость ненависти и самоненавистничества, хотя он презирает закон, добродетель и здравый смысл, он все-таки пленник мещанства и вырваться из плена не может. Таким образом, настоящее мещанство окружено, как ядро, широкими слоями человечества, тысячами жизней и умов хоть и переросших мещанство, хоть и призванных не признавать оговорок, воспарить к абсолюту, но привязанных к мещанской сфере инфантильными чувствами, но ощутимо зараженных подорванностью ее жизненной силы, а потому как-то закосневших в мещанстве, как-то подчиненных, чем-то обязанных и в чем-то покорных ему. Ибо мещанство придерживается принципа, противоположного принципу великих, – «Кто не против меня, тот за меня».
Если рассмотреть с этой точки зрения душу Степного волка, то он предстает человеком, которому уже как индивидуальности, как яркой личности написано на роду быть немещанином – ведь всякая яркая индивидуальность оборачивается против собственного «я» и склоняется к его разрушению. Мы видим, что он наделен одинаково сильными импульсами и к тому, чтобы стать святым, и к тому, чтобы стать развратником, но что из-за какой-то слабости или косности не смог махнуть в дикие просторы вселенной, не преодолел притяжения тяжелой материнской звезды мещанства. Таково его положение в мироздании, такова его скованность. Большинство интеллигентов, подавляющая часть художников принадлежит к этому же типу. Лишь самые сильные из них вырываются в космос из атмосферы мещанской земли, а все другие сдаются или идут на компромиссы, презирают мещанство и все же принадлежат к нему, укрепляют и прославляют его, потому что в конечном счете вынуждены его утверждать, чтобы как-то жить. Трагизм этим бесчисленным людям не по плечу, по плечу им, однако, довольно-таки злосчастная доля, в аду которой довариваются до готовности и начинают приносить плоды их таланты. Те немногие, что вырываются, достигают абсолюта и достославно гибнут, они трагичны, число их мало. Другим же, не вырвавшимся, чьи таланты мещанство часто высоко чтит, открыто третье царство, призрачный, но суверенный мир – юмор. Беспокойные Степные волки, эти вечные горькие страдальцы, которым не дано необходимой для трагизма, для прорыва в звездный простор мощи, которые чувствуют себя призванными к абсолютному, а жить в абсолютном не могут, – у них, если их дух закалился и стал гибок в страданиях, есть примирительный выход в юмор. Юмор всегда остается в чем-то мещанским, хотя настоящий мещанин не способен его понять. В его призрачной сфере осуществляется запутанно-противоречивый идеал всех Степных волков: здесь можно не только одобрить и святого, и развратника одновременно, сблизить полюса, но еще и распространить это одобрение на мещанина. Ведь человек, одержимый Богом, вполне может одобрить преступника – и наоборот, но оба они, да и все люди абсолютных, безоговорочных крайностей, не могут одобрить нейтральную, вялую середину, мещанство, один только юмор, великолепное изобретение тех, чей максимализм скован, кто почти трагичен, кто несчастен и при этом очень одарен, один только юмор (самое, может быть, самобытное и гениальное достижение человечества) совершает невозможное, охватывая и объединяя лучами своих призм все области человеческого естества. Жить в мире, словно это не мир, уважать закон и все же стоять выше его, обладать, «как бы не обладая», отказываться, словно это никакой не отказ, – выполнить все эти излюбленные и часто формулируемые требования высшей житейской мудрости способен один лишь юмор.
И если бы только Степному волку, у которого есть к тому и способность, и склонность, удалось выпарить, удалось выгнать из себя этот волшебный напиток, он, Степной волк, был бы спасен. До такой удачи ему еще далеко. Но возможность, но надежда есть. Кто его любит, кто участлив к нему, пусть пожелает ему этого спасения. Тогда он правда застыл бы в мещанской сфере, но его страдания были бы терпимы, стали бы плодотворны. Его отношение к мещанскому миру и в любви, и в ненависти потеряло бы сентиментальность, и его связанность с этим миром перестала бы постоянно мучить его как что-то позорное.
Чтобы достичь этого или наконец, может быть, отважиться все-таки на прыжок в космос, такому Степному волку следовало бы однажды устроить очную ставку с самим собой, глубоко заглянуть в хаос собственной души и полностью осознать самого себя. Тогда его сомнительное существование открылось бы ему во всей своей неизменности, и впредь он уже не смог бы то и дело убегать из ада своих инстинктов к сентиментально-философским утешениям, а от них снова в слепую и пьяную одурь своего волчьего естества. Человек и волк вынуждены были бы познать друг друга без фальсифицирующих масок эмоций, вынуждены были бы прямо посмотреть друг другу в глаза. Тут они либо взорвались бы и навсегда разошлись, либо у них появился бы юмор и они вступили бы в брак по расчету.
Не исключено, что когда-нибудь Гарри представится эта последняя возможность. Не исключено, что когда-нибудь он сумеет познать себя – получив ли одно из наших маленьких зеркал, встретившись ли с Бессмертными или, может быть, найдя в одном из наших магических театров то, что необходимо ему для освобождения его одичавшей души.
Тысячи таких возможностей его ждут, его судьба непреодолимо влечет их, все эти аутсайдеры мещанства живут в атмосфере этих магических возможностей. Достаточно пустяка, чтобы ударила молния.
И все это хорошо известно Степному волку, даже если ему никогда не попадется на глаза этот контур его внутренней биографии. Он чувствует свое положение в мироздании, он чувствует и знает Бессмертных, он чувствует возможность встречи с собой и боится ее, он знает о существовании зеркала, взглянуть в которое ему, увы, так надо бы, взглянуть в которое он так смертельно боится.
В заключение нашего этюда остается развеять одну последнюю фикцию, один принципиальный обман. Всякие «объяснения», всякая психология, всякие попытки понимания нуждаются ведь во вспомогательных средствах, теориях, мифологиях, лжи; и порядочный автор не преминет развеять по возможности эту ложь в конце изложения. Если я говорю «вверху» или «внизу», то это ведь уже утверждение, которое надо пояснить, ибо верх и низ существуют только в мышлении, только в абстракции. Мир сам по себе не знает ни верха, ни низа.
Короче говоря, «степной волк» – тоже фикция. Если Гарри чувствует себя человековолком и полагает, что состоит из двух враждебных и противоположных натур, то это всего лишь упрощающая мифология. Гарри никакой не человековолк, и если мы как бы приняли на веру его ложь, которую он сам выдумал и в которую верит, если мы и в самом деле пытались рассматривать и толковать его как двойную натуру, как степного волка, то мы, в надежде на то, что нас легче будет понять, воспользовались обманом, который теперь надо постараться поправить.
Разделение на волка и человека, на инстинкт и дух, предпринимаемое Гарри для большей понятности его судьбы, – это очень грубое упрощение, это насилие над действительностью ради доходчивого, но неверного объяснения противоречий, обнаруженных в себе этим человеком и кажущихся ему источником его немалых страданий. Гарри обнаруживает в себе «человека», то есть мир мыслей, чувств, культуры, укрощенной и утонченной природы, но рядом он обнаруживает еще и «волка», то есть темный мир инстинктов, дикости, жестокости, неутонченной, грубой природы. Несмотря на это, с виду такое ясное разделение своего естества на две взаимовраждебные сферы, он нет-нет да замечал, что волк и человек какое-то время, в какие-то счастливые мгновения, уживались друг с другом. Если бы Гарри попытался определить степень участия человека и степень участия волка в каждом отдельном моменте его, Гарри, жизни, в каждом его поступке, в каждом его ощущении, то он сразу стал бы в тупик и вся его красивая «волчья» теория полетела бы прахом. Ибо ни один человек, даже первобытный негр, даже идиот, не бывает так приятно прост, чтобы его натуру можно было объяснить как сумму двух или трех основных элементов; а уж объяснять столь разностороннего человека, как Гарри, наивным делением на волка и человека – это и вовсе безнадежно ребяческая попытка. Гарри состоит не из двух натур, а из сотен, из тысяч. Его жизнь (как жизнь каждого человека) вершится не между двумя только полюсами, такими, как инстинкт и дух или святой и развратник, она вершится между несметными тысячами полярных противоположностей.
Нас не должно удивлять, что такой сведущий и умный человек, как Гарри, считает себя «степным волком», сводя богатый и сложный строй своей жизни к столь простой, столь грубой, столь примитивной формуле. Способностью думать человек обладает лишь в небольшой мере, и даже самый духовный и самый образованный человек видит мир и себя самого всегда сквозь очки очень наивных, упрощающих, лживых формул – и особенно себя самого! Ведь это, видимо, врожденная потребность каждого человека, срабатывающая совершенно непроизвольно, – представлять себя самого неким единством. Какие бы частые и какие бы тяжкие удары ни терпела эта иллюзия, она оживает снова и снова. Судья, который, сидя напротив убийцы и глядя ему в глаза, в какой-то миг слышит, как тот говорит его собственным (судьи) голосом, в какой-то миг находит в себе все порывы, задатки, возможности убийцы, – но в следующий же миг обретает цельность, становится снова судьей, уходит в панцирь своего мнимого «я», выполняет свой долг и приговаривает убийцу к смерти. И если в особенно одаренных и тонко организованных человеческих душах забрезжит чувство их многосложности, если они, как всякий гений, прорвутся сквозь иллюзию единства личности, ощутят свою неоднозначность, ощутят себя клубком из множества «я», то стоит лишь им заикнуться об этом, как большинство их запрёт, призовет на помощь науку, констатирует шизофрению и защитит человечество от необходимости внимать голосу правды из уст этих несчастных. Однако зачем здесь тратить слова, зачем говорить вещи, которые всем, кто думает, известны и так, но говорить которые не принято? Значит, если кто-то осмеливается расширить мнимое единство своего «я» хотя бы до двойственности, то он уже почти гений, во всяком случае, редкое и интересное исключение. В действительности же любое «я», даже самое наивное, – это не единство, а многосложнейший мир, это маленькое звездное небо, хаос форм, ступеней и состояний, наследственности и возможностей. А что каждый в отдельности стремится смотреть на этот хаос как на единство и говорит о своем «я» как о чем-то простом, имеющем твердую форму, четко очерченном, то этот обман, привычный всякому человеку (даже самого высокого полета), есть, по-видимому, такая же необходимость, такое же требование жизни, как дыхание и пища.
Обман этот основан на простой метафоре. Тело каждого человека цельно, душа – нет. Поэзия тоже, даже самая изощренная, по традиции всегда оперирует мнимоцельными, мнимоедиными персонажами. В поэзии, существовавшей до сих пор, специалисты и знатоки ценят выше всего драму, и по праву, ибо она дает (или могла бы дать) наибольшую возможность изобразить «я» как некое множество – если бы не грубая подтасовка, выдающая каждый отдельный персонаж драмы за нечто единое, поскольку он пребывает в непреложно уникальной, цельной и замкнутой телесной оболочке. Выше всего даже ценит наивная эстетика так называемую драму характеров, где каждое лицо выступает как некая четко обозначенная и обособленная цельность. Лишь смутно и постепенно возникает кое у кого догадка, что все это, может быть, дешевая, поверхностная эстетика, что мы заблуждаемся, применяя к нашим великим драматургам великолепные, но не органические для нас, а лишь навязанные нам понятия о прекрасном, понятия античности, которая, отправляясь всегда от зримого тела, собственно, и изобрела фикцию «я», фикцию лица. В поэзии Древней Индии этого понятия совершенно не существует, герои индийского эпоса – не лица, а скопища лиц, ряды олицетворений. И в нашем современном мире тоже есть поэтические произведения, где под видом игры лиц и характеров предпринимается не вполне, может быть, осознанная автором попытка изобразить многообразие души. Кто хочет обнаружить это, должен решиться взглянуть на действующих лиц такого произведения не как на отдельные существа, а как на части, как на стороны, как на разные аспекты некоего высшего единства (если угодно, души писателя). Кто посмотрит так, скажем, на «Фауста», для того Фауст, Мефистофель, Вагнер и все другие составят некое единство, некое сверхлицо, и лишь в этом высшем единстве, не в отдельных персонажах, есть какой-то намек на истинную сущность души. Когда Фауст произносит слова, знаменитые у школьных учителей и вызывающие трепет у восхищенного обывателя: «Ах, две души в моей живут груди!» – он, Фауст, забывает Мефистофеля и множество других душ, которые тоже пребывают в его душе. Да ведь и наш Степной волк полагает, что носит в своей груди две души (волка и человека), и находит, что уже этим грудь его пагубно стеснена. То-то и оно, что грудь, тело всегда единственны, а душ в них заключено не две, не пять, а несметное число; человек – луковица, состоящая из сотни кожиц, ткань, состоящая из множества нитей. Поняли и хорошо знали это древние азиаты, и буддистская йога открыла целую технику, чтобы разоблачить самообман личности. Забавна и разнообразна игра человечества: самообман, над разоблачением которого Индия билась тысячу лет, – это тот же самообман, на укрепление и усиление которого положил столько же сил Запад.
Если мы посмотрим на Степного волка с этой точки зрения, нам станет ясно, почему он так страдает от своей смешной двойственности. Он, как и Фауст, считает, что две души – это для одной-единственной груди уже слишком много и что они должны разорвать грудь. А это, наоборот, слишком мало, и Гарри совершает над своей бедной душой страшное насилие, пытаясь понять ее в таком примитивном изображении. Гарри, хотя он и высокообразованный человек, поступает примерно так же, как дикарь, умеющий считать только до двух. Он называет одну часть себя человеком, а другую – волком и думает, что на том дело кончено и что он исчерпал себя. В «человека» он впихивает все духовное, утонченное или хотя бы культурное, что находит в себе, а в волка – все импульсивное, дикое и хаотичное. Но в жизни все не так просто, как в наших мыслях, все не так грубо, как в нашем бедном, идиотском языке, и Гарри вдвойне обманывает себя, прибегая к этому дикарскому методу «волка». Гарри, боимся мы, относит уже к «человеку» целые области своей души, которым до человека еще далеко, а к волку такие части своей натуры, которые давно преодолели волка.
Как все люди, Гарри мнит, что довольно хорошо знает, что такое человек, а на самом деле вовсе не знает этого, хотя нередко, в снах и других трудноконтролируемых состояниях сознания, об этом догадывается. Не забывать бы ему этих догадок, усвоить бы их как можно лучше! Ведь человек не есть нечто застывшее и неизменное (таков был, вопреки противоположным догадкам ее мудрецов, идеал Античности), а есть скорее некая попытка, некий переход, есть не что иное, как узкий, опасный мостик между природой и духом. К духу, к Богу влечет его сокровеннейшее призвание, назад к матери-природе – глубиннейшая тоска, между этими двумя силами колеблется его жизнь в страхе и трепете. То, что люди в каждый данный момент вкладывают в понятие «человек», есть всегда лишь временная, обывательская договоренность. Эта условность отвергает и осуждает некоторые наиболее грубые инстинкты, требует какой-то сознательности, какого-то благонравия, какого-то преодоления животного начала, она не только допускает, но даже объявляет необходимой небольшую толику духа. «Человек» этой условности есть, как всякий мещанский идеал, компромисс, робкая, наивно-хитрая попытка надуть, с одной стороны, злую праматерь-природу, а с другой – докучливого праотца – дух и пожить между ними, в индифферентной середке. Поэтому мещанин допускает и терпит то, что он называет «личностью», но одновременно отдает личность на произвол молоха – «государства» и всегда сталкивает лбами личность и государство. Поэтому мещанин сжигает сегодня как еретика, вешает как преступника того, кому послезавтра он будет ставить памятники.
Чувство, что «человек» не есть нечто уже сложившееся, а есть требование духа, отдаленная, столь же вожделенная, сколь и страшная возможность и что продвигаются на пути к ней всегда лишь мало-помалу, ценой ужасных мук и экстазов, как раз те редкие одиночки, которых сегодня ждет эшафот, а завтра памятник, – это чувство живет и в Степном волке. Но то, что он, в противоположность своему «волку», называет в себе «человеком», – это, в общем, и есть тот самый посредственный «человек» мещанской условности. Да, Гарри чувствует, что существует путь к истинному человеку, да, порой он даже еле-еле и мало-помалу чуть-чуть продвигается вперед на этом пути, расплачиваясь за свое продвижение тяжкими страданиями и мучительным одиночеством. Но одобрить и признать своей целью то высшее требование, то подлинное очеловечение, которого ищет дух, пойти единственным узким путем к бессмертию – этого он в глубине души все же страшится. Он ясно чувствует: это поведет к еще большим страданиям, к изгнанью, к последним лишеньям, может быть, к эшафоту, – и, как ни заманчиво бессмертие в конце этого пути, он не хочет страдать всеми этими страданиями, не хочет умирать всеми этими смертями. Хотя очеловечение как цель понятнее ему, чем мещанам, он закрывает глаза и словно бы не знает, что отчаянно держаться за свое «я», отчаянно цепляться за жизнь – это значит идти вернейшим путем к вечной смерти, тогда как умение умирать, сбрасывать оболочку, вечно поступаться своим «я» ради перемен ведет к бессмертию. Боготворя своих любимцев из числа Бессмертных, например Моцарта, он в общем-то смотрит на него все еще мещанскими глазами и, совсем как школьный наставник, склонен объяснять совершенство Моцарта лишь его высокой одаренностью специалиста, а не величием его самоотдачи, его готовности к страданиям, его равнодушия к идеалам мещан, не его способностью к тому предельному одиночеству, которое разрежает, которое превращает в ледяной эфир космоса всякую мещанскую атмосферу вокруг того, кто страдает и становится человеком, к одиночеству Гефсиманского сада.
И все же наш Степной волк открыл в себе по крайней мере фаустовскую раздвоенность, обнаружил, что за единством его жизни вовсе не стоит единство души, а что он в лучшем случае находится лишь на пути, лишь в долгом паломничестве к идеалу этой гармонии. Он хочет либо преодолеть в себе волка и стать целиком человеком, либо отказаться от человека и хотя бы как волк жить цельной, нераздвоенной жизнью. Вероятно, он никогда как следует не наблюдал за настоящим волком – а то бы он, может быть, увидел, что и у животных нет цельной души, что и у них за прекрасной, подтянутой формой тела кроется многообразие стремлений и состояний, что у волка есть свои внутренние бездны, что и волк страдает. Нет, говоря: «Назад, к природе!» – человек всегда идет неверным, мучительным и безнадежным путем.
Гарри никогда не стать снова целиком волком, да и стань он им, он бы увидел, что и волк тоже не есть что-то простое и изначальное, а есть уже нечто весьма многосложное. И у волка в его волчьей груди живут две и больше, чем две, души, и кто жаждет быть волком, тот столь же забывчив, как мужчина, который поет: «Блаженство лишь детям дано!» Симпатичный, но сентиментальный мужчина, распевающий песню о блаженном дитяти, тоже хочет вернуться к природе, к невинности, к первоистокам, совсем забыв, что и дети отнюдь не блаженны, что они способны ко многим конфликтам, ко многим разладам, ко всяким страданиям.
Назад вообще нет пути – ни к волку, ни к ребенку. В начале вещей ни невинности, ни простоты нет; все сотворенное, даже самое простое на вид, уже виновно, уже многообразно, оно брошено в грязный поток становления и никогда, никогда уже не сможет поплыть вспять. Путь к невинности, к несотворенному, к Богу ведет не назад, а вперед, не к волку, не к ребенку, а ко все большей вине, ко все более глубокому очеловечению. И самоубийство тебе, бедный Степной волк, тоже всерьез не поможет, тебе не миновать долгого, трудного и тяжкого пути очеловечения, ты еще вынужден будешь всячески умножать свою раздвоенность, всячески усложнять свою сложность. Вместо того чтобы сужать свой мир, упрощать свою душу, тебе придется мучительно расширять, все больше открывать ее миру, а там, глядишь, и принять в нее весь мир, чтобы когда-нибудь, может быть, достигнуть конца и покоя. Этим путем шел Будда, им шел каждый великий человек – кто сознательно, кто безотчетно, – кому на что удавалось осмелиться. Всякое рождение означает отделение от вселенной, означает ограничение, обособление от Бога, мучительное становление заново. Возвратиться к вселенной, отказаться от мучительной обособленности, стать Богом – это значит так расширить свою душу, чтобы она снова могла объять вселенную.
Здесь речь идет не о человеке, которого имеет в виду школа, экономика, статистика, не о человеке, который миллионами ходит по улицам и о котором можно сказать то же, что о песчинках на морском берегу или о брызгах прибоя: миллионом больше или миллионом меньше – не важно, они – материал, и только. Нет, мы говорим здесь о человеке в высоком смысле, о цели долгого пути очеловечения, о царственном человеке, о Бессмертных. Гениальность – явление не столь редкое, как это нам порой кажется, хотя и не такое частое, как считают историки литератур, историки стран, а тем более газеты. Степной волк Гарри, на наш взгляд, достаточно гениален, чтобы осмелиться на попытку очеловечения, вместо того чтобы при любой трудности жалобно ссылаться на своего глупого степного волка.
Если люди таких возможностей перебиваются ссылками на степного волка и на «ах, две души», то это столь же удивительно и огорчительно, как и то, что они так часто питают трусливую любовь к мещанству. Человеку, способному понять Будду, имеющему представление о небесах и безднах человечества, не пристало жить в мире, где правят здравый смысл, демократия и мещанская образованность. Он живет в нем только из трусости, и когда его угнетают размеры этого мира, когда тесная мещанская комната делается ему слишком тесна, он сваливает все на волка и не видит, что волк – лучшая порой его часть. Он называет все дикое в себе волком и находит это злым, опасным, с мещанской точки зрения – страшным, и хотя он считает себя художником, хотя убежден в тонкости своих чувств, ему невдомек, что, кроме волка, за волком, в нем живет и многое другое, и не все то волк, что волком названо, и живут там еще и лиса, и дракон, и тигр, и обезьяна, и райская птичка. Ему невдомек, что весь этот мир, весь этот райский сад прелестных и страшных, больших и малых, сильных и слабых созданий точно так же подавлен и взят в плен сказкой о волке, как подавлен в нем, в Гарри, и взят в плен мещанином, ложным человеком, подлинный человек.
Представьте себе сад с сотнями видов деревьев, с тысячами видов цветов, с сотнями видов плодов, с сотнями видов трав. Если садовник этого сада не знает никаких ботанических различий, кроме «съедобно» и «сорняк», то от девяти десятых его сада ему никакого толку не будет, он вырвет самые волшебные цветы, срубит благороднейшие деревья или по крайней мере возненавидит их и станет косо на них смотреть. Так поступает и Степной волк с тысячами цветов своей души. Что не подходит под рубрики «человек» или «волк», того он просто не видит. А чего он только не причисляет к «человеку»! Все трусливое, все напускное, все глупое и мелочное, поскольку оно не волчье, он причисляет к «человеку», а все сильное и благородное, лишь потому, что еще не стал сам себе господином, приписывает волчьему своему началу.
Мы прощаемся с Гарри, мы предоставляем ему идти дальше его путем одному. Если бы он уже был с Бессмертными, если бы он уже был там, куда, кажется, направлен его тяжкий путь, как удивленно взглянул бы он на эти изгибы, на этот смятенный, на этот нерешительный зигзаг своего пути, как ободрительно, как порицающе, как сочувственно, как весело улыбнулся бы он этому Степному волку!
Дочитав до конца, я вспомнил, что несколько недель назад, как-то ночью, я написал странное стихотворение, где речь тоже шла о Степном волке. Я перерыл кучу бумаг в своем битком набитом письменном столе, нашел этот листок и прочел:
- Мир лежит в глубоком снегу.
- Ворон на ветке бьет крылами.
- Я, Степной волк, все бегу и бегу,
- Но не вижу нигде ни зайца, ни лани!
- Нигде ни одной – куда ни глянь.
- А я бы сил не жалел в погоне,
- Я взял бы в зубы ее, в ладони,
- Это ведь любовь моя – лань.
- Я бы в нежный кострец вонзил клыки,
- Я бы кровь прелестницы вылакал жадно,
- А потом бы опять всю ночь от тоски,
- От одиночества выл надсадно.
- Даже зайчишка – и то бы не худо.
- Ночью приятно парного поесть мясца.
- Ужели теперь никакой ниоткуда
- Мне не дождаться поживы и так и тянуть до конца?
- Шерсть у меня поседела на старости лет,
- Глаза притупились, добычи не вижу в тумане.
- Милой супруги моей на свете давно уже нет,
- А я все бегу и мечтаю о лани.
- А я все бегу и о зайце мечтаю,
- Снегом холодным горящую пасть охлаждаю,
- Слышу, как свищет ветер, бегу, ищу —
- К дьяволу бедную душу свою тащу.
И вот у меня в руках было два моих портрета – автопортрет из рифмованных дольников, такой же печальный и тревожный, как я сам, и портрет, написанный холодно и на вид очень объективно посторонним лицом, которое смотрит на меня со стороны, сверху вниз, и знает больше, но все же и меньше, чем я сам. И оба эти портрета вместе, мои тоскливо запинающиеся стихи и умный этюд неизвестного автора, причиняли мне боль, оба они были верны, оба рисовали без прикрас мое безотрадное бытие, оба ясно показывали невыносимость и неустойчивость моего состояния. Этот Степной волк должен был умереть, должен был собственноручно покончить со своей ненавистной жизнью – или же должен был переплавиться в смертельном огне обновленной самооценки, сорвать с себя маску и двинуться в путь к новому «я». Ах, этот процесс не был мне нов и незнаком, я знал его, я уже неоднократно проходил через него, каждый раз во времена предельного отчаяния. Каждый раз в ходе этой тяжелой ломки вдребезги разбивалось мое прежнее «я», каждый раз глубинные силы растормашивали и разрушали его, каждый раз при этом какая-то заповедная и особенно любимая часть моей жизни изменяла мне и терялась. Один раз я потерял свою мещанскую репутацию вкупе со своим состоянием и должен был постепенно отказаться от уважения со стороны тех, кто дотоле снимал передо мной шляпу. Другой раз внезапно развалилась моя семейная жизнь; моя заболевшая душевной болезнью жена прогнала меня из дому, лишила налаженного быта, любовь и доверие превратились вдруг в ненависть и смертельную вражду, соседи смотрели мне вслед с жалостью и презрением. Тогда-то и началась моя изоляция. А через несколько лет, через несколько тяжких, горьких лет, когда я, в полном одиночестве и благодаря строгой самодисциплине, построил себе новую жизнь, основанную на аскетизме и духовности, когда я, предавшись абстрактному упражненью ума и строго упорядоченной медитации, снова достиг известной тишины, известной высоты, этот уклад жизни тоже внезапно рухнул, тоже вдруг потерял свой благородный, высокий смысл; я снова метался по миру в диких, напряженных поездках, накапливались новые страдания и новая вина. И каждый раз этому срыванию маски, этому крушению идеала предшествовали такая же ужасная пустота и тишина, такая же смертельная скованность, изолированность и отчужденность, такая же адская пустыня равнодушия и отчаяния, как те, через которые я вновь проходил теперь.
При каждом таком потрясении моей жизни я в итоге что-то приобретал, этого нельзя отрицать, становился свободнее, духовнее, глубже, но и делался более одинок, более непонятен, более холоден. В мещанском плане моя жизнь была постоянным, от потрясения к потрясению, упадком, все большим удалением от нормального, дозволенного, здорового. С годами я стал человеком без определенных занятий, без семьи, без родины, оказался вне всяких социальных групп, один, никто меня не любил, у многих я вызывал подозрение, находясь в постоянном, жестоком конфликте с общественным мнением и с моралью общества, и, хоть я и жил еще в мещанской среде, по всем своим мыслям и чувствам я был внутри этого мира чужим. Религия, отечество, семья, государство не представляли собой никакой ценности для меня, и мне не было до них дела, от тщеславия науки, искусств, цехов меня тошнило; мои взгляды, мой вкус, весь мой ум, которыми я когда-то блистал как человек одаренный и популярный, пришли теперь в запустение и одичание и стали подозрительны людям. Если в ходе всех моих мучительных перемен я и приобретал что-то незримое и невесомое, то платил я за это дорого, и с каждым разом жизнь моя становилась все более тяжелой, трудной, одинокой, опасной. Право же, у меня не было причин желать продолжения этого пути, который вел меня во все более безвоздушные сферы, похожие на дым в осенней песне Ницше.
О да, я знал эти ощущения, эти перемены, уготовленные судьбой своим трудным детям, доставляющим ей особенно много хлопот, слишком хорошо я их знал. Я знал их, как честолюбивый, но неудачливый охотник знает все этапы охотничьей вылазки, как старый биржевик знает все этапы спекуляции, выигрыша, неуверенности, колебаний, банкротства. Неужели мне и правда проходить через все это еще раз? Через всю эту муку, через все эти метания, через все эти свидетельства низменности и никчемности собственного «я», через всю эту ужасную боязнь поражения, через весь этот страх смерти? Не умней ли, не проще ли было предотвратить повторение стольких страданий, дать тягу? Конечно, это было проще и умней. Что бы там ни утверждалось насчет «самоубийц» в брошюрке о Степном волке, никто не мог лишить меня удовольствия избавиться с помощью светильного газа, бритвы или пистолета от повторения процесса, мучительную болезненность которого я, право же, изведывал уже достаточно часто и глубоко. Нет, черт возьми, никакая сила на свете не заставит меня еще раз дрожать перед ней от ужаса, еще раз перерождаться и перевоплощаться, причем не для того, чтобы обрести наконец мир и покой, а для нового самоуничтожения, для нового перерождения! Пусть самоубийство – это глупость, трусость и подлость, пусть это бесславный, позорный выход – любой, даже самый постыдный выход из этой мельницы страданий куда как хорош, тут уж нечего играть в благородство и героизм, тут я стою перед простым выбором между маленькой, короткой болью и немыслимо жестоким, бесконечным страданием. В своей такой трудной, такой сумасшедшей жизни я достаточно часто бывал благородным донкихотом и предпочитал честь удобству, а героизм – разуму. Хватит, кончено!
Утро зевало уже сквозь окна, свинцовое, окаянное утро дождливого зимнего дня, когда я наконец улегся. В постель я взял с собой свое решение. Но на периферии сознания, на последней его границе, когда я уже засыпал, передо мной сверкнуло то странное место брошюрки, где речь шла о Бессмертных, и я мельком вспомнил, что не раз и даже совсем недавно чувствовал себя достаточно близким к Бессмертным, чтобы в одном такте старинной музыки уловить всю холодную, светлую, сурово-улыбчивую мудрость Бессмертных. Это возникло, блеснуло, погасло, и тяжелый, как гора, сон лег на мой лоб.
Проснувшись около полудня, я сразу ощутил ясность ситуации, брошюрка и мои стихи лежали на тумбочке, и мое решение, дозревшее и окрепшее за ночь во сне, глядело на меня приветливо-холодным взглядом из хаоса последней полосы моей жизни. Спешить не нужно было, мое решение умереть не было минутным капризом, это был зрелый, крепкий плод, медленно поспевший и отяжелевший, готовый упасть при первом же порыве ветра судьбы, который сейчас его тихо покачивал.
В моей дорожной аптечке имелось одно превосходное болеутоляющее средство, сильный препарат опиума, – прибегать к нему я позволял себе очень редко, и моей воздержанности часто хватало на несколько месяцев; оглушающее это снадобье я принимал только при нестерпимо мучительных физических болях. Для самоубийства оно, к сожалению, не годилось, много лет назад я убедился в этом на собственном опыте. Однажды, в пору очередного отчаяния, я проглотил изрядную дозу этого препарата, достаточную, чтобы убить шестерых, но меня она не убила. Я, правда, уснул и пролежал несколько часов в полном забытьи, но потом, к ужасному своему разочарованию, проснулся от страшных спазмов в желудке, извергнул с рвотой, не вполне придя в себя, весь принятый яд и снова уснул, чтобы окончательно проснуться лишь в середине следующего дня – отвратительно трезвым, с выжженным, пустым мозгом и почти начисто отшибленной памятью.
Никаких других последствий, кроме периода бессонницы и изнурительных болей в желудке, отравление не имело.
Это средство, стало быть, отпадало. Но мое решение приняло теперь вот какую форму: если дела мои снова пойдут так, что я должен буду прибегнуть к своему опиумному снадобью, мне разрешается заменить это короткое избавление избавлением большим, смертью, причем смертью верной, надежной: от пули или от лезвия бритвы. Теперь положение прояснилось; ждать своего пятидесятилетия, как остроумно советовала брошюрка, надо было, на мой взгляд, слишком уж долго, до него оставалось еще два года. Не важно, через год ли, через месяц ли или уже завтра – дверь была открыта.
Не скажу, чтобы «решение» сильно изменило мою жизнь. Оно сделало меня немного равнодушнее к недомоганиям, немного беззаботнее в употреблении опиума и вина, немного любопытнее к пределу терпимого, только и всего. Сильнее действовали другие впечатления того вечера. Трактат о Степном волке я иногда перечитывал, то с увлечением и благодарностью, словно признавая, что какой-то невидимый маг мудро направляет мою судьбу, то с насмешливым презрением к трезвости трактата, который, казалось мне, совершенно не понимал специфической напряженности моей жизни. Все сказанное там о степных волках и о самоубийцах, возможно, и было умно и прекрасно, но это относилось к целой категории, к типу как таковому, было талантливой абстракцией; а меня как личность, суть моей души, мою особую, уникальную, частную судьбу такой грубой сетью, казалось мне, уловить нельзя.
Глубже всего прочего занимала меня та галлюцинация, то видение у церковной стены, тот многообещающий анонс пляшущих световых букв, который соответствовал намекам в трактате. Очень уж многое тут обещалось мне, очень уж сильно разожгли голоса того неведомого мира мое любопытство. Я целыми часами самозабвенно о них размышлял, и все яснее тогда слышалось мне предостережение тех надписей: «Не для всех!» и «Только для сумасшедших!». Значит, я сумасшедший, значит, очень далек от «всех», если те голоса меня достигли, если те миры со мной заговаривают. Господи, да разве я давно не отдалился от жизни всех, от бытия и мышления нормальных людей, разве я давно не отъединился от них, не сошел с ума? И все же в глубине души я прекрасно понимал это требование сумасшествия, этот призыв отбросить разум, скованность, мещанские условности и отдаться бурному, не знающему законов миру души, миру фантазии.
Однажды, снова безуспешно поискав на улицах и площадях человека с плакатом и выжидательно пройдя несколько раз мимо стены с невидимыми воротами, я встретил в предместье Св. Мартина похоронную процессию. Разглядывая лица скорбящих, которые шагали за катафалком, я подумал: где в этом городе, где в этом мире живет человек, чья смерть означала бы для меня потерю? И где тот человек, для которого моя смерть имела бы хоть какое-то значение? Была, правда, Эрика, моя возлюбленная, ну, конечно; но мы давно жили очень разъединенно, редко виделись без всяких ссор, и сейчас я даже не знал ее местопребывания. Иногда она приезжала ко мне или я ездил к ней, и поскольку мы оба люди одинокие и нелегкие, чем-то родственные друг другу в душе и в болезни души, между нами все-таки сохранялась какая-то связь. Но не вздохнула ли бы она с большим облегчением, узнав о моей смерти? Этого я не знал, как не знал ничего и о надежности своих собственных чувств. Надо жить в мире нормального и возможного, чтобы знать что-либо о таких вещах.
Между тем, по какой-то прихоти, я присоединился к процессии и приплелся за скорбящими к кладбищу, архисовременному цементному кладбищу с крематорием и всякой техникой. Но нашего покойника не собирались сжигать, его гроб опустили на землю у простой ямы, и я стал наблюдать за действиями священника и прочих стервятников, служащих похоронного бюро, которые пытались изобразить торжественность и скорбь, но от смущения, от театральности и фальши чрезмерно усердствовали и добивались скорее комического эффекта; я смотрел, как трепыхалась на них черная униформа и как старались они привести собравшихся в нужное настроение и заставить их преклонить колени перед величием смерти. Это был напрасный труд, никто не плакал, покойный, кажется, никому не был нужен. Никто не проникался благочестивыми чувствами, и, когда священник называл присутствующих «дорогими сохристианами», деловые лица всех этих купцов, булочников и их жен молча потуплялись с судорожной серьезностью, смущенно, фальшиво, с единственным желанием, чтобы поскорей кончилась эта неприятная процедура. Что ж, она кончилась, двое передних сохристиан пожали оратору руку, вытерли о кромку ближайшего газона башмаки, выпачканные влажной глиной, в которую они положили своего мертвеца, лица сразу вновь обрели обычный человеческий вид, и одно из них показалось мне вдруг знакомым – это был, показалось мне, тот, что нес тогда плакат и сунул мне в руку брошюрку.
Едва я узнал его, как он отвернулся, наклонился, занялся своими черными брюками, аккуратно засучил их над башмаками и быстро зашагал прочь, зажав под мышкой зонтик. Я побежал за ним, догнал его, поклонился ему, но он, кажется, меня не узнал.
– Сегодня не будет вечернего аттракциона? – спросил я, пытаясь ему подмигнуть, как это делают заговорщики. Но от таких мимических упражнений я давно отвык, ведь при моем образе жизни я и говорить-то почти разучился; я сам почувствовал, что скорчил лишь глупую гримасу.
– Вечернего аттракциона? – пробормотал он и недоуменно посмотрел мне в лицо. – Ступайте, дорогой, в «Черный орел», если у вас есть такая потребность.
Я и правда не был уже уверен, что это он. Я разочарованно пошел дальше, не зная куда, никаких целей, никаких устремлений, никаких обязанностей для меня не существовало. У жизни был отвратительно горький вкус, я чувствовал, как давно нараставшая тошнота достигает высшей своей точки, как жизнь выталкивает и отбрасывает меня. В ярости шагал я по серому городу, отовсюду мне слышался запах влажной земли и похорон. Нет, у моей могилы не будет никого из этих сычей с их рясами и с их сентиментальной трескотней! Ах, куда бы я ни взглянул, куда бы ни обратился мыслью, нигде не ждала меня радость, ничто меня не звало, не манило, все воняло гнилой изношенностью, гнилым полудовольством, все было старое, вялое, серое, дряблое, дохлое. Боже, как это получилось? Как дошел до этого я, окрыленный юнец, друг муз, любитель странствий по свету, пламенный идеалист? Как смогли они так тихонько подкрасться и овладеть мною, это бессилие, эта ненависть к себе и ко всем, эта глухота чувств, эта глубокая озлобленность, этот гадостный ад душевной пустоты и отчаяния?
Когда я проходил мимо библиотеки, мне попался на глаза один молодой профессор, с которым я прежде порой беседовал, к которому во времена последнего своего пребывания в этом городе даже несколько раз ходил на квартиру, чтобы поговорить с ним о восточных мифологиях, – тогда эта область очень меня занимала. Ученый шел мне навстречу, чопорный, несколько близорукий, и узнал меня, когда я уже собирался пройти мимо. Он бросился ко мне с большой теплотой, и я, находясь в таком никудышном состоянии, был почти благодарен ему за это. Он очень обрадовался и оживился, напомнил мне кое-какие подробности наших прежних бесед, сказал, что многим обязан исходившим от меня импульсам и что часто обо мне думал; с тех пор ему редко доводилось так интересно и плодотворно дискутировать с коллегами. Он спросил, давно ли я в этом городе (я соврал: несколько дней) и почему я не навестил его. Я посмотрел на доброе, с печатью учености лицо этого учтивого человека, нашел сцену встречи с ним вообще-то смешной, но, как изголодавшийся пес, насладился крохой тепла, глотком любви, кусочком признания. Степной волк Гарри растроганно осклабился, у него потекли слюнки в сухую глотку, сентиментальность выгнула ему спину вопреки его воле. Итак, я наврал, что заехал сюда ненадолго, по научным делам, да и чувствую себя неважно, а то бы, конечно, заглянул к нему. И когда он сердечно меня пригласил провести у него сегодняшний вечер, я с благодарностью принял это приглашение, а потом передал привет его жене, и оттого, что я так много говорил и улыбался, у меня заболели щеки, отвыкшие от таких усилий. И в то время как я, Гарри Галлер, захваченный врасплох и польщенный, вежливый и старательный, стоял на улице, улыбаясь этому любезному человеку и глядя в его доброе, близорукое лицо, другой Гарри стоял рядом и ухмылялся, стоял, ухмыляясь, и думал, какой же я странный, какой же я вздорный и лживый тип, если две минуты назад я скрежетал зубами от злости на весь опостылевший мир, а сейчас, едва меня поманил, едва невзначай приветил достопочтенный обыватель, спешу растроганно поддакнуть ему и нежусь, как поросенок, растаяв от крохотки доброжелательства, уважения, любезности. Так оба Гарри, оба – фигуры весьма несимпатичные, стояли напротив учтивого профессора, презирая друг друга, наблюдая друг за другом, плюя друг другу под ноги и снова, как всегда в таких ситуациях, задаваясь вопросом: просто ли это человеческая глупость и слабость, то есть всеобщий удел, или же этот сентиментальный эгоизм, эта бесхарактерность, эта неряшливость и двойственность чувств – чисто личная особенность Степного волка? Если эта подлость общечеловечна, ну что ж, тогда мое презрение к миру могло обрушиться на нее с новой силой; если же это лишь моя личная слабость, то она давала повод к оргии самоуничиженья.
За спором между обоими Гарри профессор был почти забыт; вдруг он мне опять надоел, и я поспешил отделаться от него. Я долго глядел ему вслед, когда он удалялся по голой аллее, добродушной и чуть смешной походкой идеалиста, походкой верующего. В душе моей бушевала битва, и, машинально сгибая и разгибая замерзшие пальцы в борьбе с притаившейся подагрой, я вынужден был признаться себе, что остался в дураках, что вот и накликал приглашение на ужин, к половине восьмого, обрек себя на обмен любезностями, ученую болтовню и созерцание чужого семейного счастья. Разозлившись, я пошел домой, смешал воду с коньяком, запил свои пилюли, лег на диван и попытался читать. Когда мне наконец удалось немного вчитаться в «Путешествие Софии из Мемеля в Саксонию», восхитительную бульварщину восемнадцатого века, я вдруг вспомнил о приглашении, и что я небрит, и что мне нужно одеться. Одному Богу известно, зачем я это себе навязал! Итак, Гарри, вставай, бросай свою книгу, намыливайся, скреби до крови подбородок, одевайся и проникнись расположением к людям! И, намыливаясь, я думал о грязной глинистой яме на кладбище, в которую сегодня спустили на веревках того незнакомца, и о перекошенных усмешкой лицах скучающих сохристиан и не смог даже посмеяться надо всем этим. Там, у грязной глинистой ямы, под глупую, смущенную речь проповедника, среди глупых, смущенных физиономий участников похорон, при безотрадном зрелище всех этих крестов и досок из жести и мрамора, среди всех этих искусственных цветов из проволоки и стекла, там, казалось мне, кончился не только тот незнакомец, не только, завтра или послезавтра, кончусь и я, зарытый, закопанный в грязь среди смущения и лжи участников процедуры, нет, так кончалось все, вся наша культура, вся наша вера, вся наша жизнерадостность, которая была очень больна и скоро там тоже будет зарыта. Кладбищем был мир нашей культуры, Иисус Христос и Сократ, Моцарт и Гайдн, Данте и Гете были здесь лишь потускневшими именами на ржавеющих жестяных досках, а кругом стояли смущенные и изолгавшиеся поминальщики, которые много бы дали за то, чтобы снова поверить в эти когда-то священные для них жестяные скрижали или сказать хоть какое-то честное, серьезное слово отчаяния и скорби об этом ушедшем мире, а не просто стоять у могилы со смущенной ухмылкой. От злости я порезал себе подбородок в том же, что и всегда, месте и прижег ранку квасцами, но все равно должен был сменить только что надетый свежий воротничок, хотя совершенно не знал, зачем я все это делаю, ибо не испытывал ни малейшего желания идти туда, куда меня пригласили. Но какая-то часть Гарри снова устроила спектакль, назвала профессора славным малым, захотела человеческого запаха, болтовни, общения, вспомнила красивую жену профессора, нашла мысль о вечере у гостеприимных хозяев в общем-то вдохновляющей, помогла мне налепить на подбородок английский пластырь, помогла мне одеться и повязать подобающий галстук и мягко убедила меня поступиться истинным моим желанием остаться дома. Одновременно я думал: так же как я сейчас одеваюсь и выхожу, иду к профессору и обмениваюсь с ним более или менее лживыми учтивостями, по существу всего этого не желая, точно так поступают, живут и действуют большинство людей изо дня в день, час за часом, они вынужденно, по существу этого не желая, наносят визиты, ведут беседы, отсиживают служебные часы, всегда поневоле, машинально, нехотя, все это с таким же успехом могло бы делаться машинами или вообще не делаться; и вся эта нескончаемая механика мешает им критически – как я – отнестись к собственной жизни, увидеть и почувствовать ее глупость и мелкость, ее мерзко ухмыляющуюся сомнительность, ее безнадежную тоску и скуку. О, и они правы, люди, бесконечно правы, что так живут, что играют в свои игры и носятся со своими ценностями, вместо того чтобы сопротивляться этой унылой механике и с отчаянием глядеть в пустоту, как я, свихнувшийся человек. Если я иногда на этих страницах презираю людей и высмеиваю, то да не подумают, что я хочу свалить на них вину, обвинить их, взвалить на других ответственность за свою личную беду! Но я-то, я, зайдя так далеко и стоя на краю жизни, где она проваливается в бездонную темень, я поступаю несправедливо и лгу, когда притворяюсь перед собой и перед другими, будто эта механика продолжается и для меня, будто я тоже принадлежу еще к этому милому ребяческому миру вечной игры!
Вечер и впрямь принял удивительный оборот. Перед домом своего знакомого я на минуту остановился и взглянул вверх, на окна. Вот здесь живет этот человек, подумал я, трудится год за годом, читает и комментирует тексты, ищет связи между переднеазиатскими и индийскими мифологиями и тем доволен, потому что верит в ценность своей работы, верит в науку, которой служит, верит в ценность чистого знания, накопления сведений, потому что верит в прогресс, в развитие. Войны он не почувствовал, не почувствовал, как потряс основы прежнего мышления Эйнштейн (это, полагает он, касается лишь математиков), он не видит, как вокруг него подготавливается новая война, он считает евреев и коммунистов достойными ненависти, он добрый, бездумный, довольный ребенок, много о себе мнящий, ему можно лишь позавидовать. Я собрался с духом и вошел, меня встретила горничная в белом переднике, благодаря какому-то предчувствию я хорошо запомнил место, куда она убрала мои пальто и шляпу, горничная провела меня в теплую, светлую комнату, попросила подождать, и, вместо того чтобы произнести молитву или соснуть, я из какого-то озорства взял в руки первый попавшийся предмет. Им оказалась картинка в рамке с твердой картонной подпоркой-клапаном, стоявшая на круглом столе. Это была гравюра, и изображала она писателя Гете, своенравного, гениально причесанного старика с красиво вылепленным лицом, где, как положено, были и знаменитый огненный глаз, и налет слегка сглаженных вельможностью одиночества и трагизма, на которые художник затратил особенно много усилий. Ему удалось придать этому демоническому старцу, без ущерба для его глубины, какое-то не то профессорское, не то актерское выражение сдержанности и добропорядочности и сделать из него в общем-то действительно красивого старого господина, способного украсить любой мещанский дом. Картинка эта, вероятно, была не глупей, чем все картинки такого рода, чем все эти милые спасители, апостолы, герои, титаны духа и государственные мужи, изготовляемые прилежными ремесленниками, взвинтила она меня, вероятно, лишь известной виртуозностью мастерства; как бы то ни было, это тщеславное и самодовольное изображение старого Гете сразу же резануло меня отвратительным диссонансом – а я был уже достаточно раздражен и настропален – и показало мне, что я попал не туда. Здесь были на месте красиво стилизованные основоположники и национальные знаменитости, а не степные волки.
Войди сейчас хозяин дома, мне, наверно, удалось бы ретироваться под каким-нибудь подходящим предлогом. Но вошла его жена, и я покорился судьбе, хотя и чуял недоброе. Мы поздоровались, и за первым диссонансом последовали новые и новые. Она поздравила меня с тем, что я хорошо выгляжу, а я прекрасно знал, как постарел за годы, прошедшие после нашей последней встречи; уже во время рукопожатия мне неприятно напомнила об этом подагрическая боль в пальцах. А потом она спросила меня, как поживает моя милая жена, и мне пришлось сказать, что жена ушла от меня и наш брак распался. Мы были рады, что появился профессор. Он тоже приветствовал меня очень тепло, и вся ложность, весь комизм этой ситуации вскоре нашли себе донельзя изящное выражение. В руках у профессора была газета, подписчиком которой он состоял, орган милитаристской, подстрекавшей к войне партии, и, пожав мне руку, он кивнул на газету и сказал, что в ней есть статья об одном моем однофамильце, публицисте Галлере, – это, видно, какой-то безродный негодяй, он потешался над кайзером и выразил мнение, что его родина виновата в развязывании войны ничуть не меньше, чем вражеские страны. Ну и тип, наверно! Но теперь он получил отповедь, редакция лихо отчитала этого прохвоста, заклеймила позором. Мы, однако, перешли к другой теме, когда профессор увидел, что эта материя не интересует меня, и у хозяев и в мыслях не было, что такое исчадие ада может сидеть перед ними, а дело обстояло именно так, этим исчадием ада был я. Зачем, право, поднимать шум и беспокоить людей! Я посмеялся про себя, но уже потерял надежду на какие-либо приятные впечатления от этого вечера. Я хорошо помню этот момент. Ведь как раз в тот момент, когда профессор заговорил об изменнике родины Галлере, скверное чувство подавленности и отчаяния, нараставшее и усиливавшееся во мне с похорон, сгустилось в страшную тяжесть, в физически ощутимую (внизу живота) боль, в давяще-тревожное чувство рока. Что-то, я чувствовал, подстерегало меня, какая-то опасность подкрадывалась ко мне сзади. К счастью, сообщили, что ужин готов. Мы перешли в столовую, и, то и дело стараясь сказать или спросить что-нибудь безобидное, я съел больше, чем привык съедать, и чувствовал себя с каждой минутой все отвратительнее. Боже мой, думал я все время, зачем мы так напрягаемся? Я ясно чувствовал, что и моим хозяевам было не по себе и что их живость стоила им труда, то ли оттого, что я действовал на них сковывающе, то ли из-за какого-то неблагополучия в доме. Они спрашивали меня всё о таких вещах, что отвечать откровенно никак нельзя было, вскоре я совсем запутался во лжи и боролся с отвращением при каждом слове. Наконец, чтобы отвлечь их, я стал рассказывать о похоронах, свидетелем которых сегодня был. Но я не нашел верного тона, мои потуги на юмор действовали удручающе, мы расходились в разные стороны все больше и больше, во мне смеялся, оскаливаясь, степной волк, и за десертом все трое больше помалкивали. Мы вернулись в ту первую комнату, чтобы выпить кофе и водки, может быть, это немного нам помогло бы. Но тут царь поэтов снова попался мне на глаза, хотя его уже убрали на комод. Он не давал мне покоя, и, прекрасно слыша в себе предостерегающие голоса, я снова взял его в руки и начал с ним объясняться. Я был прямо-таки одержим чувством, что эта ситуация невыносима, что я должен сейчас либо отогреть и увлечь хозяев, настроить их на свой тон, либо довести дело и вовсе до взрыва.
– Будем надеяться, – сказал я, – что у Гете в действительности был не такой вид! Это тщеславие, эта благородная поза, это достоинство, кокетничающее с уважаемыми зрителями, этот мир прелестнейшей сентиментальности под покровом мужественности! Можно, разумеется, очень его недолюбливать, я тоже часто очень недолюбливаю этого старого зазнайку, но изображать его так – нет, это уж чересчур.
Разлив кофе с глубоким страданием на лице, хозяйка поспешила выйти из комнаты, и ее муж полусмущенно-полуукоризненно сказал мне, что этот портрет Гете принадлежит его жене и что она его особенно любит.
– И даже будь вы объективно правы, чего я, кстати, не считаю, вам не следовало выражаться так резко.
– Тут вы правы, – признал я. – К сожалению, это моя привычка, мой порок – выбирать всегда как можно более резкие выражения, что, кстати, делал и Гете в лучшие свои часы. Конечно, этот слащавый, обывательский, салонный Гете никогда не употребил бы резкого, меткого, точного выражения. Прошу прощения у вас и у вашей жены – скажите ей, что я шизофреник. А заодно позвольте откланяться.
Ошарашенный хозяин попытался было возразить, снова заговорил о том, как прекрасны и интересны были прежние наши беседы, и что мои догадки насчет Митры и Кришны произвели на него тогда глубокое впечатление, и что он надеялся сегодня опять… и так далее. Я поблагодарил его и сказал, что это очень любезные слова, но, увы, у меня начисто пропал интерес к Кришне и охота вести ученые разговоры, и сегодня я врал ему многократно, например, в этом городе я нахожусь не несколько дней, а несколько месяцев, но живу уединенно и уже не могу бывать в приличных домах, потому что, во-первых, я всегда не в духе и страдаю от подагры, а во-вторых, обычно пьян. Далее, чтобы внести полную ясность и хотя бы уйти не лжецом, я должен заявить уважаемому хозяину, что он меня сегодня очень обидел. Он стал на глупую, тупоумную, достойную какого-нибудь праздного офицера, но не ученого позицию реакционной газетки в отношении взглядов Галлера. А этот Галлер, этот «тип», этот безродный прохвост не кто иной, как я сам, и дела нашей страны и всего мира обстояли бы лучше, если бы хоть те немногие, кто способен думать, взяли сторону разума и любви к миру, вместо того чтобы слепо и исступленно стремиться к новой войне. Так-то, и честь имею.
С этими словами я поднялся, простился с Гете и с профессором, сорвал с вешалки свои вещи и убежал. Громко выл у меня в душе злорадный волк, великий скандал разыгрывался между обоими Гарри. Ведь этот неприятный вечерний час имел для меня, мне сразу стало ясно, куда большее значение, чем для возмущенного профессора; для него он был разочарованием, досадным эпизодом, а для меня последним провалом и бегством, прощанием с мещанским, нравственным, ученым миром, полной победой степного волка. И прощался я с ними как беглец, как побежденный, признавая себя банкротом, прощался без всякого утешения, без чувства превосходства, без юмора. Со своим прежним миром и с прежней родиной, с буржуазностью, нравственностью, ученостью я прощался в точности так, как прощается заболевший язвой желудка с жареной свининой. В ярости бежал я под фонарями, в ярости и смертельной тоске. Какой это был безотрадный, позорный, злой день, от утра до вечера, от кладбища до сцены в доме профессора! Зачем? Почему? Есть ли смысл обременять себя другими такими днями, снова расхлебывать ту же кашу? Нет! И сегодня же ночью я покончу с этой комедией. Ступай домой, Гарри, и перережь себе горло! Хватит откладывать.
Я метался по улицам, гонимый бедой. Конечно, это была глупость с моей стороны – оплевать славным людям украшение их салона, глупость и невежливость, но я не мог поступить иначе, не мог больше мириться с этой укрощенной, лживой, благоприличной жизнью. А поскольку с одиночеством тоже я мириться, казалось, больше не мог, поскольку мое собственное общество вконец мне осточертело, поскольку я бился и задыхался в безвоздушном пространстве своего ада, какой у меня еще был выход? Не было никакого. О мать и отец, о далекий священный огонь моей молодости, о тысячи радостей, трудов и целей моей жизни! Ничего у меня от всего этого не осталось, даже раскаяния, остались лишь отвращение и боль. Никогда еще, казалось мне, сама необходимость жить не причиняла такой боли, как в этот час.
Я передохнул в каком-то унылом трактире за заставой, выпил там воды с коньяком и снова побежал дальше, гонимый дьяволом, вверх и вниз по крутым и кривым улочкам старого города, по аллеям, через вокзальную площадь. «Уехать!» – подумал я, вошел в вокзал, поглазел на висевшие на стенах расписания, выпил немного вина, попытался собраться с мыслями. Все ближе, все явственнее видел я теперь призрак, который меня страшил. Это было возвращение домой, в мою комнату, это была необходимость смириться с отчаянием! От нее не уйти, сколько часов ни бегай, не уйти от возвращения к моей двери, к столу с книгами, к дивану с портретом моей любимой над ним, не уйти от мгновения, когда надо будет открыть бритву и перерезать себе горло. Все явственнее вставала передо мной эта картина, и все явственнее, с бешено колотящимся сердцем, чувствовал я самый большой страх на свете – страх смерти! Да, у меня был неимоверный страх перед смертью. Хоть я и не видел другого выхода, хотя отвращение, страдание и отчаяние сдавили меня со всех сторон, хотя ничто уже не могло меня приманить, принести мне надежду и радость, я испытывал несказанный ужас перед казнью, перед последним мгновением, перед обязанностью холодно полоснуть по собственной плоти!
Я не видел способа уйти от того, что меня страшило. Даже если сегодня в борьбе отчаяния с трусостью победит трусость, то все равно завтра и каждодневно передо мной снова будет стоять отчаяние, да еще усугубленное моим презрением к себе. Так я и буду опять хвататься за бритву и опять отбрасывать ее, пока наконец не свершится. Уж лучше сегодня же! Я уговаривал себя, как ребенка, разумными доводами, но ребенок не слушал, он убегал, он хотел жить. Опять меня рывками носило по городу, я огибал свою квартиру размашистыми кругами, непрестанно помышляя о возвращении и непрестанно откладывая его. Время от времени я задерживался в кабачках, то на одну рюмку, то на две рюмки, а потом меня снова носило по городу, размашисто кружило вокруг моей цели, вокруг бритвы, вокруг смерти. Порой, смертельно устав, я присаживался на скамью, на край фонтана, на тумбу, слышал, как стучит мое сердце, стирал со лба пот, бежал снова, в смертельном страхе, в теплящейся тоске по жизни.
Так, поздно ночью, меня принесло в отдаленное, малознакомое мне предместье, к ресторану, за окнами которого неистовствовала танцевальная музыка. Проходя в подворотню, я прочел старую вывеску над ней: «Черный орел». В ресторане шла ночная жизнь – шум, толчея, дым, винные пары и крики, в заднем зале танцевали, там и бушевала музыка. Я остался в переднем зале, где находились сплошь простые, частью бедновато одетые люди, тогда как в заднем, бальном, показывались и гости весьма элегантные. Сутолока оттеснила меня в глубину зала, к стоявшему близ буфета столику, где на скамье у стены сидела красивая бледная девушка в тонком, с глубоким вырезом бальном платьице, в волосах у нее был увядший цветок. Увидев, что я приближаюсь, девушка внимательно и приветливо взглянула на меня и, улыбнувшись, подвинулась, чтобы освободить мне место.
– Можно? – спросил я и сел возле нее.
– Конечно, тебе можно, – сказала она, – ты кто?
– Спасибо, – сказал я, – я никак не могу пойти домой, не могу, не могу, я хочу остаться здесь, возле вас, если вы позволите. Нет, я не могу пойти домой.
Она закивала головой как бы в знак понимания, и, когда она кивала, я смотрел на локон, падавший у нее со лба к уху, и я увидел, что увядший цветок – это камелия. Из другого зала гремела музыка, у буфета официантки торопливо выкрикивали свои заказы.
– Оставайся здесь, – сказала она голосом, который действовал на меня благотворно. – Почему же ты не можешь пойти домой?
– Не могу. Дома ждет меня… нет, не могу, это слишком страшно.
– Тогда не спеши и останься здесь. Только протри сначала очки, ты же ничего не видишь. Вот так, дай свой платок. Что будем пить? Бургундское?
Она вытерла мои очки; теперь лишь я увидел отчетливо ее бледное, резко очерченное лицо с накрашенным, алым ртом, со светлыми, серыми глазами, с гладким, холодным лбом, с коротким, тугим локоном возле уха. Она доброжелательно и чуть насмешливо стала меня опекать, заказала вина, чокнулась со мной и при этом посмотрела вниз, на мои башмаки.
– Боже, откуда ты явился? У тебя такой вид, словно ты пришел пешком из Парижа. В таком виде не приходят на бал.
Я ответил уклончиво, немного посмеялся, предоставил говорить ей. Она мне очень нравилась, и это удивило меня, ведь таких юных девушек я до сих пор избегал и смотрел на них с некоторым недоверием. А она держалась со мной именно так, как мне и нужно было в этот момент, – о, она и потом всегда понимала, как нужно со мной держаться. Она обращалась со мной в той мере бережно, в какой мне это нужно было, и в той мере насмешливо, в какой мне это нужно было. Она заказала бутерброд и велела мне его съесть. Она налила мне вина и приказала выпить, только не слишком быстро. Потом она похвалила меня за послушание.
– Ты молодец, – сказала она ободряюще, – с тобой легко. Пари, что тебе уже давно не приходилось никого слушаться?
– Да, вы выиграли пари. Но откуда вы это знаете?
– Догадаться немудрено. Слушаться – это как есть и пить: кто долго не пил и не ел, тому еда и питье дороже всего на свете. Тебе нравится слушаться меня, правда?
– Очень нравится. Вы все знаете.
– С тобой легко. Пожалуй, дружок, я могла бы тебе и сказать, что тебя ждет дома и чего ты так боишься. Но это ты и сам знаешь, нам незачем об этом говорить, верно? Глупости! Либо ты вешаешься – ну так вешайся, значит, у тебя на то есть причины, – либо живешь дальше, и тогда заботиться надо только о жизни. Проще простого.
– О, – воскликнул я, – если бы это было так просто! Клянусь, я достаточно заботился о жизни, а все без толку. Повеситься, может быть, трудно, я этого не знаю. Но жить куда, куда труднее! Видит Бог, до чего это трудно!
– Ну, ты увидишь, что это очень легко. Начало мы уже сделали, ты вытер очки, поел, попил. Теперь мы пойдем и немного почистим твои брюки и башмаки, они в этом нуждаются. А потом ты станцуешь со мной шимми.
– Вот видите, – воскликнул я возбужденно, – я все-таки был прав! Больше всего на свете мне жаль не исполнить какой-либо ваш приказ. А этот я не могу исполнить. Я не могу станцевать ни шимми, ни вальс, ни польку или как там еще называются все эти штуки, я никогда в жизни не учился танцевать. Теперь вы видите, что не все так просто, как вам кажется?
Красивая девушка улыбнулась своими алыми губами и покачала четко очерченной, причесанной под мальчика головкой. Взглянув на незнакомку, я нашел было, что она похожа на Розу Крейслер, первую девушку, в которую я когда-то, мальчишкой, влюбился, но та была смугла и темноволоса. Нет, я не знал, кого напоминала мне незнакомка, я знал только, что это воспоминание относилось к очень ранней юности, к отрочеству.
– Погоди, – воскликнула она, – погоди! Значит, ты не умеешь танцевать? Вообще не умеешь? Даже уанстеп? И при этом ты утверждаешь, что невесть как заботился о жизни? Да ты же соврал. Ай-ай-ай, в твоем возрасте пора бы не врать. Как ты смеешь говорить, что заботился о жизни, если даже танцевать-то не хочешь?
– А если я не умею! Я этому никогда не учился.
Она засмеялась:
– Но ведь читать и писать ты учился, правда, и считать, и, наверно, учил еще латынь и французский и все такое прочее? Спорю, что ты десять или двенадцать лет просидел в школе, а потом еще, пожалуй, учился в университете и даже, может быть, именуешься доктором и знаешь китайский или испанский. Или нет? Ну вот. Но самой малости времени и денег на несколько уроков танцев у тебя не нашлось! Эх, ты!
– Это из-за моих родителей, – оправдался я, – они заставляли меня учить латынь и греческий и тому подобное. А учиться танцевать они мне не велели, у нас это не было принято, сами родители никогда не танцевали.
Она посмотрела на меня очень холодно, с полным презрением, и что-то в лице ее снова напомнило мне времена моей ранней юности.
– Вот как, виноваты, значит, твои родители! А ты их спросил, можно ли тебе сегодня вечером пойти в «Черный орел»? Спросил? Они уже давно умерли, говоришь? Ах вот оно что! Если ты из чистого послушания не стал в юности учиться танцевать – ну что ж! Хотя не думаю, что ты был тогда таким уж пай-мальчиком. Но потом – что же ты делал потом, все эти годы?
– Ах, сам не знаю, – признался я. – Был студентом, музицировал, читал книги, писал книги, путешествовал…
– Странные же у тебя представления о жизни! Ты, значит, всегда занимался трудными и сложными делами, а простым так и не научился? Не было времени? Не было охоты? Ну что ж, слава богу, я не твоя мать. Но потом делать вид, что ты изведал жизнь и ничего в ней не нашел, – нет, это никуда не годится!
– Не бранитесь! – попросил я. – Я же знаю, что я сумасшедший.
– Да ну, не морочь мне голову! Ты вовсе не сумасшедший, господин профессор, по мне, ты даже слишком несумасшедший! Ты, мне кажется, как-то по-глупому рассудителен, совсем по-профессорски. Скушай-ка еще бутерброд! Потом расскажешь дальше.
Она опять добыла мне бутерброд, посолила его, помазала горчицей, отрезала кусочек себе и велела мне есть. Я стал есть. Я согласен был сделать все, что она ни велела бы, только не танцевать. Было неимоверно приятно слушаться кого-то, сидеть рядом с кем-то, кто расспрашивал тебя, приказывал тебе, бранил тебя. Если бы несколько часов назад профессор или его жена делали именно это, я был бы от многого избавлен. Но нет, хорошо, что так вышло, а то бы я многое потерял!
– Как, собственно, зовут тебя? – спросила она вдруг.
– Гарри.
– Гарри? Мальчишеское имя! А ты и правда мальчишка, Гарри, несмотря на седину в волосах. Ты мальчишка, и кто-то должен за тобой присматривать. О танцах уж помолчу. Но как ты причесан! Неужели у тебя нет жены, нет возлюбленной?
– Жены у меня уже нет, мы разошлись. Возлюбленная есть, но живет она не здесь, я вижу ее редко, мы не очень-то ладим.
Она тихонько свистнула сквозь зубы.
– Ты, видимо, довольно трудный господин, если все бросают тебя. Но скажи теперь, что особенного случилось сегодня вечером, почему ты метался сам не свой? Поссорился с кем-нибудь? Проиграл деньги?
Объяснить это было трудно.
– Видите ли, – начал я, – все вышло в общем-то из-за пустяка. Меня пригласили к одному профессору, сам я, кстати сказать, не профессор, – а мне, в сущности, не следовало туда ходить, я отвык сидеть в гостях и болтать, я разучился это делать. Да и в дом-то я уже вошел с чувством, что ничего путного не получится. Только я повесил шляпу, как уже сразу подумал, что, наверно, она мне скоро понадобится. Ну вот, а у этого профессора, значит, стояла на столе такая картинка, глупая картинка, и она меня разозлила…
– Что за картинка? Почему разозлила? – прервала она меня.
– Ну, картинка, изображавшая Гете, – знаете, писателя Гете. Но на ней он был не такой, как на самом деле, – впрочем, точно это вообще неизвестно, он умер сто лет назад. Просто какой-то современный художник подогнал Гете к своему представлению о нем, и эта картинка разозлила меня, показалась мне мерзкой – не знаю, понятно ли вам это?
– Очень даже понятно, не беспокойся. Дальше!
– Я уже и до этого был не согласен с профессором; он, как почти все профессора, большой патриот и во время войны вовсю помогал врать народу – от чистого сердца, конечно. А я против войны. Ну да ладно. Значит, дальше. Мне и глядеть-то на эту картинку не надо было…
– И правда, не надо было.
– Но, во-первых, мне стало жаль Гете, ведь я его очень, очень люблю, а кроме того, мне вдруг подумалось… ну, я подумал или почувствовал что-то вроде того, что вот, мол, я сижу у людей, которых считаю своими и о которых думал, что они любят Гете, как я, и видят его примерно таким же, как вижу я, а у них стоит эта пошлая, лживая, приторная картинка, и они находят ее великолепной, не замечая даже, что ее дух – прямая противоположность духу Гете. Они находят ее чудесной, и по мне – пускай, это их дело, но у меня уже нет никакого доверия к этим людям, никакой дружбы с ними, никакого чувства родства и общности. Впрочем, дружба и так-то была не бог весть какая. И тут я разозлился, загрустил, увидел, что я совсем один и никто меня не понимает. Вам это ясно?
– Что ж тут неясного, Гарри! А потом? Ты стукнул их картинкой по головам?
– Нет, я наговорил гадостей и убежал, мне хотелось домой, но…
– Но там не оказалось бы мамы, чтобы утешить или выругать глупого мальчишку. Ну, Гарри, мне тебя почти жаль, ты еще совсем ребенок.
Верно, с этим я был согласен, как мне казалось. Она дала мне выпить стакан вина. Она и правда вела себя со мной как мама. Но временами я видел, до чего она красива и молода.
– Значит, – начала она снова, – этот Гете умер сто лет назад, а наш Гарри очень его любит и чудесно представляет себе, какой у него мог быть вид, и на это у Гарри есть право, не так ли? А у художника, который тоже в восторге от Гете и имеет какое-то свое представление о нем, у него такого права нет, и у профессора тоже, и вообще ни у кого, потому что Гарри это не по душе, он этого не выносит, он может наговорить гадостей и убежать. Был бы он поумней, он просто посмеялся бы над художником и над профессором. Был бы он сумасшедшим, он швырнул бы им в лицо ихнего Гете. А поскольку он всего-навсего маленький мальчик, он убегает домой и хочет повеситься… Я хорошо поняла твою историю, Гарри. Это смешная история. Она смешит меня. Погоди, не пей так быстро! Бургундское пьют медленно, а то от него бросает в жар. Но тебе нужно все говорить, маленький мальчик.
Она взглянула на меня строго и назидательно, как какая-нибудь шестидесятилетняя гувернантка.
– О да, – попросил я, обрадовавшись, – говорите мне все.
– Что мне тебе сказать?
– Все, что захотите.
– Хорошо, я скажу тебе кое-что. Уже целый час ты слышишь, что я говорю тебе «ты», а сам все еще говоришь мне «вы». Все латынь да греческий, все бы только посложнее! Если девушка говорит тебе «ты» и она тебе не противна, ты тоже должен говорить ей «ты». Ну вот, кое-что ты и узнал. И второе: уже полчаса, как я знаю, что тебя зовут Гарри. Я это знаю, потому что спросила тебя. А ты не хочешь знать, как меня зовут.
– О нет, очень хочу.
– Поздно, малыш! Когда мы как-нибудь снова увидимся, можешь снова спросить. Сегодня я уже тебе не скажу. Ну вот, а теперь я хочу танцевать.
Она приготовилась встать, и у меня вдруг испортилось настроение, я испугался, что она уйдет и оставит меня одного, и тогда сразу все станет по-прежнему. Как возвращается вдруг, обжигая огнем, утихшая было зубная боль, так мгновенно вернулся ко мне мой ужас. Господи, неужели я забыл, что меня ждет? Разве что-нибудь изменилось?
– Погодите, – взмолился я, – не уходите… не уходи! Конечно, ты можешь танцевать сколько хочешь, но не уходи надолго, вернись, вернись!
Она, смеясь, встала. Я представлял себе ее выше ростом, она была стройна, но роста небольшого. Она снова напомнила мне кого-то – кого? Это оставалось загадкой.
– Ты вернешься?
– Вернусь, но, может быть, не так скоро, через полчаса или даже через час. Вот что я тебе скажу: закрой глаза и сосни; тебе это нужно.
Я пропустил ее, и она ушла; ее юбочка задела мои колени, на ходу она взглянула в круглое крошечное карманное зеркальце, подняла брови, припудрила подбородок крошечной пуховкой и исчезла в танцзале. Я огляделся: незнакомые лица, курящие мужчины, пролитое пиво на мраморном столике, везде крик и визг, рядом танцевальная музыка. «Мне надо соснуть», – сказала она. Ах, детка, знала бы ты, что мой сон пугливее белки! Спать в этом бедламе, сидя за столиком, среди стука пивных кружек?! Я отпил глоток вина, вынул из кармана сигару, поискал взглядом спички, но курить мне, собственно, не хотелось, я положил сигару перед собой на столик. «Закрой глаза», – сказала она мне. Одному Богу известно, откуда у этой девушки такой голос, такой низковатый, добрый голос, материнский голос. Хорошо было слушаться ее голоса, я в этом убедился. Я послушно закрыл глаза, приклонил голову к стене, услыхал, как окатывают меня сотни громких звуков, усмехнулся по поводу мысли о том, чтобы здесь уснуть, решил пройти к двери зала и заглянуть в него – ведь надо же мне было посмотреть, как танцует моя красивая девушка, – шевельнул под стулом ногами, почувствовал лишь теперь, как бесконечно устал я, прослонявшись по улицам столько часов, и остался на месте. И вот я уже спал, покорный материнскому приказу, спал жадно и благодарно и видел сон, такой ясный и такой красивый сон, каких давно не видел. Мне снилось:
Я сидел и ждал в старомодной приемной. Сперва я знал только, что обо мне доложено «его превосходительству», потом меня осенило, что примет-то меня господин фон Гете. К сожалению, я пришел сюда не совсем как частное лицо, а как корреспондент некоего журнала, это очень мешало мне, и я не мог понять, какого черта оказался в таком положении. Кроме того, меня беспокоил скорпион, который только что был виден и пытался вскарабкаться по моей ноге. Я, правда, оказал сопротивление этому черному паучку, стряхнув его, но не знал, где он притаился сейчас, и не осмеливался ощупать себя.
Да и не был я вполне уверен, что обо мне по ошибке не доложили вместо Гете Маттиссону, которому я, однако, спутав его во сне с Бюргером, приписал стихи к Молли. Впрочем, встретиться с Молли мне очень хотелось бы, я представлял ее себе чудесной женщиной, мягкой, музыкальной, вечерней. Если бы только я не сидел здесь по заданию этой проклятой редакции! Мое недовольство все возрастало и постепенно перенеслось на Гете, который вдруг вызвал у меня множество всяких упреков и возражений. Прекрасная могла бы выйти аудиенция! А скорпион, хоть он и опасен, хоть он, возможно, и спрятался поблизости от меня, был, пожалуй, не так уж и плох; он мог, показалось мне, означать и что-то приятное, вполне возможно, так мне показалось, он имеет какое-то отношение к Молли, он как бы ее гонец или ее геральдический зверь, дивный, опасный геральдический зверь женственности и греха. Может быть, имя этому зверю было Вульпиус? Но тут слуга распахнул дверь, я поднялся и вошел в комнату.
Передо мной стоял старик Гете, маленький и очень чопорный, и на его груди классика действительно была толстая орденская звезда. Казалось, он все еще вершит делами, все еще дает аудиенции, все еще правит миром из своего веймарского музея. Ибо, едва увидев меня, он отрывисто качнул головой, как старый ворон, и торжественно произнес:
– Ну-с, молодые люди, вы, кажется, не очень-то согласны с нами и нашими стараниями?
– Совершенно верно, – сказал я, и меня пронизало холодом от его министерского взгляда. – Мы, молодые люди, действительно не согласны с вами, человеком старым. Вы, на наш вкус, слишком торжественны, ваше превосходительство, слишком тщеславны и чванны, слишком неискренни. Это, пожалуй, самое важное: слишком неискренни.
Старичок немного выпятил свою строгую голову, его твердый, официально поджатый рот, разомкнувшись в усмешке, стал замечательно живым, и у меня вдруг сильно забилось сердце, я вдруг вспомнил стихотворение «С неба сумерки спускались…» и что слова этого стихотворения вышли из этого человека, из этих уст. По сути, я уже в тот же миг был совершенно обезоружен и побежден и готов упасть перед ним на колени. Но я сохранил осанку и услыхал из его усмехавшихся уст: