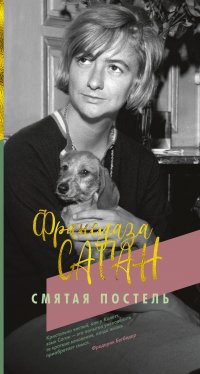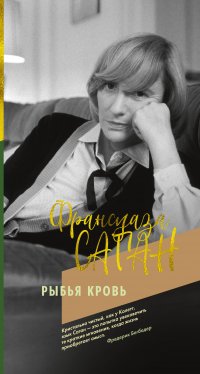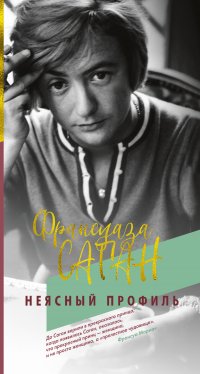
Читать онлайн Неясный профиль бесплатно
- Все книги автора: Франсуаза Саган
Françoise Sagan
UN PROFIL PERDU
Copyright © Flammarion, 1974 © Stock, 2010
Published by arrangement with Lester Literary Agency
© А. К. Борисова, перевод, 1999
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019
Издательство Иностранка®
© Серийное оформление.
ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2019
Издательство Иностранка®
* * *
Посвящается Пегги Рош
Ш. Бодлер
- А может быть, и ты –
- Всего лишь заблуждение ума,
- Бегущего от истины в мечту?
Вечером мы должны были идти в гости к Алферну, молодому врачу, и я долго колебалась, идти или нет. Этот день, который я прожила с Аланом, моим мужем, день, поставивший крест на четырех годах любви, ссор, нежности и бурных сцен, я предпочла бы завершить в объятиях Морфея или взять и напиться. Во всяком случае, остаться в одиночестве. Но, разумеется, Алан, как законченный мазохист, настоял, чтобы мы пошли к Алферну. Он делал счастливое лицо и улыбался всякий раз, когда его спрашивали, как поживает самая прочная супружеская пара в Париже. Отшучивался, нес какую-то забавную ерунду и не отпускал при этом мой локоть, сжимая его изо всех сил. Я видела в зеркалах наше прелестное отражение и улыбалась ему: оба мы высокие, худощавые, он – голубоглазый блондин, я – брюнетка с серыми глазами, одинаковая манера держаться и одинаковое ощущение поражения, теперь уже совершенно очевидного. Однако Алан зашел слишком далеко. Когда на вопрос какой-то растроганной дуры: «Скоро я буду крестной, Алан?» – он ответил, что таким мужчиной, как он, моя жизнь заполнена целиком и двоих я не заслуживаю, я пришла в ярость. «Это правда», – сказала я и, как иногда бывает в музыке, когда мощный аккорд означает вступление новой темы, вырвала руку из руки Алана и повернулась к нему спиной. Вот так, на коктейле, похожем на все прочие коктейли парижской зимы, я оказалась лицом к лицу с Юлиусом А. Крамом. Я так быстро и грубо вырвалась, что спиной почувствовала, как Алана затрясло от злости. Лицо Юлиуса А. Крама – именно так он мне представился: Юлиус А. Крам – лицо его было бледно, тускло и замкнуто. Не зная, что сказать, я спросила, нравятся ли ему выставленные здесь картины. В самом деле, прием был затеян с целью продемонстрировать полотна, написанные любовником хозяйки дома, неугомонной Памелы Алферн.
– Какие еще картины? – сказал Юлиус А. Крам. – Ах да! Кажется, я вижу одну у окна.
Он направился туда, и я машинально последовала за этим человечком, который был на полголовы ниже меня, так что мне были видны зачатки лысины, предвещавшие ее скорую победу. Он резко остановился перед одной из картин, написанных, казалось, из большого желания сойти за художника, и поднял голову. У него были круглые голубые глаза за стеклами очков и удивительные для таких глаз ресницы: пиратские паруса над рыбачьим баркасом. С минуту он разглядывал картину, потом издал какой-то хрип, больше похожий на собачье рычание, чем на человеческий голос, и я уловила что-то вроде: «Какой ужас!» – «Простите?» – сказала я, ошеломленная, потому что этот лай показался мне хоть и обоснованным, но нелепым, и он повторил так же громко: «Какой ужас!» Несколько человек, стоявших рядом с нами, попятились, будто запахло скандалом, и я осталась одна, застряв между картиной и доблестным Юлиусом А. Крамом, который явно не был расположен дать мне удрать. Позади нас пополз шепоток. Да, да, Юлиус А. Крам отчетливо произнес, причем дважды, «какой ужас», имея в виду эту картину, а очаровательная Жозе Эш – то есть я – ни слова не возразила. Ропот достиг шестого чувства величественной мадам Дебу, и она обернулась к нам. Мадам Дебу была особа выдающаяся. С непререкаемой властностью она правила этим светским кружком. В шестьдесят с чем-то лет она держалась очень прямо, была весьма элегантна, черноволоса, а состояние ее мужа (который давно скончался от общего перенапряжения) обеспечивало ей чрезвычайную независимость и, как следствие этого, чрезвычайную кровожадность. В любых обстоятельствах – драма ли случалась или торжество – мадам Дебу часто все улаживала, а иногда и разрушала, неизменно вновь оказываясь одна и неизменно твердо стоя на ногах, как обязывала фамилия, которую она носила[1]. Ее указы обжалованию не подлежали, как и ее пристрастия. Наконец, она мгновенно распознавала ретроградство в произведениях искусства новых направлений и смелость в вещах банальных. При всем том, если бы не ее природная, неискоренимая злоба, она была бы умна.
Почувствовав, что происходит нечто непредвиденное, она тотчас направилась к нам, окруженная незримой свитой воинов, шутов, лакеев, ибо, хоть она и была всегда одна, постоянно казалось, что рядом полно готовых на все наемных убийц. Это создавало вокруг нее некую запретную зону, почти осязаемую, исключавшую любое проявление вольности.
– Что вы сказали, Юлиус? – осведомилась она.
– Я говорил этой даме, – сказал Юлиус без тени страха, – что картина ужасна.
– Вы думаете, это было необходимо? – сказала она. – Кстати, она не так уж плоха.
Она указала на святого Себастьяна, пронзенного стрелами и окончательно добитого Юлиусом. И движение подбородка, и ее интонация были безупречны: смесь презрения к художнику, сострадательной терпимости к слабостям хозяйки дома, ненавязчивого призыва к порядку и соблюдению приличий, обращенного к Юлиусу.
– Эта картина рассмешила меня, – сказал Юлиус А. Крам вдруг изменившимся голосом, с каким-то присвистом. – Ничего не могу поделать.
Памела Алферн в сопровождении Алана подошла к нам с недоумевающим видом. Она расслышала какое-то тявканье, означавшее, что среди гостей произошло некоторое замешательство, и направилась к месту сражения на всех парусах.
– Юлиус, – сказала она, – вам нравится живопись Кристобаля?
Юлиус, не отвечая, повернул к ней свирепое лицо. Она чуть отпрянула, но в ней тут же проявился рефлекс хозяйки дома:
– Вы знакомы? Алан Эш, муж Жозе.
– Ваш муж? – переспросил Юлиус.
Я кивнула. Он засмеялся каким-то тевтонским, первобытным, немыслимым смехом, – право же, это было ужасно.
– Что здесь смешного? – спросил Алан. – Картина вас так рассмешила или то, что я женат на Жозе?
Юлиус А. Крам окинул Алана взглядом. Я находила его все более и более своеобразным. Во всяком случае, смелости ему не занимать: в течение трех минут бросить вызов мадам Дебу, хозяйке дома и Алану – это свидетельствовало об определенном хладнокровии.
– Я смеялся просто так, без причины, – сказал он резко. – Не понимаю, дорогая, – обратился он к мадам Дебу, – вы постоянно упрекаете меня за то, что я не смеюсь. Ну вот, вы можете быть довольны: я смеюсь.
Я вдруг вспомнила, что слышала о нем. Юлиус А. Крам был могущественным дельцом, пользовавшимся значительной поддержкой в политических кругах, и, по-видимому, он неплохо представлял, в каком состоянии счета в швейцарских банках у трех четвертей приглашенных. Говорили, что он очень щедрый и очень черствый человек, его побаивались и всюду приглашали. Это объясняло двусмысленную улыбку мадам Дебу и Памелы Алферн, снисходительную и натянутую одновременно. Некоторое время мы, все четверо, стояли молча и смотрели друг на друга. Конечно, мы с Аланом должны были бы поздравить художника, который дежурил у входа, и вернуться в наш кромешный ад. Обычно подобные ситуации, в сущности, очень просто разрешить с помощью слов «до свидания», «до скорой встречи», «рад был познакомиться» и проч. Но в нашем случае положение казалось безвыходным. Выход нашел Юлиус, который решительно возомнил себя вождем племени и предложил мне выпить что-нибудь в баре, помещавшемся в другом конце комнаты. Так же, как и в первый раз, он увел меня за собой, и мы прошествовали через всю гостиную маршевым шагом. Меня разбирал безумный смех и одновременно мучили опасения, потому что взгляд Алана стал странно тусклым, почти остекленел от гнева. Я поспешно выпила рюмку водки, которую, не заботясь о моих вкусах, сунул мне в руку властный Юлиус А. Крам. Пчелиное жужжание вокруг нас возобновилось, и через минуту я поняла, что на этот раз скандала удалось избежать.
– Поговорим серьезно, – сказал Юлиус А. Крам. – Чем вы занимаетесь в жизни?
– Ничем, – ответила я не без гордости.
И правда, среди всех этих бездельников, непрерывно тараторящих о какой-то там своей деятельности – дизайнерской мебели, прелестях финского стиля и прочей белиберде, не говоря уж об участии в производстве всего на свете, – я была рада признаться в совершенной праздности. Я была женой Алана, я жила на его деньги. И вдруг я поняла, что скоро уйду от него и ничего не смогу от него принять, никогда, ни одного доллара и ни одной встречи. Мне придется работать, влиться в бойкую толпу людей, которые расплывчато называются «пресс-атташе», «референт по общественным связям» и прочее в том же роде… Да при этом мне еще должно повезти, чтобы попасть в привилегированный круг, где встают в девять часов и не раньше, а к морю ездят два-три раза в год. Между мной и материальными заботами всегда кто-то стоял – сначала родители, потом Алан. Похоже, это счастливое время прошло, и я, бедная дурочка, почти радовалась этому, как приключению.
– А вам нравится ничего не делать?
Взгляд Юлиуса А. Крама не был суров, – он выражал сочувственное любопытство.
– Конечно, – сказала я. – Я наблюдаю, как проходит время, день за днем, греюсь на солнце, когда оно светит, и не знаю, что буду делать завтра. А если меня посетит увлечение, у меня будет достаточно времени, чтобы им заняться. Каждый должен иметь на это право.
– Может быть, – сказал он мечтательно. – Я никогда об этом не думал. Всю жизнь я работал, но мне это нравится, – добавил он извиняющимся тоном, который меня умилил.
Все-таки он был занятный, этот человек. Одновременно и беззащитный, и опасный. Что-то жило в нем, неутомимое и отчаянное, – оно-то, видно, и прорывалось в этом его лающем смехе. «Ну нет, – подумала я, – не будем копаться в психологии деловых людей, в причинах их успехов и одиночества. Если кто-то очень богат и очень одинок – стало быть, он того и заслуживает».
– Ваш муж все время смотрит на вас, – сказал он. – Что вы ему сделали?
Почему он a priori отводит роль палача именно мне? И что ему ответить? Я любила своего мужа, не очень любила, очень любила, любила другого? Если предположить, что я хочу сказать правду, то как ответить? И с какой правдой согласился бы сам Алан…
Худшее в разрывах то, что люди не просто расстаются, а расстаются каждый по своей причине. Быть такими счастливыми, накрепко связанными, такими близкими, что кажется, есть одна истина на свете: жить только друг для друга, – и вдруг сбиться с пути, потеряться, отыскивая в пустыне следы, которые уже никогда не пересекутся.
– Уже поздно, – сказала я. – Мне пора.
И тогда Юлиус А. Крам голосом торжественным и полным самодовольства стал расписывать прелести чайного салона «Салина» и пригласил меня туда послезавтра, в пять часов, конечно, если это не покажется мне слишком старомодным. Я согласилась, крайне изумленная, оставила его и пошла навстречу Алану, душераздирающей ночи, ссорам, слезам, теперь уже, наверно, последним, а в голове моей звучало: «У них лучшие профитроли в Париже».
Такой была моя первая встреча с Юлиусом А. Крамом.
* * *
– Ромовую бабу, – сказала я.
Я сидела на банкетке в кондитерской «Салина» растерянная, едва дыша. Я пришла абсолютно вовремя и в абсолютном отчаянии. Не ромовая баба была мне нужна, а настоящий ром, какой дают приговоренным к смерти. Два дня меня расстреливали холостыми патронами из всех мушкетов любви, ревности и отчаяния: Алан, в который уже раз, нацелил на меня весь свой арсенал и палил в упор, поскольку эти два дня он не позволил мне выйти из квартиры. Каким-то чудом я вспомнила о дурацком свидании в чайном салоне с Юлиусом А. Крамом.
Любая другая встреча, с другом, близким человеком, – я это знала – побудила бы меня к откровенности, а этого я как раз и не хотела. Я боялась исповедей, которые обычно так нравятся женщинам моего поколения. Я не умела выразить себя и всегда боялась убедиться в собственной неправоте. И потом, ведь могло быть только два решения: первое – терпеть Алана, нашу совместную жизнь, то, что каждую минуту мы оказываемся в тупике, что сердце ожесточилось, а мысли в полном беспорядке; второе – уйти, убежать, вырваться от него. Но в иные минуты я, не знаю почему, вспоминала его таким, каким когда-то любила, и тогда исчезали куда-то и я сама, и то решение, которое я считала единственно правильным.
В кондитерской, где порхали проголодавшиеся молодые люди и жужжали пожилые дамы, я поначалу чувствовала себя хорошо. В безопасности: охраняемая шеренгами надменных английских пудингов, сокрушительных французских эклеров и простодушных буше под темной глазурью, не ведающих ни о чем – в том числе и обо мне. Ко мне вернулось желание жить, улыбаться. Я посмотрела на Юлиуса А. Крама, на которого до сих пор еще не взглянула. Он показался мне очень благопристойным, очень приятным и немного помятым. Чувствовалось, что за два дня щеки его покроются лишь кое-где пробивающейся колкой щетиной, без всякого намека на какую-либо бороду. Я забыла о его деятельности, о неукротимой энергии, затраченной им для достижения своей цели, – забыла, глядя на эту юношескую растительность, о звериной силе и прославленном могуществе Юлиуса А. Крама. Вместо индустриального магната я видела пожилого младенца. Я находилась в плену своих ощущений. Но нередко они подтверждались, потому я на них и не в обиде.
– Два чая, ромовую бабу и миндальное пирожное, – сказал Юлиус.
– Сию минуту, мсье Крам, – пропела официантка и, проделав замысловатое па, исчезла в лабиринте ширм.
Я смотрела на нее с тем преувеличенным вниманием, которое инстинктивно проявляешь ко всему после того, как тебе чудом удалось избежать смертельной опасности. «Я сижу в кондитерской с каким-то промышленником, мы заказали миндальное пирожное и ромовую бабу», – нашептывала мне моя память, а сердце и разум, то есть я сама, не видели ничего, кроме обезображенного гневом красивого лица Алана у лестничных перил. Я бывала в барах, ресторанах, ночных кабачках во многих местах нашей милой планеты. Я понятия не имела о чайных салонах (об этом меньше, чем о другом), и эта обивка из туаль-де-Жуи[2], и все эти церемонии, и белые передники, и крахмальные наколки – все это вызывало у меня чувство обманчивой безопасности, почти непереносимое. Ничего не поделаешь: решительно, мне больше подходит задыхаться от гнева и горя, упав с растрепанной прической на ковер, в присутствии своего сверстника, измученного так же, как и я, а не лакомиться пирожными в обществе благовоспитанного незнакомца. Так иногда бывает: какое-нибудь представление о себе самом, чисто зрительное, долго держится в памяти. Остальное время плывешь, не видя себя, растворяясь в дорожке бесцветных солоноватых пузырьков, опускаешься все глубже и глубже, на дно слепого, глухого и немого отчаяния. Или, наоборот, великолепный и торжествующий, появляешься в глазах кого-то, кто ослеплен этим солнцем – тобой, – солнцем, которое выдумано им же самим себе на гибель. Наверно, излишне говорить, что в тот момент я не думала ни о чем подобном. Я вообще никогда не говорила о себе: другие интересовали меня больше. А тогда я просто подумала: желтое или бежевое будет миндальное пирожное? Должно быть, что-то среднее. В конце концов, не зная, что сказать, я спросила об этом Юлиуса. Он, казалось, пришел в сильное недоумение, пожал плечами – у мужчин верный признак того, что им нечего ответить – и спросил, как поживает Алан.
Я коротко ответила, что у него все в порядке.
– А у вас?
– У меня тоже, конечно.
– Конечно… это не ответ.
Он начинал меня раздражать. Может, это и не ответ, но другого у меня не было. Кроме как во всех подробностях поведать ему о своем детстве, отношениях с разными людьми и бурном браке с Аланом, мне больше нечего было рассказывать. И потом, я не знала Юлиуса. Он не был мне ни другом, ни поверенным. Миндальное пирожное что-то слишком долго не появлялось.
– Я неделикатен, – сказал он тоном, не допускающим возражений и почти торжествующим.
Я вяло махнула рукой в знак отрицания, взглянула на свои дрожащие руки и стала искать в сумке сигареты.
– Я всегда был неделикатен, – повторил Юлиус А. Крам. – Впрочем, – добавил он, – это у меня не от нескромности, а от неловкости. Мне бы хотелось знать о вас все. Понимаю, для начала нужно было бы поговорить о погоде, но у меня не получается.
В глубине души я подумала, что вряд ли разговор о погоде мог как-то улучшить дело. Он вдруг и в самом деле показался мне неделикатным, грубым и лишенным обаяния. Если у него нет ни проблеска воображения, чтобы завязать самый пустяковый разговор, именно пустяковый, он должен об этом знать и не приглашать меня в этот дурацкий чайный салон. Мне захотелось уйти, оставить его наедине с его пирожными, и только страх перед тем, что ожидало меня на улице, перед растерянностью, которая охватит меня, перед скорым возвращением в наше адово жилище удержал меня.
«Ладно, в конце концов, он же человек, – подумала я, – можно попробовать поговорить. А то что-то ненормальное…» И правда, я впервые чувствовала перед кем-то такую заторможенность, напряжение и желание сбежать. Я тут же приписала это моим расстроенным нервам, бессоннице последних ночей, отсутствию жизненного опыта – словом, сделала то, чего делать не следовало: приписала себе, а не Юлиусу неудачу первых минут. Впрочем, всю жизнь нечто вроде больной совести, близкой к слабоумию, побуждало меня возлагать на себя некую не вполне осознанную ответственность. Дошло до того, что я чувствовала себя виноватой перед Аланом. А теперь вот – перед Юлиусом А. Крамом, и, если приветливая официантка растянется на ковре со своим миндальным пирожным, я буду думать, что это произошло по моей вине. Какая-то злость на самое себя и на ту мучительную неразбериху, в которую я превратила свою жизнь, охватила меня.
– А вы, – спросила я сдержанно, – чем вы занимаетесь в жизни?
– Ворочаю делами. Точнее, уже провернул много дел. Теперь занимаюсь тем, что контролирую их. Я, можно сказать, живу в машине, езжу из одной конторы в другую. Контролирую и еду дальше.
– Весело, – сказала я. – А кроме этого? Вы женаты?
Он на мгновение смутился, как будто я ляпнула что-то неприличное. Возможно, мне полагалось знать, что он холостяк.
– Нет, – ответил он, – не женат, но когда-то чуть было не женился.
Он произнес эту фразу так торжественно и так высокопарно, что я посмотрела на него с любопытством.
– Все разладилось? – спросила я.
– Мы не были людьми одного круга.
Кондитерская, казалось, застыла у меня перед глазами. Что я здесь делаю, с этим бизнесменом-снобом?
– Она была аристократка, – сказал Юлиус А. Крам с несчастным видом. – Английская аристократка.
Я снова посмотрела на него с изумлением. Если этот человек и не интересовал меня, то, во всяком случае, удивлял.
– Но почему, если она была аристократкой…
– Я добился всего только благодаря самому себе, а когда я встретил ее, то был еще очень молод и не уверен в себе.
– А теперь, – спросила я, заинтригованная, – вы, значит, уверены в себе?
– Теперь – да, – сказал он. – Главное преимущество денег – с ними уверенно чувствуешь себя везде.
И как бы в подтверждение этой чудовищной банальности он постучал ложечкой о чашку.
– Она жила в Рединге, – продолжал он мечтательно. – Вы знаете Рединг? Это небольшой городок недалеко от Лондона. Я встретил ее на пикнике. Ее отец был полковником.
По-видимому, если уж я хотела отвлечься от своих мыслей, лучше было мне сходить в кино и посмотреть какой-нибудь бред с убийствами или сексом, которыми так богато наше время. Пикник в Рединге с дочкой полковника – это явно не то, что может разжечь воображение молодой отчаявшейся женщины. Мне, как всегда, везет. Стоило раз в жизни встретиться с одним из тех, кого называют финансовой акулой, как у меня решка, я попадаю в трещину, в надлом: невеста-англичанка слишком аристократического происхождения. Легче было представить себе, как Юлиус А. Крам довел до самоубийства дюжину нью-йоркских банкиров. Я чуть надкусила ромовую бабу и поздравила себя с этим. Пирожные я всегда терпеть не могла. Юлиус А. Крам, должно быть, все еще мысленно бродил по зеленым холмам Рединга. Он молчал.
– А потом? – спросила я.
Ситуация, в которой я находилась, все-таки обязывала меня, соблюдая приличия, допить чай.
– О, потом ничего серьезного, – сказал Юлиус А. Крам и покраснел. – Кое-какие приключения… разве что.
На мгновение я представила его в привилегированном заведении среди обнаженных женщин. У меня закружилась голова. Это было немыслимо. Малейший намек на сексуальность был несовместим с видом, голосом, обличьем Юлиуса А. Крама. Я не могла понять, что же составляет его силу в этом подлом мире, поскольку он, казалось, начисто был лишен тех двух главных пружин, которые обычно определяют поступки людей: тщеславия и сексуальности. Этот человек был мне совершенно непонятен, и если в другое время подобное заключение возбудило бы мое любопытство, то теперь я испытывала только растерянность и некоторую неловкость. Кажется, мы все-таки поговорили о погоде, и я с притворным воодушевлением согласилась на новую встречу, там же и в тот же час, на будущей неделе. Поистине, я согласилась бы на что угодно, лишь бы выпутаться из этого дурацкого положения.
Я возвращалась домой пешком, очень медленно, и только когда я шла по Пон-Руаяль, меня разобрал безумный смех. Эта встреча была не просто нелепой, – более того, ее совершенно невозможно было передать словами. Впрочем, думаю, именно благодаря этой нелепости в последующие дни я вспоминала о ней с каким-то даже приятным чувством.
* * *
Через две недели я уже совершенно забыла об этом эпизоде. Я позвонила Юлиусу А. Краму, вернее, его секретарше, чтобы отменить наше свидание, и на другой день получила огромный букет и визитную карточку с выражением глубокого сожаления. В пустынной, запущенной квартире, будто разоренной адом наших отношений, который мы оба, Алан и я, тщательно поддерживали, эта охапка цветов в течение нескольких дней выглядела чем-то неприлично живым и радостным, пока не увяла и окончательно не засохла.
Положение, если можно так выразиться, стабилизировалось. Алан не выходил из квартиры. Если я хотела уйти, он шел за мной. Если звонил телефон, что случалось все реже и реже, он подходил, говорил: «Никого нет дома» – и бросал трубку на рычаг. Остальное время он, как безумный, вышагивал по квартире, повторяя мне свои претензии, изобретая новые, допрашивал меня, будил, когда я спала, и то плакал, как ребенок, над концом нашей любви и твердил, что это его вина, то горько упрекал меня, все более ожесточаясь. Я настолько от всего отупела, что не чувствовала себя в силах противостоять ему. Даже перестала думать о бегстве. Мне казалось, что эта буря, эта странная бездна, в которую мы оба с каждым днем погружаемся все глубже, должна кончиться сама по себе и надо только ждать. Я умывалась, чистила зубы, одевалась и раздевалась в силу какого-то рефлекса, хранившегося в моей предыстории. Служанка в ужасе сбежала от нас неделю назад. Мы питались консервами, каждый сам по себе, и я тупо сражалась с банкой сардин, которых мне не хотелось, но которые, я знала, нужно съесть. Квартира была сбившимся с курса кораблем; Алан, его капитан, сошел с ума. А у меня, единственной пассажирки, не было больше ничего, даже чувства юмора. Наши друзья, те, что звонили, или более настойчивые, которые стучали в дверь (Алан их сразу выпроваживал), полагаю, не имели ни малейшего представления о том, что происходит за этими стенами. Может быть, они даже думали, что у нас в разгаре медовый месяц.
В этой круговерти угроз, мольбы, сожалений и обещаний, затрещин и вспышек грубой страсти я жила, не помня себя, охваченная ужасом. Дважды я все-таки пыталась сбежать, но Алан перехватывал меня на лестнице и силой заставлял подняться, первый раз молча, второй – бормоча по-английски грязные ругательства. Ничто больше не связывало нас с миром. Алан сломал радио, потом телевизор, и если он не перерезал телефонный шнур, то, я думаю, только из-за того, чтобы не отказать себе в удовольствии видеть, как я вскакиваю в надежде – очень смутной надежде, – когда телефон вдруг звонил. Я принимала снотворное независимо от времени суток – если чувствовала, что вот-вот расплачусь, – и тогда, провалившись в сон, полный кошмаров, удирала от него на четыре часа, а он все эти четыре часа не переставая тряс меня, звал то громко, то тихо, иногда прикладывал ухо к моей груди, дабы удостовериться, что я еще жива, что его прекрасная любовь не покинула его, обманув в последний раз с помощью лишних таблеток снотворного. Только один-единственный раз я не выдержала. Я увидела в окно открытую машину, а в ней – молодого человека и девушку, которые чему-то смеялись, и это показалось мне еще одной пощечиной, на сей раз от судьбы: я вспомнила, какой была, какой могла бы быть и какой, как мне казалось тогда в полуобморочном состоянии, уже никогда не буду. В тот день я расплакалась. Я умоляла Алана уйти или отпустить меня. Умоляла в каких-то детских, абсолютно несуразных выражениях вроде «ну пожалуйста», «прошу тебя», «будь хорошим». Он был рядом, гладил меня по голове, утешал и умолял не плакать, потому что ему невыносимо больно от моих слез. На эти два или три часа он обрел свое прежнее лицо – нежное, доверчивое лицо защитника. Я уверена, ему стало легче – он не так страдал. Что касается меня, то не могу сказать, чтобы я страдала. С одной стороны, это было хуже, а с другой – не так уж и серьезно. Я ждала, что Алан уйдет или убьет меня. Ни секунды я не думала о самоубийстве: жил во мне кто-то несгибаемый, неуязвимый, кто как раз и заставлял Алана так страдать, – вот этот кто-то продолжал ждать. Порой, однако, это ожидание казалось мне призрачным, бесцельным, и тогда меня охватывало судорожное отчаяние, меня трясло, руки и ноги отнимались, в горле пересыхало и я не могла шевельнуться.
Однажды днем, часов около трех, я металась по кабинету в поисках книги, которую начала читать накануне и которую Алан, разумеется, спрятал, поскольку не выносил, когда что бы то ни было хоть на мгновение отвлекало меня от него, от того, что он называл «мы». Он не вырывал книгу у меня из рук: остатки хорошего воспитания, видимо, удерживали его – он, к примеру, как и раньше, пропускал меня вперед, когда я входила в комнату, и подносил огонь к сигарете. Тем не менее книгу он спрятал, и я искала ее под диваном, ползая по полу, зная, что если он сейчас войдет, то расхохочется, но мне на это было абсолютно наплевать.
Вот тогда-то к нам в дверь и позвонили – впервые за четыре дня, – и я выпрямилась в ожидании отрывистого стука, означающего, что Алан захлопнул дверь перед незваным гостем. Прошла минута, две, я услышала голос Алана, спокойный, в чем-то кого-то убеждающий, и, заинтригованная, пошла в переднюю. В дверях, именно в дверях, то есть только переступив порог, со шляпой в руке стоял Юлиус А. Крам. Я застыла в недоумении. Как он здесь оказался? Увидев меня, он направился ко мне, будто Алана и не было вовсе у него на дороге, и Алан невольно отступил. Юлиус протянул мне руку. Я смотрела на него. Какая-то ошибка в сценарии: я могла ожидать полицию, «скорую помощь», Парсифаля, мать Алана – кого угодно, только не его.
– Как поживаете? – спросил он меня. – Я как раз объяснял вашему мужу, что сегодня мы с вами должны были встретиться в «Салина», выпить чаю, и я позволил себе заехать за вами.
Я не отвечала, я глядела на Алана, который, казалось, оцепенел от изумления и гнева, и Юлиус тоже перевел глаза на него. И тут я снова увидела этот взгляд, который впервые поразил меня у Алфернов – свирепый, леденящий взгляд хищника. Сцена была довольно странная: один мужчина, молодой, небритый, стоит перед распахнутой дверью; рядом второй, средних лет, с серьезным лицом, в темно-синем пальто, и я, молодая женщина, непричесанная, в халате, прислонилась к косяку другой двери. Я не знала, кто же из троих тут посторонний.
– Моя жена нездорова, – резко сказал Алан, – не может быть и речи о том, чтобы она поехала.
Юлиус перевел на меня взгляд, все такой же суровый, и произнес громко и категорично следующую фразу, которая больше походила на приказ, чем на приглашение:
– Я жду ее, чтобы выпить чаю. Я подожду в гостиной, – добавил он, обращаясь ко мне, – вы ведь быстро оденетесь.
Алан быстро шагнул к нему, но кто-то уже появился в дверях, и в квартиру вторглось четвертое действующее лицо этого дурного водевиля. Это был шофер Юлиуса, здоровенный детина. Он тоже был в темно-синем пальто, с перчатками в руках, и лицо у него было такое же отсутствующее и непроницаемое, так что оба походили на гестаповцев, – во всяком случае, как я их себе представляла.
– О чем-то я хотел у вас спросить… – сказал Юлиус, обернувшись к Алану. – Эта квартира выходит на северо-восток, ведь так?
И тут что-то случилось, что-то во мне оборвалось, разрушило мою неподвижность, рассеяло ощущение нереальности происходящего; я ринулась в свою комнату, заперлась на ключ, влезла в брюки, натянула свитер так быстро, что было слышно, как стучат зубы и колотится сердце. Схватила две туфли, которые показались мне одинаковыми; не задерживаясь ни секунды, распахнула дверь и метнулась в гостиную к Юлиусу А. Краму. Я потратила минуты полторы, была вся в поту, и только жалкие остатки человеческого достоинства помешали мне броситься к шоферу, схватить его за руку и просить ехать как можно быстрее и далеко-далеко отсюда. Все же я прошла коридор, пятясь задом, причем Юлиус все время был между мной и Аланом, потом миновала дверь, и, прежде чем Юлиус закрыл ее за собой, я увидела Алана: он стоял против света, свесив руки, с искаженным гримасой лицом. У него действительно был жуткий вид безумца.
Сев в машину – старый «даймлер», длинный и тяжелый, как грузовик, – я вдруг вспомнила, что все предыдущие дни видела ее у наших дверей в тех редких случаях, когда подходила к окну.
* * *
Мы катили на запад, если верить солнцу. Но я и ему не верила. Затерянная в пустыне этой огромной машины, с сердцем, сжавшимся в крошечный комок, я тупо пыталась определить, где север, юг, запад, восток. Напрасно. Косые тени перед капотом машины ничего мне не говорили, кроме того, что мы едем по какой-то дороге, утыканной по обеим сторонам однообразными плакатами и слепыми домами. Однако мы миновали Мант-ла-Жоли и добрались наконец до загородного дома, похожего на крепость. Юлиус не произнес ни слова. Он даже не потрепал меня по руке. Это вообще был человек без жестов. Он садился в машину, выходил из нее, закуривал сигарету, надевал пальто – ни неловко, ни изящно – никак. А поскольку меня всегда подкупали в людях именно жесты – манера двигаться или сохранять неподвижность, – то мне казалось, что рядом со мной манекен или калека. Всю дорогу меня сотрясала дрожь – сначала от страха, что нас догонит Алан, вскочит вдруг при красном свете на капот машины или что он, в полицейской фуражке и со свистком в руке, навсегда остановит мое бегство к свободе, быть может, ничтожной, но свободе. Потом, когда началась автострада и благодаря скорости это «нападение на дилижанс» стало невозможным, я стала дрожать от одиночества.
Я была одна: кончился союз с Аланом, нерасторжимый, неотвратимый, ставший для меня каким-то кровосмесительным. Снова было «я», «мне», «меня», исчезло «мы», каким бы ужасным оно для нас ни стало. Где же он, мой спутник? Где он – палач или жертва, все равно – в любом случае, партнер по регтайму этих последних лет, одержимых, губительных, но неизбежных. В сущности, я казалась себе скорее одинокой девушкой посреди танцплощадки, навсегда разлученной со своим кавалером в силу непредвиденных обстоятельств, чем женщиной, оставшейся без мужа. Мы действительно много танцевали с Аланом, в самых разнообразных ритмах и при самых различных обстоятельствах. Растворившись друг в друге, умиротворенные, мы все же разделяли нежные передышки страсти, и только его ревность, с которой он ничего не мог поделать, сделала невозможной нашу любовь. Это была болезнь – пусть так, но теперь он один будет бросать охапки воспоминаний, измышлений и страданий в тот счастливый или несчастливый костер, который есть история всякой любви. Вот почему я так долго не пыталась ничего изменить и почему на этой дороге я мучилась неясным сознанием вины. Я была повинна в том, что уже давно не любила его, повинна в безразличии, а мне казалось ужасным даже само слово. Я знала, что именно оно, безразличие, главная карта, козырной туз в любовных отношениях, и презирала его. Я восхищалась безрассудством, постоянством, бескорыстием и даже, в какой-то мере, верностью. Мне надо было прожить немало лет, весьма беззаботно и непринужденно, чтобы прийти к этому, но я пришла, и, если бы не моя звериная врожденная ненависть к тому, что называется «вкусом к несчастью», я бы, конечно, осталась с Аланом.
Замок Юлиуса А. Крама оказался образцовым домом-крепостью. Он был выстроен из нетесаного камня, в виде подковы, с окнами-бойницами и подъемными мостами, а мебель была в стиле Людовика XIII, вероятно подлинная, принимая во внимание доходы Юлиуса. Несколько оленьих голов вносили мрачноватую ноту в интерьер прихожей, а на верхние этажи вела каменная лестница с перилами из кованого железа. Единственной данью времени была белая куртка дворецкого, и, по правде сказать, ему больше подошел бы камзол. Он поискал глазами мой чемодан, не нашел, поскольку его не было, и извинился. Юлиус четыре или пять раз нервно спросил, все ли в порядке, и, не дожидаясь ответа, провел меня в гостиную. Здесь было все, что полагается: кожаные диваны, полки с книгами, звериные шкуры и огромный камин, в котором уже успели разжечь веселый огонь. Все хорошо, но, если подумать, недоставало одного – собаки. Я спросила Юлиуса, есть ли у него собака, и он ответил, да, конечно, есть, собак у него много, они на псарне, где и положено им быть, и что завтра утром он мне их покажет, потому что сейчас уже поздно. У него есть и гончие, и ньюфаундленды, и терьеры и т. д.
Не могу сказать, что я его не слушала, поскольку отвечала ему. Просто человеком, который слушал и отвечал, была не я. Во всяком случае, не такая, какой себя знаю. Явился дворецкий и предложил нам разнообразные напитки – я поспешила взять рюмку водки и выпила залпом. Юлиус выразил беспокойство; что касается его, заявил он мне, вот уже скоро тридцать лет, как он пьет только томатный сок. Один из его дядюшек умер от цирроза, дед тоже, и ему хотелось бы избежать этой наследственной болезни. Я кивнула, потом, видимо взбодренная русским эликсиром, задала вопрос, который не давал мне покоя:
– Как вы оказались у меня?
– Когда вы не пришли на нашу встречу, на нашу вторую встречу, – начал Юлиус, – я был очень удивлен…
Я поудобнее уселась на кожаном диване, размышляя, что же, собственно, могло его так удивить. Может быть, сильные мира сего не привыкли к тому, чтобы у них случались накладки.
– Я был очень удивлен, – повторил Юлиус, – потому что о нашей встрече в «Салина» хранил самые живые, самые теплые воспоминания.
Я кивнула, в который раз поражаясь тайнам некоммуникабельности.
– Видите ли, – продолжал Юлиус, – я никогда и ни с кем не говорю о себе, а в тот день я признался вам в том, чего никто не знает, кроме, конечно, Гарриэт.
Секунду я смотрела на него, недоумевая. Кто эта Гарриэт? Уж не попала ли я от одного сумасшедшего к другому?
– Той девушки-англичанки, – уточнил Юлиус. – Наша история осталась у меня в памяти, в жизни, как заноза. Поскольку я играл в ней роль, в общем-то, смешную, я никогда никому не мог об этом рассказать, и вдруг, в «Салина», я понял по вашим глазам, что вы не будете смеяться надо мной. Не могу передать, как мне стало хорошо. И вы сами показались мне такой беззащитной, доверчивой… Я действительно очень хотел вас видеть.
Он проговорил все это медленно, чуть запинаясь.
– Но, – сказала я, – как же вы до меня добрались?
– Я навел справки. Сначала сам, у ваших друзей, потом послал секретаршу к вашей консьержке, к горничной и т. д. Я долго колебался, могу ли вмешиваться в вашу личную жизнь, но в конце концов подумал, что это мой долг. Я знал, – добавил он с торжествующим смешком, – что только очень серьезные обстоятельства могли помешать вам прийти в «Салина» в ту среду двенадцатого.
Невольное желание засмеяться боролось во мне с бешенством, вполне оправданным. По какому праву этот посторонний человек расспрашивает моих друзей, горничную, консьержку? Во имя какого чувства он решается тратить на меня запасы своего любопытства и денег? Неужели только потому, что я не рассмеялась ему в лицо, когда он рассказывал о своей жалкой любви к дочери английского полковника? Это показалось мне неправдоподобным. У него под башмаком достаточно людей, которые почти искренне посочувствовали бы его грустному рассказу. Он лгал мне, но почему? Он должен был понять, что не нравится мне и никогда не понравится. Это был один из тех случаев, когда между мужчиной и женщиной с первого взгляда устанавливается либо приязнь, либо неприятие. И никакое тщеславие не справится с этим почти животным инстинктом. На какой-то момент я возненавидела его, с его самоуверенностью, с его домом в стиле Людовика XIII. Возненавидела страшно. Я молча протянула ему рюмку, и он, укоризненно поцокав языком (уж не думает ли он, что цирроз его предков навсегда отвратит меня от алкоголя?), пошел ее наполнять.
Итак, меня занесло в какой-то дом к западу от Парижа, в замок в стиле Людовика XIII, принадлежащий богатейшему банкиру-детективу; я была без машины, без вещей и без цели, не имея ни малейшего представления не только о своем отдаленном будущем, но даже о ближайшем, и, ко всему прочему, наступал вечер. Я в своей жизни много раз попадала в необычные, комические и даже роковые ситуации, но на сей раз по части смешного побила все свои рекорды. Эта мысль меня растрогала; я почти сняла перед собой шляпу и залпом выпила рюмку водки – единственное, что я могла сделать для себя хорошего. Скоро я поняла, что мои обеды из консервов явно были нерегулярны и, главное, скудны, поскольку голова у меня начала кружиться. Мысль увидеть Юлиуса А. Крама в трех экземплярах показалась мне устрашающей.
– У вас нет какой-нибудь пластинки? – сказала я.
На мгновение он растерялся – пришел и его черед: видимо, он ждал иного поведения от молодой женщины, которую освободил от мужа-садиста. Потом Юлиус встал, открыл шкафчик, разумеется старинный, в глубине которого помещался отличный стереофонический проигрыватель – японский, как он меня заверил. Я ожидала услышать Вивальди, учитывая декорации, но комнату заполнил голос Тебальди.
– Вы любите оперу? – спросил Юлиус.
Он присел на корточки перед дюжиной никелированных клавиш и казался в такой позе выше, чем был на самом деле.
– У меня есть «Тоска», – сказал он с какой-то торжествующей интонацией.
Казалось, у этого человека была любопытная манера всем гордиться. Не только усовершенствованным проигрывателем, действительно превосходным, но и самой Тебальди. А может, это был единственный известный мне богач, который извлекал из денег подлинную радость? Если так, нельзя отказать ему в душевной силе, потому что, сколько мне ни приходилось видеть богатых людей, все под извечным и избитым предлогом, что богатство имеет оборотную сторону, считают своим долгом быть несчастными. Они полагают себя редкостью, а значит, людьми, возбуждающими зависть, этакими изгоями, по причине своего богатства, но ни одна из тех вещей, которыми они обладают благодаря ему, не приносит им ни малейшего утешения. Если они щедры, им кажется, что их обманывают, если недоверчивы, то без конца и самым печальным образом убеждаются в обоснованности своих подозрений. Но здесь – может быть, из-за водки – у меня было ощущение, что Юлиус А. Крам горд не столько своей ловкостью в делах, сколько тем, что благодаря ей он может слушать без малейшего сбоя и шероховатости, нетронутым и чистым, восхитительный голос женщины, которую он тоже находил восхитительной, – Тебальди. И точно так же, еще более наивно, он гордился своим умением действовать и расторопностью своих секретарей – всем, что помогло ему вырвать молодую очаровательную женщину, то бишь меня, у судьбы, которую он считал ужасной.
– Когда вы разводитесь?
– Кто вам сказал, что я собираюсь разводиться? – нелюбезно спросила я.
– Вы не можете оставаться с этим человеком, – сказал Юлиус рассудительно, – он болен.
– А кто вам сказал, что мне не нравятся больные?
В то же время меня раздражала собственная неискренность. Уж поскольку я последовала за своим спасителем, было бы естественно дать ему какие-то объяснения. Мне бы только хотелось, чтобы они были как можно короче.
– Алан не больной, – сказала я, – он одержимый. Этот человек, мужчина, – поправилась я, – родился ревнивцем. Я поняла это слишком поздно, но, в конце концов, я виновата не меньше, чем он, в каком-то смысле.
– Вот как? В каком же? – прогнусавил Юлиус.
Он стоял передо мной подбоченясь, с воинственным видом адвоката, которых видишь обычно на американских процессах.
– В том смысле, что не смогла его разубедить, – сказала я. – Он всегда сомневался во мне, чаще напрасно. Я поневоле должна была быть хоть в чем-то виноватой.
– Просто он боялся, что вы уйдете от него, – сказал Юлиус, – чего боялся, то и случилось. Это логично.
Тебальди пела выходную арию, и музыка, взлетавшая вслед за ее голосом, вызывала во мне желание что-нибудь разбить. Или заплакать. Решительно, мне надо было выспаться.
– Вы скажете, это меня не касается, – сказал Юлиус.
– Да, – подтвердила я свирепо, – это действительно вас не касается.
Он не обиделся ни на секунду. Только посмотрел на меня с каким-то сочувствием, будто я изрекла чудовищную глупость. Потом махнул рукой, что означало «она сама не знает, что говорит», и этот жест окончательно вывел меня из себя. Я встала и налила себе полную рюмку водки. Я решила внести ясность.
– Мсье Крам, я вас не знаю. Знаю только, что вы богаты, что вы собирались жениться на молодой англичанке и что вы любите миндальные пирожные.
Он снова махнул рукой, красноречиво и покорно, как и подобает разумному человеку, вынужденному разговаривать с полоумной.
– Знаю также, – продолжала я, – что по причинам, мне неясным, вы заинтересовались мной, навели справки и приехали как раз вовремя, чтобы вытащить меня из затруднительного положения, за что я вам очень признательна. На этом наши отношения кончаются.
Затем, выдохшись, я села и сурово уставилась на огонь. На самом деле меня разбирал смех, потому что во время моего короткого приступа красноречия Юлиус немного отступил и оказался между оленьими головами, которые ему решительно не шли.
– У вас расстроены нервы, – сказал он проницательно.
– Не то слово, – подтвердила я. – Еще бы не расстроены. У вас есть снотворное?
Он вздрогнул, да так, что я засмеялась. И правда, с тех пор, как я здесь, я то и дело перехожу от смеха к слезам, от гнева к оцепенению – не пора ли всерьез задуматься об удобной постели, вероятно в готическом стиле, где я упокою наконец свое бренное тело? Казалось, я могу проспать трое суток.
– Не бойтесь, – сказала я Юлиусу. – Я не собираюсь покончить с собой ни в вашем доме, ни в каком-либо другом месте. Вероятно, секретарша доложила вам, что последние дни выдались у меня довольно тяжелыми, и мне бы не хотелось об этом говорить.
Его передернуло при слове «секретарша». Он снова сел напротив меня, положив ногу на ногу. Я машинально отметила, что у него большие ступни.
– Помимо секретарей, которые мне очень преданы, я много говорил с вашими друзьями, которые очень преданы вам. Они беспокоились о вас.
– Вот и хорошо, теперь вы можете их успокоить, – сказала я с иронией. – Теперь я в безопасности, по крайней мере на несколько дней.
Мы смотрели друг на друга с вызовом, смысл которого мне самой был неясен. Что делаю здесь я? О чем думает он? Что он хочет знать обо мне и почему? Моя рука, как тогда в «Салина», задрожала, мне срочно надо было лечь спать. Еще несколько рюмок, еще несколько вопросов – и я разрыдаюсь на плече у этого незнакомца, который, возможно, только того и дожидается.
– Не будете ли вы так любезны показать мне мою комнату? – сказала я и встала.
Поддерживаемая с обеих сторон Юлиусом и дворецким, я вскарабкалась по лестнице и оказалась, как и предполагала, в спальне в готическом стиле. Я пожелала им доброй ночи, открыла окно, вдохнув на секунду изумительно свежий воздух ночной деревни, и бросилась в постель. По-моему, я едва успела закрыть глаза.
* * *
И разумеется, на следующее утро я проснулась в прекрасном настроении: все в той же мрачной комнате, в той же неопределенности, но что-то внутри меня тихонько насвистывало веселый походный марш. Музыка всегда звучит во мне невпопад. Как будто жизнь – это огромный рояль, а я играю на нем, не обращая внимания на педали, или, вернее, нажимаю их наоборот: приглушаю симфонию моего счастья или успеха, а при лунном свете грусти играю форте. Рассеянная, когда надо радоваться, и веселая в трудные минуты, я без конца обманывала ожидания, а значит, и чувства тех, кто меня любил. И совсем не извращенность ума была тому причиной, просто, заранее упрощая жизнь, я представляла ее себе такой грубой, такой смешной, что умирала от желания с силой захлопнуть крышку рояля, как порой бывает на концертах иных пианистов. Только пианистом или, скажем, одним из двух пианистов была я. Кому из нас было хуже – Алану или мне? Он сейчас лежит, наверно, скорчившись на диване, слушая только стук собственного сердца, а в пятидесяти километрах от него я, удобно растянувшись, лежу на постели и вслушиваюсь в крик птицы, который слышала ночью. Но кто из нас двоих более одинок? Страдания любви, как бы они ни были тяжелы, – разве это хуже, чем безымянное, безответное одиночество? На мгновение я вспомнила Юлиуса и засмеялась. Если он рассчитывает залучить меня в свои сети, заставить занять определенное мне место на его шахматной доске делового практического человека, то ему придется плохо. Походный марш звучал все веселее. Я еще молода, я снова свободна, я нравлюсь, а погода прекрасная. Не так-то скоро кому-нибудь удастся наложить на меня лапу. Сейчас я оденусь, позавтракаю и поеду в Париж искать какую-нибудь работу; к тому же друзья будут счастливы снова меня увидеть.
В комнату вошел дворецкий, везя столик на колесиках, на котором были тосты и садовые цветы, и сообщил, что мсье Краму пришлось уехать в Париж, но он вернется к обеду, то есть менее чем через час. Значит, я проспала четырнадцать часов. Облачившись в старый свитер и вооружившись вновь обретенным эгоизмом, я спустилась по лестнице и прошлась по двору. Он был пуст. За окнами сновали тени, и во всем чувствовалась атмосфера ожидания – ожидания хозяина дома, а может быть, так только казалось. По-видимому, жизнь Юлиуса А. Крама была не слишком весела. Я дошла до псарни, погладила трех собак, которые лизнули мне руку, и решила, вернувшись в Париж, тоже завести собаку. Я буду кормить ее на свои заработки и любить, а она не будет кусать меня за икры и приставать с вопросами тоже не будет. В самом деле, хотя ситуация и была посложнее, но у меня было такое же чувство, как пятнадцать или двадцать лет назад, когда я покинула пансион, только теперь я отдавала себе отчет в происходящем. Считается обычно, что чувства меняются в зависимости от партнера, образа жизни, возраста – одно дело в отрочестве, другое – сейчас, а ведь они всегда абсолютно одинаковы. Однако каждый раз желание является свободным; инстинкт самосохранения, охотничий азарт – все это кажется в силу забывчивости, которой провидение наградило нашу память, или наивности чем-то никогда прежде не испытанным.
Я уже было повернула к дому, как вдруг угодила прямо в объятия мадам Дебу. Изумление мое было настолько велико, что я позволила три раза судорожно себя поцеловать, а потом весьма невоспитанно пролепетала, заикаясь: «Что вы здесь делаете?»
– Юлиус мне все рассказал! – воскликнула законодательница хороших манер и специалистка по части деликатных ситуаций. – Он говорил со мной рано утром, и я приехала. Вот и все.
Она просунула мою руку под свой локоть и, каждый раз спотыкаясь о гравий, слегка похлопывала меня по руке затянутой в перчатку ладонью. На ней был зеленовато-оливковый костюм из замши, английского покроя, очень элегантный, но некстати подчеркивавший в лучах бледного солнца ее городской грим.
– Я знаю Юлиуса двадцать лет, – сказала она, – в нем всегда было развито чувство приличия. Он не хотел, чтобы все это было похоже на похищение, на какую-то тайну, и поэтому позвонил мне.
Мадам Дебу была великолепна, в духе «Трех мушкетеров». Приняв мое молчание за благодарность, она продолжала:
– Это ничуть не расстроило мои планы. Мне предстоял убийственно скучный обед у Ласеров, и я была счастлива оказать вам обоим маленькую услугу. Где вход в этот сарай? – прибавила она оглушительно, поскольку и в самом деле было довольно прохладно для ее замшевого оливкового костюма, и тут, как по волшебству, дверь открылась, в проеме появился меланхоличный дворецкий, и мы прошли в гостиную.
– Здесь довольно мрачно, – сказала она, окинув комнату взглядом. – Напоминает Корнуолл.
– Я никогда не была в Корнуолле.
– Вы никогда не были у Бродерика? У Бродерика Гренфильда? Там совсем как здесь – охотничий замок. Но конечно, посреди необитаемых равнин все более натурально, чем в пятидесяти километрах от Парижа.
Высказавшись, она села, уставилась на меня, заявила, что я плохо выгляжу, и добавила: ничего удивительного. Она-де всегда считала Алана крайне странным. Впрочем, весь Париж считал его таковым. И поскольку она была дружна с моими родителями, она очень беспокоится за меня. Я с удивлением слушала весь этот поток откровений, ибо понятия не имела, что она была знакома с моими родителями. И когда в заключение она сообщила, что я вернусь вместе с ней и она предоставит мне пристанище – квартиру одной из своих невесток, уехавшей в Аргентину, – я послушно кивнула.
Решительно, Юлиус А. Крам не переставал меня удивлять. У него было все: шоферы-гориллы, частные детективы, преданные секретарши, невесты-аристократки и даже дуэнья – прямо как в рукаве у фокусника. И какая дуэнья! Женщина, считавшая себя вправе вершить и добро и зло, столь же неприятная, сколь элегантная, – короче, одна из тех, о которых говорят «безупречная». И надо же было Юлиусу А. Краму сделать так, что она заметила мое существование и соблаговолила принять в нем участие. В конце концов, кто я для нее? Возможно, она и была знакома с моими родителями до войны, но юность моя прошла далеко от этих мест; потом я жила в Америке, откуда вернулась в сопровождении элегантного молодого человека, по имени Алан, о котором она знала только, что он богат, что он американец и притом немного странный. То, что Юлиус вдруг взял и влюбился в меня, было не так уж важно. Она еще посмотрит, сделать меня своей придворной дамой или жертвой.
Юлиус прибыл в указанный час и, казалось, был в восторге, увидев двух женщин, болтающих в углу у камелька. Он горячо поблагодарил мадам Дебу, и я таким образом узнала, что ее зовут Ирен, а на меня посмотрел торжествующим взглядом человека, который действительно все продумал. Мы поговорили о том о сем, то есть ни о чем, с тактом, присущим воспитанным людям, которые уселись за обеденный стол. В самом деле, можно подумать, что появление тарелки, прибора и закусок обязывает цивилизованных людей к определенной сдержанности. Зато, как только мы встали из-за стола, чтобы снова сесть в гостиной за чашечкой кофе, темой разговора тут же стало мое будущее. Временно я буду жить на улице Спонтини, в квартире невестки Ирен; адвокат Юлиуса, мэтр Дюпон Кормей, свяжется с Аланом, а в следующую субботу мы пойдем на великолепный бал, который дает в Опере Общество помощи одиноким старикам и преступникам, или что-то в этом роде. Они говорили обо мне как о малом ребенке, а я слушала с недоверием и каким-то веселым удивлением, постепенно перераставшим в беспокойство. Значит, я и есть та самая хрупкая молодая женщина, безоружная, очаровательная, не способная нести ответственность ни за что, о которой им надлежит заботиться? Есть люди, и я из их числа, которые в каждом человеке пробуждают родительский инстинкт, инстинкт защитника. Родители эти быстро начинают надоедать, даже раздражать, от них этого не скрывают, но это ничего не меняет в их предназначении: они становятся родителями неблагодарного ребенка – и все тут.