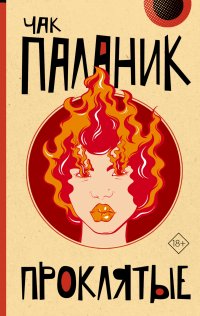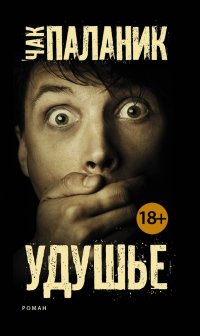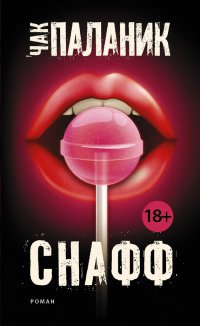Читать онлайн Дневник бесплатно
- Все книги автора: Чак Паланик
Моему деду, Джозефу Талленту, который сказал мне, что я могу быть, кем захочу.
1910-2003
Печатается с разрешения автора и литературных агентств Donaldo & Olson, Inc. Literary Representatives и Andrew Nurnberg.
© Chuck Palahniuk, 2003
© Издание на русском языке AST Publishing, 2017
21 июня – Луна в третьей четверти
Сегодня звонил человек из Лонг-Бич. Оставил длинное сообщение на автоответчике. Кричал и бубнил, захлебывался словами и заикался, матерился, грозился вызвать полицию и упрятать тебя в тюрьму.
Сегодня самый долгий день в году – но теперь все дни такие.
Погода сегодня – нарастающее беспокойство с большой вероятностью ураганного страха.
Тот человек из Лонг-Бич, он говорит, у него пропала ванная.
22 июня
Когда ты это прочтешь, ты будешь старше, чем помнишь себя.
Пигментные пятна у тебя на лице, по-научному они называются гиперпигментацией кожи. Лицевые морщины бывают динамическими и статическими. Эти морщины в верхней части лица, эти борозды, пропахавшие кожу у тебя на лбу и вокруг глаз, – это динамические, или мимические морщины, они образуются в результате активного сокращения лицевых мышц. Большинство морщин в нижней части лица – это статические морщины, они образуются под действием солнца и силы тяжести.
Посмотри в зеркало. Посмотри на свое лицо. На свои глаза, на свой рот.
Это то, что, по-твоему, ты знаешь лучше всего.
Твоя кожа состоит из трех основных слоев. То, что ты трогаешь – это stratum corneum, поверхностный слой эпидермиса, или роговой слой, состоящий из мертвых клеток, выталкиваемых наверх новыми клетками, образующимися под ними. То, что ты осязаешь, это сальное ощущение под пальцами – это твоя гидролипидная мантия, прослойка из кожного сала и пота, защитный барьер от грибков и бактерий. Под ней – твоя дерма. Под дермой лежит гиподерма, или подкожная жировая клетчатка. Под гиподермой – твои лицевые мышцы.
Может быть, ты это помнишь по институту, по курсу анатомии для художников. Хотя, может быть, и не помнишь.
Когда ты приподнимаешь верхнюю губу – когда демонстрируешь тот верхний передний зуб, который сломал тебе музейный смотритель, – это работает твоя levator labii superioris, мышца, поднимающая верхнюю губу. Твоя мышца усмешки. Представь, что ты нюхаешь лужу несвежей мочи. Представь, что твой муж только что покончил с собой в вашей машине, единственной на всю семью. Представь, что тебе нужно взять губку и оттереть его мочу с водительского сиденья. Представь, что ты все равно будешь ездить на работу в этой вонючей ржавой колымаге – и все будут смотреть, все будут знать, – потому что другой машины у тебя нет.
Что-нибудь вспомнилось? Нет?
Когда нормальная женщина, совершенно нормальная, ни в чем не повинная женщина, которая уж точно достойна лучшего, когда она приходит домой с работы, где весь день обслуживала столики в ресторане, приходит и видит, что ее муж задохнулся в их общей машине и обоссал все сиденье, когда она начинает кричать, это просто ее orbicularis oris, ее круговая мышца рта растягивается до предела.
Эти глубокие продольные морщины от крыльев носа до уголков рта – это твои носогубные складки. Их еще называют «складками усмешки». С возрастом круглые подушечки жира в щеках (общепринятый анатомический термин: скуловые жировые мешки) опускаются вниз, пока не упираются в носогубные складки – и лицо застывает в неизменной усмешке. Твое лицо.
Это лишь курс повторения. Небольшое пошаговое руководство.
Просто чтобы напомнить. На случай, если ты сам себя не узнаешь.
Теперь нахмурься. Это твоя triangularis, мышца, опускающая угол рта, тянет вниз уголки orbicularis oris, круговой мышцы рта.
Представь, что ты – двенадцатилетняя девочка, безумно любившая папу. Девочка, нуждавшаяся в отце, как никогда прежде. Девочка, которая верила, что он всегда будет рядом. Представь, что ты каждую ночь засыпаешь в слезах, так крепко зажмурив глаза, что они распухают.
Кожа у тебя на подбородке вся в пупырышках, как апельсиновая кожура. Это работа твоей подбородочной мышцы. Твоей «насупленной» мышцы. Эти хмурые складки, которые ты наблюдаешь каждое утро, они с каждым днем глубже, они тянутся вниз к подбородку от уголков рта – твои ментолабиальные складки, морщины скорби. Вертикальные линии между бровями это межбровные, или глабеллярные морщины. Опущение верхних век называется птозом. Твои боковые периорбитальные морщины, «гусиные лапки» в уголках глаз все заметнее с каждым днем, а тебе, ептыть, только двенадцать.
Не притворяйся, что ты не знаешь, о чем идет речь.
Это твое лицо.
А теперь улыбнись – если еще можешь.
Это работает твоя большая скуловая мышца. Каждое ее сокращение растягивает твои губы так же, как подхваты держат открытыми шторы на окне у тебя в гостиной. Так же, как тросы раздвигают занавес в театре. Каждая твоя улыбка – торжественное открытие. Премьера. Ты раскрываешь себя.
Теперь улыбнись, как улыбается престарелая мать, когда ее единственный сын кончает с собой. Улыбнись, и похлопай по руке его жену и его дочку двенадцати лет, и скажи им, чтобы не переживали: на самом деле, все, что ни делается, все к лучшему. Продолжай улыбаться и заколи свои длинные седые волосы. Сыграй в бридж со своими подругами столь же преклонных лет. Припудри нос.
Этот огромный, противный ком, что колышется у тебя под подбородком, с каждым днем становясь все огромнее и противнее, он называется подбородочный жир. Вертикальные морщины на шее называются платизмальными тяжами. Мягкие ткани, подбородок и шея, вся поверхностная мышечно-апоневротическая система лица медленно проседает под действием силы тяжести.
Звучит знакомо?
Если сейчас ты растерян, расслабься. Не переживай. Все, что тебе надо знать: это твое лицо. То, что, по-твоему, ты знаешь лучше всего.
Три слоя твоей кожи.
Три женщины в твоей жизни.
Эпидермис, дерма и гиподерма.
Твоя жена, твоя дочь, твоя мать.
Если ты это читаешь, добро пожаловать обратно в реальность. Вот куда тебя вывел весь этот блистательный, безграничный потенциал твоей юности. Все эти невыполненные обещания. Вот что ты сотворил со своей жизнью.
Тебя зовут Питер Уилмот.
Все, что ты должен понять: ты оказался унылым дерьмом.
23 июня
Звонит женщина из Сивью, сообщает, что у нее пропал бельевой шкаф. В прошлом сентябре в ее доме было шесть спален и два встроенных бельевых шкафа. Она в этом уверена. Теперь остался только один. Она приезжает сюда на лето, в свой пляжный домик. Едет из города вместе с детьми, няней и собакой, и вот они прибыли со всем своим скарбом, а все их полотенца пропали. Испарились. Исчезли.
Сгинули в Бермудском треугольнике.
Ее голос на автоответчике. По тому, как нарастают визгливые нотки, пока не превратятся в сирену воздушной тревоги в конце каждой фразы, можно понять, что она вся трясется от ярости, хотя больше от страха. Она говорит:
– Это какая-то шутка? Пожалуйста, скажите, что вам заплатили, чтобы вы это сделали.
Ее голос на автоответчике. Она говорит:
– Пожалуйста. Я не буду звонить в полицию. Просто верните его на место. Сделайте все, как было. Хорошо?
За ее голосом, неотчетливо на заднем плане, слышится детский, мальчишеский голос:
– Мам?
Женщина говорит мимо трубки. Она говорит:
– Все будет хорошо.
Она говорит:
– Только без паники.
Погода сегодня – нарастающая тенденция к отрицанию.
Ее голос на автоответчике. Она говорит:
– Перезвоните мне, ладно?
Она диктует свой номер и говорит:
– Пожалуйста…
25 июня
Представь себе рыбий скелет, как его нарисовал бы ребенок: на одном конце – череп, на другом – хвост. Между ними – хребет, перечеркнутый ребрами. С такими рыбьими скелетами в пасти ходят мультяшные кошки.
Представь эту рыбу как остров, покрытый домами. Представь дома в виде замков, как их нарисовала бы девочка, выросшая на стоянке жилых прицепов: большие каменные дома, на крышах – лес печных труб, каждый дом, словно горный хребет из скошенных крыш, башенок, флигелей и фронтонов, что устремляются ввысь, к громоотводу на самой верхушке. Шиферная кровля. Кружевные чугунные ограды. Сказочные домики, бугрящиеся эркерами и мансардными окнами. Повсюду вокруг – идеальные сосны, розарии и дорожки из красного кирпича.
Буржуазные грезы малоимущей девчонки из белых отбросов.
Это был именно такой остров, о котором мечтал бы ребенок, выросший на стоянке фургонов. Например, на помойке вроде Текамсе-Лейк, штат Джорджия. Пока мама была на работе, эта девочка – этот ребенок – гасила в трейлере весь свет. Она ложилась навзничь на истершийся оранжевый ковер в жилой комнате. Ковер вонял так, словно кто-то наступил на собачье дерьмо. Ковер в черных пятнах от сигаретных ожогов. Потолок был весь в мокрых потеках. Скрестив руки на груди, она представляла себе этот остров.
Это было то время – совсем поздний вечер, – когда уши ловят все звуки. Когда, закрывая глаза, ты видишь больше, чем если бы держал их открытыми.
Рыбий скелет. С того первого раза, как она взяла в руки цветной мелок, она только его и рисует.
Наверное, она росла без присмотра. Может быть, ее мамы никогда не было дома. Она никогда не знала отца, а мама, возможно, работала на двух работах. На каком-то паршивом заводе по производству изоляционных материалов и на раздаче еды в больничной столовой. Конечно, ребенок мечтал о месте, похожем на воображаемый остров, где никто не работает, только хлопочет по дому, собирает дикую голубику и бродит по пляжу в поисках интересных находок. Вышивает носовые платки. Составляет букеты. Где каждый день не начинается звоном будильника и не заканчивается телевизором. Она представляла себе эти дома, каждый дом, каждую комнату, резные узоры по краю каждой каминной полки. Расположение планок на каждом паркетном полу. Брала все это из головы. Изгиб каждой лампы, каждого водопроводного крана. Каждую керамическую плитку, она представляла их без труда. Воображала себе – поздним вечером. Каждый узор на обоях. Каждую лестницу, крышу и водосточную трубу, она рисовала их пастелью. Раскрашивала цветными карандашами. Каждую кирпичную дорожку, каждую живую изгородь из самшита. Она рисовала эскизы и заполняла их цветом, красными и зелеными акварельными красками. Она видела остров, рисовала его и мечтала о нем. Ей так хотелось туда.
Как только она научилась держать карандаш, она только его и рисует.
Представь себе эту рыбу черепом к северу, хвостом к югу. Хребет перечеркнут шестнадцатью ребрами – с востока на запад. Череп – это деревенская площадь, паром входит в гавань и выходит из гавани, которая – рыбья пасть. Рыбий глаз – это гостиница, вокруг нее – бакалейная лавка, хозяйственный магазинчик, библиотека и церковь.
Она брала краски и рисовала улицы с наледью на голых ветках деревьев. С птицами, что вернулись из теплых краев и теперь собирают сосновые иглы и прибрежные водоросли, чтобы свить гнездо. Потом с цветущими наперстянками выше человеческого роста. Потом с подсолнухами, еще выше. Потом с листьями, падающими с деревьев, и землю под ними, бугорчатую от орехов и каштанов.
Она видела все это как наяву. Она представляла себе очень живо: каждую комнату, в каждом доме.
И чем живее она представляла себе этот остров, тем меньше ей нравился реальный мир. Чем живее она представляла себе людей на ее воображаемом острове, тем меньше ей нравились реальные люди. Особенно ее собственная прихиппованная мамаша, вечно уставшая и пропахшая картофелем фри и сигаретным дымом.
В конце концов Мисти Клейнман разуверилась в том, что когда-нибудь станет счастливой. Все было уродливым. Все были непроходимо тупыми и просто… неправильными.
Ее звали Мисти Клейнман.
На случай, если ее нет рядом, когда ты это читаешь: она была твоей женой. На случай, если ты не просто включил дурака: это она, твоя бедная женушка, урожденная Мисти Мэри Клейнман.
Бедная дурочка Мисти, когда она рисовала костер на пляже, она ощущала во рту вкус кукурузных початков и вареных крабов. Когда она рисовала грядки с пряными травами в огороде за чьим-то домом, она чувствовала аромат розмарина и тимьяна.
И чем лучше она рисовала, тем хуже все было в жизни. В реальном мире для нее не осталось ничего хорошего. Она себя чувствовала здесь чужой, чужой повсюду. Рядом не было никого, кто был бы хоть сколько-нибудь ей приятен, хоть сколько-нибудь утончен, хоть сколько-нибудь реален. Ни мальчишки в старших классах. Ни другие девчонки. Здесь не осталось уже ничего, столь же реального, как ее воображаемый мир. Кончилось тем, что ее обязали ходить на беседы со школьным психологом, и она начала воровать деньги из маминого кошелька, чтобы покупать травку.
Чтобы никто не подумал, что она сумасшедшая, она погрузилась в изобразительное искусство вместо праздных мечтаний. На самом деле, ей хотелось овладеть техникой, чтобы переносить эти видения на бумагу. Чтобы сделать свой воображаемый мир еще более достоверным. Еще более реальным.
И в художественном институте она встретила парня по имени Питер Уилмот. Она встретила тебя, парня с острова Уэйтенси.
Откуда бы ты ни приехал, когда ты впервые попадаешь на остров, тебе кажется, будто ты умер. Умер и попал в рай, на веки вечные.
Рыбий хребет это Главная улица. Рыбьи ребра – пересекающие ее улицы, начиная с Абрикосовой в квартале к югу от деревенской площади. За ней: Березовая, Вязовая, Грушевая, Дубовая, Еловая, Жасминовая – и далее по алфавиту до Сосновой и Тополиной перед самым рыбьим хвостом. Там южный конец Главной улицы превращается в гравий, потом – в земляную дорожку, а потом исчезает среди деревьев на мысе Уэйтенси.
Это неплохое описание. Именно так и выглядит гавань, когда ты впервые прибываешь сюда на пароме с материка. Узкая и длинная, гавань напоминает пасть большой рыбы, готовой тебя проглотить, как в библейской истории.
Можно пройтись по всей Главной улице, если есть время. Позавтракать в отеле «Уэйтенси», потом пройти квартал к югу, мимо церкви на Абрикосовой улице. Мимо дома Уилмотов, единственного на Восточной Березовой, с лужайкой в шестнадцать акров, что спускается к самой воде. Мимо дома Бертонов на Восточной Можжевеловой улице. Густые дубовые рощи. Высокие искривленные стволы – словно изломы заросших мхом молний. Небо над Главной улицей. Летом оно зеленое, в плотных шелестящих пластах кленовых, дубовых и вязовых листьев.
Ты приезжаешь сюда впервые и думаешь, что сбылись все твои чаяния и надежды. Отныне ты будешь жить долго и счастливо, до самой смерти.
Дело в том, что для ребенка, всю жизнь прожившего в старом трейлере, этот остров казался особенным местом – надежным и безопасным, – где она будет жить, навсегда окруженная любовью и заботой.
Для ребенка, который сидел на плешивом ковре с коробкой цветных мелков или карандашей и рисовал эти дома. Дома, которые она никогда не видела. Просто рисунки. Выдуманные дома, как они ей представлялись, с их верандами и витражными окнами. И вдруг она, эта девочка, видит их на самом деле. Те самые дома. Дома, которые, как ей казалось, она просто выдумала…
Как только маленькая Мисти Мэри начала рисовать, она уже знала все влажные тайны выгребных ям за каждым домом. Она знала, что провода внутри стен были старыми, в тканевой изоляции, и что проложены они были через изогнутые фарфоровые трубки поверх фарфоровых шпеньков-изоляторов. Она могла бы нарисовать каждую парадную дверь с внутренней стороны, где каждая островная семья отмечала имя и рост каждого из своих чад.
Даже с материка, с паромного причала в Лонг-Бич, через три мили соленой воды остров видится раем. Сосны такие темно-зеленые, что кажутся черными, волны бьются о бурые скалы – все, о чем только можно мечтать. Защищенность. Уединение и покой.
В нынешние времена остров видится так очень многим. Многим богатеньким чужакам.
Для нее, для ребенка, который в жизни не плавал ни в одном водоеме больше бассейна в трейлерном поселке, где хлорка слепит глаза – вдруг войти на пароме в гавань Уэйтенси, где поют птицы, и ряды гостиничных окон сверкают на солнце. Услышать, как океан бьется о волнолом, всей кожей почувствовать теплое солнце и свежий ветер в волосах, вдохнуть аромат распустившихся роз… тимьяна и розмарина…
Жалкий подросток, в жизни не видевший океана, она уже нарисовала эти скалы над берегом, эти утесы, нависшие над водой. Нарисовала как будто с натуры.
Бедняжка Мисти Мэри Клейнман.
Эта девушка приехала сюда невестой, и весь остров вышел ее встречать. Сорок, пятьдесят семей, все улыбались, по очереди пожимали ей руку. Пел хор начальной школы. Сыпался рис. В ее честь в гостинице был устроен банкет, и все пили шампанское за ее здоровье.
Со склона холма над Платановой улицей окна отеля «Уэйтенси», все шесть этажей, все ряды окон и застекленных веранд, ломаные линии слуховых окошек на крутом скате крыши, они все наблюдали ее прибытие. Жители острова, все как один, наблюдали, как она приехала, чтобы поселиться в одном из больших домов в тенистом, обрамленном деревьями рыбьем брюхе.
Один взгляд на остров Уэйтенси, и Мисти Клейнман решила, что он стоит того, чтобы навсегда распрощаться со своей заводской мамашей. С кучками собачьего дерьма и истертым ковром. Она поклялась себе, что никогда не вернется в трейлерный парк. Свои планы, чтобы стать художницей, она отложила на потом.
Просто, когда ты ребенок – даже когда ты чуть старше, может быть, лет двадцати – и учишься на художника, ты совсем ничего не знаешь о реальном мире. Когда кто-то говорит, что он тебя любит, тебе хочется ему верить. Он хочет взять тебя в жены и увезти к себе домой, на какой-то там райский остров. В большой каменный дом на Восточной Березовой улице. Он говорит, что хочет сделать тебя счастливой.
И нет, честное слово, он никогда не замучает тебя до смерти.
И эта бедненькая Мисти Клейнман, она сказала себе, что ей не так уж и хочется становиться художницей. На самом деле ей хочется дома, семьи и покоя.
Потом она приехала на остров Уэйтенси, где все было правильно.
А потом оказалось, что неправильной была она.
26 июня
Звонит мужчина с материка, из Оушен-Парка, возмущается, что у него пропала кухня.
Это естественно, если не замечаешь сразу. Когда проживешь в одном месте достаточно долго – в доме, в квартире, в стране, – все становится крошечным.
Оушен-Парк, Ойстервил, Лонг-Бич, Оушен-Шорс – все они материковые города. Женщина с исчезнувшим бельевым шкафом. Мужчина с пропавшей ванной. Все эти люди, все они – сообщения на автоответчике, люди, решившие сделать ремонт в своих летних домах. Приморские городки, летние люди. У тебя дом на девять спален, где ты проводишь по две недели в году. Неудивительно, если пройдет несколько лет, прежде чем ты заметишь, что в доме чего-то недостает. У большинства этих людей не меньше полдюжины таких домов. Это не настоящие дома. Это капиталовложения. Коттеджи, кооперативные квартиры. У них, у этих людей, есть квартиры в Лондоне и Гонконге. По зубной щетке в каждом часовом поясе. По куче грязной одежды во всех частях света.
Голос на автоответчике Питера. Он говорит, у него была кухня с газовой плитой. Со встроенной двухкамерной духовкой. С большим двухдверным холодильником.
Слушая его жалобы, твоя жена, Мисти Мэри, кивает, да, раньше здесь многое было по-другому.
Можно было попасть на паром, просто приехав на пристань. Он ходил каждые полчаса, на материк и обратно. Каждые полчаса. Теперь там очередь. Надо ждать. Сидишь на стоянке в толпе чужаков в их блестящих спортивных машинах, которые не пахнут мочой. Паром придет и уйдет раза три или четыре прежде, чем ты сумеешь заехать на борт. Ты, просидевшая все это время под жарким солнцем, среди этой вони.
Тратишь все утро на то, чтобы просто уехать с острова.
Раньше можно было войти в отель «Уэйтенси» и без проблем сесть за столик у окна. Раньше на острове Уэйтенси никогда не было мусора. Плотного уличного движения. Татуировок. Пропирсованных носов. Шприцов, вымываемых морем на пляж. Липких использованных гандонов в песке. Рекламных щитов. Корпоративных товарных знаков.
Мужчина из Оушен-Парка, он говорит, что стена у него в столовой – сплошные дубовые панели и обои в синюю полоску. Плинтус, рейка на стене и потолочный карниз идут непрерывно, без швов от угла до угла. Он стучал, и стена оказалась сплошной. Гипсокартон на деревянном каркасе. Мужчина клянется, что посередине этой идеальной стены раньше была дверь в кухню.
По телефону этот мужчина из Оушен-Парка говорит:
– Может быть, я ошибаюсь, но в доме должна быть кухня. Разве нет? Кажется, это прописано в строительных нормативах?
Женщина из Сивью обнаружила пропажу своего бельевого шкафа, только когда не сумела найти чистое полотенце.
Этот мужчина из Оушен-Парка, он сказал, что взял штопор из буфета в столовой. Он провинтил дырочку там, где ему помнилась дверь. Он достал из буфета столовый нож и пробил дырку пошире. У него на брелоке с ключами есть маленький фонарик, и он прижался щекой к стене и заглянул в дырку. Он прищурился, и там, в темноте, была комната, вся исписанная словами, прямо по стенам. Он прищурился, дал глазам привыкнуть, и там, в темноте, смог разобрать только обрывки фраз:
«…всякий, кто ступит на остров, умрет… – Так там написано. – …бегите отсюда со всех ног. Они убьют всех детей Божьих, чтобы спасти своих собственных…»
Там, где должна быть его кухня, там написано: «… вы все умрете…»
Мужчина из Оушен-Парка говорит:
– Вам лучше приехать и посмотреть, что я нашел.
Его голос на автоответчике говорит:
– Один только почерк стоит того, чтобы приехать.
28 июня
Столовую в отеле «Уэйтенси» называют Орехово-золотым залом из-за ореховых панелей на стенах и стульев, обитых золотой парчой. Резная каминная полка сделана из ореха, решетка – из полированной латуни. Огонь в камине надо поддерживать постоянно, даже когда ветер дует с материка; когда дым выдувает обратно в зал. Копоть и дым валят наружу, пока не приходится вынимать батарейки из всех датчиков задымления. К тому времени весь отель явственно пахнет пожаром.
Каждый раз, когда кто-то просит посадить их за девятый или десятый столик возле камина, а потом возмущается из-за дыма, или что там слишком жарко, и требует пересадить их за другой столик, тебе надо выпить. Просто глоточек того, что есть. Для твоей бедной толстой жены сойдет и херес, который используют для готовки.
Это один день из жизни Мисти Мэри, царицы рабов.
Еще один самый долгий день в году.
Это игра, в которую может сыграть кто угодно. Ее персональная кома, твоей жены Мисти.
Два глоточка винца. Два аспирина. Повтори еще раз.
В Орехово-золотом зале окна напротив камина выходят на сторону моря. Половина замазки высохла и раскрошилась, холодный ветер свистит сквозь щели. Окна запотевают. Влага собирается на стекле, стекает на пол и разливается лужей, пока пол не промокает насквозь, а ковер не начинает вонять, как дохлый кит, выброшенный на пляж в середине июля и провалявшийся там две недели. Вид на море. Горизонт перегружен рекламными щитами. Все те же торговые марки: рестораны быстрого питания, солнцезащитные очки, теннисные туфли, – что отпечатаны на мусоре, размечавшем границу прилива.
В каждой волне бултыхаются окурки.
Каждый раз, когда кто-то просит четырнадцатый, пятнадцатый или шестнадцатый столик возле окна, а потом жалуется на сквозняк и на вонь от промокшего, заболоченного ковра, когда они требуют пересадить их за другой столик, тебе надо выпить.
Эти летние люди, их Святой Грааль – идеальный столик. Царский трон. Выгодное размещение. Где бы они ни сидели, хорошо всегда там, где их нет. Здесь такая толпа, что нельзя просто пройти через зал без того, чтобы тебя не пихнули в живот локтем или тазовой костью. Чтобы тебе не вмазали кошельком.
Прежде чем мы продолжим, тебе, наверное, стоит одеться теплее. Закупить впрок витамины группы В. Пополнить запас клеток мозга. Если ты это читаешь в общественном месте, прервись и надень свое лучшее нижнее белье.
Но сначала, наверное, стоит записаться в очередь на пересадку печени.
Ты понимаешь, к чему все идет.
К чему пришла жизнь Мисти Мэри Клейнман.
Есть много способов покончить с собой, для этого не обязательно умирать.
Всякий раз, когда кто-то из летних женщин заходит сюда в компании подруг, все они худощавые и загорелые, все они ахают, глядя на деревянные панели и белые скатерти, на хрустальные вазы с розами и папоротниками, на антикварное столовое серебро, и кто-нибудь обязательно говорит: «Вместо телятины вам бы следовало подавать тофу!» – хлебни винца.
Эти худышки с материка. Может быть, на выходные приедет какой-нибудь муж, низкорослый крепыш, так обильно потеющий, что черный спрей, которым он маскирует залысину, ручьями течет по затылку. Темные реки густой грязи пачкают воротничок его светлой рубашки.
Каждый раз, когда кто-то из местных морских черепах приползает сюда, вцепившись в жемчуга на сморщенном горле, престарелая миссис Бертон, или миссис Сеймур, или миссис Перри, когда она видит, что какие-то загорелые худосочные летние женщины заняли ее личный, любимый с 1865 года столик, и говорит: «Мисти, как ты могла?! Ты же знаешь, что я всегда захожу сюда в полдень по вторникам и четвергам. Право же, Мисти…» – тут спасут два глотка.
Когда летние женщины просят кофе с молочной пенкой, или воду с ионами серебра, или обсыпку из плодов рожкового дерева, или что-нибудь из сои, тебе надо выпить.
Если они не дают чаевых, выпей еще.
Эти летние женщины. Они кладут вокруг глаз столько черной подводки, что кажется, будто они никогда не снимают темные очки. Они обводят губы темно-коричневым контуром, а потом едят, пока помада внутри не стирается. Как будто за столиком собрались худосочные детишки, каждый с грязным кольцом вокруг рта. Их длинные изогнутые ногти пастельных цветов, словно сахарные оболочки драже с миндалем.
Когда у вас лето, а тебе все равно надо топить чадящий камин, сними что-нибудь из одежды.
Когда идет дождь и окна дрожат на ледяном сквозняке, надень что-нибудь из одежды.
Два глоточка винца. Два аспирина. Повтори еще раз.
Когда заходит мать Питера с твоей дочкой Табби и ждет, что ты обслужишь собственную свекровь и собственного ребенка, словно их персональная рабыня, выпей двойную порцию. Когда они обе сидят за восьмым столиком, и бабуля Уилмот говорит Табби: «Твоя мама стала бы знаменитой художницей, если бы постаралась», – выпей еще.
Летние женщины. Их бриллиантовые браслеты, их кулоны и кольца – бриллианты все тусклые и засаленные от солнцезащитных кремов, – когда они просят, чтобы ты спела им «С днем рождения тебя», как тут не выпить?
Когда твоя двенадцатилетняя дочь обращается к тебе «мэм» вместо «мама»…
Когда ее бабушка Грейс говорит: «Мисти, милочка, у тебя было бы больше денег и больше достоинства, если бы ты снова вернулась к живописи»…
Когда вся столовая это слышит…
Два глоточка винца. Два аспирина. Повтори еще раз.
Каждый раз, когда Грейс Уилмот заказывает элитные чайные сандвичи с творожным и козьим сыром и грецким орехом, растертым в воздушную массу, на тоненьком, полупрозрачном тосте, а потом лишь откусывает пару раз, и все остальное идет на выброс, но она непременно запишет заказ на твой счет, эти сандвичи, и чайник чая с бергамотом, и кусок морковного пирога – она все записывает на твой счет, и ты даже не знаешь об этом, пока в день зарплаты не получаешь на руки семьдесят пять центов после всех вычетов, а бывает, что остаешься должна отелю, и ты понимаешь, что сделалась крепостной, запертой в Орехово-золотом зале, может быть, до конца жизни, – тут не обойдешься двумя глотками. Тут надо пять.
Всякий раз, когда в столовой не протолкнуться, и каждый обтянутый золотой парчой стул занят какой-нибудь женщиной, местной или с материка, и все как одна возмущаются, что паром идет слишком долго, и на острове негде припарковаться, и раньше не было необходимости заказывать столик заранее, и чего это людям не сидится дома, потому что так жить нельзя, это уже ни в какие ворота не лезет: все эти локти и настырные, пронзительные голоса, которые спрашивают дорогу, интересуются, нет ли у вас заменителя сливок и сарафанов второго размера, – и камин все равно должен гореть, потому что это гостиничная традиция, – сними еще что-нибудь из одежды.
Если к этому времени ты еще не пьяна и не бегаешь полуголой, значит, ты недостаточно усердна.
Когда Рамон, помощник официанта, застает тебя в холодильной камере с бутылкой хереса, поднесенной ко рту, и говорит: «Мисти, carino. Salud!»[1]
Если такое случается, отсалютуй ему бутылкой и скажи: «За моего мужа с его мертвым мозгом. За дочь, которую я не вижу. За наш дом, который вот-вот отойдет католической церкви. За мою чокнутую свекровь, которая вечно надкусывает бутерброды с бри и зеленым луком…»
Потом скажи ему: «Te amo[2], Рамон».
И вознагради себя лишним глоточком.
Каждый раз, когда очередная замшелая древняя окаменелость из почтенной островной семьи объясняет, что она сама Бертон, но ее мать была из Сеймуров, а отец – из Тапперов, а мать отца – из Карлайлов, и поэтому вы с ней состоите в каком-то там дальнем родстве, и она прикасается к твоей руке своей мягкой, холодной и сморщенной лапкой, пока ты пытаешься собрать со стола грязные тарелки, и говорит: «Мисти, почему ты забросила рисование?» – ты понимаешь, что годы идут, жизнь проходит, вся твоя жизнь летит в мусорное ведро, и ты понимаешь, что надо выпить.
В художке не учат, что нельзя никому говорить о своем желании стать художницей. Никому. Никогда. Просто, чтобы ты знал: до конца твоих дней люди будут тебя изводить, напоминая, что в юности ты рисовала. В юности ты так любила рисовать.
Два глоточка винца. Два аспирина. Повтори еще раз.
Просто для сведения: твоя бедная женушка, сегодня она случайно роняет нож в столовой отеля. Когда она наклоняется его поднять, в серебряном лезвии мелькает какое-то отражение. Какие-то слова на обратной стороне столешницы шестого столика. Твоя жена встает на четвереньки и приподнимает краешек скатерти. На деревянной доске, среди комочков засохшей жвачки и катышков затвердевших соплей, там написано: «Не дай им обмануть тебя снова».
Там написано карандашом: «Возьми в библиотеке любую книгу».
Чье-то доморощенное бессмертие. Нестираемый след. Жизнь после смерти.
Просто для сведения: погода сегодня изрядно поддатая, с периодическими порывами отчаяния и раздражительности.
Сообщение под шестым столиком, бледная надпись карандашом, там стоит подпись: Мора Кинкейд.
29 июня – Новолуние
В Оушен-Парке входную дверь открывает мужчина, в одной руке у него – бокал, какое-то ярко-оранжевое вино наполняет его точно по указательный палец. Мужчина одет в белый махровый халат с вышитым на отвороте именем «Энджел». Золотая цепочка запуталась в седых волосах у него на груди. От него пахнет пылью и гипсом. В другой руке он держит фонарик. Мужчина отпивает вино, и оно убывает до среднего пальца. Лицо у хозяина дома опухшее, на подбородке – темная щетина. Брови осветлены или выщипаны настолько, что их почти нет.
Просто для сведения: так они встретились, мистер Энджел Делапорт и Мисти Мэри.
На занятиях в художественном институте вам расскажут, почему у леонардовской Моны Лизы совсем нет бровей. Потому что художник добавил их в самом конце. Наложил влажную краску поверх сухой. В семнадцатом веке реставратор использовал не тот растворитель и стер их навсегда.
В коридоре, сразу за дверью – нагромождение чемоданов, дорогих чемоданов из натуральной кожи, и мужчина указывает фонариком мимо них, указывает в глубь дома, и говорит:
– Можете передать Питеру Уилмоту, что у него отвратительная орфография и грамматика.
Эти летние люди. Мисти Мэри им говорит, что плотники всегда что-нибудь пишут на внутренней стороне стен. Каждому непременно приходит в голову, что надо бы написать свое имя и дату, прежде чем обшить стену гипсокартоном. Иногда они оставляют в стене свежий номер газеты. Существует традиция замуровывать в стену бутылку пива или вина. Кровельщики оставляют автографы на обрешетке, прежде чем покрыть ее толем и рубероидной плиткой. Штукатуры пишут на обшивке стен, прежде чем набить сайдинг или нанести штукатурку. Свое имя и дату. Маленькую частичку себя, чтобы кто-нибудь в будущем ее обнаружил. Может, какую-то мысль. Мы здесь были. Мы это построили. Заметка на память.
Считайте, что это обычай, или суеверие, или фэншуй.
Милое доморощенное бессмертие.
На истории искусства вам расскажут, как папа Пий V попросил Эль Греко закрасить несколько обнаженных фигур, нарисованных Микеланджело на потолке Сикстинской капеллы. Эль Греко согласился, но при условии, что он распишет весь потолок. Вам расскажут, что Эль Греко прославился исключительно благодаря своему астигматизму. Поэтому он искажал человеческие фигуры: он их видел неправильно, он всем растягивал руки и ноги и прославился этим эффектным приемом.
От знаменитых художников до скромных строителей, нам всем хочется оставить подпись. Наш нестираемый след. Наша жизнь после смерти.
Нам всем хочется рассказать о себе. Никто не хочет остаться забытым.
В тот день в Оушен-Парке Энджел Делапорт показывает Мисти столовую, показывает деревянные панели и обои в синюю полоску. В одной стене, посередине между полом и потолком, пробита дыра, вся в раскрошенном гипсе и завитках рваных обоев.
Каменщики, говорит ему Мисти, вдавливают в застывающий раствор в печной трубе освященный медальон на цепочке – оберег, не дающий злым духам пробраться в дом по дымоходу. В Средние века в стенах нового здания заживо замуровывали кошку, чтобы привлечь удачу. Или женщину. Заживо. Чтобы вдохнуть в здание душу.
Мисти, она наблюдает за его бокалом с вином. Она говорит, обращаясь не к мистеру Делапорту, а к бокалу в его руке, следит за ним взглядом в надежде, что мистер Делапорт это заметит и предложит ей выпить.
Энджел Делапорт прижимается к дыре опухшим лицом, своей выщипанной бровью, и говорит:
– …люди с острова Уэйтенси убьют вас точно так же, как уже убивали раньше…
Он светит фонариком в темноту, приставив брелок к щеке. Брелок щетинится медными и серебряными ключами, что свисают ему на плечо, словно аляповатая бижутерия. Он говорит:
– Вам надо увидеть, что здесь написано.
Медленно, как ребенок, который учится читать, Энджел Делапорт глядит в темноту и говорит:
– …а теперь моя жена работает в отеле «Уэйтенси», убирается в номерах и превращается в жирную тупую корову в розовой нейлоновой униформе…
Мистер Делапорт говорит:
– …Она приходит домой, и ее руки воняют латексными перчатками, которые ей приходится надевать, чтобы собирать ваши использованные гандоны… ее светлые волосы поседели и воняют дерьмом, которое она вычищает из ваших толчков, когда ложится в постель рядом со мной…
– Гм, – говорит он и отпивает вино до безымянного пальца. – Это последнее придаточное предложение явно стоит не на месте.
Он читает:
– …ее обвисшие сиськи похожи на парочку дохлых карпов. У нас три года не было секса…
Становится так тихо, что Мисти пытается хохотнуть.
Энджел Делапорт протягивает ей фонарик. Он отпивает свое ярко-оранжевое вино до уровня мизинца, обнимающего бокал сбоку, кивает на дырку в стене и говорит:
– Читайте сами.
Брелок с ключами такой тяжелый, что Мисти приходится напрячь пальцы, чтобы удержать фонарик. Она смотрит в маленькую черную дырочку и видит слова, написанные черной краской на дальней стене. Там написано:
«…вы умрете, жалея о том, что решили приехать…»
Исчезнувший бельевой шкаф в Сивью, пропавшая ванная в Лонг-Бич, гостиная в Ойстервиле, каждый раз, когда хозяева ищут пропажу, именно это они и находят. Все ту же вспышку ярости Питера Уилмота.
Твою вспышку ярости.
«…вы умрете, и мир станет лучше для…»
Во всех этих материковых домах, где работал Питер, в этих капиталовложениях – все те же мерзкие надписи, замурованные внутри.
«…умрете, корчясь в муках…»
У нее за спиной Энджел Делапорт говорит:
– Скажите мистеру Уилмоту, что слово «корчась» пишется через «а».
Эти летние люди. Бедняжка Мисти, она говорит им, что мистер Уилмот был сам не свой весь этот год. У него была опухоль мозга, о которой он не знал – мы не знаем, как долго. По-прежнему прижимаясь лицом к дырке в обоях, она говорит этому Энджелу Делапорту, что мистер Уилмот занимался ремонтом в старом отеле «Уэйтенси» и теперь номера комнат перескакивают с 312 сразу на 314. Там, где раньше был номер 313, теперь идеальный, без единого шва коридор, стеновой молдинг, плинтус, новые розетки через каждые шесть футов, работа отменного качества. Все безукоризненно, за исключением замурованной комнаты.
И этот мужчина из Оушен-Парка взбалтывает вино у себя в бокале и говорит:
– Надеюсь, в то время в номере 313 никто не жил.
У нее в машине есть ломик. Они могут вскрыть этот дверной проем за пять минут. Это просто гипсокартон, говорит она мужчине. Просто мистер Уилмот слетел с нарезки.
Когда она сует нос в дыру и принюхивается, обои пахнут так, словно сюда пришли умирать миллионы окурков. В самой дыре пахнет корицей, пылью и краской. Где-то внутри, в темноте, гудит холодильник. Тикают часы.
Эти надписи вкруговую по стенам – везде и всюду все те же яростные слова. Во всех этих летних домах. Фразы написаны по широкой спирали, она начинается с потолка и раскручивается до пола, и чтобы все прочитать, надо встать в центре комнаты и кружиться на месте, пока не закружится голова. Пока тебя не затошнит. В свете фонарика на брелоке можно прочесть:
«…вас убьют, несмотря на все ваши деньги и статус…»
– Смотрите, – говорит она. – Вот ваша плита. Никуда она не делась.
Она отступает на шаг от стены и отдает мужчине фонарик.
Каждый подрядчик, говорит ему Мисти, непременно подпишет свою работу. Пометит свою территорию. Отделочники напишут что-нибудь на стяжке, прежде чем класть паркет или ковролин. Напишут что-нибудь на стене, прежде чем клеить обои или кафельную плитку. Это есть в каждом доме, внутри ваших стен: летопись из рисунков, молитв и имен. Даты. Капсула времени. В худшем случае еще и свинцовые трубы, асбест, токсичная плесень, коротящая электропроводка. Опухоль мозга. Бомба замедленного действия.
Доказательство, что никакое капиталовложение не обеспечит тебя навсегда.
Об этом лучше не знать – но если узнаешь, уже не посмеешь забыть.
Энджел Делапорт, лицо прижато к дыре, он читает:
– …Я люблю свою жену, я люблю своего ребенка…
Он читает:
– …Я не увижу, как вы, гнусные паразиты, толкаете мою семью вниз…
Он вжимается в стену, приникает лицом к дыре и говорит:
– Почерк весьма любопытный. В его «убьют» и «не было секса» длинные верхние черточки прописных «б» нависают над остальной частью слова. Это значит, что он человек любящий и заботливый на самом деле.
Он говорит:
– Во всех его «у» петельки длинные и узкие. Явный признак того, что он чем-то обеспокоен.
Вжимаясь лицом в дыру, Энджел Делапорт читает:
– …остров Уэйтенси убьет всех до единого детей Божьих, чтобы спасти своих собственных…»
Он говорит, тонкие и заостренные заглавные «Я» свидетельствуют о том, что у Питера острый и проницательный ум, но он до смерти боится своей матери.
Ключи на брелоке звенят, когда он водит фонариком и читает:
– …Я танцевал, запихав себе в задницу вашу зубную щетку…
Он резко отшатывается от стены и говорит:
– Да, это моя плита, все нормально.
Он допивает вино и, прежде чем проглотить, долго полощет им рот.
Он говорит:
– Я знал, что в доме есть кухня.
Бедняжка Мисти, она говорит, что ей очень жаль. Она сейчас вскроет дверной проем. Наверное, мистеру Делапорту, надо будет уже сегодня записаться к дантисту на чистку зубов. И обратиться в травмпункт, чтобы ему сделали укол от столбняка. И, наверное, вкололи гамма-глобулин.
Там, на стене, вокруг дырки расплылось большое влажное пятно. Мистер Делапорт трогает его одним пальцем. Он подносит бокал ко рту и обнаруживает, что тот пуст. Темное, влажное пятно на синих обоях, он его трогает. Потом брезгливо кривится, вытирает палец о халат и говорит:
– Надеюсь, мистер Уилмот позаботился о хорошей страховке и фонде компенсационных выплат.
– Мистер Уилмот лежит без сознания в больнице уже несколько дней, – говорит Мисти.
Он достает из кармана пачку сигарет, вытряхивает одну и говорит:
– Значит, теперь вы управляете его ремонтной фирмой?
Мисти пытается рассмеяться.
– Я жирная тупая корова, – говорит она.
И мужчина, мистер Делапорт, говорит:
– Что, простите?
– Я миссис Питер Уилмот.
Мисти Мэри Уилмот, подлинная сварливая сука, чудовище во плоти. Она говорит ему:
– Я работала в отеле «Уэйтенси», когда вы позвонили сегодня утром.
Энджел Делапорт кивает, глядя в свой пустой бокал. Стекло заляпано потными отпечатками пальцев. Он поднимает бокал и говорит:
– Хотите выпить?
Он смотрит туда, где она прижималась лицом к стене, где она разрешила себе уронить единственную слезинку, и эта слезинка испачкала его обои в синюю полоску. Влажный отпечаток ее глаза, «гусиные лапки» вокруг ее глаза, ее круговая мышца глаза за решеткой морщин. Все еще держа в руке незажженную сигарету, он берет другой рукой махровый пояс своего халата и трет пятно на заплаканной стене. Он говорит:
– Я дам вам книгу. Называется «Графология». Как по почерку можно узнать характер.
И Мисти, которая вправду считала, что дом Уилмотов, шестнадцать акров на Березовой улице, означают счастливую долгую жизнь, она говорит:
– Может быть, вы хотите снять дом на лето?
Она смотрит на его бокал и говорит:
– Большой старый каменный дом. Не на материке, а на острове?
И Энджел Делапорт, он оборачивается и смотрит на Мисти через плечо, на ее бедра, потом – на грудь под розовой униформой, потом – на лицо. Он прищуривается, чуть качает головой и говорит:
– Не волнуйтесь, ваши волосы не такие уж и седые.
Его щека и висок, кожа вокруг его глаза, все в белой гипсовой пыли.
И Мисти, твоя жена, она протягивает к нему руку, растопырив пальцы. Она держит руку ладонью вверх, кожа красная, в цыпках.
Она говорит:
– Если не верите, что я это я…
Она говорит:
– Понюхайте мою руку.
30 июня
Твоя бедная женушка, она мчится на всех парах из столовой в музыкальную комнату, сгребая серебряные подсвечники, позолоченные каминные часики, статуэтки из дрезденского фарфора и запихивая их в наволочку. После утренней смены в отеле Мисти Мэри Уилмот грабит большой дом Уилмотов на Березовой улице. Как будто воровка в собственном доме, она хватает серебряные портсигары, пилюльницы и табакерки. С каминных полок и тумбочек она собирает солонки и резные фигурки из слоновой кости. Она тащит за собой наволочку, тяжелую и гремящую позолоченными медными соусниками и фарфоровыми тарелками, расписанными вручную.
Все еще в своей розовой нейлоновой униформе с темными пятнами пота под мышками. На груди табличка с именем, чтобы все незнакомцы в отеле знали, как к ней обращаться. Твоя бедная женушка Мисти. Теперь она занимается той же поганой ресторанной работой, что и ее мамаша.
Жили они долго, но как-то несчастливо.
После работы она мчится домой собирать вещи. Связка ключей у нее в руках гремит, как якорная цепь. Связка ключей как железная виноградная гроздь. Ключи длинные и короткие. Вычурные экземпляры с замысловатыми бородками. Латунные и стальные. Есть ключи, полые, как ствол ружья, есть большие, как пистолет, какой взбешенная жена могла бы засунуть себе за подвязку и застрелить идиота-мужа.
Мисти пихает ключи в замки и проверяет, провернутся они или нет. Проверяет замки на дверях застекленных шкафов и буфетов. Пробует ключ за ключом. Вонзить и провернуть. Впихнуть и крутануть. Каждый раз, когда замок поддается, она вываливает все из наволочки: позолоченные каминные часики, серебряные кольца для салфеток и хрустальные вазочки, – она вываливает все внутрь и запирает дверцу.
Сегодня день переезда. Еще один самый долгий день в году.
В большом доме на Восточной Березовой сейчас все должны собираться к отъезду, но нет. Твоя дочь спускается вниз, не взяв практически ничего из одежды. Твоя чокнутая мамаша все еще занята уборкой. Она где-то в доме, таскает за собой старенький пылесос, ползает на карачках, выбирает ворсинки и ниточки из ковров, скармливает их пылесосной кишке. Как будто это чертовски важно, как выглядят ковры. Как будто семейство Уилмотов когда-нибудь снова вернется сюда.
Твоя бедная женушка, эта глупенькая девчонка, что приехала сюда миллион лет назад из какого-то вшивого трейлерного парка в Джорджии, она не знает, с чего начать.
Не то чтобы семейство Уилмотов не знало, что их ожидает. Так не бывает, что ты проснешься однажды утром и обнаружишь, что в банке пусто. Что у семьи больше нет денег.
Сейчас только полдень, и Мисти старается отложить на подольше вторую порцию выпивки. Вторая, она никогда не бывает такой же хорошей, как первая. Первая – настоящее чудо. Просто маленькая передышка. Кое-что, что составит тебе компанию. Остается всего лишь четыре часа до того, как арендатор придет за ключами. Мистер Делапорт. К этому времени они должны освободить помещение.
Это даже не выпивка, чтобы ужраться. Просто бокал вина, и она сделала только один, может быть, два глотка. Но все равно: знать, что в бокал налито вино. Знать, что он еще наполовину полон. Это утешает.
После второй порции она примет пару таблеток аспирина. Потом еще пара порций вина, еще две таблетки аспирина. Это поможет ей пережить сегодняшний день.
В большом доме Уилмотов на Восточной Березовой, на внутренней стороне входной двери, виднеются надписи, похожие на граффити. Твоя жена, она тащит по полу наволочку, набитую ценной добычей, и видит их – видит слова на входной двери. Карандашные отметины, имена и даты на белой краске. Они начинаются на высоте колен и поднимаются все выше и выше, темные ровные черточки, рядом с каждой – имя и число:
Табби, пять лет.
Табби, которой сейчас двенадцать, с ее боковыми периорбитальными морщинами вокруг глаз, с «гусиными лапками» от слез.
Или: Питер, семь лет.
Это ты, семилетний. Маленький Питер Уилмот.
Там написано: Грейс, шесть лет, восемь лет, двенадцать лет. Надписи поднимаются до: Грейс, семнадцать. Грейс с ее дряблым зобом подбородочного жира и глубокими платизмальными тяжами на шее.
Звучит знакомо?
Что-нибудь вспомнилось? Нет?
Эти карандашные строчки, гребень приливной волны. Годы: 1795… 1850… 1979… 2003. Раньше карандаши были тонкими палочками из воска, смешанного с сажей. Их обматывали бечевкой, чтобы не пачкать руки. А еще раньше – просто зарубки и инициалы, вырезанные в плотном дереве и белой краске на двери.
Некоторые из имен на двери тебе незнакомы. Герберт, Каролайн и Эдна, незнакомцы, которые жили здесь, выросли здесь и ушли навсегда. Младенцы, потом дети, юноши и девушки, взрослые люди, а потом мертвецы. Твои кровные родственники, твоя семья, но незнакомцы. Твое наследие. Ушедшие, но не ушедшие. Забытые, но по-прежнему здесь. В ожидании, что их обнаружат.
Твоя бедная женушка, она стоит перед дверью, глядя на имена и на даты в последний раз. Ее имени здесь нет. Бедненькая Мисти Мэри из белых отбросов, с ее красными, в цыпках руками и розовым скальпом, проглядывающим сквозь волосы.
Вся эта история и традиция, которые, как ей казалось, будут ее защищать. Оградят от всего нехорошего, навсегда.
Ситуация не типичная. Мисти не алкоголичка. Если кто-то нуждается в напоминании: у нее сильный стресс. Ей уже, на хрен, сорок один, и теперь у нее нет мужа. Нет диплома о высшем образовании. Никакого реального опыта работы, если не считать, как она драит сортиры… нижет бусы из клюквы для рождественской елки в доме Уилмотов… У нее есть только ребенок и свекровь, которых надо содержать. Сейчас полдень, и у нее остается четыре часа, чтобы убрать все ценное в доме. Фарфор, картины, столовое серебро. Все, что нельзя доверять квартиранту.
Твоя дочь, Табита, спускается вниз. Ей двенадцать, и она несет только маленький чемоданчик и обувную коробку, стянутую резинками. Никакой зимней одежды, никаких теплых ботинок. Она собрала только полдюжины сарафанов, несколько пар джинсов, купальник. Босоножки и кроссовки, которые сейчас на ней.
Твоя жена, она хватает старинную модель корабля, паруса закостеневшие и пожелтевшие, снасти тонкие, как паутинка. Она говорит:
– Табби, ты же знаешь, что мы не вернемся.
Табита стоит в прихожей и пожимает плечами. Она говорит:
– Ба сказала, вернемся.
Ба – так она называет Грейс Уилмот. Свою бабушку, твою мать.
Твоя жена, твоя дочь, твоя мать. Три женщины в твоей жизни.
Заталкивая в наволочку подставку для тостов из чистого серебра, твоя жена кричит:
– Грейс!
Слышен лишь рев пылесоса где-то в глубине дома. В малой гостиной. Может быть, на веранде.
Твоя жена тащит наволочку в столовую. Хватая хрустальное блюдо для костей, твоя жена кричит:
– Грейс, нам надо поговорить! Сейчас же!
Там, на двери, имя «Питер» поднимается на высоту, которую помнит твоя жена: чуть выше места, куда она дотягивается губами, стоя на цыпочках в черных туфлях на шпильках. Там написано: «Питер, восемнадцать лет».
Другие имена, Уэстон, Дороти и Элис, поблекли на двери. Испачканы отпечатками пальцев, но не закрашены. Бессмертные. Реликвии. Наследие, которое она бросает.
Пытаясь провернуть ключ в замке на дверце буфета, твоя жена запрокидывает голову и кричит:
– Грейс!
Табби говорит:
– Что не так?
– Да этот ключ, чтоб его, – говорит Мисти. – Не открывает.
И Табби говорит:
– Дай я посмотрю.
Она говорит:
– Мам, расслабься. Это ключ для завода напольных часов.
Где-то в доме смолкает рев пылесоса.
Снаружи по улице едет машина, едет тихо и медленно, водитель подался вперед, чуть не лежит на руле. Его темные очки сдвинуты на лоб, он тянет шею, вертит головой, ищет место, где припарковаться. На боку его автомобиля написано по трафарету: «Силбер Интернешнл – Выходи за пределы себя».
Ветер приносит с пляжа бумажные салфетки, пластиковые стаканчики и слово «бля», положенное на танцевальную музыку.
Рядом с парадной дверью встает Грейс Уилмот, пахнущая лимонным маслом и мастикой для пола. Седые приглаженные волосы на макушке чуть-чуть недотягивают до отметки, каким был ее рост в пятнадцать лет. Вот доказательство, что она усыхает. Можно взять карандаш и отметить ее новый рост. Обозначить его: «Грейс, семьдесят два года».
Твоя бедная обозленная женушка смотрит на деревянный этюдник в руках у Грейс. Светлое дерево под пожелтевшим лаком, с медными уголками и шарнирными петлями, потускневшими почти до черноты, у этюдника есть раскладные ножки, если их разложить, он превратится в мольберт.
Грейс протягивает ей этюдник и говорит:
– Он тебе пригодится. – Она встряхивает этюдник. Внутри гремят затвердевшие кисти, старые тюбики с засохшей краской и сломанные пастельные мелки. – Когда ты снова начнешь рисовать.
Грейс говорит:
– Когда придет время.
И твоя жена, которой сейчас недосуг затевать скандал, она говорит:
– Оставь его здесь.
Питер Уилмот, твоя мать – совершенно никчемное существо.
Грейс улыбается и широко раскрывает глаза. Она поднимает этюдник повыше и говорит:
– Ты же об этом мечтала!
Ее брови подняты, мышца, сморщивающая бровь, выполняет свою работу, и Грейс говорит:
– Ты же с детства мечтала о том, что будешь рисовать.
Мечта каждой девчонки, учащейся в художке. Где вам расскажут о восковых карандашах, анатомии и морщинах.
Бог его знает, зачем Грейс Уилмот затеяла уборку. Им сейчас надо готовиться к переезду, собирать вещи. Этот дом: твой дом, где столовые приборы из чистого серебра, вилки и ложки по размерам сравнимы с садовым инвентарем. Над камином в столовой – портрет маслом кого-то из ныне почивших Уилмотов. В подвале – сверкающий ядовитый музей окаменевших варений и конфитюров, антикварных домашних вин, груш, застывших в янтарном сиропе еще с позапрошлого века. Липкий осадок богатства и свободного времени.
Из всех бесценных предметов, оставленных в доме, вот что мы спасаем. Старый хлам. Памятные вещицы. Бесполезные сувениры. Ничего, что можно будет продать. Шрамы, оставшиеся от счастья.
Вместо того, чтобы упаковать что-то ценное, что-то, что можно продать за хорошую цену, Грейс берет этот старый этюдник. Табби – свою обувную коробку, набитую дешевенькой бижутерией, аляповатыми брошками, кольцами и ожерельями. Выпавшие стразы и жемчужины перекатываются на дне коробки. Коробки, полной острых ржавых булавок и битого стекла. Табби встает рядом с Грейс. У нее за спиной, вровень с ее макушкой, написано: «Табби, двенадцать лет», – и проставлен нынешний год, розовым флуоресцентным фломастером.
Дешевенькая бижутерия, бижутерия Табби, она принадлежала этим именам на двери.
Грейс взяла с собой только дневник. Ее дневник в красном кожаном переплете и несколько комплектов легкой летней одежды: пастельных тонов свитера ручной вязки и плиссированные шелковые юбки. Дневник закрывается на маленький медный замочек. Красная кожа на переплете потрескалась. Надпись «Дневник» на обложке выполнена золотым тиснением.
Грейс Уилмот, вечно она донимает твою жену, чтобы та завела дневник.
Грейс говорит, когда ты снова начнешь рисовать?
Грейс говорит, съезди в больницу. Тебе надо бывать там почаще.
Грейс говорит, улыбайся туристам.
Питер, твоя бедная женушка, это хмурое чудище, она смотрит на твоих мать и дочь, смотрит и говорит:
– Ровно в четыре. В четыре часа мистер Делапорт придет за ключами.
Это уже не их дом.
Твоя жена говорит:
– Большая стрелка – на двенадцати, маленькая – на четырех. Все, что вы не упакуете к этому времени или не спрячете под замок, – больше вы этого не увидите.
Мисти Мэри, в ее бокале осталось еще как минимум два глотка. Она видит, как он стоит на столе в столовой, и словно видит ответ. Видит счастье, утешение и покой. Как раньше ей виделся остров Уэйтенси.
Стоя у входной двери, Грейс улыбается и говорит:
– Еще никто из Уилмотов не покидал этот дом навсегда.
Она говорит:
– И никто из пришлых жильцов не задерживался здесь надолго.
Табби смотрит на Грейс и говорит:
– Ба, quand est-ce qu’on revient?[3]
И ее бабушка говорит:
– En trois mois[4], – и гладит Табби по голове. Твоя старая мать, совершенно никчемное существо, снова включает пылесос.
Табби открывает входную дверь, чтобы отнести чемоданчик в машину. В эту старую ржавую колымагу, провонявшую мочой ее папы.
Твоей мочой.
Твоя жена окликает ее:
– Что сейчас сказала бабушка?
Табби оборачивается к ней. Табби закатывает глаза и говорит:
– Господи! Мама, расслабься. Она сказала, что ты сегодня прекрасно выглядишь.
Табби врет. Твоя жена не идиотка. Ей известно, как она теперь выглядит.
То, что тебе непонятно, можно понять как угодно.
Потом, когда она вновь остается одна, когда ее никто не видит, твоя жена, миссис Мисти Мэри Уилмот, встает на цыпочки и тянется губами к двери. Ее пальцы прижаты к годам и предкам. Этюдник с мертвыми красками валяется у нее под ногами, она целует грязную дверь под твоим именем, где – она помнит – были бы твои губы.
1 июля
Просто для сведения: Питер, это очень паршиво, когда ты говоришь всем и каждому, что твоя жена – горничная в отеле. Да, может быть, два года назад она и работала горничной.
Но теперь она – заместитель начальника смены в столовой. Она «Работница месяца» в отеле «Уэйтенси». Твоя жена, Мисти Мэри Уилмот, мать твоей дочери Табби. Она почти получила диплом о высшем художественном образовании. Она участвует в выборах и платит налоги. Она – царица ебучих рабов, а ты – овощ с отмершим мозгом и трубкой в заднице, ты валяешься в коме, подключенный к дорогим аппаратам, которые поддерживают в тебе жизнь.
Милый мой Питер, ты не в том положении, чтобы называть кого-то тупой жирной коровой.
У людей, пребывающих в коме такого же типа, как у тебя, сокращаются все мышцы. Сухожилия стягиваются все туже и туже. Колени подтягиваются к груди. Руки складываются, прижимаются к животу. Возьмем твои стопы: икроножные мышцы сокращаются до тех пор, пока пальцы не сгибаются прямо вниз, так что на них больно смотреть. Возьмем твои кисти: пальцы тянет к ладоням, ногти вонзаются в запястья. Каждая мышца, каждое сухожилие усыхает, становится все короче. Мышцы спины, мышцы, выпрямляющие позвоночник, они усыхают и тянут голову назад, пока она почти не прикасается к заднице.
Ты что-нибудь чувствуешь?
Это ты, скрюченное, стянутое в узел убожество. Это к тебе Мисти ездит в больницу, тратя три часа на дорогу. Не считая парома. Это ты, коматозное уродство, за которое Мисти выходила замуж.
Это худшая часть ее дня, когда она все это пишет. Это твоей матери, Грейс, пришла в голову гениальная идея, чтобы Мисти вела дневник комы. Раньше так делали моряки и их жены, сказала Грейс, они вели дневники, в которых описывали каждый день их разлуки. Это давняя мореходная традиция. Традиция острова Уэйтенси. При встрече после долгих месяцев разлуки обменивались дневниками, чтобы наверстать упущенное. Как росли дети. Какая была погода. Записи обо всем. Все каждодневное дерьмо, которым вы с Мисти утомляли бы друг друга за ужином. Твоя мать сказала, что тебе это будет полезно, что это ускорит процесс твоего выздоровления. Однажды, даст Бог, ты откроешь глаза, заключишь Мисти в объятия и поцелуешь ее, свою любящую жену – и тебе выдадут этот дневник, все твои потерянные годы, любовно описанные до мельчайших подробностей, как рос твой ребенок, как тосковала по тебе жена, и ты сядешь под деревом со стаканом прохладного лимонада и с удовольствием все прочитаешь.
Твоей матери, Грейс Уилмот, ей надо очнуться от собственной комы.
Милый мой Питер. Ты что-нибудь чувствуешь?
Каждый из нас пребывает в своей личной коме.
Никто не знает, что ты сможешь вспомнить из прошлой жизни. Не исключен и такой вариант, что вся твоя память стерта. Сгинула в Бермудском треугольнике. Твой мозг поврежден. Ты очнешься другим человеком. Другим, но таким же. Родившимся заново.
Просто для сведения: вы с Мисти познакомились в художественном институте. Она от тебя залетела, и вы вернулись на остров Уэйтенси, чтобы жить с твоей матерью. Если ты это помнишь, пропусти этот кусок. Переходи к следующему.
В художке не учат, что вся жизнь может закончиться, если ты забеременела.
Есть много способов покончить с собой, для этого не обязательно умирать.
Если ты вдруг забыл: ты мерзавец, каких поискать. Эгоистичный, ленивый, никчемный, бесхребетный кусок дерьма. Если ты вдруг не помнишь: ты завел свою блядскую машину в блядском гараже и попытался покончить с собой, задохнувшись от выхлопных газов, но нет, даже этого ты не смог сделать как надо. Можно было хотя бы проверить, полный ли у тебя бак.
Просто, чтобы ты знал, как погано ты выглядишь: когда человек лежит в коме больше двух недель, врачи называют это устойчивым вегетативным состоянием. Лицо у тебя распухает и наливается кровью. У тебя выпадают зубы. Если тебя не переворачивать каждые несколько часов, у тебя будут пролежни.
Сегодня уже сотый день, как ты сделался овощем.
Что касается груди Мисти, похожей на парочку дохлых карпов, – уж чья бы корова мычала.
Хирурги внедрили тебе в желудок зонд для искусственного кормления. Тебе в руку вставили тонкую трубку для измерения давления. Она измеряет количество кислорода и углекислого газа у тебя в артериях. Еще одна трубка вставлена в шею, чтобы измерять давление в венах, несущих кровь к сердцу. Тебе поставили катетер. Дренажная трубка, идущая между твоими легкими и реберным каркасом грудной клетки, выводит все жидкости, которые могут скопиться. Маленькие круглые электроды, прикрепленные к твоей груди, мониторят сердцебиение. Наушники у тебя на голове испускают звуковые волны для стимуляции ствола головного мозга. Трубка, засунутая тебе в нос, закачивает в тебя воздух из аппарата искусственного дыхания. Еще одна трубка, введенная в вену, заливает в тебя лекарства. Чтобы у тебя не высыхали глаза, их заклеили лейкопластырем.
Просто, чтобы ты знал, как ты за это расплатишься: Мисти дала обязательство отдать дом Сестрам милосердной заботы. Большой старый дом на Березовой улице, все шестнадцать акров, в ту секунду, когда ты умрешь, дом перейдет в собственность католической церкви. Сто лет драгоценной семейной истории – все достанется им.
Когда ты испустишь последний вздох, твоя семья станет бездомной.
Но не бойся, с аппаратом искусственного дыхания, зондом искусственного кормления и лекарствами в капельнице, ты не умрешь. Не умрешь, даже если захочешь. В тебе будут поддерживать жизнь, пока ты не превратишься в увядший скелет, подключенный к машинам, что прокачивают сквозь тебя воздух и витамины.
Мой дорогой, глупенький Питер. Ты что-нибудь чувствуешь?
К тому же, когда говорят «перекрыть кислород», это всего лишь фигура речи. Одним щелчком выключателя тут не обойдешься. В больнице наверняка есть аварийные генераторы, безотказная сигнализация, батареи электропитания, десятизначные секретные коды, пароли. Нужен специальный ключ, чтобы отключить аппарат искусственного дыхания. Нужно постановление суда, письменный отказ от претензий, присутствие пяти свидетелей, согласие трех врачей.
Так что не дергайся. Никто не перекроет тебе кислород, пока Мисти не придумает, как разгрести это дерьмо, в котором она оказалась твоими стараниями.
Если ты вдруг не помнишь: каждый раз, когда она приезжает к тебе в больницу, она надевает одну из тех старых дешевых брошек, что ты ей дарил. Она снимает брошку и держит булавку открытой. Булавка, конечно, протерта спиртом. Не дай Бог, у тебя останутся шрамы или ты подцепишь стафилококк. Медленно, очень медленно она втыкает булавкой тебе в предплечье, или ступню, или кисть. Пока булавка не упирается в кость или не выходит наружу с другой стороны. Если есть кровь, Мисти ее вытирает.
Это так трогательно.
В некоторые приезды в больницу она вонзает в тебя булавку не раз и не два. Она шепчет:
– Ты что-нибудь чувствуешь?
Не то чтобы в тебя никогда не вонзались булавки.
Она шепчет:
– Питер, ты еще жив. Как тебе это?
Тебе, пьющему свой лимонад и читающему эти строки под деревом дюжину лет спустя, сто лет спустя, тебе следует знать, что это лучший момент за все время, пока она сидит у тебя в палате: когда она вонзает в тебя булавку.
Мисти. Она отдала тебе лучшие годы жизни. Она тебе ничего не должна, кроме большого толстого развода. Глупый, дешевый мудила, ты собирался оставить ее с пустым бензобаком, как было всегда. Плюс к тому, ты оставил свои полные ненависти послания в стенах чужих домов. Ты обещал любить, почитать и беречь. Ты говорил, что сделаешь Мисти Мэри Клейнман знаменитой художницей, но оставил ее нищей, ненавидимой всеми и одинокой.
Ты что-нибудь чувствуешь?
Мой дорогой глупенький лжец. Твоя Табби шлет папе объятия и поцелуи. Через две недели ей будет тринадцать. Уже подросток.
Погода сегодня отчасти свирепая с периодическими вспышками ярости.
Если ты вдруг забыл: Мисти притащила тебе подбитые овчиной ботинки, чтобы у тебя не мерзли ноги. Тебе надели плотные ортопедические чулки, которые гонят кровь обратно к сердцу. Когда у тебя выпадают зубы, твоя жена их собирает.
Просто для сведения: она все еще тебя любит. Она бы не стала тебя истязать, если бы не любила.
Ты, мудила. Ты что-нибудь чувствуешь?
2 июля
Ладно, блин. Да.
Просто для сведения: Мисти отчасти сама виновата во всей этой хрени. Бедняжка Мисти. Мисти Мэри Клейнман. Маленький беспризорный продукт развода, чьей мамы почти никогда не бывало дома.
Все сокурсники в институте, все ее подружки с факультета изящных искусств, они говорили:
Не надо.
Нет, говорили подружки. Только не Питер Уилмот. Только не «вшивый Юпитер».
Восточная школа искусств, Академия изящных искусств в Мидоуз, Уилсонский художественный институт. По слухам, Питер Уилмот вылетел отовсюду.
Ты вылетел отовсюду.
Каждый художественный институт и колледж в одиннадцати штатах: Питер там числился, но не ходил на занятия. Его ни разу не видели в мастерской. Его родители наверняка были богаты, потому что он проучился почти пять лет, но так и не составил портфолио своих работ. Питер только заигрывал с девушками, постоянно. Питер Уилмот, у него были длинные черные волосы, и он все время ходил в старых вытянутых вязаных свитерах грязно-синего цвета. Шов на одном плече вечно расползался, нижний край свисал ниже ширинки.
Толстые, худые, молоденькие, пожилые – все без разбору, – Питер целыми днями слонялся по кампусу в своем замызганном синем свитере и флиртовал со студентками. Гадкий Питер Уилмот. Подружки Мисти, однажды они показали на него пальцем, на его свитер, начавший распускаться на локтях и по нижнему краю.
Твой свитер.
Петли разлезлись, и сквозь обвисшие дырки на спине проглядывала черная футболка Питера.
Твоя черная футболка.
Единственным отличием между Питером и бездомным психом на амбулаторном лечении с ограниченным доступом к воде и мылу были его украшения. Хотя, может, и нет. Это были старые, грязные брошки и ожерелья из стразов и поддельного жемчуга. Исцарапанные куски цветного стекла, которые Питер носил на груди, приколов к свитеру. Массивные бабушкины брошки. Каждый день разные. То большая вертушка из фальшивых изумрудов, то снежинка из надколотых стеклянных бриллиантов и рубинов. Проволочные детали позеленели от пота.
От твоего пота.
Дешевенькая бижутерия.
Просто для сведения: в первый раз Мисти встретила Питера на выставке работ первокурсников, где она с подружками рассматривала картину с изображением большого каменного дома. С одной стороны к дому была пристроена оранжерея, зимний сад с пальмами. В окнах виднелся рояль. И мужчина, читающий книгу. Частный маленький рай. Ее подружки хвалили картину, подбор цветов и все прочее, и вдруг кто-то сказал:
– Не оборачивайся. К нам идет вшивый Юпитер.
Мисти не поняла:
– Кто?
И кто-то сказал:
– Питер Уилмот.
А кто-то другой добавил:
– Не смотри ему в глаза.
Все ее подружки в один голос твердили: Мисти, не надо его поощрять. Каждый раз, когда в комнату заходил Питер, все женщины вдруг вспоминали, что им надо бежать по делам. Нет, от него не воняло, но все равно почему-то хотелось отойти от него подальше. Он не пялился ни на чьи сиськи, но большинство женщин в его присутствии все равно скрещивали руки на груди. Наблюдая за всякой женщиной, говорящей с Питером Уилмотом, можно было заметить, как ее лобная мышца сминает кожу на лбу в морщины – верный признак испуга. Полуопущенные верхние веки Питера застывали в прищуре, как будто он злился, а не искал, в кого бы влюбиться.
А потом все подружки Мисти, в тот вечер в галерее, они бросились врассыпную.
И Мисти осталась один на один с Питером, с его сальными волосами, и растянутым свитером, и старинной дешевенькой бижутерией. Он стоял, уперев руки в боки, и раскачивался на каблуках. Глядя в упор на картину, он сказал:
– Ну так что?
Не глядя на Мисти, он сказал:
– Тоже струсишь и убежишь, как твои сладенькие подружки?
Он сказал это, выпятив грудь. Его верхние веки застыли в прищуре, нижняя челюсть задвигалась. Зубы заскрежетали. Он развернулся и так тяжело привалился спиной к стене, что картинка рядом с ним покосилась. Он стоял, прижимаясь плечами к стене и держа руки в передних карманах джинсов. Питер закрыл глаза и сделал глубокий вдох. Потом медленно выпустил воздух, открыл глаза и сказал, глядя на Мисти в упор:
– Ну, и что скажешь?
– О картине? – сказала Мисти. Старый каменный дом. Она протянула руку и поправила покосившуюся картину.
Питер посмотрел вбок, не поворачивая головы. Он посмотрел на картину возле его плеча и сказал:
– Я рос по соседству с этим домом. Парень с книжкой – это Бретт Питерсен.
А потом он сказал очень громко, чересчур громко:
– Выйдешь за меня замуж?
Так Питер сделал ей предложение.
Так ты сделал ей предложение. В первый раз.
Все говорили, он вырос на острове. Остров Уэйтенси, настоящий музей восковых фигур, где старые добрые островные семейства знают свою родословную вплоть до времен Мейфлауэрского соглашения. Где старые добрые семейные древа сплелись ветвями, и теперь каждый с каждым в родстве. Где уже две сотни лет никому не приходится покупать столовое серебро. Они каждый день ели мясо, за каждой трапезой, и все сыновья этих древних почтенных родов, похоже, носили все те же дешевые затасканные украшения. Это вроде как местная мода. Их старые каменные дома возвышались на Дубовой, Можжевеловой, Ивовой улицах, картинно побитые соленым воздухом.
Даже все их золотистые ретриверы приходились друг другу родней.
Люди говорили, что на острове Уэйтенси все было музейного качества. Старомодный паром, вмещавший шесть автомобилей. Три квартала кирпичных зданий на Платановой улице, бакалейная лавка, библиотека в старой часовой башне, торговые ряды. Белая дощатая обшивка и широкие веранды старого, ныне закрытого отеля «Уэйтенси». Церковь Уэйтенси, сплошь гранит и витражные стекла.
Там, в институтской галерее, на Питере была брошь в виде круга из грязных синих стекляшек с еще одним кругом, из поддельных жемчужин, внутри. Нескольких синих камней не хватало, пустые гнезда щетинились острыми зубчиками. Металл – серебро, но погнутое и почерневшее. Острие длинной булавки, торчавшее из-под края, было покрыто прыщами ржавчины.
Питер держал в руке большую пластмассовую кружку пива с логотипом какой-то спортивной команды. Он поднес кружку к губам, сделал глоток и сказал:
– Если ты не собираешься за меня замуж, то и нет смысла тебя приглашать на обед, верно?
Он посмотрел в потолок, потом перевел взгляд на Мисти и сказал:
– Я считаю, такой подход экономит всем хренову тучу времени.
– Вообще-то, – сказала ему Мисти, – этого дома не существует. Я его выдумала.
Сказала Мисти тебе.
И ты сказал:
– Ты помнишь этот дом, потому что он так и живет в твоем сердце.
И Мисти сказала:
– Млядь, откуда ты знаешь, что живет в моем сердце?
Большие каменные дома. Мох на деревьях. Океанские волны, что плещут и бьются о берег под утесами, нависшими над водой. Вот что живет в маленьком жалком сердечке девчонки из белых отбросов.
Может быть, потому, что Мисти осталась стоять на месте, может быть, потому, что она была толстой и одинокой и не убежала, как все остальные, ты глянул на брошь у себя на груди и улыбнулся. Ты посмотрел на нее, на Мисти, и сказал:
– Нравится?
И Мисти сказала:
– Она старинная?
И ты сказал:
– Надо думать.
– Что это за камни? – спросила она.
И ты сказал:
– Синие.
Чтобы ты знал: было очень непросто влюбиться в Питера Уилмота. В тебя.
Мисти сказала:
– Откуда она у тебя?
И Питер легонько качнул головой, улыбаясь в пол. Он пожевал свою нижнюю губу. Прищурившись, оглядел галерею, тех немногих людей, что еще там оставались, посмотрел на Мисти и сказал:
– Обещай, что не испугаешься, если я тебе кое-что покажу.
Она оглянулась на своих подружек; они стояли у какой-то картины на другом конце зала, но наблюдали за ними.
И Питер прошептал, не отрывая задницы от стены, он наклонился к Мисти и прошептал:
– Художник должен страдать, чтобы творить настоящее искусство.
Просто для сведения: Питер однажды спросил у Мисти, знает ли она, почему ей нравится то искусство, которое нравится. Почему жуткая батальная сцена вроде «Герники» Пикассо может быть невероятно прекрасной, а картина с двумя единорогами, целующимися в цветнике, может быть совершенно никчемной херней.
Хоть кто-нибудь знает, почему ему нравится то, а не это?
Почему люди делают то, а не это?
Там, в галерее, под пристальным взглядом подружек, одна из выставленных работ должна была быть картиной Питера. И Мисти сказала:
– Да. Покажи мне настоящее искусство.
И Питер отхлебнул пива и вручил ей кружку. Он сказал:
– Помни. Ты обещала.
Он схватился двумя руками за обтрепанный подол своего свитера и поднял его вверх. Так раздвигается занавес. Сбрасываются покровы. Показался тощий живот с тонкой дорожкой волос, тянущейся посередине. Потом – пупок. Затем – два розовых соска в обрамлении жидких волосков.
Свитер остановился, закрыв лицо Питера, и один из сосков приподнялся, вытянулся длинной каплей: покрытый струпьями, красный, прилипший к изнанке старого свитера.
– Смотри, – сказал из-под свитера голос Питера, – брошь приколота прямо к соску.
Кто-то вскрикнул, и Мисти резко обернулась к подружкам. Пластмассовая кружка выпала у нее из рук и грохнулась на пол, взорвавшись пивом.
Питер опустил свитер и сказал:
– Ты обещала.
Это была она, Мисти. Ржавая булавка протыкала сосок насквозь и выходила с другой стороны. Кожа вокруг прокола измазана кровью. Волоски на груди склеились от засохшей крови. Это была Мисти. Это она закричала.
– Я каждый день делаю новую дырку, – сказал Питер и наклонился, чтобы поднять кружку.
Он сказал:
– Чтобы каждый день чувствовать новую боль.
Теперь она видела: свитер вокруг брошки затвердел коркой темной засохшей крови. И все-таки это была художка. Мисти видела кое-что и пострашнее. Хотя, может, и нет.
– Ты, – сказала Мисти. – Ты псих ненормальный.
Без всякой причины, наверное, от потрясения, она рассмеялась и сказала:
– Нет, правда. Ты мерзкий.
Ее ступни в босоножках, липкие и облитые пивом.
Кто знает, почему нам нравится то, что нравится?
И Питер сказал:
– Ты когда-нибудь слышала о художнице Море Кинкейд?
Он крутанул брошку, приколотую к груди, чтобы она заискрилась под белым светом галерейных ламп. Чтобы она кровоточила.
– Или о школе живописи Уэйтенси? – сказал он.
Почему мы делаем то, что делаем?
Мисти опять оглянулась на своих подружек. Они смотрели на нее во все глаза, готовые прийти на помощь.
И она посмотрела на Питера и сказала:
– Меня зовут Мисти, – и протянула руку.
И очень медленно, по-прежнему глядя ей прямо в глаза, Питер поднес руку к броши и расстегнул застежку. Он поморщился, все его лицевые мышцы напряглись на секунду. Глаза зажмурились, накрепко сшитые ниточками морщин, и он вынул булавку из свитера. Из своей груди.
Из твоей груди. Испачканной твоей кровью.
Он защелкнул застежку и вложил брошь в ладонь Мисти.
Он сказал:
– Ну так что, выйдешь за меня замуж?
Его слова прозвучали как вызов, как повод для драки, как перчатка, брошенная к ее ногам. Подначка. Дуэль. Он пожирал Мисти глазами, ее волосы, ее грудь, ее ноги и руки, он смотрел так, словно Мисти Клейнман была для него всей оставшейся жизнью.
Мой милый Питер, ты что-нибудь чувствуешь?
И эта дурочка из трейлерного парка, она взяла брошь.
3 июля
Энджел просит сжать руку в кулак. Он говорит:
– Выпрямите указательный палец, как будто будете ковыряться в носу.
Он берет руку Мисти, ее выпрямленный указательный палец, и держит так, чтобы кончик вытянутого пальца прикоснулся к черной краске на стене. Он ведет ее пальцем по буквам, написанным черной аэрозольной краской, по обрывкам фраз и каракулям, по потекам и пятнам. Он говорит:
– Чувствуете что-нибудь?
Просто для сведения: эти двое – мужчина и женщина, стоящие близко друг к другу в маленькой темной комнате. Они залезли сюда ползком через дыру в стене, а домовладелица ждет снаружи. Просто тебе на будущее: на Энджеле – коричневые обтягивающие кожаные штаны, которые пахнут, как крем для обуви. Как кожаные сиденья в автомобиле. Как твой бумажник, пропитавшийся потом в заднем кармане после долгой поездки на летней жаре. Этот запах. Мисти всегда притворялась, что он ее бесит, и именно так пахнут кожаные штаны Энджела Делапорта, прижатые к ней.
Время от времени домовладелица, ожидающая снаружи, пинает стену и кричит:
– Эй! Чем вы там занимаетесь?
Погода сегодня теплая и солнечная, с редкими облачками, разбросанными по небу, и некая домовладелица позвонила из Плезант-Бич, чтобы сообщить, что она отыскала свой пропавший столовый уголок, и пусть кто-нибудь к ней приедет на это взглянуть, лучше бы прямо сейчас. Мисти позвонила Энджелу Делапорту, и он встретил ее на паромном причале, чтобы ехать вместе. Он захватил с собой фотоаппарат и сумку, набитую пленкой и съемными объективами.
Энджел, если ты помнишь, живет в Оушен-Парке. Вот подсказка: Ты замуровал его кухню. Он говорит, что в твоих строчных «т» первая дуга больше второй – верный признак того, что свое личное мнение ты ценишь выше общественного. На конце твоих строчных «н», «т» и «п» часто нет «хвостика» вправо – просто прямая черта – это значит, что ты не желаешь идти на компромисс. Это графология, настоящая наука, говорит Энджел. После того как он увидел твои записки в его исчезнувшей кухне, ему захотелось взглянуть на другие дома.
Просто для сведения: он говорит, нижние петельки в твоих строчных «у» тянет влево. Это значит, что ты очень сильно привязан к своей матери.
И Мисти сказала ему, что в этом он прав.
Энджел с Мисти, они доехали до Плезант-Бич, и женщина отворила им дверь. Она посмотрела на них, запрокинув голову: глаза скошены к носу, подбородок выдвинут вперед, губы сжаты в тонкую линию, челюсти стиснуты, обе жевательных мышцы – как маленькие кулачки. Она посмотрела на них и сказала:
– А что, Питер Уилмот поленился приехать лично?
Эта маленькая мышца, что проходит от нижней губы к подбородку – подбородочная мышца, – напрягалась так сильно, что подбородок у этой женщины был как будто изрыт миллионом крошечных ямочек, и она сказала:
– С самого утра мой муж беспрестанно полощет рот.
Мышца, сморщивающая бровь, подбородочная мышца, все эти маленькие лицевые мышцы – на анатомии для художников их изучают в первую очередь. После этого ты запросто отличишь искреннюю улыбку от фальшивой, потому что мышца смеха и подкожная мышцы шеи тянут нижнюю губу вниз и в стороны, распрямляя ее и открывая нижние зубы.
Просто для сведения: умение распознавать, когда люди лишь притворяются, что ты им нравишься, оно не такое уж и полезное.
Женщина провела их в кухню. Там желтые обои содраны со стены вокруг дыры у пола. Желтый кафельный пол покрывают газеты и белая гипсовая пыль. На полу стоит большой пластиковый пакет, набитый обломками гипсокартона. Из пакета свисают кудрявые ленты рваных обоев. Желтых обоев, в мелкие оранжевые подсолнухи.
Женщина встала рядом с дырой, скрестив руки на груди. Она кивнула на дыру и сказала:
– Оно там.
Монтажники-высотники, сказала ей Мисти, они непременно привяжут ветку дерева к самой высокой точке нового небоскреба или моста, чтобы отпраздновать, что на стройке никто не погиб. Или чтобы принести процветание новому зданию. Это у них называется «дерево на макушку». Диковинная традиция.
Строители, они вообще суеверные люди.
Мисти сказала домовладелице, чтобы та не беспокоилась.
Ее мышца, сморщивающая бровь, сводит брови над переносицей. Ее levator labii superioris поднимает верхнюю губу в презрительной ухмылке и раздувает ей ноздри. Ее depressor labii inferioris опускает нижнюю губу, обнажая нижние зубы, и она говорит:
– Это вам следует побеспокоиться.
Там, в дыре, темная маленькая комнатушка, обрамленная с трех сторон желтыми встроенными скамейками наподобие ресторанной кабинки без столика. Домовладелица называет ее столовым уголком. Скамейки обтянуты желтым винилом, на стенах – желтые обои. Поверх всего этого идут черные надписи, сделанные аэрозольной краской, и Энджел ведет руку Мисти по желтой стене, где написано:
«…спасем наш мир, перебив эту армию захватчиков…»
Это черная краска Питера, его обрывочные предложения и закорючки. Его каракули. Краска петляет поверх вставленных в рамки картин, кружевных подушек, желтых виниловых сидений. На полу – пустые баллончики из-под краски с черными отпечатками ладоней Питера. Отпечатки измазанных в краске пальцев, они по-прежнему сжимают каждый баллончик.
Слова, написанные черной краской, тянутся поверх картин в рамках, маленьких картинок с птичками и цветочками. Поверх кружевных декоративных подушек. Слова разбегаются в разные стороны по всей комнате, по кафельному полу, по потолку.
Энджел говорит:
– Дайте мне руку.
Он сгибает ее пальцы в кулак, так что лишь указательный палец остается прямым. Энджел прикладывает палец Мисти к черной надписи на стене и заставляет ее обводить каждое слово.
Его рука, стиснувшая ее руку, направляющая ее палец. Черные потеки пота вокруг ворота и под мышками его белой футболки. Винные пары его дыхания, увлажняющие шею Мисти. Взгляд Энджела, прикованный к ней, глядящей на черные слова на стене. Вот ощущение, создаваемое этой комнатой.
Энджел прижимает ее палец к стене, заставляет ее прикасаться к словам, обводить каждое слово. Он говорит:
– Вы чувствуете, что чувствовал ваш муж?
Как утверждают графологи, если ты обведешь указательным пальцем чьи-то надписи, сделанные от руки, может быть, даже не пальцем, а деревянной ложкой или палочкой для еды, если ты просто напишешь поверх уже написанных слов, ты почувствуешь в точности то же, что чувствовал тот человек, когда делал запись. Надо тщательно изучить силу нажима и скорость письма, чтобы нажимать с той же силой, с какой нажимал автор записи. И писать с той же скоростью, с какой, как тебе кажется, писал он. Энджел говорит, это похоже на принцип перевоплощения по методу Станиславского. Он говорит, Константин Станиславский создал целую систему актерской игры.
Определение характера человека по почерку и система Станиславского, Энджел говорит, они обрели популярность одновременно. Станиславский изучал труды Павлова и его слюнявой собаки и работы нейрофизиолога И. М. Сеченова. Еще раньше Эдгар Аллан По изучал графологию. Все пытались связать физиологию с эмоциями. Тело с разумом. Реальность с воображением. Этот мир с миром иным.
Сдвигая палец Мисти по стене, он заставляет ее обводить слова:
«…вы как потоп, с вашим бездонным голодом и неуемными запросами…»
Энджел говорит шепотом:
– Если эмоция может породить действие, значит, повторением этого действия можно воссоздать эмоцию.
Станиславский, Сеченов, По, все искали научный метод производить чудеса по запросу, говорит он. Способ для бесконечного воспроизводства случайного. Конвейер для разработки и изготовления спонтанного.
Мистика вкупе с промышленной революцией.
Как пахнет тряпица, которой ты чистил ботинки, – именно так пахнет вся эта комната. Как внутренняя сторона кожаного ремня. Бейсбольная перчатка. Собачий ошейник. Слабый уксусный запах твоего потного ремешка для часов.
Свист дыхания Энджела, влага от его шепота на щеке Мисти. Его рука, обхватившая ее руку, крепкая и твердая, как капкан. Его ногти вонзаются в кожу Мисти. И Энджел говорит:
– Почувствуйте. Почувствуйте и скажите мне, что чувствовал ваш муж.
Слова на стене:
«…ваша кровь – наше золото…»
Именно так чтение превращается в пощечину.
Снаружи, с той стороны дыры, домовладелица что-то говорит. Она стучит в стену и говорит, теперь громче:
– Не знаю, что там у вас за дело, но лучше бы вы его делали.
Энджел шепчет:
– Читайте вслух.
Слова на стене:
«…вы как чума, волочащая за собой свою порчу и мусор…»
Заставляя твою жену обводить пальцем каждую букву, Энджел шепчет:
– Читайте вслух.
И Мисти говорит:
– Нет.
Она говорит:
– Это бред сумасшедшего.
Крепко держа ее руку, Энджел ведет по стене ее пальцем и говорит:
– Это просто слова. Вам ничто не мешает прочесть их вслух.
И Мисти говорит:
– Они злые. В них нет смысла.
Слова на стене:
«… забивают всех вас, словно жертвенное подношение, каждое четвертое поколение…»
Кожа Энджела вокруг ее пальцев – теплая и тугая.
Он шепчет:
– Тогда почему вы приехали на них посмотреть?
Слова на стене:
«… толстые ноги моей жены оплетены варикозными венами…»
Толстые ноги твоей жены.
Энджел шепчет:
– Зачем было тащиться в такую даль?
Затем, что ее милый глупенький муж, он не оставил предсмертной записки.
Затем, что, как оказалось, она совершенно его не знала.
Затем, что она хочет понять, кем он был. Она хочет выяснить, что случилось.
Мисти говорит Энджелу:
– Я не знаю.
Подрядчики старой закалки, говорит она ему, они никогда не приступят к строительству нового дома в понедельник. Только в субботу. После закладки фундамента на него бросят горсть ржаных зерен. Если через три дня зерна не прорастут, можно строить дом дальше. Где-нибудь обязательно спрячут старую Библию: под полом или в стене. Одну стену всегда оставляют некрашеной – до приезда хозяев, – чтобы дьявол не прознал, что дом закончен, пока в нем уже не поселятся люди.
Из бокового кармана сумки, где лежат объективы и пленка, Энджел достает что-то плоское и серебристое, размером с книжку в бумажной обложке. Что-то квадратное и блестящее, металлическая фляжка, изогнутая кривым зеркалом, так что твое отражение на вогнутой стороне получается худым и высоким. Отражение в выпуклой стороне получается толстым и низеньким. Энджел передает фляжку Мисти. Фляжка тяжелая, гладкая, с круглой крышкой. Внутри что-то плещется. Сумка, где лежат объективы и пленка, сшита из грубой серой ткани и покрыта застежками-молниями.
На худой и высокой стороне фляжке выгравирована надпись: Энджелу – Te Amo.
Мисти говорит:
– А вы? Зачем вам было тащиться в такую даль?
Когда она берет фляжку, их пальцы соприкасаются. Физический контакт. Флирт.
Просто для сведения: погода сегодня местами сомнительная, есть вероятность измены.
Энджел говорит:
– Это джин.
Крышка отвинчивается и отводится в сторону на маленькой скобе, которой крепится к фляжке. То, что внутри, пахнет не зря проведенным временем, и Энджел говорит:
– Угощайтесь.
Все худое высокое отражение Мисти в блестящем металле заляпано отпечатками его пальцев. Сквозь дыру в стене видны ноги домовладелицы в замшевых туфлях. Энджел переставляет сумку, и она закрывает дыру.
Где-то там, за пределами комнаты, слышен плеск океанских волн. Волны плещут и бьются о берег. Плещут и бьются о берег.
Как утверждают графологи, в почерке каждого человека проявляются три составляющие его личности. Все, что опускается ниже строки, например, нижние петельки строчных «у», это намеки на подсознание. То, что Фрейд называл нашим идом. Наши животные, низменные инстинкты. Если петельки выгнуты вправо, это значит, что ты устремлен в будущее и в мир вне себя. Если петельки выгнуты влево, это значит, что ты застрял в прошлом и погрузился в себя.
Как ты пишешь, как ходишь по улицам, вся твоя жизнь проявляется в каждом физическом действии. Как ты держишь спину, говорит Энджел. Все, что ты делаешь, это искусство. Каждым действием ты выбалтываешь историю своей жизни.
Джин во фляжке – хороший джин, прохладный и нежный, он ощущается всем горлом.
Энджел говорит, начертание высоких букв, всех элементов, что поднимаются выше обычных строчных «е» или «л», в них проявляется наше высокое духовное «я». Твое суперэго. Твои строчные «б», твои закорючки над «й», они выявляют, к чему ты стремишься и кем хочешь стать.
Все, что находится посередине, большинство твоих строчных букв, в них выражается наше эго. Какими бы ни были эти буквы: заостренными, тесно прижатыми друг к другу или широко расставленными и округлыми, – в них выражаешься обыкновенный, житейский ты.
Мисти отдает фляжку Энджелу, и он отпивает глоток.
Он говорит:
– Так вы что-нибудь чувствуете?
Слова Питера на стене:
«…вашей кровью мы сохраняем наш мир для следующих поколений…»
Твои слова. Твое искусство.
Пальцы Энджела разжимаются, отпускают ее руку. Они теряются в темноте, и становится слышно, как открываются «молнии» на сумке. Коричневый запах кожи отступает от Мисти, раздается щелчок, сверкает вспышка, и еще раз, и еще. Энджел делает снимки. Он подносит фляжку к губам, и отражение Мисти скользит вверх-вниз по металлу в его руке.
Мисти ведет пальцем по стенам, где написано:
«…Я свое дело сделал. Я ее нашел…»
Там написано:
«…убивать – не мое дело. Палач – она…»
Чтобы правильно изобразить искаженное болью лицо, говорит Мисти, скульптор Бернини делал наброски своего собственного лица, пока жег себе ногу свечой. Когда Жерико писал «Плот “Медузы”», он ходил в госпиталь и зарисовывал лица умирающих. Он приносил в мастерскую их отрезанные головы и руки и наблюдал, как меняет цвет кожа, когда гниет.
Стена грохочет. Потом грохочет опять, гипсокартон и краска дрожат под рукой Мисти. Домовладелица с той стороны пинает стену еще раз, и картины в рамочках, все цветочки и птички, стучат по желтым обоям. По каракулям черной краски. Она кричит:
– Можете передать Питеру Уилмоту, что он сядет в тюрьму.
Где-то там, за пределами комнаты, океанские волны плещут и бьются о берег.
Все еще обводя пальцем твои слова, пытаясь почувствовать то же, что чувствовал ты, Мисти говорит:
– Вы когда-нибудь слышали о местной художнице Море Кинкейд?
Из-под фотоаппарата Энджел говорит:
– Так, кое-что, – и делает снимок.
Он говорит:
– Кажется, эта Кинкейд как-то связана с синдромом Стендаля?
И Мисти отпивает еще глоток, жгучий глоток, со слезами в глазах. Она говорит:
– Она от него умерла?
Продолжая отщелкивать снимки, Энджел глядит на нее через камеру и говорит:
– Посмотрите сюда.
Он говорит:
– Что вы там говорили об анатомии для художников? Изобразите-ка мне настоящую улыбку.
4 июля
Просто, чтобы ты знал: это так мило. Сегодня День независимости, и отель переполнен. На пляже не протолкнуться. В вестибюле собрались летние люди, просто толпятся и ждут, когда на материке начнут запускать фейерверк.
Твоя дочь, Табби, она заклеила себе глаза кусочками малярного скотча. Слепая, она пробирается по вестибюлю на ощупь. От камина до регистрационной стойки она шепчет:
– …восемь, девять, десять…
Считает шаги от одной вехи к другой.
Эти летние чужаки, они испуганно вздрагивают, когда к ним прикасаются ее незрячие руки. Они натянуто ей улыбаются и отходят в сторонку. Эта девочка в выцветшем сарафане в розово-желтую клетку, ее темные волосы подвязаны желтой лентой, она идеальный ребенок острова Уэйтенси. Вся – розовая помада и лак для ногтей. Играет в какую-то милую старомодную игру.
Она проводит ладонями по стене, ощупывает картину в рамке, прикасается к книжному шкафу.
За окнами вестибюля – вспышка и грохот. Фейерверки запущены с материка, летят по дуге прямо к острову. Как будто отель под обстрелом.
Вихри желтого и оранжевого огня. Взрывы алого пламени. Синие и зеленые искры. Грохот всегда чуть запаздывает, как гром после молнии. Мисти подходит к дочери и говорит:
– Солнышко, уже началось.
Она говорит:
– Открой глаза, посмотри.
Глаза Табби по-прежнему залеплены скотчем, и она говорит:
– Мне нужно выучить место, пока все здесь.
Продвигаясь на ощупь от одного незнакомца к другому, они все застыли и смотрят в небо, Табби считает шаги до парадной двери и веранды снаружи.
5 июля
На вашем первом настоящем свидании, на твоем с Мисти свидании, ты натянул для нее холст.
Питер Уилмот и Мисти Клейнман, у них свидание. Они сидят среди бурьяна на большом пустыре. Вокруг них вьются летние пчелы и мухи. Они сидят на расстеленном клетчатом пледе, который Мисти принесла из дома. Ее этюдник: светлое дерево под пожелтевшим лаком, с медными уголками и шарнирными петлями, потускневшими почти до черноты, – Мисти разложила ножки, и получился мольберт.
Если ты это помнишь, пропусти эту запись.
Если ты помнишь, сорняки были такими высокими, что тебе пришлось их притоптать, чтобы сделать гнездышко на солнце.
Был весенний семестр, и все студенты, похоже, носились с одной и той же идеей. Сплести проигрыватель компакт-дисков или компьютерный сервер из диких трав и тонких веточек. Из стручков и корешков. Весь кампус пропах резиновым клеем.
Никто не натягивал холсты, не писал пейзажи. Это было избито, неостроумно. Но Питер уселся на плед, расстеленный на траве. Питер расстегнул куртку и задрал подол своего мешковатого свитера. И там, под свитером, прильнувший к коже на животе и груди, был чистый холст, натянутый на подрамник.
Вместо солнцезащитного крема ты намазался угольным карандашом. Под глазами и на переносице. Большой черный крест посередине лица.
Если ты читаешь это сейчас, ты пробыл в коме Бог знает как долго. Этот дневник пишется не для того, чтобы нагонять на тебя скуку?
Когда Мисти спросила, зачем таскать холст под одеждой, засунув под свитер…
Питер сказал:
– Чтобы убедиться, что он помещается.
Ты так сказал.
Если ты помнишь, то сможешь припомнить и то, как жевал стебель травинки. Каким он был на вкус. Твои жевательные мышцы напрягались поочередно то с одной, то с другой стороны, когда ты гонял жвачку во рту. Одной рукой ты копался среди сорняков, подбирая кусочки гравия и комочки земли.
Все подружки Мисти, они плели свои глупые травы. Чтобы получилось подобие электроприбора, достаточно реалистичное, чтобы счесть его остроумным. И чтобы оно не расплелось. Если работа не обретет подлинный вид настоящего доисторического образца мультимедийных технологий, вся ирония пойдет насмарку.
Питер отдал ей чистый холст и сказал:
– Нарисуй что-нибудь.
И Мисти сказала:
– Сейчас никто не рисует. Уж точно не красками на холстах.
Если кто-то из ее знакомых еще рисовал, то вместо красок они использовали собственную кровь или сперму. А вместо холстов – живых собак из приюта для бездомных животных или вываленное из формочек желе.
И Питер сказал:
– Зуб даю, ты рисуешь. Красками на холстах.
– Почему? – сказала Мисти. – Потому что я темная и дремучая? Потому что я ни хрена не врубаюсь?
И Питер сказал:
– Млядь. Я тебя попросил что-нибудь нарисовать.
Им полагалось быть выше предметно-изобразительного искусства. Выше красивых картинок. Им полагалось учиться визуальному сарказму. Мисти сказала, что они слишком дорого платят за обучение, чтобы пренебрегать освоением техник эффективной иронии. Она сказала, что красивенькие картинки ничему не научат мир.