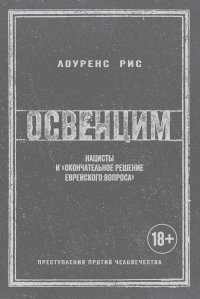
Читать онлайн Освенцим. Нацисты и «окончательное решение еврейского вопроса» бесплатно
- Все книги автора: Лоуренс Рис
Copyright © Laurence Rees 2005
© Ивахненко А., перевод на русский язык, 2013
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2018
КоЛибри®
В память о более чем миллионе мужчин, женщин и детей, погибших в Освенциме
Введение
Читать эту книгу очень тяжело, но я верю, что написал ее не зря. Не только по той простой причине, что, согласно опросам общественного мнения1, в сознании народа отсутствует единое представление об истинной истории Освенцима, но и потому, что, надеюсь, моя книга значительно отличается от предыдущих изданий на ту же тему.
Данное произведение стало своеобразным итогом пятнадцатилетней деятельности, во время которой я писал книги и снимал телепередачи о нацистах, и представляет собой попытку продемонстрировать, почему одно из ужаснейших преступлений в истории лучше всего понимается через призму одного конкретного места: Освенцима. В отличие от истории антисемитизма, у Освенцима есть четкая дата начала (первых заключенных-поляков доставили туда 14 июня 1940 года), и, в отличие от истории геноцида, у него также есть и четкая дата окончания (лагерь освободили 27 января 1945 года). Между этими двумя датами Освенцим прожил сложную и удивительную жизнь, во многом ставшую отражением хитросплетений расовой и этнической политики нацистов. Освенцим никогда не задумывался как лагерь по уничтожению евреев, а «окончательное решение еврейского вопроса» никогда не считалось единственной его задачей – хотя именно эта задача со временем стала главной. Кроме того, он постоянно физически изменялся, зачастую – в ответ на успехи или неудачи немецких военных действий на фронте. Освенцим, через свою разрушительную деятельность, стал физическим воплощением фундаментальных ценностей нацистского государства.
Изучение жизни Освенцима также предлагает нам не только возможность взглянуть на нацизм «изнутри»; оно дает нам шанс понять поведение человека в едва ли не самых экстремальных условиях за всю историю. И поняв его, мы сможем многое понять и о себе.
Эта книга появилась в результате уникального исследования – около сотни специально проведенных бесед с бывшими преступниками-нацистами и уцелевшими узниками лагеря. К тому же она опирается на сотни других интервью, которые я взял в рамках предыдущей работы над темой Третьего рейха, многие из них – с бывшими членами Национал-социалистической партии2. Польза от личных встреч и бесед с уцелевшими узниками и преступниками огромна. Они дают такую возможность заглянуть за кулисы, которую редко получаешь, работая исключительно с письменными источниками. Так, хотя я интересуюсь этим историческим периодом еще со школы, совершенно определенно могу сказать, что мой глубокий интерес к Третьему рейху зародился в один конкретный момент: в 1990 году, во время беседы с бывшим членом Национал-социалистической партии. Когда я работал над сценарием и ставил фильм о докторе Йозефе Геббельсе, то разговаривал с Вильфридом фон Овеном, который, как личный референт Геббельса, очень тесно работал с печально известным министром пропаганды нацистов. После официального интервью, за чашкой чая, я спросил этого умного и обаятельного человека: «Если бы вы могли одним словом подвести итог своих впечатлений от Третьего рейха, что бы вы сказали?» Герр фон Овен на минутку задумался, формулируя ответ, а я для себя решил, что в его ответе будет содержаться ссылка на ужасные преступления режима – преступления, которые он совершенно открыто признал, – и о том вреде, который нацизм нанес человечеству. «Что ж, – наконец, произнес он, – если бы я мог одним словом подвести итог своих впечатлений от Третьего рейха, то этим словом было бы слово – рай».
«Рай?» Это абсолютно противоречило всему, что я читал до этого в книгах по истории. И это слово совершенно не увязывалось с этим элегантным, даже изысканным мужчиной, сидевшим напротив меня, который, если уж на то пошло, не выглядел и не говорил так, как, по моему мнению, должен был выглядеть и говорить бывший нацист. Но «рай»? Как такое возможно, как он вообще мог произнести такое слово? Как любой разумный человек мог воспринимать Третий рейх, со всеми его зверствами, в таком ключе? Нет, правда: как такое возможно, что в двадцатом столетии жители Германии, культурной нации в самом сердце Европы, совершали подобные преступления? Вот, какие вопросы всплывали в моем мозгу в тот день, целую вечность тому назад, и до сих пор висят там тяжелым грузом.
В моих попытках ответить на эти вопросы мне помогли два удачных стечения обстоятельств. Первое из них заключалось в том, что я стал брать интервью у бывших нацистов как раз в тот момент, когда большинству из них откровенность ничем уже не угрожала. Лет пятнадцать назад, когда они еще занимали важные посты, были столпами общества, – они бы мне не ответили. Сегодня же большинство из них, включая обаятельного герра фон Овена, умерли.
На то, чтобы получить у них разрешение записать интервью, уходили месяцы, а иногда – и годы. Нам никогда не узнать, что перевешивало, убеждая того или иного человека позволить снять его на пленку. Но во многих случаях они четко понимали: чем ближе закат жизни, тем сильнее им хочется записать – включая все неприятные моменты – свой личный опыт, полученный в судьбоносное время; кроме того, они верили, что «Би-Би-Си» не станет извращать их слова. Я бы еще добавил: по моему мнению, только «Би-Би-Си» могло согласиться предоставлять нам необходимую поддержку для осуществления задуманного. Исследовательский период в этом проекте оказался столь долгим, что пойти на расходы в таких условиях могла себе позволить только государственная телерадиокомпания.
Вторым удачным стечением обстоятельств можно считать тот факт, что мой интерес совпал по времени с падением Берлинской стены и открытием границ со странами Восточной Европы. Тогда исследователи неожиданно получили доступ не только в архивы, но и к воспоминаниям конкретных, живых людей. Я снимал кино в Советском Союзе еще при коммунистическом режиме, в 1989 году, и в то время очень тяжело было убедить людей поговорить на тему истории их страны, не используя стандартные фразы из пропаганды. Теперь же, в 1990-х, словно прорвало плотину, и на волю хлынули долго подавляемые воспоминания и мнения. В Прибалтике мне доводилось слышать признания в том, что люди приветствовали нацистов как освободителей; в диких степях Калмыкии я из первых рук узнал об организованных Сталиным карательных депортациях целых народов; в Сибири я встречался с ветеранами, попадавшими в тюрьму дважды: один раз – по приказу Гитлера, второй – по приказу Сталина; а в деревеньке возле Минска я познакомился с женщиной, оказавшейся в самой гуще страшнейшей в современной истории партизанской войны – немного подумав, она сказала мне, что красноармейцы-партизаны были хуже нацистов. Все это глубоко скрываемое осуждение так и умерло бы, вместе с осуждающими и осужденными, если бы не падение коммунистического режима.
И есть еще кое-что, еще более пугающее, с чем мне пришлось столкнуться во время путешествия по новым свободным странам, от Литвы до Украины и от Сербии до Беларуси: злобный антисемитизм. Я догадывался, что встречусь с людьми, ненавидящими коммунистов – в новых условиях это было совершенно естественно. Но ненависть к евреям? Она казалась абсурдной, особенно потому, что в тех местах, которые я посетил, евреев практически не осталось – об этом позаботились Гитлер и нацисты. И тем не менее, старик в Прибалтике, помогавший нацистам расстреливать евреев в 1941 году, сейчас, 60 лет спустя, по-прежнему считает, что совершал благое дело. И даже кое-кто из тех, кто воевал с нацизмом, придерживался достаточно радикальных антисемитских взглядов. Я помню один вопрос, заданный мне украинским ветераном во время обеда. В молодости он храбро сражался в рядах партизан Украинской повстанческой армии, как с нацистами, так и с Советами, в результате чего подвергся гонениям. «Как вы относитесь, – спросил он меня, – к мнению о том, что существует международный заговор финансистов-евреев, действующих из Нью-Йорка и пытающихся уничтожить все нееврейские правительства?» На секунду я растерялся. Притом, что сам я не еврей, меня всегда шокирует откровенное проявление антисемитизма там, где этого никак ожидать нельзя. «Как я к этому отношусь? – наконец, произнес я. – Я считаю, что это полная ерунда». Старый партизан опрокинул рюмочку. «Правда? – уточнил он. – Вот, значит, что вы думаете. Интересно…»
Но больше всего меня шокировал тот факт, что подобные антисемитские настроения разделяет отнюдь не одно только старшее поколение. Я вспоминаю женщину у стойки регистрации «Литовских авиалиний», которая, узнав, что мы снимаем фильм о евреях, сказала: «Так значит, евреями интересуетесь? Главное, не забывайте: Маркс был евреем». Или еще один случай в Литве: военный, лет 25, показывал мне место массовых убийств евреев в 1941 году, один из фортов в Каунасе. Он сказал мне: «Знаете, вы не на ту тему кино снимаете. Дело не в том, что мы сделали с евреями. Дело в том, что евреи сделали с нами». Я ни в коем случае не хочу предположить, что абсолютно все – или даже большинство – жителей стран Восточной Европы, которые я посетил, придерживается подобных взглядов; однако меня беспокоит сам факт, что такая предубежденность высказывается так открыто.
Все это следует помнить тем, кто считает, что изложенное в моей книге не имеет никакого отношения к современной действительности. И об этом стоит поразмышлять верящим в то, что агрессивный антисемитизм был свойственен исключительно нацистам, или даже – одному только Гитлеру. Скажу прямо: миф о том, что преступление, состоявшее в истреблении евреев, было неким образом навязано немногими безумцами сопротивляющейся этому Европе, – один из самых опасных. Перед приходом нацистов к власти в Германии не было ничего «уникально истребительного» – если пользоваться громкими словами, модными в академической среде. Да и как иначе, если в 1920-х годах многие евреи Восточной Европы пытались скрыться от антисемитизма не где-нибудь, а в Германии?
Однако в самом менталитете нацистов есть нечто, по моему мнению, кардинально отличающее их от преступников, множившихся в других тоталитарных державах. Именно к такому выводу я пришел, когда закончил работу над тремя отдельными проектами о Второй мировой войне, каждый из которых вылился в отдельную книгу и документальный сериал: сначала The Nazis: A Warning from History, затем War of the Century – исследование войны между Сталиным и Гитлером, и наконец, Horror in the East – попытка понять японскую душу в 1930-х годах и Вторую мировую войну. Одним неожиданным последствием данного опыта стало то, что благодаря ему я (насколько могу судить) стал единственным человеком, который познакомился и побеседовал со значительным количеством преступников из всех трех основных тоталитарных держав времен Второй мировой войны: Германии, Японии и Советского Союза. И в результате такого опыта я могу утверждать следующее: нацистские преступники, с которыми я встречался, отличались от остальных.
В Советском Союзе атмосфера страха во времена правления Сталина была всеобъемлющей, в отличие от Германии времен правления Гитлера – по крайней мере, до последних дней войны. Рассказ одного бывшего советского военного летчика об открытых собраниях в 1930-х годах, на которых любого могли обвинить в том, что он «враг народа», до сих пор не дает мне покоя. Никто не был застрахован от стука в дверь среди ночи. И неважно, как сильно вы старались приспособиться, неважно, сколько лозунгов вы выкрикивали: злоба Сталина была столь велика, что никакие ваши поступки, или слова, или мысли не могли спасти вас, если луч прожектора падал на вас. Но в нацистской Германии, если только вы не входили в конкретную группу риска: евреев, коммунистов, цыган, гомосексуалистов, «тунеядцев» или, в общем, любую другую, находящуюся в оппозиции к режиму, – вы могли жить в сравнительном спокойствии, не испытывая особого страха. Несмотря на научные работы последних лет, в которых справедливо подчеркивается, как сильно зависела работа гестапо от доносов обычных граждан3, главная правда все равно остается прежней: большинство жителей Германии, с большой долей вероятности – вплоть до того момента, когда фашисты стали проигрывать войну, – чувствовали себя в такой безопасности и были так счастливы, что если бы в то время провели честные и свободные выборы, Гитлер снова одержал бы на них победу. Для сравнения: в Советском Союзе даже ближайшие, самые преданные соратники Сталина никогда не могли спать спокойно.
Последствия этого для тех, кто совершал преступления по приказу Сталина, оказались следующими: страдания, которые они причиняли другим, были настолько безосновательны, что зачастую даже исполнители не понимали причин и оснований для приказов. Например, бывший советский сотрудник НКВД, давший мне интервью, приказывал калмыкам взять с собой теплые вещи и сажал их в поезда, идущие в Сибирь, – но он до сих пор не понимает, какие конкретно цели преследовала данная политика. На вопрос о том, почему он так поступал, он всегда дает один и тот же ответ – ирония состоит в том, что согласно распространенной легенде, именно так на аналогичный вопрос отвечают нацисты: он утверждает, что «просто выполнял приказ». Он совершал преступления потому, что ему так велели, и знал: если он не выполнит приказ, его расстреляют; а еще потому, что «начальству виднее». Разумеется, это означает, что когда Сталин умер, а коммунизм рухнул, такой человек мог двигаться дальше, оставив прошлое за спиной. Данная зарисовка также демонстрирует, что Сталин был жестоким диктатором, стремившимся запугать людей, но в истории человечества он не один такой: достаточно вспомнить нашего современника Саддама Хусейна.
Я также встречался с японскими военными преступниками, совершившими ряд самых ужасных в современной истории зверств. В Китае японские солдаты разрезали животы беременным женщинам и насаживали на штыки их еще не рожденных детей; они связывали крестьян и использовали их в качестве мишеней на упражнениях в стрельбе; они замучили тысячи невинных людей, применяя такие пытки, которые своей жестокостью могут поспорить с гестаповскими; и они проводили смертельные медицинские эксперименты задолго до доктора Менгеле и Освенцима. Вот, как вели себя люди, считавшиеся «загадочными». Однако после проведенного исследования оказалось, что ничего загадочного тут нет. Они выросли в чрезвычайно милитаризованном обществе, прошли военную подготовку в очень жестких условиях, им с самого детства внушалось, что Императору (выступавшему также в роли главнокомандующего) следует поклоняться, и вообще, они жили в культуре, которая исторически преобразовала очень человеческое желание адаптироваться в некое подобие религии. Все эти особенности сошлись в одном ветеране, который рассказал мне, что когда его пригласили поучаствовать в коллективном изнасиловании китаянки, он воспринял акт не столько как действие сексуального характера, сколько как знак его окончательного принятия в члены группы, многие давнишние участники которой до того издевались над ним. Как и советские тайные сотрудники НКВД, с которыми я встречался, ветераны-японцы пытались оправдать свои действия практически исключительно с помощью ссылок на внешний источник – в данном случае, на сам режим.
Нечто совершенно иное происходит в умах многих нацистских военных преступников, и его суть в сжатом виде изложена в этой книге, в интервью с Гансом Фридрихом, который признает, что в составе отряда эсэсовцев на Востоке лично расстреливал евреев. Даже сегодня, когда нацистский режим давно повержен, он ничуть не сожалеет о своих поступках. Ему проще всего было бы спрятаться за оправданиями «выполнения приказов» или «промывки мозгов пропагандой», но сила его внутренней убежденности такова, что он этого не делает. Это отвратительная, презренная позиция – но вместе с тем, и очень интригующая. И современные доказательства демонстрируют, что она не уникальна. Например, среди документов Освенцима не обнаружено ни одного, где бы говорилось о том, что эсэсовца преследовали в судебном порядке за отказ принимать участие в убийствах, в то время как нет недостатка в материалах, демонстрирующих, что настоящая проблема с дисциплиной в лагере – с точки зрения руководства СС – состояла в воровстве. Таким образом, оказывается, что рядовые члены СС согласились с нацистским руководством, что убивать евреев – правильно, но не согласились с политикой Гиммлера в отношении того, что им не было дозволено получать личную выгоду от совершения данного преступления. А наказания для эсэсовца, пойманного во время совершения кражи, могли быть весьма строгими – почти наверняка гораздо более серьезными, чем за простой отказ принимать активное участие в убийствах.
Итак, я пришел к выводу – основываясь не только на интервью, но и на последующей работе в архивах4 и беседах с учеными, – что люди, совершавшие преступления в рамках нацистской системы, гораздо охотнее возьмут на себя личную ответственность за свои действия, чем военные преступники, служившие режимам Сталина или Хирохито. Разумеется, это обобщение, и в каждом режиме найдутся люди, не соответствующие данному типу. И у всех этих режимов, разумеется, было много общего – не в последнюю очередь, колоссальная опора на массированную пропаганду соответствующей идеологии, насаждаемой сверху. Но как обобщение оно, на мой взгляд, достаточно обосновано, и вызывает тем большее любопытство, если учесть жесткую систему подготовки эсэсовцев и популярный стереотип, согласно которому немецких солдат сравнивают с роботами. Как мы увидим, эта тенденция – что отдельные нацисты, совершавшие преступления, чувствовали большую личную ответственность за свои действия, – способствовала созданию как Освенцима, так и, в целом, «окончательного решения еврейского вопроса».
Стоит попытаться понять, почему столь многие бывшие нацисты, с которыми я встретился за последние 15 лет, судя по всему, находят для себя внутреннее оправдание («я думал, что поступаю правильно»), а не внешнее («мне приказали поступить так»). Одно очевидное объяснение состоит в том, что нацисты основательно опирались на уже укоренившиеся убеждения. Антисемитизм существовал в Европе задолго до Адольфа Гитлера, и очень многие обвиняли евреев, пусть и безосновательно, в поражении Германии в Первой мировой войне. В целом, вся изначальная политическая программа нацистов в начале 1920-х годов была практически неотличима от программ бесчисленного количества других националистических партий правого толка. Гитлер не внес никаких новшеств в политическую мысль; однако он действительно принес новшества в принцип руководства. И в начале 1930-х годов, когда Германию накрыла депрессия, миллионы немцев, желая излечения страны от невзгод, добровольно обратили свои взоры на нацистов. На выборах 1932 года никого не заставляли под дулом пистолета голосовать за нацистов, и те получали все больше и больше власти в полном соответствии с существующим законодательством.
Еще одна явная причина того, почему система убеждений, предложенная нацистами, пустила такие глубокие корни, заключается в деятельности доктора Йозефа Геббельса5, пожалуй, наиболее успешного пропагандиста двадцатого столетия. В популярном мифе его часто изображают грубым полемистом, печально известным своим произведением Der ewige Jude («Вечный жид») – фильмом, в котором картины расстрелов евреев перемежаются изображениями крыс. Но в действительности, большая часть его работы была куда более тонкой и куда более коварной. Это Гитлер уделял значительное внимание таким наполненным ненавистью фильмам, как «Вечный жид»; Геббельсу же такой примитивный подход совершенно не нравился, он предпочитал куда более тонкую Jud Suss – драму, в которой прекрасную «арийку» насилует еврей. Анализ реакции публики, проведенный Геббельсом лично (он был просто одержим подобными исследованиями), показал, что он был абсолютно прав: любители кино предпочитали ходить на такие пропагандистские фильмы, где, по его выражению, «они не замечают никаких хитростей».
Геббельс полагал: гораздо предпочтительнее усиливать уже существующие предубеждения и предрассудки аудитории, чем пытаться изменить чью-то точку зрения. В тех случаях, когда возникала необходимость внести определенные коррективы во взгляды немецкого народа, он применял подход «движения со скоростью конвоя – ни в коем случае не быстрее, чем самое медленное судно в караване»6, и постоянно повторял, каждый раз немного по-разному, ту идею, которую хотел вложить в головы публики. Поступая так, он редко пытался сообщить что-то зрителям; он демонстрировал образы и рассказывал занимательные истории из жизни обычных немцев, подталкивая слушателей к необходимому выводу, давая им, однако, возможность считать, что к такому выводу они пришли совершенно самостоятельно.
На протяжении 1930-х годов Гитлер, с одобрения Геббельса, не часто пытался внушить большинству немцам политические взгляды наперекор их желанию. Разумеется, его режим отличался радикализмом, но предпочитал действовать с одобрения большинства, а в отношении столь необходимой динамичности – в значительной степени полагался на инициативу снизу. В свете всего вышесказанного, логичным кажется тот факт, что когда речь зашла о преследовании евреев, начиналось оно очень и очень осторожно. Как бы ни испепеляла Гитлера ненависть к евреям, на выборах в начале 1930-х годов эту политику он активно не проталкивал. Он не скрывал своего антисемитизма, но и он сам, и нацисты в целом, сознательно акцентировали внимание на других сторонах своей политики, например – на своем желании «возместить ущерб» от Версальского договора, создать рабочие места для безработных, вернуть людям чувство национальной гордости. Сразу после того, как Гитлер стал канцлером Германии, по стране прокатилась волна еврейских погромов, в значительной степени возглавляемая нацистскими штурмовиками. Кроме того, был объявлен бойкот евреям-бизнесменам (при поддержке Геббельса, ярого антисемита), но продержался он только один день. Нацистское руководство чутко следило за общественным мнением и в своей стране, и за рубежом; в частности, они вовсе не хотели, чтобы их антисемитизм привел к изоляции страны в мире. Еще два антисемитских всплеска (первый – в 1936 году, со вступлением в силу Нюрнбергских расовых законов, согласно которым евреи лишались всех гражданских прав и свобод, и второй – в 1938 году, когда в результате Kristallnacht («Хрустальной ночи») сжигали синагоги, а десятки тысяч евреев бросили в тюрьму) служат вехами в преследования евреев нацистами. Но в целом, развитие антисемитской политики проходило постепенно, и многие евреи старались перетерпеть тяготы жизни в Германии 1930-х годов. Нацистская пропаганда, направленная против евреев, проходила со скоростью «самого медленного корабля в конвое» Геббельса (исключение тут составляют немногие фанатики вроде Юлиуса Штрейхера и его возмутительных листовок Der Stürmer). Кроме того, до самого начала войны в кинотеатрах не демонстрировали откровенно антисемитских фильмов: ни Der ewige Jude, ни Jud Süss.
Понимание того, что нацисты продвигали политику уничтожения евреев шаг за шагом, противоречит понятному желанию указать на конкретный момент, когда было принято судьбоносное решение, приведшее к «окончательному решению еврейского вопроса» и газовым камерам Освенцима. Но эта история не так проста. На принятие решений, в результате которых возникла такая изощренная техника убийства, предполагавшая подвоз обреченных семей по железнодорожной ветке чуть ли не в сам крематорий, ушли годы. Нацистский режим практиковал то, что один известный историк назвал «кумулятивной радикализацией»7, в соответствии с которой каждое решение приводило к углублению кризиса, вследствие чего принималось еще более радикальное решение. Самый очевидный пример того, как события, виток за витком, могут приводить к катастрофе, – продовольственный кризис в гетто Лодзи летом 1941 года: эта ситуация заставила одного нацистского функционера спросить, «не будет ли наиболее гуманным решением покончить со всеми евреями, не пригодными для работы, с помощью какого-нибудь эффективного устройства»8. Таким образом, мысль об истреблении вводится под соусом «гуманности». Разумеется, не следует забывать, что продовольственный кризис в Лодзи возник, в первую очередь, из-за вполне конкретной политики нацистских властей.
Это вовсе не означает, что вины Гитлера в совершенных преступлениях нет – потому что, несомненно, она есть, – но вина эта более зловещая, чем если бы он просто однажды собрал всех своих подчиненных и заставил выполнить приказ. Все нацисты, занимавшие руководящие посты, знали: есть одно качество в политике, которое их фюрер ценит превыше остальных – радикализм. Гитлер как-то признался: он хочет, чтобы его генералы походили на «собак, рвущихся с привязи» (и в этом отношении они, чаще всего, подводили его). Его пристрастие к радикализму, а также склонность стимулировать яростное соперничество среди руководителей партии нацистов, назначая двух человек на должности с приблизительно одинаковым кругом обязанностей, означали, что и в политической, и в административной системе Германии присутствовала колоссальная динамичность, и к тому же – серьезная внутренняя неустойчивость. Все знали, как сильно Гитлер ненавидит евреев, все слышали его речь в 1939 году в Рейхстаге, в которой он предсказывал «истребление» европейских евреев, если они «спровоцируют» мировую войну, так что все без исключения руководители партии нацистов понимали, какой именно политический курс в отношении евреев следует предлагать – чем радикальнее, тем лучше.
Во время Второй мировой войны Гитлер огромное количество времени уделял одному-единственному вопросу: как же ее выиграть? И он гораздо меньше времени тратил на «еврейский вопрос», нежели на тонкости военной стратегии. Пожалуй, его отношение к политике в отношении евреев можно сравнить с распоряжениями, которые он давал гауляйтерам (наместникам территорий) в Данциге, Западной Пруссии и Вартеланде, говоря о своем желании германизировать эти районы, и обещал не «задавать лишних вопросов» о том, каким образом они выполнили поставленную перед ними задачу, если только они ее выполнят. Потому совсем не трудно представить себе, как Гитлер аналогичным образом заявил Гиммлеру в декабре 1941 года, что хочет, чтобы евреев «истребили», и пообещал не задавать никаких вопросов касательно способа такого истребления, если они помогут достичь желаемого результата. Разумеется, мы не можем знать наверняка, какой именно оборот принял тот разговор, поскольку во время войны Гитлер осторожничал и использовал Гиммлера в качестве буфера между собой лично и осуществлением «окончательного решения еврейского вопроса». Гитлер понимал, какие масштабные преступления замышляют нацисты, и не хотел, чтобы какой-нибудь документ связал его с этими преступлениями. Но его непосредственное участие чувствуется везде: начиная с откровенной стилистики ненависти и тесной связи между встречами с Гиммлером в ставке Гитлера в Восточной Пруссии и заканчивая радикализацией преследования и убийства евреев.
Трудно передать то возбуждение, которое испытывали нацистские лидеры, служа человеку, осмеливавшемуся мечтать в таких эпохальных масштабах. Гитлер мечтал одержать победу над Францией за считанные недели – и преуспел. Он мечтал захватить Советский Союз – и летом и осенью 1941 года практически все указывало на его скорую победу. И он мечтал истребить евреев – в определенном смысле, эта задача оказалась наиболее простой для исполнения.
Конечно, амбиции Гитлера были колоссальными – но все они были исключительно деструктивными, и самой концептуально деструктивной из всех была именно идея «окончательного решения еврейского вопроса». Очень важно помнить: в 1940 году два нациста, которые со временем станут значимыми фигурами в разработке и осуществлении «окончательного решения еврейского вопроса», независимо друг от друга признали, что массовые убийства идут вразрез с «цивилизованными» ценностями, которых придерживались даже они. Генрих Гиммлер написал, что «физическое истребление народа» совершенно «не в немецком духе», а Рейнхард Гейдрих отмечал, что «биологическое истребление идет вразрез с благородством немецкой нации, как цивилизованного народа»9. Но шаг за шагом, в течение ближайших полутора лет, «биологическое истребление народа» стало именно тем политическим курсом, которым они пойдут.
Последовательно анализируя, как именно Гитлер, Гиммлер, Гейдрих и другие ведущие нацисты создали как «окончательное решение еврейского вопроса», так и Освенцим, позволяет нам увидеть в действии динамичный, радикальный и чрезвычайно сложный процесс принятия решений. Преступление, разработанное верхами, не спускалось вниз; точно так же оно не было придумано низами и одобрено верхами. Конкретных нацистов никто не принуждал совершать убийства, угрожая им страшными карами. Ничего подобного: это было коллективное предприятие, которым владели тысячи людей одновременно, и именно они принимали решение не просто участвовать в его деятельности, но и проявлять инициативу, чтобы решить проблему убийства людей и избавления от трупов в масштабах, ранее неслыханных.
Мысленно следуя по пути, которым шли как нацисты, так и те, кого они преследовали, мы также приобретаем уникальную возможность посмотреть изнутри на условия человеческого существования. И то, что мы узнаем, как правило, неприятно. Хотя, пусть и очень редко, нам встретятся отдельные люди, отличавшиеся благородством, по большей части, это история деградации. Трудно не согласиться с вердиктом Эльзе Бакер, оказавшейся в Освенциме в возрасте восьми лет, что «уровень человеческой испорченности не поддается описанию». Однако, если здесь есть проблеск надежды, он состоит в могуществе семьи как поддерживающей силы. Поистине героические поступки совершались людьми, оказавшимися в лагере, – ради отца, матери, брата, сестры или ребенка.
Но, пожалуй, прежде всего, Освенцим и «окончательное решение еврейского вопроса» демонстрируют способность ситуации влиять на поведение – до такой степени, какую себе сложно представить. Это подтверждает один из самых сильных и храбрых узников лагеря смерти, которым удалось уцелеть, – Тойви Блатт. Нацисты принудили его работать в Собиборе, но позже он рискнул жизнью и бежал: «Меня спрашивали: “Что ты узнал?” – но думаю, наверняка я узнал лишь одно: на самом деле, никто себя не знает. Ты обращаешься к приветливому прохожему, спрашиваешь его, где находится нужная тебе улица, – и он проходит вместе с тобой полквартала, чтобы ты не заблудился. Он такой вежливый, такой предупредительный. Но тот же самый человек в других обстоятельствах может оказаться гнуснейшим садистом. Никто себя не знает. В тех [других] ситуациях все мы могли быть хорошими, а могли – и плохими. Иногда, встречаясь с особенно вежливым или предупредительным человеком, я спрашиваю себя: “А как бы он повел себя в Собиборе?”»10.
Чему эти люди, которые выжили в лагерях смерти, научили меня (и, если быть честным, так же как и преступники), так это тому, что человеческое поведение очень тонкая штука, совершенно непредсказуемая и зачастую зависит от ситуации. Впрочем, разумеется, каждый отдельный человек стоит перед выбором, он волен поступить так или иначе; однако, к сожалению, для очень многих людей выбор определяется именно сложившейся ситуацией. Даже те необычные индивиды – как, например, сам Адольф Гитлер, – которые кажутся нам властителями собственной судьбы, в значительной степени были созданы именно реакцией на предыдущие ситуации. Тот Адольф Гитлер, который известен нам из истории, во многом сформировался благодаря взаимодействию между довоенным Гитлером, никчемным бродягой, и событиями Первой мировой войны – глобальным конфликтом, над которым он был не властен. Я знаком не с одним серьезным ученым, исследующим данный вопрос, и считающим, что Гитлер никогда бы не достиг такого выдающегося уровня, если бы с ним не произошла определенная трансформация во время той войны, и если бы он не испытывал сильное чувство горечи из-за поражения Германии. Поэтому мы можем пойти дальше, чем просто сказать: «Не будь Первой мировой войны, Гитлер не стал бы канцлером Германии», и вместо этого сказать: «Не будь Первой мировой войны, не было бы человека, ставшего тем Гитлером, которого мы знаем из истории». И хотя, разумеется, Гитлер сам решал, как ему себя вести (и при этом тысячи раз совершал свой личный выбор, из-за чего и заслуживает того бесчестья, которое на него, в результате, обрушилось), само его существование стало возможным лишь благодаря конкретной исторической ситуации.
Однако эта история также демонстрирует нам, что если отдельные люди меняются под воздействием ударов судьбы в зависимости от ситуации, то группы людей, работающих вместе, могут создать лучшие культуры, которые, в свою очередь, могут помочь отдельным людям вести себя более благородно. История о том, как датчане спасали своих евреев, и о том, как они обеспечили возвращающимся евреям теплый прием в конце войны, представляет потрясающий пример последнего. Датская культура отличалась сильной и распространенной верой в незыблемость прав человека, что способствовало благородному поведению большинства жителей. Но не стоит впадать в излишний романтизм в отношении опыта Дании. На датчан тоже оказывали колоссальное влияние ситуационные факторы, которыми они не управляли: время нападения нацистов на датских евреев (в тот момент, когда немцы, со всей очевидностью, проигрывали войну); географическое расположение страны (предоставлявшее достаточно простой путь побега через узкую полоску воды в нейтральную Швецию); и отсутствие слаженных усилий СС по принуждению к депортациям. Тем не менее, разумно сделать вывод, что одна форма частичной защищенности от еще больших зверств, наподобие Освенцима, заключается в коллективной гарантии отдельных людей, что для культурных обычаев их общества подобное страдание немыслимо. Социал-дарвинистские идеалы нацизма (идеи закономерности естественного отбора и борьбы за существование, выявленные Чарльзом Дарвином в природе и распространяемые нацистами на отношения в человеческом обществе), покоящиеся на заверении каждого «арийского» немца в том, что он принадлежит к расе господ, разумеется, создавали прямо противоположный эффект.
И, тем не менее, данная тема все равно вызывает чувство глубокой печали, которое ничем не утолить. Все время работы над этим проектом для меня громче всего звучали голоса тех, у кого уже нельзя взять интервью: голоса 1,1 миллиона человек, убитых в Освенциме, и в частности, – более двухсот тысяч детей, умерших там, лишенных права вырасти и познать жизнь. В память мне врезался один образ, врезался в тот самый момент, как мне его описали. Это был образ «процессии»11 пустых детских колясок – собственности, украденной у погибших евреев, – которую вывозили из Освенцима в сторону вокзала, по пять штук в ряд. Узник, видевший эту колонну, говорит, что она ехала мимо него в течение целого часа.
Дети, прибывшие в Освенцим в этих колясках, вместе с мамами, папами, братьями, сестрами, тетями и дядями – всеми, кто погиб там, – и есть те, которых мы должны помнить вечно, и данная книга посвящается их памяти.
Лоуренс Рис,Лондон, июль 2004
Глава 1
Непредвиденное начало
Тридцатого апреля 1940 года давние амбиции гауптштурмфюрера сс (капитана) Рудольфа Хесса наконец осуществились: в возрасте 39 лет, после шести лет службы в частях СС, он был назначен комендантом одного из первых в Новом рейхе нацистских концентрационных лагерей. В этот весенний день он прибыл для исполнения обязанностей в небольшой городок, где всего восемь месяцев назад еще была юго-западная Польша, а теперь – немецкая Верхняя Силезия. По-польски городок назывался Освенцим, по-немецки – Аушвиц.
Правда, самого лагеря, комендантом которого он был назначен, еще не существовало. Для начала Хессу предстояло возглавить его строительство на окраине города, на месте полуразвалившихся и кишевших паразитами бывших польских казарм, сгрудившихся вокруг манежа для объездки лошадей. Окрестности будущего лагеря выглядели весьма удручающе. Земли между реками Сола и Висла представляли собой плоскую, унылую равнину с сырым и нездоровым климатом.
В тот день никто (в том числе и сам Рудольф Хесс) не мог предсказать, что в течение пяти лет лагерь станет местом самого массового убийства, какое только когда-либо знал мир. А история того, как были приняты решения, приведшие к таким последствиям, является одной из самых ужасных и бесчеловечных страниц в истории всего человечества. Эта история позволяет раскрыть сущность нацистского государства и предоставляет возможность проникнуть в механизм его функционирования.
Адольф Гитлер, Генрих Гиммлер, Рейнхард Гейдрих, Герман Геринг… Это они и им подобные нацистские лидеры, рангом чуть пониже, принимали решения, по которым в Освенциме было уничтожено более миллиона человек. Но решающей предпосылкой для совершения этих чудовищных преступлений явился также образ мыслей более мелких нацистских функционеров, таких как Хесс. Ведь это именно он, будучи комендантом лагеря, превратил его территорию в место массовых убийств в невиданных до сих пор масштабах. Без Хесса Освенцим никогда бы не стал тем, чем он стал в итоге.
Во внешности Рудольфа Хесса не было ничего примечательного. Среднего роста, темноволосый, с правильными чертами лица. Не урод, но и не писаный красавец. По словам американского адвоката Уитни Харриса, который допрашивал Хесса во время Нюрнбергского процесса, тот выглядел «самым обыкновенным человеком – так, нечто вроде продавца бакалейной лавки». Несколько поляков – бывших заключенных Освенцима – подтверждают это впечатление, вспоминая Хесса как спокойного, сдержанного человека, – мимо таких каждый день проходишь на улице, не обращая никакого внимания. Одним словом, внешность Хесса не имела ничего общего с тем образом красномордого, брызжущего взбешенно слюной нацистского чудовища, какими их принято представлять. И это делает его еще страшнее.
Хесс занес свой чемодан в гостиницу, расположенную через дорогу от железнодорожного вокзала Освенцима (эта гостиница будет в дальнейшем служить для офицеров СС опорным пунктом, пока для них не подыщут более подходящего помещения на территории лагеря). Однако этим его багаж не ограничивался: вместе с чемоданом он нес с собой все, что отложилось в уме за всю его сознательную жизнь, посвященную служению делу национал-социализма. Как у большинства убежденных нацистов, его характер и взгляды сформировались под влиянием предыдущих 25 лет немецкой истории – самых бурных за все время существования страны.
Хесс родился в 1900 году в Шварцвальде, в семье католиков. С ранних лет на его становление наложил серьезный отпечаток целый ряд факторов: властный отец1, требовавший беспрекословного подчинения; затем служба в армии во время Первой мировой войны, где Хесс оказался одним из самых молодых унтер-офицеров; и потом, когда Германия потерпела поражение – горькое, отчаянное чувство, что его предали; затем, в начале 1920-х, служба в полувоенных отрядах фрайкора[1], которые имели целью бороться с коммунистической угрозой, вроде бы ощущавшейся у самых границ Германии; и, наконец, активное участие в агрессивной политической деятельности крайне правых, что в 1923 году привело Хесса к тюремному заключению. Многие, очень многие нацисты прошли через те же испытания – и не последним из них был Адольф Гитлер. Сын деспотичного отца2, вынашивавший лютую ненависть к тем, кто, по его мнению, привел Германию к поражению в войне, в которой он участвовал (и во время которой был, как и Хесс, награжден Железным крестом), Гитлер пытался захватить власть во время вооруженного путча – в том самом 1923 году, когда Хесс оказался замешанным в убийстве по политическим мотивам.
Гитлер, Хесс и другие ультраправые националисты стремились понять, почему Германия проиграла войну и подписала такой унизительный мирный договор. В первые послевоенные годы они думали, что нашли ответ на этот вопрос. Разве не ясно, что во всем виноваты евреи? Нацисты указывали на то, что министром иностранных дел в новом послевоенном правительстве Веймарской республики стал еврей Вальтер Ратенау. А в 1919 году они вообще пришли к твердому убеждению, что между иудаизмом и ненавистным им коммунизмом вне всякого сомнения существует прямая связь: ведь весной того года в Мюнхене, по примеру Советской России, была создана, – правда, ненадолго – Баварская Советская Республика – и большинство лидеров этой возглавляемой коммунистами республики были евреями.
Для нацистов не имело никакого значения ни то, что огромное количество патриотически настроенных немецких евреев во время войны храбро сражались, и многие из них погибли, ни то, что тысячи немецких евреев не были ни коммунистами, ни вообще левыми. Гитлер и его сторонники с легкостью нашли козла отпущения: кто виноват во всех бедах Германии – конечно же, евреи! В этом убеждении молодая партия нацистов опиралась на многовековой немецкий антисемитизм. С самого начала нацисты заявляли, что их ненависть к евреям основана не на дремучих предрассудках, а на строго научных фактах: «Мы боремся с ними [евреями], потому что их деятельность вызывает расовый туберкулез у народов, – гласит один из первых нацистских плакатов, вышедший в 1920 году. – Мы уверены в том, что выздоровление может наступить только после того, как эта бацилла будет уничтожена»3. Подобные псевдо-интеллектуальные нападки на евреев оказывали серьезное влияние на таких людей, как Хесс. Хотя сам он утверждал, что презирает примитивный, исповедующий насилие, почти порнографический антисемитизм, который пропагандировал другой известный нацист, Юлиус Штрайхер, в своей газете Der Sturmer[2]. «Неистовое гонение на евреев, к которому призывала эта газета», – писал Хесс уже в тюрьме, после поражения нацизма, – сослужило плохую службу делу антисемитизма»4. Он считал, что его подход к этому вопросу всегда был более взвешенным, более «рациональным», и заявлял, что у него лично почти не было раздоров или ссор с какими-либо конкретными евреями; для него суть дела состояла в существовании «международного всемирного еврейского заговора», посредством которого евреи якобы тайно держали в своих руках рычаги власти, стараясь всячески помогать друг другу через любые национальные границы. Именно это, с его точки зрения, и привело к поражению Германии в Первой мировой войне. И именно это, как он считал, необходимо было вырвать с корнем: «Как нетерпимый национал-социалист я был абсолютно убежден в том, что наши идеалы постепенно будут приняты всеми и возобладают во всем мире… Еврейское верховенство, таким образом, будет уничтожено»5.
После освобождения из тюрьмы в 1928 году Хесс увлекся еще одной идеей, исповедуемой крайне правыми националистами. Эта идея, наравне с антисемитизмом, помогла им определить саму суть нацистского движения: это была любовь к земле. В то время как евреев ненавидели за то, что они в основном проживали в городах (их презирали, как выразился Геббельс, за их «асфальтовую культуру»), «истинные» немцы никогда не теряли тяги к природе. Не случайно сам Гиммлер изучал сельское хозяйство, а Освенцим, в его представлении, со временем должен был перевоплотиться в своего рода сельскохозяйственную научно-исследовательскую станцию.
Хесс вступил в Лигу артаманов[3], одну из сельскохозяйственных общин, процветавших в то время в Германии, встретил там женщину, которая впоследствии стала его женой, и занялся фермерством. А затем наступил момент, который изменил всю его жизнь. В июне 1934 года рейсфюрер СС[4] Гиммлер предложил ему оставить сельское хозяйство и вступить в элитное подразделение СС[5] (Schutzstaffel). Это подразделение было создано первоначально в качестве личной охраны фюрера и, среди всего прочего, ведало концентрационными лагерями6. Гиммлер и раньше знал Хесса, и то, что он в нем видел, ему нравилось. Хесс был давним членом нацистской партии, еще с ноября 1922 года, номер его партийного билета – 3240.
У Хесса был выбор. Его никто не заставлял – вступать в СС никого не принуждали. Он сам выбрал свой путь. Вот как он объясняет это решение в своей автобиографии: «Имея в виду вероятность более быстрого продвижения по службе и соответствующего увеличения жаловании, я был убежден, что мне необходимо предпринять этот шаг»7. На самом деле это только половина правды. Эти строки написаны уже после поражения нацизма, поэтому неудивительно, что Хесс умалчивает о том, что, по всей вероятности, было для него тогда решающим фактором, а именно – его душевное состояние на тот момент. В 1934 году Хесс как будто чувствовал, что стал свидетелем рождения нового и прекрасного мира – он просто был убежден, что этот новый мир будет прекрасен. Гитлер находился у власти всего год, но нацисты уже дали бой всем внутренним врагам Германии: левым политикам, «тунеядцам», антиобщественным элементам и евреям. По всей стране немцы, не входившие в вышеупомянутые «группы риска», приветствовали происходившие изменения.
Вот, к примеру, типичная для того времени реакция на те события Манфреда фон Шредера, сына банкира из Гамбурга, вступившего в нацистскую партию в 1933 году: «Все было снова в порядке, все чисто. В стране витало чувство национального освобождения, начала новой жизни… Люди говорили: “Ну да, это революция, это потрясающая, мирная революция, – и все-таки это революция”»8. У Хесса появился шанс стать участником этой революции – революции, о которой он молился с момента окончания Первой мировой войны. Вступление в ряды СС означало обретение определенного положения в обществе, привилегий, эмоциональный подъем и – главное! – возможности повлиять на курс новой Германии. Оставшись фермером, он так и остался бы не более чем фермером. Так стоит ли удивляться его выбору? Он принял предложение Гиммлера – и в ноябре 1934 года прибыл в Баварию, в Дахау, чтобы приступить к службе надзирателя в концентрационном лагере.
В настоящее время у многих, особенно в Великобритании и США, существует весьма туманное и путанное представление о том, каковы были функции различных лагерей в нацистском государстве. Концентрационные лагеря, такие как Дахау (созданный в марте 1933 года, всего через два месяца после того, как Адольф Гитлер стал канцлером Германии), существенно отличались от лагерей смерти – таких как Треблинка, которые появились только к середине войны. История Освенцима, самого печально известного из них, ставшего одновременно и концентрационным лагерем, и лагерем смерти, только усугубляет путаницу в умах. Осознать различия между этими двумя видами очень важно, для того чтобы понять, как немцы в то время объясняли необходимость существования лагерей, подобных Дахау, на протяжении 1930-х годов. Ведь ни один из немцев, которых я снимал в своих фильмах – даже те, кто раньше были фанатичными нацистами – не признавался в том, что «приветствовал» существование лагерей смерти, но многие вполне одобряли существование концентрационных лагерей в 1930-е годы. Они только что пережили кошмар Великой депрессии и стали свидетелями того, как им казалось, что демократия не смогла предотвратить падение страны в пропасть. Призрак коммунизма все еще маячил на горизонте. Во время выборов в начале 30-х годов Германия, казалось, разделилась на крайне правых и крайне левых. За коммунистическую партию проголосовали очень многие. А другие – люди вроде Манфреда фон Шредера, который приветствовал «мирную революцию» нацистов в 1933 году, усматривали четкие исторические параллели, объяснявшие необходимость существования концентрационных лагерей: «Французским аристократам не очень приятно было томиться в Бастилии, не так ли?.. Да, тогда существовали концентрационные лагеря, но все говорили: “Так это англичане придумали их во время войны с бурами в Южной Африке”».
Первые заключенные, которые попали в Дахау в марте 1933 года, были в основном политическими оппонентами нацистов. Тогда, на заре нацистского режима, евреев поносили, унижали и избивали, но прямой угрозой считали скорее левых политиков предыдущего правительства9. Когда Хесс прибыл в Дахау, к месту своей службы, он был твердо убежден в том, что эти люди «настоящие враги государства и их нужно держать за решеткой»10. Последующие три с половиной года службы в Дахау сыграли определяющую роль в формировании его характера. Это произошло под влиянием тщательно продуманного режима, созданного в Дахау Теодором Эйке, первым комендантом лагеря. Режим был не просто жестоким; все было устроено так, чтобы сломить волю заключенных. Эйке возвел насилие и ненависть, которую нацисты испытывали к своим врагам, в определенную систему и порядок. Дахау печально известен физическим садизмом, царившим в лагере: порки и жестокие избиения были обычным делом. Заключенных могли убить, а смерть их списать на «убийство при попытке к бегству» – многие из тех, кто попал в Дахау, там и погибли. Но по-настоящему режим Дахау держался не столько на физическом насилии, каким бы ужасным, несомненно, оно ни было – сколько на моральном унижении.
Первым нововведением в Дахау было то, что, в отличие от обычной тюрьмы, заключенный не имел никакого представления о том, как долго он там пробудет. На протяжении почти всех 30-х годов большинство заключенных в Дахау освобождались примерно после года пребывания в лагере, но каждый индивидуальный срок мог быть дольше или короче в зависимости от прихоти власти. Узник не знал сколько ему пребывать в заключении. Не знаешь – может, тебя освободят завтра, может, через месяц – или через год. Хесс, который сам провел несколько лет в тюрьме, хорошо понимал страшную силу такой политики: «Неопределенность срока заключения была именно тем фактором, с которым многие заключенные не могли смириться, – писал он. – Именно это подтачивало и могло сломить волю даже самых стойких… Уже из-за одного этого жизнь в лагере превращалась в пытку»11.
Моральным издевательствам, к которым прибегали охранники, чтобы подавить дух заключенных, не было предела… Йозеф Фельдер, член Рейхстага от Социал-демократической партии, один из первых узников Дахау, вспоминает, как однажды, когда он был особенно подавлен, надзиратель взял веревку и стал ему показывать, как надо завязывать петлю, чтобы повеситься12. Только огромным усилием воли, мысленно повторяя себе: «У тебя есть семья!», – он удержался от страшного шага. От заключенных требовали содержать бараки и одежду в идеальном порядке. Постоянные проверки давали надзирателям СС возможность каждый раз находить повод к чему-нибудь придраться; при желании они могли наказать весь барак за выдуманное нарушение. Любого из заключенных могли поместить в карцер и заставить несколько дней лежать на койке молча, без единого движения.
Именно в Дахау была введена система «капо», которая впоследствии была принята во всех концентрационных лагерях и сыграла очень важную роль в управлении Освенцимом. (Термин «капо», по-видимому, произошел от итальянского саро – «начальник».) В каждом блоке или рабочей «команде» лагерное начальство назначало на эту должность одного из заключенных – и он приобретал огромную власть над другими заключенными. Неудивительно, что этой властью часто злоупотребляли. Находясь в непосредственном контакте с другими заключенными, эти капо, даже в некоторой степени больше, чем охранники, способны были своим деспотизмом превращать жизнь в лагере в кромешный ад. Однако сами капо тоже сильно рисковали – в случае, если вызовут недовольство своих хозяев из СС. Как сказал Гиммлер: «Его (капо) задача – следить, чтобы работа была выполнена… Для этого он должен заставить своих людей работать. Как только он перестает нас устраивать, он перестает быть капо и становится обычным заключенным, а соответственно – возвращается к другим узникам. И он прекрасно знает, что в первую же ночь они забьют его до смерти»13.
С точки зрения нацистов жизнь в концлагере была уменьшенной копией внешнего мира. «Идея борьбы стара как сама жизнь, – сказал Гитлер в своей речи еще в 1928 году. – В этой борьбе побеждает более сильный и более способный, в то время как менее способный и более слабый – проигрывает. Борьба – мать всех свершений… Человек живет и сохраняет свое превосходство над миром животных не по принципам гуманизма, а только посредством самой жестокой борьбы»14. Этот псевдо-дарвинистский подход, в котором вся суть нацизма, был положен в основу управления концентрационными лагерями. Капо, к примеру, могли «с полным правом» издеваться над теми, кому довелось попасть им в подчинение, поскольку они доказали, что более сильны в жизненной «борьбе».
Еще в Дахау, в первую очередь и лучше всего остального, Хесс постиг сущность стратегии СС. Теодор Эйке с самого начала проповедовал лишь одну доктрину – беспощадность: «Каждый, у кого возникнет даже самое малое проявление сострадания по отношению к ним (заключенным), должен немедленно покинуть наши ряды. Мне нужны только твердые как скала, абсолютно преданные члены СС. В наших рядах нет места мягкотелым»15. Так что любая форма сострадания или жалости признавалась проявлением слабости. Если эсэсовец ощущал, что им начинают овладевать такие чувства, это было знаком: враг сумел его одурачить. Нацистская пропаганда учила, что враг может затаиться в самых неожиданных местах. К примеру, одним из самых распространенных шедевров антисемитской пропаганды, рассчитанной на детей, была книга «Ядовитый гриб». В ней предупреждалось об опасности, которую представляют собой коварные евреи: они, как грибы, могут с виду быть привлекательны, а на самом деле ядовиты. Так эсэсовцев приучали подавлять в себе любые проявления человечности, которые могли, к примеру, возникнуть, если им случалось присутствовать при жестоком избиении заключенного. Их учили, что любое, шевельнувшееся где-то в глубине души, чувство сострадания вызвано исключительно хитрыми уловками их жертв. Будучи «врагами государства», эти коварные существа, какими их представляла нацистская пропаганда, использовали любой возможный способ, чтобы достичь своих подлых целей, и прежде всего – мольбу о сострадании, обращенную к тем, кто держит их в заточении. Память о «ноже в спину» (миф о том, что евреи и коммунисты якобы устроили заговор за спиной народа с целью поражения Германии в Первой мировой войне) была еще совсем свежа и идеально подходила для создания образа затаившегося опасного врага.
Единственным непреложным законом для членов СС была непоколебимая вера в неоспоримость приказа. Если старший по званию приказал арестовать или расстрелять кого-либо, приказ должен быть выполнен – даже если для того, кто его получил, суть этого решения непостижима: все рано приказ есть приказ, и он непререкаем. Единственной защитой против «червя сомнения» в таких случаях была твердость – непоколебимая твердость. Потому она и стала культом в войсках СС. «Мы должны быть тверды как гранит, иначе дело нашего фюрера погибнет»16, – сказал Рейнхард Гейдрих, второй после Гиммлера человек в СС.
Учась подавлять в себе такие недостойные члена СС чувства, как жалость и сострадание, Хесс преисполнился чувства корпоративной солидарности, «чести мундира», которое было очень сильно в рядах СС. Именно потому, что каждый эсэсовец знал, что он будет призван совершать такие дела, на которые более «слабые» просто не способны, в СС развивался сильный esprit de corps (кастовый дух), где преданность товарищам по организации стала оплотом системы. Проповедуемые членами СС ценности – беспрекословная верность, твердость, защита рейха от внутренних врагов – стали своего рода религией, которую легко усваивали все члены СС. «Я был так благодарен СС за интеллектуальное руководство, которое оно осуществляло» – сказал Йоханнес Хассеброк, комендант другого концлагеря. – Мы все были благодарны. До вступления в организацию мы были настолько растеряны – мы просто не понимали, что происходит вокруг – все было так запутанно! СС предложило нам ряд простых идей, которые были нам понятны, и мы в них поверили»17.
В Дахау Хесс усвоил еще один важный урок, который очень пригодится ему потом в Освенциме. Он заметил, что заключенные легче переносят неволю, когда СС дает им возможность работать. Хесс помнил собственное пребывание в лейпцигской тюрьме – там он только благодаря работе (в тюрьме они клеили бумажные пакеты) был в состоянии встречать каждый новый день в более-менее сносном расположении духа. Теперь он видел, что в Дахау труд играет аналогичную роль и он давал заключенным возможность «дисциплинировать себя и таким образом противостоять деморализующему влиянию заключения»18. Хесс был настолько убежден в благотворном эффекте труда в концентрационном лагере, что даже перенес в Освенцим лозунг, ранее использованный в Дахау – Arbeit macht frei («Труд делает свободным») – и приказал выбить его на металлических воротах при входе в Освенцим.
Хесс был образцовым членом СС и успешно продвигался по служебной лестнице в Дахау, пока в апреле 1936 года не стал рапортфюрером, первым заместителем коменданта лагеря. Затем, в сентябре 1936 года, он получил звание лейтенанта, и был переведен в концентрационный лагерь Заксенхаузен, где служил начальником лагерной охраны вплоть до назначения на должность коменданта нового концлагеря в Освенциме.
Вот каким был этот человек, прибывший весной 1940 года в этот край юго-западной Польши. Конечно, он многое «получил в наследство», но в то же время его как личность сформировала история того времени и шесть лет службы лагерным охранником. Теперь он был готов взяться за поставленную перед ним большую задачу: создать образцовый концентрационный лагерь в новой нацистской империи. Он был уверен, что знает, чего от него ожидают, и четко представлял, что и для чего он должен построить. Опыт работы в Дахау и Заксенхаузене предлагал хороший для этого пример! Однако его руководство имело на этот счет другие планы – и на протяжении последующих месяцев и лет лагерю, который Хесс должен был создать в Освенциме, предстояло развиваться совсем по-другому. В то время, как Хесс приступал к работе в Освенциме, в 400 километрах на северо-запад его шеф был занят весьма необычным делом – составлял меморандум для фюрера. Генрих Гиммлер в Берлине создавал документ с осторожным названием «Некоторые рассуждения об обращении с местным населением на Востоке». Гиммлер, один из самых ловких политиканов нацистского государства, знал, что очень часто не следует доверять свои мысли бумаге – это рискованно и неблагоразумно. Нацистская политика в том или ином вопросе на самом высшем уровне часто формулировалась устно. Гиммлер хорошо понимал, что как только его мысли попадут на бумагу, враги тут же разберут их по косточкам. Как у многих высокопоставленных нацистов, у него было много врагов, которые все время искали возможность урвать хоть часть его власти. И все же ситуация в Польше, оккупированной немцами с осени 1939 года, была такова, что было ясно: нужно сделать исключение из правила и составить для Гитлера именно письменный документ. Документ, который он, в конце концов, составил – один из самых важных в истории нацистской расовой политики: слова Гиммлера, начертанные на бумаге, во многом определили контекст, в котором должен был функционировать новый лагерь в Освенциме.
На тот момент, занимая должность рейхскомиссара по укреплению немецкой государственности, Гиммлер участвовал в самой большой и самой быстрой этнической реорганизации, какую только когда-либо видела какая-нибудь страна, но весь этот процесс шел из рук вон плохо. Вместо того чтобы навести порядок в Польше, которую нацисты презирали за ее «вечный бардак», Гиммлер и его коллеги принесли туда только насилие и хаос.
В отношении к полякам у нацистов не было разногласий. Они их презирали. Вопрос был в другом – что с ними делать. Одной из главных «проблем», которую нацистам предстояло решить, была проблема польских евреев. В отличие от Германии, где евреи составляли меньше 1 процента населения (около 300 000 человек в 1940 году) и где большинство из них были ассимилированы, в Польше было 3 миллиона евреев, большинство из которых жили общинами; их часто можно было легко узнать по бороде и по другим «признакам их веры». После того, как Польша была разделена между Германией и Советским Союзом, сразу после начала войны (по условиям секретной части германо-советского пакта о ненападении, подписанного в августе 1939 года) более двух миллионов польских евреев оказались в немецкой зоне оккупации. Какова будет их судьба?
Еще одной проблемой для нацистов, которую они сами же и создали, стал поиск жилья для сотен тысяч этнических немцев, которые в то время переселялись в Польшу. По договору между Германией и Советским Союзом, этническим немцам из стран Балтии, из Бессарабии и других регионов, незадолго до того оккупированных Сталиным, было разрешено эмигрировать в Германию – «вернуться домой, в рейх», как гласил лозунг того времени. Одержимые представлениями о расовой чистоте «немецкой крови», такие люди как Гиммлер, считали своим долгом дать возможность всем немцам вернуться на родину. Но возникала одна сложность: куда, собственно, им возвращаться? Вдобавок к этим проблемам существовала третья, самая большая проблема, которую нацистам также надо было решать. Что делать с 18 миллионами поляков, находящимися теперь под властью Германии? Они ведь не евреи, – как к ним следует относиться? Каким образом должна быть организована страна, чтобы они больше никогда не представляли никакой угрозы?
В октябре 1939 года Гитлер произнес речь, в которой содержались некоторые руководящие принципы для тех, кто занимался этой проблемой. В ней фюрер дал понять, что «главной задачей является создание нового этнического порядка, другими словами, переселение народов должно быть организовано таким образом, чтобы по окончанию этого процесса была произведена более правильная демаркация границ, нежели те, что существуют сегодня»19. На практике это означало, что оккупированная немцами Польша должна была быть разделена: одной ее части предстояло стать местом проживания большинства поляков, а другую следует присоединить к Германии. И тогда въезжающих в страну этнических немцев будут селить не в «Старом Рейхе», а вот в этом «Новом Рейхе»; они действительно будут «возвращаться к себе на родину, в рейх» – но только не в тот, в который они ожидали попасть.
Оставался вопрос польских евреев. До начала войны нацистская политика по отношению к евреям, проживающим на территориях под их контролем, заключалась в постепенно усиливавшемся официальном преследовании. Множились бесчисленные запретительные правила и законы, время от времени имели место неофициальные (и тем не менее, санкционированные) вспышки насилия. Отношение Гитлера к евреям не особенно изменилось с того времени, как в середине 20-х годов в книге Mein Kampf он заявил, что во время Первой мировой войны Германии стоило испробовать «ядовитый газ» на «десяти-двенадцати тысячах этих иудейских губителей нации». Но хотя Гитлер явно ненавидел евреев и демонстрировал это с момента окончания Первой мировой войны, а в частных беседах высказывал желание увидеть их всех в гробу, никакого нацистского плана по их уничтожению на тот момент еще не существовало.
Люсиль Айхенгрин20 выросла в еврейской семье, жившей в Гамбурге, и очень хорошо помнит условия, в которых немецкие евреи были вынуждены жить в тридцатые годы. «До 1933 года наша жизнь была прекрасна, – говорит она. – Но как только Гитлер пришел к власти, соседские дети перестали с нами разговаривать, они швыряли в нас камнями и всячески обзывали нас. Мы не могли понять, чем это заслужили. В голове все время сидел вопрос: за что, почему? Когда мы задавали его дома, ответ всегда был один: “Это пройдет. Все нормализуется”». В один прекрасный день, в середине 30-х, Айхенгринов поставили в известность, что в их доме евреям проживать запрещено. Им было предписано переселиться в так называемые «еврейские дома», частично принадлежавшие евреям. Новая квартира была почти такой же по размеру, как и предыдущая, но на протяжении последующих лет они были вынуждены переезжать во все меньшие и меньшие квартиры, пока не очутились всей семьей в однокомнатной «меблирашке». Кажется, мы все тогда смирились с этим, – говорит Люсиль. – Таков был тогда закон, таковы были правила, и вы ничего не могли с этим поделать».
Иллюзия, что антисемитская политика нацистов когда-нибудь «нормализуется», была разрушена в Хрустальную ночь, 9 ноября 1938 года. Нацистские штурмовики громили еврейские дома и устраивали облавы на тысячи евреев в отместку за то, что еврейский студент по имени Гершель Гриншпан убил в Париже немецкого дипломата Эрнста фон Рата. «В тот день по дороге в школу мы увидели горящие синагоги, – рассказывает Люсиль Айхенгрин, – разбитые витрины еврейских магазинов, разбросанные по улицам товары, и повсюду – смеющиеся лица немцев… Мы были так напуганы! Думали, что они вот-вот нас схватят, и просто не знаю, что с нами сделают».
К началу войны в 1939 году евреи уже не имели права на немецкое гражданство, на браки с неевреями, не имели права заниматься коммерцией и определенными профессиями; им даже не разрешалось иметь водительские права. Узаконенная дискриминация, а затем ужасающая вспышка насилия в так называемую Хрустальную ночь, когда было сожжено более 1000 синагог, убито 400 евреев и около 30 000 были заключены на многие месяцы в концлагеря, привели к тому, что множество немецких евреев эмигрировали из страны. К 1939 году территорию нового «Великого германского рейха» (Германия, Австрия и немецкие этнические земли в Чехии) покинуло около 450 000 евреев – то есть более половины, проживавших на этих территориях. Нацисты были довольны. Особенно после того, как был претворен в жизнь новаторский подход, разработанный эсэсовским «экспертом» по еврейскому вопросу Адольфом Эйхманом: в 1938 году, после аншлюса (аннексии) Австрии, он разработал систему, согласно которой у евреев отбирали почти все их средства перед тем, как позволить им покинуть страну.
Однако вначале нацисты не представляли, как перенести решение еврейского вопроса, найденное для Германии, на Польшу. В отличие от нескольких сот тысяч немецких евреев речь теперь шла о миллионах евреев, оказавшихся под властью нацистов. Большинство из них были крайне бедны, да и куда можно было заставить их эмигрировать в самый разгар войны? Осенью 1939 года Адольф Эйхман нашел выход: нужно заставить евреев эмигрировать не в другие страны, а в наименее приспособленную для жизни часть новой нацистской империи. Более того, он даже решил, что нашел идеальное место – окрестности города Ниско в Люблинском воеводстве Польши. Этот отдаленный район на самом востоке нацистских земель казался ему идеальным местом для «еврейской резервации». Таким образом, оккупированная немцами Польша будет разделена на три части: часть, заселенная немцами, часть польская и часть еврейская. Все три были аккуратно расположены на одной географической оси, тянущейся с запада на восток. Амбициозный план Эйхмана был принят, и тысячи австрийских евреев начали принудительно переправлять в отведенный им регион. Условия были кошмарными. Никакой подготовки к прибытию тысяч людей не было проведено, в результате многие в процессе переселения умерли. Нацистов это мало волновало: такой поворот событий можно было только приветствовать. Как сказал своим подчиненным в ноябре 1939 года Ганс Франк, один из самых высокопоставленных нацистов в Польше: «Не тратьте времени на евреев. Приятно, в конце концов, иметь возможность расправиться с еврейской расой. Чем больше их умрет, тем лучше»21.
Однако, когда в мае 1940 года Гиммлер писал свой меморандум, он уже прекрасно понимал, что внутренняя эмиграция евреев на восток Польши с треском провалилась. В значительной мере это произошло из-за того, что нацисты пытались провести все три отдельных, разных по характеру, переселения одновременно. Въезжающих этнических немцев нужно было доставить в Польшу и найти им жилье. Это означало, что нужно было выбросить поляков из их домов и отправить куда-нибудь еще. В то же самое время евреев везли на восток и вселяли в дома, которые опять же отбирали у поляков. Неудивительно, что все это привело к безумному хаосу и неразберихе.
К весне 1940 года от плана Эйхмана по переселению евреев в Ниско отказались, а Польшу в конце концов просто разделили на две части. Появились районы, которые официально стали «немецкими» и вошли в «Новый Рейх» как новые имперские округа – рейхсгау – рейхсгау Западная Пруссия – Данциг (Гданьск); рейхсгау Вартеланд (известного также как Вартегау) на западе Польши в районе Позена (Познани) и Лодзи; и Верхняя Силезия в районе Катовиц (именно этот район включал в себя Освенцим). Кроме того, на самой большой части бывшей польской территории было создано образование под названием Генерал-губернаторство, которое включало в себя города Варшаву, Краков и Люблин и предназначалось для проживания большинства поляков.
Самой неотложной проблемой для Гиммлера стало предоставление подходящего жилья для сотен тысяч прибывающих этнических немцев – что в свою очередь повлияло на то, как, с его точки зрения, должны были обращаться с поляками и евреями. История Ирмы Айги22 и ее семьи – яркое свидетельство того, насколько жестоки были нацисты, пытаясь решить практически нерешаемую проблему, которую сами создали, и того, как трудности переселения вызывали новые трудности, которые, в конце концов, окончательно вышли из-под контроля и привели к полной катастрофе. В декабре 1939 года Ирма Айги, семнадцатилетняя этническая немка из Эстонии, очутилась вместе со всей своей семьей во временном жилище в городе Позен, который до войны был частью Польши, а теперь стал частью Германии, получившей название Вартегау. Приняв предложение о беспрепятственном проезде «в рейх», они думали, что их отправят в Германию: «Когда же нам сказали, что мы едем в Вартегау, должна вам сказать, мы были в состоянии полного шока». Как раз перед Рождеством 1939 года нацистский чиновник, отвечавший за расселение, дал ее отцу ключи от квартиры, в которой несколькими часами ранее еще жила какая-то польская семья. А через несколько дней после этого у другой польской семьи отобрали ресторан и передали его семье Ирмы, чтобы у них был свой бизнес. Семья Айги была повергнута в ужас: «Мы не имели не малейшего понятия о том, что произошло… Жить с таким чувством вины невозможно. Но с другой стороны, каждый человек обладает инстинктом самосохранения. Что мы могли сделать? Куда еще нам было идти?»
Этот отдельный случай экспроприации нужно умножить на 100 000 других подобных случаев, чтобы получить представление о том, что тогда творилось в Польше. Масштаб этой гигантской операции по переселению был огромен – на протяжении полутора лет около полумиллиона этнических немцев были расселены в новой части рейха, в то время как сотни тысяч поляков были выселены оттуда, чтобы освободить место для прибывших немцев. Многих поляков просто затолкали в товарные вагоны и отвезли на юг, в Генерал-губернаторство, где их просто выбросили из вагонов, оставив без еды и без кровли над головой. Неудивительно, что в январе 1940 года Геббельс написал в своем дневнике: «Гиммлер сейчас занимается перемещением населения. Не всегда успешно23.
При всем этом оставался еще вопрос польских евреев. Придя к пониманию того, что перемещать евреев, поляков и этнических немцев одновременно абсолютно нереально, Гиммлер принял другое решение: если этническим немцам необходимо жизненное пространство, что было очевидно, то нужно забрать его у евреев и заставить их жить на гораздо меньшей площади, нежели до того. Решением этой проблемы стало создание гетто.
Гетто, ставшие такой страшной приметой нацистского преследования евреев в Польше, изначально не создавались для тех ужасных условий, которые там, в конечном счете, воцарились. Как и многое другое в истории Освенцима и нацистского «окончательного решения еврейского вопроса», те фатальные изменения, которые произошли в гетто за время их существования, поначалу не входили в планы нацистов. Еще в ноябре 1938 года, в процессе обсуждения того, как решить жилищные проблемы, вызванные выселением немецких евреев из их домов, Рейнхард Гейдрих, видный деятель СС, сказал: «Что касается вопроса создания гетто, то я хотел бы сразу четко изложить свою позицию по этому вопросу. С точки зрения полиции я считаю, что не целесообразно создавать гетто в виде полностью сегрегированного района, в котором будут проживать только евреи. Мы не сможем контролировать такие гетто, где евреи смогут создавать какие-то группировки среди своих, – они превратятся в убежища для преступников, очаги эпидемий и тому подобного»24.
Однако при существующем положении дел нацисты не видели иного выхода, кроме как загнать всех польских евреев в гетто. Это было не только практической мерой, призванной освободить больше жилья (хотя в марте 1940 года Гитлер и заявил, что «решение еврейского вопроса – это вопрос жизненного пространства»)25; это было решение, продиктованное животной ненавистью и страхом перед евреями – чувствами, которыми нацизм был пропитан насквозь. Нацисты считали, что в идеале евреев надо просто заставить «убраться подальше», но так как на тот момент это было невозможно, то их необходимо было изолировать от всех остальных: поскольку, как считали нацисты, евреи, особенно восточноевропейские, были носителями всяческих болезней. Сильнейшее физическое отвращение нацистов к польским евреям Эстер Френкель26, еврейская девочка-подросток из Лодзи, ощутила с самого начала: «Мы привыкли к антисемитизму…, но польский антисемитизм был больше, скажем так, финансовым. Антисемитизм же нацистов был другим: “Почему вы вообще существуете? Вас вообще не должно быть! Вы должны вообще исчезнуть!”»
В феврале 1940 года, в то время как депортация поляков в Генерал-губернаторство шла полным ходом, было объявлено, что все евреи Лодзи должны «переместиться» в район города, отведенный под гетто. Вначале такие гетто планировались лишь как временная мера, место для заключения евреев перед тем, как депортировать их куда-нибудь. В апреле 1940 года Лодзинское гетто было взято под охрану и евреям было запрещено покидать его территорию без разрешения немецких властей. В том же месяце главное управление имперской безопасности объявило о прекращении депортации евреев в Генерал-губернаторство. Ганс Франк, в прошлом личный адвокат Гитлера, а теперь руководитель Генерал-губернаторства, уже на протяжении многих месяцев активно выступал за прекращение всех видов «незаконной» принудительной эмиграции, поскольку ситуация полностью вышла из-под контроля. Как несколько позже свидетельствовал доктор Фритц Арлт27, глава отдела по вопросам населения в Генерал-губернаторстве: «Людей выбрасывали из поездов на рынке, на вокзале или еще где-нибудь, и никому не было до них никакого дела… Нам позвонил руководитель одного из районов: “Я не знаю, что мне делать. Снова прибыло столько-то и столько-то сотен людей. У меня нет для них ни крова, ни еды. У меня нет вообще ничего”». Франк, недруг Гиммлера, пожаловался Герману Герингу (который интересовался Польшей, так как был ответственным за выполнение четырехлетнего экономического плана) на политику депортаций и на то, что Генерал-губернаторство превратили в «расовую свалку». В результате между Гиммлером и Франком было заключено довольно неустойчивое перемирие, при котором они «будут вместе договариваться о процедурах будущей эвакуации».
Все эти проблемы Гиммлер и попытался передать в своем меморандуме в мае 1940 года. Пытаясь найти решение в сложившейся ситуации, он намеревался усилить разделение Польши на немецкую и не немецкую части и четко определиться, как следует обращаться с поляками и евреями. Излагая свою расовую программу, Гиммлер писал, что хотел бы превратить поляков в нацию необразованных рабов, и что Генерал-губернаторство должно стать домом для «рабочего класса, лишенного каких-либо лидеров»28. «Ненемецкое население восточных территорий не должно получать образования выше начальной школы, – писал Гиммлер. – Целью такой начальной школы будет: научить их считать максимум до 500, написать свое имя и понимать, что это Божья заповедь – повиноваться немцам, быть честными, трудолюбивыми и хорошо себя вести. Обучение чтению считаю излишним».
