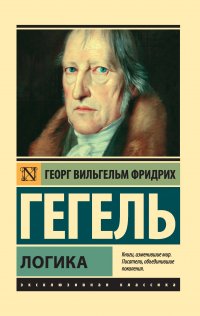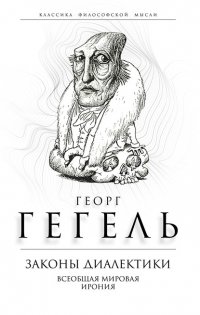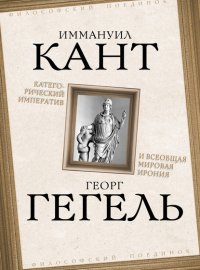Читать онлайн Феноменология духа бесплатно
- Все книги автора: Георг Гегель
© ООО «Издательство АСТ», 2021
Предисловие
I. Научная задача нашего времени
1. Истина как научная система
Объяснение в том виде, в каком его принято предпосылать произведению в предисловии, – по поводу цели, которую ставит себе в нем автор, а также по поводу его побуждений и того отношения, в каком данное произведение, по его мнению, стоит к другим, прежним или современным, опытам разработки того же предмета, – такое объяснение в философском сочинении как будто не только излишне, но по сути дела даже не соответствует и противоречит цели его. Ибо то, как в предисловии было бы уместно говорить о философии и что было бы уместно сказать, – дать, например, историческое разъяснение тенденции и точки зрения, общего содержания и результатов, показать связь разноречивых утверждений и уверений, касающихся истинного, – это не может считаться тем способом, каким следовало бы излагать философскую истину. – Кроме того, так как философия по существу своему относится к стихии всеобщности, которая включает в себя особенное, то в ней чаще, чем в других науках, впадают в иллюзию, будто в цели и в конечных результатах выражается сама суть дела, и даже в совершенной ее сущности, рядом с чем выполнение, собственно говоря, несущественно. Напротив того, в общем представлении о том, что такое, например, анатомия, – скажем, знание частей тела в их лишенном жизни наличном бытии, – мы (в этом убеждены все люди) еще не располагаем самой сутью дела, содержанием этой науки, а должны, сверх того, позаботиться об особенном. – Далее, когда речь идет о таком агрегате сведений, который не имеет права именоваться наукой, обмен мнений о цели и тому подобных общих вопросах обыкновенно не отличается от того описательно-исторического и не прибегающего к понятиям способа, каким говорится и о самом содержании – о данных нервах, мышцах и т. д. Но в философии получилось бы несоответствие между применением такого способа изложения и тем обстоятельством, что сама философия признает его неспособным выразить истину.
Точно так же определением того отношения к другим трудам, посвященным тому же предмету, какое рассчитывает занять философское произведение, привносится чуждый интерес и затемняется то, что важно при познании истины. Противоположность истинного и ложного так укоренилась в общем мнении, что последнее обычно ожидает или одобрения какой-либо имеющейся философской системы, или несогласия с ней, а при объяснении ее видит лишь либо то, либо другое. Общее мнение не столько понимает различие философских систем как прогрессирующее развитие истины, сколько усматривает в различии только противоречие. Почка исчезает, когда распускается цветок, и можно было бы сказать, что она опровергается цветком; точно так же при появлении плода цветок признается ложным наличным бытием растения, а в качестве его истины вместо цветка выступает плод. Эти формы не только различаются между собой, но и вытесняют друг друга как несовместимые. Однако их текучая природа делает их в то же время моментами органического единства, в котором они не только не противоречат друг другу, но один так же необходим, как и другой; и только эта одинаковая необходимость и составляет жизнь целого. Но, с одной стороны, по отношению к философской системе противоречие обычно понимает себя само не так, а с другой стороны, постигающее сознание сплошь и рядом не умеет освободить его от его односторонности или сохранить его свободным от последней и признать взаимно необходимые моменты в том, что кажется борющимся и противоречащим себе.
Требование подобного рода объяснений, точно так же как и удовлетворение его, легко сходит за занятие самим существом дела. В чем же могла бы лучше выразиться внутренняя суть философского сочинения, как не в целях и результатах его, и как иначе эти последние можно было бы выявить определеннее, как не по их различию от того, что еще порождается эпохой в той же сфере? Но если такой способ действия считать чем-то большим, чем началом познавания, если его считать действительным познаванием, то в самом деле его надо причислить к уловкам, дающим возможность не касаться самой сути дела и сочетать видимость серьезности и радения о ней с фактическим избавлением себя от них. – Ибо суть дела исчерпывается не своей целью, а своим осуществлением, и не результат есть действительное целое, а результат вместе со своим становлением; цель сама по себе есть безжизненное всеобщее, подобно тому как тенденция есть простое влечение, которое не претворилось еще в действительность; а голый результат есть труп, оставивший позади себя тенденцию. – Точно так же различие есть скорее граница существа дела; оно налицо там, где суть дела перестает быть, или оно есть то, что не есть суть дела. Такое радение о цели или о результатах, точно так же как о различиях и обсуждении того и другого, есть поэтому работа более легкая, чем, быть может, кажется. Ибо, вместо того чтобы заняться существом дела, такой способ действия всегда выходит за его пределы; вместо того чтобы задержаться на нем и в нем забыться, такое знание всегда хватается за что-нибудь другое и скорее остается при самом себе, чем при существе дела, и отдается ему. Самое легкое – обсуждать то, в чем есть содержательность и основательность, труднее – его постичь, самое трудное – то, что объединяет и то и другое, – воспроизвести его.
Образование и высвобождение из непосредственности субстанциальной жизни всегда и необходимо начинается с приобретения знания общих принципов и точек зрения, чтобы сперва только дойти до мысли о существе дела вообще, а равным образом для того, чтобы подкрепить его доводами или опровергнуть, постигнуть конкретную и богатую полноту по определенностям и уметь принять относительно его надлежащее решение и составить серьезное суждение. Но прежде всего это начало образования даст место той серьезности наполненной содержанием жизни, которая вводит в опыт самой сути дела; и если еще к этому в ее глубину проникнет серьезность понятия, то такое знание и обсуждение удержат за собой подобающее им место в обмене мнений.
Истинной формой, в которой существует истина, может быть лишь научная система ее. Моим намерением было – способствовать приближению философии к форме науки – к той цели, достигнув которой она могла бы отказаться от своего имени любви к знанию и быть действительным знанием. Внутренняя необходимость того, чтобы знание было наукой, заключается в его природе, и удовлетворительное объяснение этого дается только в изложении самой философии. Внешняя же необходимость, поскольку она независимо от случайности лица и индивидуальных побуждений понимается общо, та же, что и внутренняя, в том именно виде, в каком время представляет наличное бытие своих моментов. Показать, что настало время для возведения философии в ранг науки, было бы поэтому единственно истинным оправданием попыток, преследующих эту цель, потому что оно доказывало бы необходимость цели, больше того, оно вместе с тем и осуществляло бы ее.
2. Современное образование
Когда истинная форма истины усматривается в научности, или – что то же самое – когда утверждается, что только в понятии истина обладает стихией своего существования, то я знаю, что это кажется противоречащим тому представлению – и вытекающим из него следствиям, – которое в убеждении нашего времени столь же сильно претенциозно, сколь и широко распространено. Поэтому некоторое объяснение по поводу этого противоречия, видимо, не излишне, хотя бы оно оставалось здесь всего лишь уверением – таким же, как то, против чего оно направлено. Ведь если истинное существует лишь в том или, лучше сказать, лишь как то, что называется то интуицией (Anschauung), то непосредственным знанием абсолютного, религией, бытием – не в центре божественной любви, а бытием самого этого центра, – то уже из этого видно, что для изложения философии требуется скорее то, что противно форме понятия. Абсолютное полагается-де не постигать в понятии, а чувствовать или созерцать; не понятие его, а чувство его и интуиция должны-де взять слово и высказаться[1].
Если явление такого требования понять в его более общей связи и видеть его на той ступени, на которой ныне стоит обладающий самосознанием дух, то оказывается, что он поднялся над субстанциальной жизнью, которую он прежде вел в стихии мысли, – над этой непосредственностью своей веры, над удовлетворенностью и уверенностью, вытекающей из достоверности, которой обладало сознание относительно его примирения с сущностью и ее общим, внутренним и внешним, наличием. Он не только вышел за пределы всего этого и перешел в другую крайность – к своей рефлексии в самое себя, лишенной субстанциальности, но и вышел за пределы этой же рефлексии. Для него не просто потеряна его существенная жизнь; он, кроме того, сознает эту потерю и бренность, которая составляет его содержание. Отворачиваясь от грязного осадка, признавая, что он «лежит во зле», и порицая это, он требует теперь от философии не столько знания того, что́ есть он, сколько лишь – восстановления с ее помощью названной субстанциальности и основательности бытия. Для этой надобности философия, следовательно, должна-де не столько разомкнуть замкнутость субстанции и поднять ее до самосознания, не столько вернуть хаотическое сознание к мысленному порядку и простоте понятия, сколько, наоборот, свалить в кучу то, что разделено мыслью, заглушить понятие, устанавливающее различия, и восстановить чувство сущности, дать не столько уразумение, сколько назидание. Прекрасное, священное, вечное, религия и любовь – вот приманка, которая требуется для того, чтобы возбудить желание попасться на удочку; не на понятие, а на экстаз, не на холодно развертывающуюся необходимость дела, а на бурное вдохновение должна-де опираться субстанция, чтобы все шире раскрывать свое богатство.
Этому требованию соответствуют напряженные и, можно сказать, страстно и раздраженно проявляющиеся усилия вырвать людей из погруженности в чувственное, низменное и единичное и направить их взор к звездам; как будто они, совершенно забывая о божественном, намерены были довольствоваться, как червь, прахом и водой. В прежние времена люди наделяли небо огромным богатством мыслей и образов. Значение всего того, что есть, заключалось в той нити света, которая привязывала его к небу; пребывая на небе, вместо того чтобы держаться этой действительности (Gegenwart), взор скользит за ее пределы, к божественной сущности, к некоей, если так можно выразиться, потусторонней действительности. Око духа силой вынуждено было направляться на земное и задерживаться на нем; и потребовалось много времени, чтобы ту ясность, которой обладало только сверхземное, внести в туманность и хаотичность, в коих заключался смысл посюстороннего, и придать интерес и значение тому вниманию к действительности как таковой, которая была названа опытом. – Теперь, как будто, нужда в противном – чувство так укоренилось в земном, что требуется такая же большая сила, чтобы вознести его над земным. Дух оказывается так беден, что для своего оживления он как будто лишь томится по скудному чувству божественного вообще, как в песчаной пустыне путник – по глотку простой воды. По тому, чем довольствуется дух, можно судить о величине его потери.
Это довольство получаемым или скупость в даваемом не подобает, однако, науке. Кто ищет только назидания, кто желает окутать туманом земное многообразие своего наличного бытия и мысли и стремится к неопределенному наслаждению этой неопределенной божественностью, пусть сам заботится о том, где его найти; ему не трудно будет найти средство выдумать для себя что-нибудь и носиться с этим. Но философия должна остерегаться желания быть назидательной.
Еще меньше основания у этого довольства, отрекающегося от науки, заявлять, что такое вдохновение и туманность суть нечто более высокое, чем наука. Эти пророческие речи мнят, что пребывают в самом средоточии и в глубинах, с презрением взирают на определенность (ὅροϛί) и намеренно чуждаются понятия и необходимости, как и рефлексии, коей место – будто бы только в конечном. Но как бывает пустая широта, так бывает и пустая глубина; так же как бывает некоторая экстенсивность субстанции, растекающаяся в конечном многообразии и бессильная удержать его, так и бессодержательная интенсивность, которая, будучи чистой силой без расширения, есть то же, что поверхностность. Сила духа лишь так велика, как велико ее внешнее проявление, его глубина глубока лишь настолько, насколько он отваживается распространиться и потерять себя в своем раскрытии. – В то же время, когда это не достигшее понятия субстанциальное знание заявляет, что оно погружает своебытность самости в сущность и философствует инстинно и свято, то оно от себя утаивает, что вместо того, чтобы предаться богу, оно, пренебрегая мерой и определением, напротив, лишь предоставляет свободу либо в самом себе – случайности содержания, либо в содержании – собственному произволу. – Предаваясь необузданному брожению субстанции, поборники этого знания воображают, будто, обволакивая туманом самосознание и отрекаясь от рассудка, они суть те посвященные, коим бог ниспосылает мудрость во сне; то, что они таким образом на деле получают и порождают во сне, есть поэтому также сновидения.
3. Истинное как принцип и его раскрытие
Впрочем, не трудно видеть, что наше время есть время рождения и перехода к новому периоду. Дух порвал с прежним миром своего наличного бытия и своего представления, он готов погрузить его в прошлое и трудится над своим преобразованием. Правда, он никогда не пребывает в покое, а вовлечен в непрерывное движение вперед. Но как у младенца при рождении после длительного спокойного питания первый глоток воздуха обрывает прежнюю постепенность лишь количественного роста, – совершается качественный скачок, – и ребенок появился на свет, так образующийся дух медленно и спокойно созревает для новой формы, разрушает одну частицу здания своего прежнего мира за другой; о неустойчивости последнего свидетельствуют лишь отдельные симптомы. Легкомыслие, как и скука, распространяющиеся в существующем, неопределенное предчувствие чего-то неведомого – все это предвестники того, что приближается нечто иное. Это постепенное измельчение, не изменившее облика целого, прерывается восходом, который сразу, словно вспышка молнии, озаряет картину нового мира.
Однако совершенной действительности в этом новом так же мало, как и в новорожденном младенце; и существенно не упускать этого из виду. Первое выступление есть лишь его непосредственность или его понятие. Как здание не готово, когда заложен его фундамент, так достигнутое понятие целого не есть само целое. Там, где мы желаем видеть дуб с его могучим стволом, с его разросшимися ветвями, с массой его листвы, мы выражаем неудовольствие, когда вместо него нам показывают желудь. Так и наука, венец некоторого мира духа, не завершается в своем начале. Начало нового духа есть продукт далеко простирающегося переворота многообразных форм образования, оно достигается чрезвычайно извилистым путем и ценой столь же многократного напряжения и усилия. Это начало есть целое, которое возвратилось в себя из временно́й последовательности, как и из своего пространственного протяжения, оно есть образовавшееся простое понятие этого целого. Действительность же этого простого целого состоит в том, что упомянутые формообразования, превратившиеся в моменты, снова, но в своей новой стихии, развиваются во вновь приобретенном смысле и формируются.
В то время как первое явление нового мира, с одной стороны, есть лишь свернувшееся в свою простоту целое или его общее основание, для сознания, напротив того, еще не потеряно воспоминание о богатстве предшествующего наличного бытия. Во вновь появляющемся образовании оно не находит раскрытия и различения содержания; но еще в меньшей мере оно находит то развитие формы, благодаря которому с несомненностью определяются различия, и в их прочные отношения вносится порядок. Без этого развития наука лишена общепонятности и кажется находящейся в эзотерическом владении нескольких отдельных лиц; – в эзотерическом владении: ибо она имеется налицо всего лишь в своем понятии или налицо имеется лишь ее «внутреннее»; – нескольких отдельных лиц: ибо ее неразработанность делает ее наличное бытие единичным. Лишь то, что вполне определено, есть в то же время экзотерическое, понятное и годное для того, чтобы быть изученным и стать достоянием каждого. Рассудочная форма науки – это всем предоставленный и для всех одинаково проложенный путь к ней, и достигнуть при помощи рассудка разумного знания есть справедливое требование сознания, которое приступает к науке, ибо рассудок есть мышление, чистое «я» вообще; и рассудочное есть уже известное и общее для науки и ненаучного сознания, благодаря чему последнее в состоянии непосредственно приобщиться к науке.
Наука, которая находится только на начальной стадии и, следовательно, еще не достигла ни полноты деталей, ни совершенства формы, подвергается за это порицанию. Но если это порицание относить к сущности науки, то оно было бы столь же несправедливо, сколь недопустимо желание отказаться от требования упомянутого развития. Эта противоположность и есть, по-видимому, самый главный узел, над развязыванием которого в настоящее время бьется научное образование и относительно которого оно еще не достигло надлежащего понимания. Одни кичатся богатством материала и понятностью его, другие пренебрегают, по крайней мере, последней и кичатся непосредственной разумностью и божественностью. Хотя первые – силою ли одной истины или также под напором других – приведены к молчанию и хотя они чувствовали себя побежденными в том, что касается сути дела, все же они не удовлетворены тем, что касается упомянутых требований, ибо эти требования справедливы, но не выполнены. Их молчание только отчасти вызвано победой [противника], отчасти же – скукой и равнодушием, которые обычно порождаются вследствие того, что ожидания постоянно возбуждаются, а обещания остаются невыполненными.
Что касается содержания, то другие[2], пожалуй, подчас легко довольствуются большой пространностью. Они собирают в своей области кучу материала, именно то, что уже известно и приведено в порядок, и так как они имеют дело преимущественно со странными и курьезными случаями, то им кажется, будто они тем более располагают всем прочим, с чем знание по-своему уже покончило, им кажется, будто они в то же время владеют и тем, что еще не подведено под правила, и таким образом подчиняют все абсолютной идее, которая тем самым будто бы во всем познается и вырастает в развитую вширь науку. Но если ближе присмотреться к этому развитию, то оказывается, что оно получилось не вследствие того, что одно и то же само себя по-разному формировало, а это развитие есть бесформенное повторение одного и того же, что только внешне прилагается к различному материалу и приобретает скучную видимость различия. Идея, сама по себе, быть может, и истинная, на деле всегда останавливается на начальной своей стадии, если развитие состоит лишь в таком повторении одной и той же формулы. Одна неподвижная форма, в которую обладающий знанием субъект облекает то, что перед ним находится, материал, погружаемый извне в эту покоящуюся стихию, – все это столь же мало, как и произвольные выдумки по поводу содержания, есть осуществление того, что требуется, а именно: из себя самого проистекающее богатство и само себя определяющее различие форм. Напротив, это – одноцветный формализм, который доходит только до различения материала, а именно благодаря тому, что этот последний уже подготовлен и известен.
При этом формализм выдает эту монотонность и абстрактную всеобщность за абсолютное; он уверяет, будто неудовлетворенность ею есть выражение неспособности овладеть абсолютной точкой зрения и твердо ее придерживаться. Если в прежнее время достаточно было пустой возможности представить себе что-нибудь и по-иному, чтобы опровергнуть какое-нибудь представление, и та же голая возможность, общая мысль, обладала, кроме того, всей положительной ценностью действительного познавания, то здесь мы равным образом видим, что вся ценность приписывается всеобщей идее в этой форме недействительности и что спекулятивным способом рассмотрения считается растворение того, что уже различено и определено, или, лучше сказать, низвержение его в бездну пустоты, далее не развиваемое и не имеющее оправдания в самом различенном и определенном. Рассмотрение какого-нибудь наличного бытия, как оно есть в абсолютном, состоит здесь только в утверждении, что хотя о нем теперь и говорилось как о некотором нечто, однако в абсолютном, в А = А, вообще ничего подобного нет, в нем все едино суть. Одно это знание, что в абсолютном все одинаково, противопоставлять различающему и осуществленному познанию или познанию, ищущему и требующему осуществления, – или выдавать свое абсолютное за ночь, в которой, как говорится, все кошки серы, – есть наивность пустоты в познании. – Формализм, на который жалуется и возводит хулу философия нового времени и который возродился в ней самой, не исчезнет из науки, даже если неудовлетворительность его известна и ощущается, – пока познавание абсолютной действительности полностью не уяснит себе своей собственной природы. – Ввиду того что общее представление, предваряя попытку его осуществления, облегчает постижение последнего, здесь полезно наметить в общих чертах нечто подобное ему, чтобы, воспользовавшись этим случаем, заодно отвергнуть некоторые формы, привычка к которым затрудняет философское познавание.
II. Развитие сознания до уровня науки
1. Понятие абсолютного как субъекта
На мой взгляд, который должен быть оправдан только изложением самой системы, все дело в том, чтобы понять и выразить истинное не как субстанцию только, но равным образом и как субъект. В то же время надо заметить, что субстанциальность в такой же степени заключает в себе всеобщее, или непосредственность самого знания, как и ту [непосредственность], которая есть бытие, или непосредственность для знания. – Если понимание Бога как единственной субстанции[3] возмущало эпоху, когда это определение было высказано, то причина этого заключалась отчасти в инстинктивном чувстве того, что самосознание при этом только пропало, не сохранилось, а отчасти в противоположном взгляде, который утверждает мышление как мышление, всеобщность как таковую, ту же простоту или неразличенную, неподвижную субстанциальность[4]; и если, в-третьих, мышление объединяет с собой бытие субстанции, а непосредственность или интуицию (Anschauen) понимает как мышление, то дело еще в том, не впадает ли опять эта интеллектуальная интуиция в инертную простоту и не изображает ли она самоё действительность недействительным образом[5].
Живая субстанция, далее, есть бытие, которое поистине есть субъект или, что то же самое, которое поистине есть действительное бытие лишь постольку, поскольку она есть движение самоутверждения, или поскольку она есть опосредствование становления для себя иною. Субстанция как субъект есть чистая простая негативность, и именно поэтому она есть раздвоение простого, или противополагающее удвоение, которое опять-таки есть негация этого равнодушного различия и его противоположности; только это восстанавливающееся равенство или рефлексия в себя самое в инобытии, а не некоторое первоначальное единство как таковое или непосредственное единство как таковое, – есть то, что истинно. Оно есть становление себя самого, круг, который предполагает в качестве своей цели и имеет началом свой конец и который действителен только через свое осуществление и свой конец.
Жизнь Бога и божественное познавание, таким образом, можно, конечно, провозгласить некоторой игрой любви с самой собой; однако эта идея опускается до назидательности и даже до пошлости, если при этом недостает серьезности, страдания, терпения и работы негативного. Пусть в себе названная жизнь есть невозмутимое равенство и единство с самой собой, которое не придает серьезного значения инобытию и отчуждению, равно как и преодолению этого отчуждения. Но это в-себе[-бытие] есть абстрактная всеобщность, в которой отвлекаются от его природы, состоящей в том, чтобы быть для себя, – и тем самым – вообще от самодвижения формы. Если провозглашается, что форма равна сущности, то уже в силу одного этого ошибочно мнение, будто познавание может довольствоваться этим в-себе[-бытием] или сущностью, но обойтись без формы; – как будто абсолютный принцип или абсолютная интуиция делают излишним раскрытие сущности или развитие формы. Именно потому, что форма столь же существенна для сущности, как сущность для себя самой, сущность следует понимать и выражать – не просто как сущность, т. е. как непосредственную субстанцию или как чистое самосозерцание божественного, но в такой же мере и как форму и во всем богатстве ее развернутой формы; лишь благодаря этому сущность понимается и выражается как то, что действительно.
Истинное есть целое. Но целое есть только сущность, завершающаяся через свое развитие. Об абсолютном нужно сказать, что оно по существу есть результат, что оно лишь в конце есть то, что есть оно поистине; и в том-то и состоит его природа, что оно есть действительное, субъект или становление самим собою для себя. Как бы ни казалось противоречивым [положение], что абсолютное нужно понимать по существу как результат, но достаточно небольшого размышления, чтобы эта видимость противоречия рассеялась. Начало, принцип или абсолютное, как оно провозглашается первоначально и непосредственно, есть только всеобщее. Сколь мало, когда я говорю: «все животные», это выражение может быть сочтено за зоологию, столь же ясно, что слова «божественное», «абсолютное», «вечное» и т. п. не выражают того, что содержится в них; – а ведь только такими словами фактически выражают созерцание как то, что непосредственно. То, что больше, чем такое слово, хотя бы только переход к какому-либо предложению, содержит некоторое иностановление, от которого нужно отречься, – это большее есть опосредствование. Оно-то и вызывает отвращение, словно от абсолютного познания отказываются тем, что опосредствованию придается большее значение, чем то лишь, что в нем нет ничего абсолютного и что в абсолютном оно вовсе не находится.
Но на деле это отвращение проистекает из незнакомства с природой опосредствования и самого́ абсолютного познавания. Ибо опосредствование есть не что иное, как равенство себе самому, находящееся в движении, или оно есть рефлексия в себя же, момент для-себя-сущего «я», чистая негативность, или низведенное до чистой абстракции, оно есть простое становление. «Я» или становление вообще, этот процесс опосредствования в силу своей простоты есть именно становящаяся непосредственность и само непосредственное. Разуму поэтому отказывают в признании, когда рефлексию исключают из истинного и не улавливают в ней положительного момента абсолютного. Она-то и делает истинное результатом, но точно так же и снимает эту противоположность по отношению к его становлению; ибо это становление в такой же степени просто и потому не отличается от формы истинного, состоящей в том, чтобы [истинное] показало себя в результате как простое; больше того, оно в том и состоит, что уходит назад в простоту. – Хотя зародыш и есть в себе человек, но он не есть человек для себя; для себя он таков только как развитый разум, который превратил себя в то, что он есть в себе. Лишь в этом состоит действительность разума. Но этот результат сам есть простая непосредственность, ибо он есть обладающая самосознанием свобода, которая покоится внутри себя и которая не устранила противоположности и не отвращается от нее, а с ней примирена.
Сказанное можно выразить и так, что разум есть целесообразное действование. Возвышение вымышленной природы над непризнанным мышлением и, прежде всего, изгнание внешней целесообразности подорвали доверие к форме цели вообще. Однако, следуя определению, которое уже Аристотель дает природе как целесообразной деятельности, цель есть [нечто] непосредственное, покоящееся, неподвижное, которое само движет; таким образом, это – субъект. Его способность приводить в движение, понимаемая абстрактно, есть для-себя-бытие или чистая негативность. Результат только потому тождествен началу, что начала есть цель; – или: действительное только потому тождественно своему понятию, что непосредственное в нем самом имеет в качестве цели самость или чистую действительность. Осуществленная цель или налично сущее действительное есть движение и развернутое становление, но именно этот непокой и есть самость, и она равна названной непосредственности и простоте начала потому, что она есть результат, то, что вернулось в себя; но то, что вернулось в себя, есть именно самость, а самость есть относящееся к себе равенство и простота.
Потребность представлять абсолютное как субъект пользовалась положениями: бог есть «вечное», или «моральный миропорядок», или «любовь» и т. д. В таких положениях истинное прямо устанавливается только как субъект, но не представляется как движение рефлексии в самое себя. Положение такого рода начинается со слова «Бог». Это слово само по себе есть бессмысленный звук, одно лишь имя. Только предикат говорит, что есть он, т. е. наполняет его [содержанием] и сообщает ему смысл. Пустое начало только в этом конце становится действительным знанием. Раз это так, то нельзя понять, почему не говорят просто о «вечном», о «моральном миропорядке» и т. д., или, как поступали древние, о чистых понятиях, бытии, едином и т. д., – о том, что имеет смысл без добавления звука, лишенного смысла. Но этим словом обозначают как раз то, что установлено не вообще какое-нибудь бытие, или сущность, или всеобщее, а нечто рефлектированное в себя, некоторый субъект. Но в то же время это только предвосхищено. Субъект принимается за устойчивый пункт, к которому, как к своей опоре, прикрепляются предикаты – посредством движения, которое составляет принадлежность знающего об этом пункте и которое не считается принадлежностью самого этого пункта; а ведь лишь посредством такого движения можно было бы представить содержание как субъект. Имея такой характер, это движение не может быть принадлежностью самого субъекта; но в соответствии с предположением названного [устойчивого] пункта оно и не может быть иным, оно может быть только внешним. Указанное предвосхищение, что абсолютное есть субъект, не только не составляет поэтому действительности этого понятия, но делает ее даже невозможной, ибо она устанавливает это понятие как покоящийся пункт, между тем эта действительность есть самодвижение.
Среди различных выводов, вытекающих из сказанного, можно выделить то, что знание действительно и может быть изложено только как наука или как система; что, далее, так называемое основоположение или принцип философии, если он истинен, тем самым уже и ложен, поскольку он существует лишь в качестве основоположения или принципа. – Поэтому его можно легко опровергнуть. Опровержение это состоит в том, что указывается его недостаточность; недостаточен же он потому, что он – только всеобщее или принцип, начало. Если опровержение основательно, то оно из него самого заимствовано и развито, а не выдвинуто извне на основании противоположных уверений и выдумок. Следовательно, такое опровержение было бы, собственно говоря, его, принципа, развитием и тем самым восполнением его недостаточности – если оно не сделает ошибку в том отношении, что обратит внимание только на негативную сторону своих действий и не будет сознавать своего продвижения и результата также с их положительной стороны. – И наоборот, в собственном смысле положительное проведение начала есть в то же время и в такой же мере негативное отношение к нему, а именно к его односторонней форме лишь непосредственного бытия или цели. Такое проведение, следовательно, можно принять также за опровержение того, что составляет основание системы, но правильнее рассматривать его как показатель того, что основание или принцип системы на деле есть всего лишь начало ее.
То, что истинное действительно только как система, или то, что субстанция по существу есть субъект, выражено в представлении, которое провозглашает абсолютное духом, – самое возвышенное понятие, и притом понятие, которое принадлежит новому времени и его религии. Лишь духовное есть то, что действительно; оно есть сущность или в-себе-сущее, оно есть то, что вступает в отношения, и то, что определено; оно есть инобытие и для-себя-бытие, – и в этой определенности или в своем вне-себя-бытии оно есть неизменное внутри себя; – или оно есть в себе и для себя. – Но оно есть это в-себе-и-для-себя-бытие только для нас или в себе оно есть духовная субстанция. Оно должно быть тем же и для себя самого, оно должно быть знанием о духовном и знанием о себе как о духе, это значит, оно должно быть для себя в качестве предмета, но столь же непосредственно в качестве предмета снятого, рефлектированного в себя. Предмет для себя есть лишь для нас, поскольку его духовное содержание порождено им самим; поскольку же он и для самого себя есть для себя, то это самопорождение, чистое понятие, есть в то же время для него предметная стихия, в которой он имеет свое наличное бытие; и таким образом предмет в своем наличном бытии есть для самого себя предмет, рефлектированный в себя. – Дух, который знает себя в таком развитии как духа, есть наука. Она есть его действительность и царство, которое он создает себе в своей собственной стихии.
2. Становление знания
Чистое самопознавание в абсолютном инобытии, этот эфир как таковой, есть основание науки или знание в общем виде. Начало философии предполагает или постулирует, что сознание находится в этой стихии. Но эта стихия получает само свое завершение и прозрачность лишь благодаря движению своего становления. Она есть чистая духовность как всеобщее, имеющее характер простой непосредственности; – это простое, поскольку оно как таковое обладает существованием, является той почвой, которая есть мышление и которая есть только в духе. Так как эта стихия, эта непосредственность духа, есть то, что в духе вообще субстанциально, то она есть просветленная существенность, рефлексия, которая сама проста и есть непосредственность как таковая для себя, бытие, которое есть рефлексия в себя самого. Наука, со своей стороны, требует от самосознания, чтобы оно поднялось в этот эфир – для того, чтобы оно могло жить и жило с наукой и в науке. Индивид, наоборот, имеет право требовать, чтобы наука подставила ему лестницу, по которой он мог бы добраться по крайней мере до этой точки зрения, чтобы наука показала ему эту точку зрения в нем самом. Его право зиждется на его абсолютной самостоятельности, которой он может располагать во всяком виде (Gestalt) своего знания, ибо во всяком таком виде – призна́ет ли его наука или нет, и при любом содержании – индивид есть абсолютная форма, т. е. непосредственная достоверность себя самого и, – если бы этому выражению было оказано предпочтение, – он есть тем самым безусловное бытие. Если точка зрения сознания, состоящая в том, что оно знает о предметных вещах в противоположность самому себе, а о самом себе – в противоположность этим вещам, считается для науки «иным» – [другими словами], то, в чем сознание знает себя у себя самого[6], считается скорее потерей для духа, – то для сознания, напротив, стихия науки есть некая потусторонняя даль, где оно уже не располагает самим собой. Каждая из этих двух сторон кажется другой стороне истиной наизнанку (das Verkehrte). Непосредственное доверие естественного сознания к науке есть неизвестно чем вызванная попытка этого сознания хоть раз походить на голове; занять это необычное положение и двигаться в нем его принуждает столь же неожиданное, как и, по-видимому, ненужное насилие, которое ему угодно учинять над собой. – Пусть наука сама по себе будет чем угодно, но она по отношению к непосредственному самосознанию выступает в качестве чего-то превратного в отношении к нему (ein Verkehrtes); или: так как для непосредственного самосознания принцип его действительности заключается в достоверности его самого, то наука, – ввиду того, что оно для себя существует вне ее, – носит форму недействительности. Поэтому наука должна соединить с собой такую стихию или, вернее, должна показать, что эта стихия присуща ей самой и как она ей присуща. Лишенная такой действительности, наука есть лишь содержание в качестве в-себе[-бытия], цель, которая есть пока лишь нечто внутреннее, не в качестве духа, всего лишь духовная субстанция. Это в-себе[-бытие] должно выразиться внешне и становиться для себя самого, – это значит лишь то, что оно должно определить самосознание как тождественное с собой.
Это становление науки вообще или знания и излагается в этой Феноменологии духа. Знание, как оно выступает в начале, или непосредственный дух, есть то, что лишено духа, чувственное сознание. Чтобы стать знанием в собственном смысле или создать стихию науки, составляющую само чистое понятие науки, знание должно совершить длинный путь. – Это становление, как оно сложится в своем содержании и в формах, которые обнаруживаются в нем, не будет тем, что подразумевают прежде всего под руководством для направления ненаучного сознания к науке; не будет оно и обоснованием науки, не будет, кроме того, и тем вдохновением, которое начинает сразу же, как бы выстрелом из пистолета, с абсолютного знания и разделывается с другими точками зрения уже одним тем, что объявляет их вне сферы своего внимания.
3. Образование индивида
Задачу вывести индивида из его необразованной точки зрения и привести его к знанию следовало понимать в ее общем смысле, и всеобщий индивид, т. е. обладающий самосознанием дух, следовало рассмотреть в его образовании. – Что касается отношения между тем и другим, то во всеобщем индивиде каждый момент обнаруживается в ходе приобретения им своей конкретной формы и собственного формообразования. Отдельный индивид есть несовершенный дух, некоторый конкретный образ, во всем наличном бытии которого доминирует одна определенность, а от других имеются только расплывчатые черты. В духе, который стоит выше другого, более низкое конкретное наличное бытие низведено до незаметного момента; то, что раньше было самой сутью дела, остается только в виде следа; ее образ затуманен и стал простым оттенком. Индивид, субстанция коего – дух вышестоящий, пробегает это прошлое так, как тот, кто принимаясь за более высокую науку, обозревает подготовительные сведения, давно им усвоенные, чтобы освежить в памяти их содержание; он вспоминает их, не питая к ним интереса и не задерживаясь на них. Отдельный индивид должен и по содержанию пройти ступени образования всеобщего духа, но как формы, уже оставленные духом, как этапы пути, уже разработанного и выравненного; таким образом, относительно познаний мы видим, как то, что в более ранние эпохи занимало зрелый дух мужей, низведено до познаний, упражнений и даже игр мальчишеского возраста, и в педагогических успехах мы узнаем набросанную как бы в сжатом очерке историю образованности всего мира. Это прошлое наличное бытие – уже приобретенное достояние того всеобщего духа, который составляет субстанцию индивида и, таким образом являясь ему внешне, – его неорганическую природу. – В этом аспекте образование, если рассматривать его со стороны индивида, состоит в том, что он добывает себе то, что находится перед ним, поглощает в себя свою неорганическую природу и овладевает ею для себя. Со стороны же всеобщего духа как субстанции образование означает только то, что эта субстанция сообщает себе свое самосознание, т. е. порождает свое становление и свою рефлексию в себя.
Наука воспроизводит это образовательное движение в его полноте и необходимости, а также то, что уже низведено до момента и достояния духа в процессе формирования последнего. Целью является проникновение духа в то, что такое знание. Нетерпение требует невозможного, а именно достижения цели без обращения к средствам. С одной стороны, надо выдержать длину этого пути, ибо каждый момент необходим; – с другой стороны, на каждом из них надо задержаться, ибо каждый момент сам есть некоторая индивидуальная, цельная форма и рассматривается лишь постольку абсолютно, поскольку его определенность рассматривается как целое или конкретное, т. е. поскольку целое рассматривается в своеобразии этого определения. – Так как субстанция индивида, так как даже мировой дух имели терпение пройти эти формы за длительный период времени и взять на себя огромную работу мировой истории, в ходе которой он во всякой форме выказывал все свое содержание, какое она способна вместить, и так как при меньшей работе он не мог достигнуть сознания о себе, то, если иметь в виду существо дела, индивид не может, конечно, охватить свою субстанцию с меньшей затратой труда; но вместе с тем у него затруднений меньше, потому что в себе это совершено, – содержание есть уже стертая до возможности действительность, обузданная непосредственность, а формообразование сведено к своей аббревиатуре, к простому определению в мысли. Содержание есть достояние субстанции как нечто, что уже было в мысли; уже нет надобности обращать наличное бытие в форму в-себе-бытия, а нужно только это в-себе[-бытие] – уже не просто первоначальное и не погруженное в наличное бытие, а, напротив, уже восстановленное в памяти – обратить в форму для-себя-бытия. Рассмотрим подробнее, как это происходит.
То, от чего мы в отношении целого избавлены на той стадии, на которой мы приступаем здесь к этому движению, есть снятие наличного бытия; а то, что еще остается и нуждается в более глубоком преобразовании, это – представление и знакомство с формами. Наличное бытие, возвращенное в субстанцию, благодаря указанной первой негации лишь непосредственно перемещено в стихию самости; следовательно, это приобретенное для самости достояние обладает еще тем же характером непостигнутой в понятии непосредственности, неподвижного равнодушия, что и само наличное бытие, – последнее, таким образом, только перешло в представление. – В то же время и тем самым оно есть нечто известное, нечто такое, с чем налично сущий дух справился, к чему он поэтому уже не прилагает своей деятельности и, следовательно, не питает интереса. Если сама деятельность, которая справляется с наличным бытием, есть только движение особенного, себя не понимающего духа, то, наоборот, знание направлено на возникшее благодаря этому представление, на эту форму известности, оно есть действование всеобщей самости и интерес, который питает к нему мышление.
Известное вообще – от того, что оно известно, еще не познано. Обыкновеннейший самообман и обман других – предполагать при познавании нечто известным и довольствоваться этим; при всем разглагольствовании такое знание, не зная, что с ним делается, не двигается с места. Субъект и объект и т. д., Бог, природа, рассудок, чувственность и т. д. без всякого исследования полагаются в основу как нечто известное и значимое и составляют опорные пункты, от которых исходят и к которым возвращаются. Они остаются неподвижными, и движение совершается между ними то в одну сторону, то в другую и таким образом касается только их поверхности. Точно так же и постижение и проверка состоят в том, что рассмотрению подвергается вопрос, находит ли всякий то, что́ о них говорится, также и в своем представлении, таким ли оно ему кажется и так ли оно ему известно или нет.
Анализировать какое-нибудь представление, как этим раньше занимались, означало уже не что иное, как снять форму его известности. Разложить какое-нибудь представление на его первоначальные элементы – значит вернуться к его моментам, которые по меньшей мере не имеют формы представления, встретившегося с самого начала, но составляют непосредственное достояние самости. Этот анализ, правда, приходит только к мыслям, которые сами суть известные, устойчивые и неподвижные определения. Но существенный момент – само это разложенное, недействительное; ибо только потому, что конкретное разлагается [на составные части] и делается недействительным, оно и есть то, что приводит себя в движение. Деятельность разложения [на составные части] есть сила и работа рассудка, изумительнейшей и величайшей или, лучше сказать, абсолютной мощи. Неподвижный, замкнутый в себе круг, как субстанция содержащий свои моменты, есть отношение непосредственное и потому не вызывающее изумления. Но в том, что оторванное от своей сферы акцидентальное как таковое, в том, что связанное и действительное только в своей связи с другим приобретает собственное наличное бытие и обособленную свободу, – в этом проявляется огромная сила негативного; это – энергия мышления, чистого «я». Смерть, если мы так назовем упомянутую недействительность, есть самое ужасное, и для того, чтобы удержать мертвое, требуется величайшая сила. Бессильная красота ненавидит рассудок, потому что он от нее требует того, к чему она не способна. Но не та жизнь, которая страшится смерти и только бережет себя от разрушения, а та, которая претерпевает ее и в ней сохраняется, есть жизнь духа. Он достигает своей истины, только обретая себя самого в абсолютной разорванности. Дух есть эта сила не в качестве того положительного, которое отвращает взоры от негативного, подобно тому как мы, называя что-нибудь ничтожным или ложным, тут же кончаем с ним, отворачиваемся и переходим к чему-нибудь другому; но он является этой силой только тогда, когда он смотрит в лицо негативному, пребывает в нем. Это пребывание и есть та волшебная сила, которая обращает негативное в бытие. – Эта сила есть то же самое, что выше было названо субъектом, который тем, что он в своей стихии сообщает определенности наличное бытие, снимает абстрактную, т. е. только вообще сущую непосредственность, и тем самым есть подлинная субстанция, бытие или та непосредственность, у которой нет опосредствования вне ее, но которая сама есть это опосредствование.
То, что представленное становится достоянием чистого самосознания, это возвышение до всеобщности вообще есть только одна сторона, это еще не завершенное образование. – Характер научных занятий в древности тем отличается от научной работы нового времени, что эти занятия были, собственно, завершенным развитием естественного сознания. Особо испытывая себя в каждой сфере (Teil) своего наличного бытия и философствуя обо всем происходящем, они развили себя до всеобщности, полностью приведенной в действие. В новое время, напротив, индивид застает абстрактную форму подготовленной; усилие, прилагаемое к тому, чтобы постичь ее и освоить, есть скорее неопосредствованное произрастание внутреннего и урезанное порождение всеобщего, нежели извлечение его из конкретного и из многообразия наличного бытия. Поэтому работа состоит теперь не столько в том, чтобы извлечь индивида из непосредственного чувственного способа и возвести его в мысленную и мыслящую субстанцию, сколько, можно сказать, в противоположном: путем снятия установившихся определенных мыслей претворить всеобщее в действительность и в дух. Но установившиеся мысли гораздо труднее привести в состояние текучести, чем чувственное наличное бытие. Причина – в вышеприведенном; субстанцию и стихию наличного бытия названных определений составляют «я», сила негативного или чистая действительность; чувственные определения, напротив того, – только бессильная абстрактная непосредственность или бытие как таковое. Мысли становятся текучими, когда чистое мышление, эта внутренняя непосредственность, познает себя как момент или когда чистая достоверность его самого абстрагируется от себя, – не отбрасывает себя, не устраняет себя, а отказывается от фиксированности своего самополагания: как от фиксированности того чистого конкретного, которое есть само «я» в противоположность различаемому содержанию, так и от фиксированности того, что различено и что, будучи установлено в стихии чистого мышления, участвует в названной безусловности «я». Благодаря этому движению чистые мысли становятся понятиями и суть лишь то, что они поистине суть – самодвижения, круги, то, что составляет их субстанцию, духовные существенности.
Это движение чистых существенностей составляет природу научности вообще. Рассматриваемое как связь его содержания, оно есть необходимость и разрастание этого содержания до органического целого. Путь, которым достигается понятие знания, благодаря этому движению точно так же делается необходимым и полным становлением, так что эта подготовительная работа перестает быть случайным философствованием, касающимся тех или иных предметов, отношений и мыслей несовершенного сознания, в зависимости от того, как подскажет случай, или пытающимся обосновать истинное при помощи разрозненных рассуждений, выводов и заключений из определенных мыслей; благодаря движению понятия этот путь охватит полностью мировместимость (vollständige Weltlichkeit) сознания в ее необходимости.
Такого рода изложение составит в дальнейшем первую часть науки, потому что наличное бытие духа, будучи первым, есть только непосредственное или начало, начало же еще не есть его возвращение в себя. Стихия непосредственного наличного бытия есть поэтому та определенность, которою эта часть науки отличается от других. – Указание этого различия ведет к уяснению некоторых установившихся мыслей, которые при этом обычно возникают.
III. Философское познание
1. Истинное и ложное
В непосредственном наличном бытии духа, в сознании, есть два момента: момент знания и момент негативной по отношению к знанию предметности. Так как дух развивается и раскрывает свои моменты в этой стихии, то им свойственна эта противоположность и все они выступают как формы (Gestalten) сознания. Наука, идущая этим путем, есть наука опыта, совершаемого сознанием; субстанция рассматривается в том виде, в каком она и ее движение составляют предмет сознания. Сознание знает и имеет понятие только о том, что есть у него в опыте; ибо в опыте есть только духовная субстанция, и именно как предмет ее самости. Но дух становится предметом, ибо он и есть это движение, состоящее в том, что он становится для себя чем-то иным, т. е. предметом своей самости, и что он снимает это инобытие. Это-то движение и называется опытом – движение, в котором непосредственное, не прошедшее через опыт, т. е. абстрактное, – относится ли оно к чувственному бытию или к лишь мысленному простому, – отчуждает себя, а затем из этого отчуждения возвращается в себя, тем самым только теперь проявляется в своей действительности и истине, составляя также достояние сознания.
Существующее в сознании неравенство между «я» и субстанцией, которая есть его предмет, составляет их различие, негативное вообще. Его можно считать недостатком и того и другого, но оно есть их душа, т. е. то, что приводит их в движение; поэтому некоторые древние [мыслители][7] считали пустоту движущим [началом], понимая, правда, движущее как негативное, но это последнее не понимали еще как самость. – Если, далее, это негативное кажется прежде всего неравенством «я» и предмета, то в такой же мере оно есть неравенство субстанции с самой собой. То, что кажется совершающимся вне ее, деятельностью, направленной против нее, есть ее собственное действование, и она по существу оказывается субъектом. Когда она обнаружила это полностью, дух уравнял свое наличное бытие со своей сущностью; он есть для себя предмет так, как он есть, и абстрактная стихия непосредственности и отделения знания от истины преодолена. Бытие абсолютно опосредствовано; – оно есть субстанциальное содержание, которое столь же непосредственно есть достояние «я», обладает характером самости (selbstisch) или есть понятие. На этом заканчивается феноменология духа. То, что дух уготовляет себе в ней, есть стихия знания. В этой последней моменты духа раскрываются в форме простоты, которая знает, что ее предмет – это она сама. Они более не распадаются на противоположность бытия и знания, а остаются в простоте знания, суть истинное в форме истинного, и их различие – это лишь различие содержания. Их движение, которое в этой стихии организуется в целое, – это логика или спекулятивная философия.
Так как указанная система опыта духа касается только явления духа, то переход от нее к науке об истинном, выступающем в форме истинного, кажется только негативным, и у кого-нибудь может возникнуть желание не обременять себя негативным как ложным, а требовать, чтобы его сразу подвели к истине; к чему связываться с тем, что ложно? – О том, что следовало бы сразу начинать с науки, уже была речь выше; теперь на это надо ответить с точки зрения того, как вообще обстоит дело с негативным как ложным? Представления об этом больше всего затрудняют доступ к истине. Это даст повод поговорить о математическом познании, которое нефилософским знанием рассматривается как идеал, к достижению коего философия должна-де стремиться, но до сих пор стремилась тщетно.
Истинное и ложное относятся к тем определенным мыслям, которые неизменно считаются самостоятельными (eigene) сущностями, из коих одна изолированно и прочно стоит по одну сторону, а другая – по другую, не имея ничего общего между собой. Вопреки этому следует указать, что истина не есть отчеканенная монета, которая может быть дана в готовом виде[8] (gegeben werden) и в таком же виде спрятана в карман. Не дано (gibt es) ни ложного, ни злого. Правда, злое и ложное не так плохи, как дьявол, ибо рассматривать их в качестве дьявола – значит превращать их в особый субъект; в качестве же ложного и злого они только всеобщее, хотя и обладают по отношению друг к другу собственной существенностью. – Ложное (ибо здесь речь идет только о нем) было бы «иным», было бы «негативным» субстанции, которая, как содержание знания, есть истинное. Но субстанция сама есть по существу негативное, с одной стороны, как различие и определение содержания, с другой стороны, как простое различение, т. е. как самость и знание вообще. Иметь ложное знание, конечно, можно. Ложное знание о чем-нибудь означает неравенство знания с его субстанцией. Однако именно это неравенство есть различение вообще, которое есть существенный момент. Из этого различия, конечно, возникает их равенство, и это возникшее равенство и есть истина. Но оно есть истина не так, будто неравенство отброшено, как отбрасывается шлак от чистого металла, и даже не так, как инструмент отделяется от готового сосуда; нет, неравенство как негативное, как самость непосредственно еще само находится в истинном как таковом. Однако на этом основании нельзя сказать, что ложное образует некоторый момент или даже некоторую составную часть истинного. В выражении «Во всякой лжи есть доля правды» то и другое подобны маслу и воде, которые, не смешиваясь, только внешне соединены. Именно потому, что важно обозначать момент совершенного инобытия, их выражения не должны больше употребляться там, где их инобытие снято. Так же как выражения: единство субъекта и объекта, конечного и бесконечного, бытия и мышления и т. д., – нескладны потому, что объект и субъект и т. д. означают то, что представляют они собой вне своего единства, и, следовательно, в единстве под ними подразумевается не то, что говорится в их выражении, – точно так же и ложное составляет момент истины уже не в качестве ложного.
Догматический способ мышления в знании и в изучении философии есть не что иное, как мнение, будто истинное состоит в положении, которое есть прочный результат, или также в положении, которое знают непосредственно. На вопросы вроде: когда родился Цезарь, сколько футов содержалось в стадии и т. д., – ответ должен быть дан безукоризненный, точно так же как определенно истинно, что квадрат гипотенузы равен сумме квадратов двух других сторон прямоугольного треугольника. Но природа такой так называемой истины отличается от природы философских истин.
2. Историческое и математическое познание
Относительно исторических истин, – о которых упомянем вкратце, поскольку рассматривается именно их чисто историческая сторона, – легко согласиться, что они касаются единичного наличного бытия, некоторого содержания со стороны его случайности и произвола, его определений, которые не необходимы. – Но даже такие голые истины, как в приведенных нами примерах, невозможны без некоторого движения самосознания. Чтобы узнать одну из них, нужно многое сравнить, порыться в книгах, т. е. тем или иным способом произвести исследование; точно так же и при непосредственном созерцании только знание их вместе с их основаниями считается чем-то, что обладает истинной ценностью, хотя, собственно говоря, здесь как будто важен только голый результат.
Что касается математических истин, то еще в меньшей мере мог бы считаться геометром тот, кто знал бы теоремы Эвклида наизусть (auswendig), без их доказательств, не зная их, – если можно так выразиться для противоположения – внутренне (inwendig). Точно так же считалось бы неудовлетворительным знание, которое было бы приобретено путем измерения многих прямоугольных треугольников, относительно того, что их стороны находятся в известном отношении друг к другу. Однако и в математическом познавании существенность доказательства еще не имеет значения и характера момента самого результата; напротив, в нем доказательство закончилось и исчезло. Правда, теорема как результат есть нечто рассматриваемое как истинное. Но это привходящее обстоятельство касается не ее содержания, а только отношения к субъекту. Движение математического доказательства не принадлежит тому, что́ есть предмет, а есть действование, по отношению к существу дела внешнее. Природа прямоугольного треугольника, например, сама не разлагается так, как это изображается на чертеже, необходимом для доказательства положения, выражающего его отношение; полное выведение результата есть ход и средство познавания. – В философском познавании становление наличного бытия как наличного бытия также отличается от становления сущности или внутренней природы дела. Но философское познавание, во-первых, содержит и то и другое, тогда как математическое познавание, напротив, изображает только становление наличного бытия, т. е. бытия природы дела в познавании как таковом. Во-вторых, философское познавание объединяет и эти два особых движения. Внутреннее возникновение или становление субстанции есть прямо переход во внешнее или в наличное бытие, в бытие для другого, и, наоборот, становление наличного бытия есть возвращение в сущность. Движение есть двойной процесс и становление целого в том смысле, что в одно и то же время каждое полагает другое и каждому поэтому присуще и то и другое как два аспекта; совместно они составляют целое благодаря тому, что они сами себя растворяют и превращают себя в моменты.
В математическом познавании усмотрение есть действование, для сути дела внешнее; это следует из того, что истинная суть дела благодаря этому изменяется. Поэтому средство, т. е. чертеж и доказательство, содержит, правда, истинные положения; но точно так же надо сказать, что содержание ложно. Треугольник в вышеприведенном примере разрывают, и его части обращают в другие фигуры, возникающие благодаря чертежу. Только к концу восстанавливается тот треугольник, из-за которого, собственно говоря, и было все предпринято, но который был потерян из виду в этом процессе и был представлен только в частях, принадлежавших другим целым. – Таким образом, мы видим, что и здесь выступает негативность содержания, которую с таким же правом можно было бы называть его ложностью, как и в движении понятия – исчезновение мыслей, которые считаются установившимися.
Но в собственном смысле несовершенство этого познавания имеет отношение как к самому познаванию, так и к его материалу вообще. – Что касается познавания, то прежде всего не видна необходимость чертежа. Он не вытекает из понятия теоремы, а навязывается, и мы слепо должны повиноваться этому предписанию – провести именно данные линии, вместо которых можно было бы провести бесконечное множество иных, – ничего больше не зная, имея лишь уверенность в том, что это целесообразно для ведения доказательства. И впоследствии действительно обнаруживается эта целесообразность, которая остается только внешней по одному тому, что она обнаруживается только впоследствии при доказательстве. – Точно так же доказательство ведется путем, который где-то начинается, еще неизвестно, в каком отношении к искомому результату. В процессе доказательства принимаются данные определения и отношения и игнорируются другие, причем непосредственно нельзя усмотреть, в силу какой необходимости это делается. Этим движением управляет некоторая внешняя цель.
Очевидность этого несовершенного познавания, которой математика гордится и кичится перед философией, покоится лишь на бедности ее цели и несовершенстве ее материала, а потому это такая очевидность, которую философия должна отвергать. – Цель математики или ее понятие есть величина. А это есть как раз несущественное, лишенное понятия отношение. Движение знания совершается поэтому на поверхности, касается не самой сути дела – сущности или понятия – и в силу этого не есть постигание в понятии. – Материал, относительно которого математика обеспечивает удовлетворяющий запас истин, есть пространство и [счетная] единица. Пространство есть наличное бытие, в которое понятие вписывает свои различия, как в пустую мертвую стихию, где они точно так же неподвижны и безжизненны. Действительное не есть нечто пространственное в том смысле, в каком оно рассматривается в математике; с такой недействительностью, каковы вещи в математике, не имеет дела ни конкретное чувственное созерцание, ни философия. Ведь в такой недействительной стихии и бывает только недействительное истинное, т. е. фиксированные, мертвые положения. На каждом из них можно прервать изложение; каждое последующее начинает для себя сначала, причем первое само не переходит ко второму, и между ними, таким образом, не возникает необходимой связи, вызываемой природой самой вещи (Sache). – Вследствие упомянутого принципа и стихии – и в этом состоит формальный характер математической очевидности – знание переходит от равенства к равенству. Ибо мертвое, так как оно само не приводит себя в движение, не доходит до различения сущности, до существенного противоположения или неравенства, не достигает поэтому и перехода противоположного в противоположное, не доходит до качественного, имманентного движения, до самодвижения. Ибо именно одну лишь величину, [т. е.] различие несущественное, и рассматривает математика. Она абстрагируется от того, что именно понятие разлагает пространство на его измерения и определяет связи между ними и в них. Она не рассматривает, например, отношения линии к плоскости, а там, где она сравнивает диаметр круга с окружностью, она наталкивается на несоизмеримость их, т. е. на некоторое отношение понятия, на нечто бесконечное, ускользающее от математического определения.
Имманентная, так называемая чистая математика не противопоставляет пространству также времени как времени, в качестве второго материала для своего рассмотрения. Прикладная математика, правда, трактует о нем, как и о движении, а также и о других действительных вещах; но она заимствует из опыта синтетические положения, т. е. положения об отношениях действительных вещей, которые определены понятием последних, и только к этим предпосылкам она применяет свои формулы. Тот факт, что так называемые доказательства таких часто выдвигаемых ею положений, как положение о равновесии рычага, об отношении пространства и времени в движении падения и т. д., выдаются и принимаются за доказательства, – сам есть лишь доказательство того, как велика для познавания надобность в доказывании, потому что познавание там, где оно уже не располагает доказательствами, придает значение даже пустой видимости их и находит в этом удовлетворение. Критика таких доказательств была бы столь же достойна внимания, сколь и поучительна, с одной стороны, для того, чтобы снять с математики это фальшивое украшение, а с другой стороны, для того, чтобы показать ее границы и отсюда – необходимость иного знания. – Что касается времени, о котором внушалось мнение, будто оно, в противоположность пространству, составляет материал другой части чистой математики, то оно само есть налично сущее понятие. Принцип величины – различия, лишенного понятия, – и принцип равенства – абстрактного безжизненного единства – не способны заниматься с тем чистым беспокойством жизни и абсолютным различением. Посему эта негативность, только будучи парализована, т. е. в качестве [счетной] единицы, становится вторым материалом этого познавания, которое, оставаясь внешним действованием, низводит самодвижущееся до материала, чтобы располагать в нем безразличным, внешним, безжизненным содержанием.
3. Познание в понятиях
Философия, напротив, не рассматривает несущественного определения, а рассматривает определение, поскольку оно существенно; не абстрактное или недействительное – ее стихия и содержание, а действительное, само-себя-полагающее и внутри-себя-живущее, наличное бытие в своем понятии. Это процесс, который создает себе свои моменты и проходит их, и все это движение в целом составляет положительное и его истину. Эта истина заключает в себе, следовательно, в такой же мере и негативное, то, что следовало бы назвать ложным, если бы его можно было рассматривать как нечто такое, от чего следовало бы отвлечься. Само исчезающее правильнее рассматривать как существенное не в смысле чего-то застывшего, что, будучи отсечено от истинного, должно быть оставлено вне его, неизвестно где; подобным же образом и истинное нельзя рассматривать как мертвое положительное, покоящееся по другую сторону. Явление есть возникновение и исчезновение, которые сами не возникают и не исчезают, а есть в себе и составляют действительность и движение жизни истины. Истинное, таким образом, есть вакхический восторг, все участники которого упоены; и так как каждый из них, обособляясь, столь же непосредственно растворяется им, то он так же есть чистый и простой покой. В рамках этого движения отдельные формы существования духа, правда, не обладают постоянством определенных мыслей, но они столь же положительные необходимые моменты, сколь и негативны и исчезающи. – В движении в целом, понимаемом как покой, то, что в нем различает себя и сообщает себе обособленное наличное бытие, сохранено как нечто такое, что вспоминает себя, наличное бытие его есть знание о себе самом, так же как это знание есть столь же непосредственно наличное бытие.
Могло бы показаться, что необходимо заранее дать более подробные указания относительно метода этого движения или науки. Но понятие этого метода заключается уже в том, что сказано, а изложение его в собственном смысле относится к логике или, вернее, есть сама логика. Ибо метод есть не что иное, как все сооружение в целом, воздвигнутое в его чистой существенности. Что же касается распространенного до сих пор мнения на этот счет, то мы должны признать, что система представлений о том, что такое философский метод, также принадлежит образованности, канувшей в прошлое. – Пусть это прозвучит несколько хвастливо или революционно, – такой тон, я знаю, мне чужд, – все же нельзя забывать, что научный аппарат (wissenschaftlicher Staat), которым снабжает математика, – определения, подразделения, аксиомы, ряды теорем, их доказательства, основоположения и следствия и выводы из них, – уже в самом [общепринятом] мнении по меньшей мере устарел. Хотя его непригодность и не усматривается отчетливо, все же им больше не пользуются или пользуются мало; и если его как таковой и не порицают, то все же его не любят. И мы должны питать пристрастие к тому, что обладает превосходными качествами, чтобы оно вошло в употребление и снискало любовь. Но не трудно усмотреть, что манера выставить положение, привести в его защиту доводы и точно так же доводами опровергнуть противоположное ему положение, не есть та форма, в которой может выступить истина. Истина есть движение истины в самой себе, а указанный метод есть познавание, внешнее по отношению к материалу. Поэтому он свойствен математике и должен быть оставлен за математикой, которая, как отмечено, имеет своим принципом отношение величин, лишенное понятия, а своим материалом – мертвое пространство и столь же мертвую [счетную] единицу. При более вольном обращении, т. е. с большим допущением произвола и случайности, этот метод мог бы оставаться в обыденной жизни – в собеседовании или в историческом поучении, призванном более к тому, чтобы удовлетворить любопытство, чем к тому, чтобы дать познание, подобно тому, приблизительно, как это имеет место и в предисловиях. В обыденной жизни содержание сознания состоит из сведений, разного рода опыта, чувственных конкретностей, а также мыслей, принципов, вообще из того, что считается чем-то имеющимся налицо или некоторым устойчивым покоящимся бытием или сущностью. Сознание в своем движении, с одной стороны, следует всему этому, а с другой стороны, прерывает эту связь произвольным обращением с таким содержанием и своим отношением внешне определяет его и овладевает им. Оно сводит это содержание к чему-то достоверному, хотя бы это было только мгновенное ощущение; и убеждение удовлетворено, если оно достигло какого-нибудь известного ему устойчивого пункта (Ruhepunkt).
Но если необходимость в понятии изгоняет более вольный ход резонерства в беседе, как и более чопорный стиль научной высокопарности, то, как об этом уже упоминалось, это не значит, что место понятия должны заступить бессистемность предчувствия и вдохновения и произвол пророческой риторики, которая презирает не только названную научность, но и научность вообще.
Точно так же, – после того как кантовская, лишь инстинктивно найденная, еще мертвая, еще не постигнутая в понятии тройственность (Triplicität) была возведена в свое абсолютное значение, благодаря чему в то же время была установлена подлинная форма в своем подлинном содержании и выступило понятие науки, – нельзя считать чем-то научным то применение этой формы, благодаря которому, как мы это видим, она низводится до безжизненной схемы (Schema), до некоего, собственно говоря, призрака (Schemen), а научная организация – до таблицы. Этот формализм, о котором выше уже говорилось в общих чертах и манеру которого мы здесь рассмотрим более подробно, покоится на мнении, будто он постиг в понятии и выразил природу и жизнь того или другого образования, если он высказывал о нем в качестве предиката какое-нибудь определение схемы, – будь то «субъективность» или «объективность», или же «магнетизм», «электричество» и т. д., «сжатие» или «расширение», «восток» или «запад» и т. п., – занятие, которое можно продолжать до бесконечности, потому что таким способом каждое определение или модус (Gestalt) могут быть в свою очередь применены к другим в качестве формы или момента схемы и каждое может в благодарность оказать другим ту же услугу; – получается круг взаимности, в котором нельзя дознаться ни что такое само существо дела, ни что такое то или другое [определение]. При этом, с одной стороны, из обычного созерцания заимствуются чувственные определения, которые, конечно, должны обозначать нечто иное, нежели то, что говорят они; с другой же стороны, то, что имеет значение само по себе, – чистые определения мысли, как «субъект», «объект», «субстанция», «причина», «всеобщее» и т. д. – употребляется столь же неосмотрительно и некритически, как в обыденной жизни и как [определения]: «силы» и «слабости», «расширение» и «сжатие». В итоге такая метафизика столь же ненаучна, как и эти чувственные представления.
Вместо внутренней жизни и самодвижения ее наличного бытия такая простая определенность по поверхностной аналогии высказывается теперь о созерцании, т. е. в данном случае – о чувственном знании, и это внешнее и пустое применение формулы называется конструкцией. – С таким формализмом дело обстоит так же, как и со всяким. Каким тупицей должен быть тот, кто не усвоил бы в какие-нибудь четверть часа теории, [сводящейся к тому,] что бывают астенические, стенические и косвенно астенические болезни и столько же способов их исцеления[9] и кто не мог бы в этот короткий срок – так как еще недавно такой подготовки было достаточно – превратиться из практика в теоретически подготовленного врача. Если натурфилософский формализм учит, например, что «рассудок есть электричество», или «животное есть азот», или же «равно югу или северу» и т. д., или «представляет их», то – так ли обнаженно, как это здесь выражено, или состряпано с большей дозой терминологии – пусть перед такой способностью связывать воедино то, что кажется столь разнородным, и перед насилием, которое благодаря этому связыванию испытывается покоящимся чувственным и которое тем самым сообщает ему видимость некоего понятия, но обходит главное, т. е. не выражает самого понятия или значения чувственного представления, – пусть неискушенность перед всем этим повергается в немое изумление, пусть преклоняется перед глубокой гениальностью всего этого и пусть также тешится ясностью таких определений, поскольку они заменяют абстрактное понятие наглядностью и делают его более приятным, и пусть поздравит себя самое по поводу предчувствуемого душевного сродства с таким славным деянием. Лишь только уловка такой мудрости изучена, ее легко пускать в ход; ее повторение, когда она известна, так же несносно, как повторение уже разгаданного фокуса. Овладеть инструментом этого однообразного формализма не труднее, чем палитрой живописца, на которой всего лишь две краски – скажем, красная и зеленая, чтобы первой раскрашивать поверхность, когда потребовалась бы картина исторического содержания, и другой – когда нужен был бы пейзаж. – Трудно было бы решить, чего при этом больше – чувства удовольствия, с которым такой краской замазывается все, что есть на небесах, на земле и под землей, или внушенной себе мысли о превосходстве этого универсального средства; одно подкрепляет другое. Результат этого метода приклеивания ко всему небесному и земному, ко всем природным и духовным формам парных определений всеобщей схемы и раскладывания всего по полочкам есть не что иное, как ясное, как солнце, сообщение об организме вселенной, т. е. некая таблица, уподобляющаяся скелету с наклеенными ярлыками или ряду закрытых ящиков с прикрепленными к ним этикетками в бакалейной лавке, – таблица, столь же понятная, как этот скелет и эти ящики, и упустившая или утаившая живую суть дела так же, как в первом случае с костей удалены плоть и кровь, а во втором – такие же мертвые вещи именно и запрятаны в ящиках. – Как выше было отмечено, эта манера ко всему еще завершается одноцветной абсолютной живописью, когда она, стыдясь различий схемы, топит их, как принадлежность рефлексии, в пустоте абсолютного, дабы восстановлено было чистое тождество, бесформенная белизна. Названное однообразие схемы с ее безжизненными определениями и это абсолютное тождество, как и переход от одного к другому, есть одинаково мертвый рассудок, как в одном случае, так и в другом, и одинаково внешнее познавание.
Но превосходное не только не может уйти от судьбы – превратиться в нечто до такой степени лишенное жизни и духа и видеть, как с него содрана кожа и как в нее облекается безжизненное знание и его тщеславие. Скорее в самой этой судьбе надо еще признать силу влияния, которое оно оказывает, если не на души, то на умы равно как и развитие до всеобщности и определенности формы, в которой состоит его завершение и которая одна лишь делает возможным поверхностное применение этой всеобщности.
Наука должна организоваться только собственной жизнью понятия; в ней определенность, которая по схеме внешне наклеивается на наличное бытие, есть сама себя движущая душа наполненного содержания. Движение сущего состоит в том, что, с одной стороны, оно становится чем-то иным и тем самым – своим имманентным содержанием; с другой стороны, сущее возвращает в себя это развертывание или это свое наличное бытие, т. е. превращает себя само в некоторый момент и упрощается до определенности. В таком движении негативность есть различение и полагание наличного бытия. В этом возвращении в себя она есть становление уже определенной простоты. Именно этим способом содержание показывает, что его определенность не принята от другого и не пристегнута [к нему], но оно само сообщает ее себе и, исходя из себя, определяет себя в качестве момента и устанавливает себе место внутри целого. Рассудок, распределяющий все по таблицам, сохраняет для себя необходимость и понятие содержания, – то, что составляет конкретное, [т. е.] действительность и живое движение сути дела, место которой он определяет, – или, вернее, он не удерживает этого для себя, но не знает этого; ибо если бы он обладал такой проницательностью, он, конечно, обнаружил бы ее. Он не знает даже потребности в ней; иначе он оставил бы свое схематизирование или, по крайней мере, считался бы с ним не более, чем с некоторым оглавлением; он дает только оглавление к содержанию, но не дает самого содержания. – Если определенность (даже такая, как, например, магнетизм) есть определенность сама по себе конкретная и действительная, то все же она низведена до чего-то мертвого, так как она – только предикат какого-нибудь другого наличного бытия, а не познана как имманентная жизнь этого наличного бытия или в том виде, в каком она находит в последнем свое привычное и только ей присущее самопорождение и проявление. Присовокупить это главное формальный рассудок предоставляет другим. – Вместо того чтобы вникнуть в имманентное содержание дела, этот рассудок всегда просматривает (übersieht) целое и стоит над единичным наличным бытием, о котором он говорит, т. е. он его вовсе не видит (sieht es gar nicht). Научное познавание, напротив, требует отдаться жизни предмета, или, что то же самое, иметь перед глазами и выражать внутреннюю необходимость его. Углубляясь таким образом в свой предмет, это познавание забывает об упомянутом просмотре (Übersicht), который есть только рефлексия знания из содержания в себя самое. Но, погруженное в материю и следуя ее движению, оно возвращается в себя само, однако не раньше, чем наполнение и содержание вернется в себя – упростит себя до определенности, низведет себя само до одной стороны некоторого наличного бытия и перейдет в свою более высокую истину. Благодаря этому простое просматривающее себя (sich übersehende) целое само всплывает из того богатства, в котором его рефлексия казалась утраченной.
Вообще благодаря тому, что, как сказано было выше, субстанция сама по себе есть субъект, всякое содержание есть его собственная рефлексия в себя. Устойчивость или субстанция наличного бытия есть равенство с самим собой; ибо его неравенство с собой было бы его растворением. Но равенство с самим собой есть чистая абстракция; последняя же есть мышление. Если я называю качество, я называю простую определенность; качеством одно наличное бытие отличается от другого, или благодаря качеству оно есть некоторое наличное бытие. Оно есть для себя самого, т. е. оно существует благодаря этой простоте, опираясь на себя. Но вследствие этого оно по существу и есть мысль. – Отсюда становится понятным, что бытие есть мышление; сюда относится понимание, которого сплошь и рядом недостает обычному не возвышающемуся до понятия разговору о тождестве мышления и бытия. – Благодаря тому, что устойчивость наличного бытия есть равенство с самим собой или чистая абстракция, оно есть абстрагирование себя от себя самого, т. е. оно само есть свое неравенство с собой и свое растворение – своя собственная внутренняя сущность и возвращение в себя, – свое становление. – В силу этой природы сущего и поскольку последнее обладает этой природой для знания, знание не есть деятельность, которая владеет содержанием как чем-то чуждым, не есть рефлексия в себя из содержания. Наука не есть тот упоминавшийся идеализм, который заменил утверждающий догматизм догматизмом заверяющим или догматизмом достоверности себя самого; когда знание видит, что содержание возвращается в свою собственную внутреннюю сущность, его деятельность, напротив, погружена в это содержание, ибо она есть имманентная самость содержания, и в то же время она возвращается в себя, ибо она есть чистое равенство с самим собой в инобытии. Таким образом эта деятельность есть та хитрость, которая, как будто воздерживаясь от деятельности, наблюдает за тем, как определенность и ее конкретная жизнь, именно тем, что эта жизнь предполагает заняться своим самосохранением и частными интересами, есть нечто обратное, есть действование, само себя прекращающее и само себя превращающее в момент целого.
Если выше значение рассудка (Verstand) было показано со стороны самосознания субстанции, то из сказанного здесь выясняется его значение со стороны определения субстанции как обладающей бытием. – Наличное бытие есть качество, сама с собой равная определенность или определенная простота, определенная мысль; это – смысл (Verstand) наличного бытия. Тем самым оно есть «нус» (νοῦϛ), в качестве которого Анаксагор впервые признал сущность. После него природа наличного бытия понималась определеннее как «эйдос» или «идеа» (εἶδοϛ, ίδέα), т. е. как определенная всеобщность, вид. Выражение «вид», быть может, покажется слишком низменным и незначительным для идей – для прекрасного, святого, вечного, – получивших эпидемическое распространение в наше время. Но фактически идея выражает не больше и не меньше того, что выражает вид. Однако теперь мы нередко видим, как пренебрегают выражением, определенно обозначающим какое-нибудь понятие, и предпочитают другое выражение, которое, – хотя бы только потому, что оно заимствовано из чужого языка, – окутывает понятие туманом и тем самым звучит назидательнее. – Именно потому, что наличное бытие определено как вид, оно есть простая мысль; «нус», простота, есть субстанция. Благодаря своей простоте или равенству с самой собой она кажется прочной и сохраняющейся. Но это равенство с самим собой есть также негативность; это приводит к растворению названного прочного наличного бытия. На первый взгляд кажется, что определенность есть определенность только благодаря тому, что имеет отношение к чему-то иному, и ее движение кажется навязанным ей какой-то посторонней силой; но как раз то, что оно имеет свое инобытие в себе самой и что она есть самодвижение, содержится в названной простоте самого мышления; ибо эта простота есть сама себя движущая и различающая мысль и собственная внутренняя сущность, чистое понятие. Таким образом, следовательно, рассудочность есть некоторое становление, и в качестве этого становления она – разумность.
В этой природе того, что́ есть: быть в своем бытии своим понятием – и состоит вообще логическая необходимость; она одна есть разумное и ритм органического целого, она в такой же мере есть знание содержания, в какой содержание есть понятие и сущность, – другими словами, она одна есть спекулятивное. – Конкретное образование, приводя само себя в движение, превращает себя в простую определенность; этим оно возводит себя в логическую форму и выступает в своей существенности; его конкретное наличное бытие есть только это движение и есть непосредственно логическое наличное бытие. Поэтому нет надобности извне навязывать конкретному содержанию формализм; это содержание само по себе есть переход в формализм, но последний перестает быть этим внешним формализмом, потому что форма есть свойственное ему становление самого́ конкретного содержания.
Эта природа научного метода, – состоящая, с одной стороны, в том, что он неотделим от содержания, а с другой в том, что его ритм определяется для него им самим, – получает в спекулятивной философии, как уже было упомянуто, свое изображение в собственном смысле. – Сказанное здесь хотя и выражает понятие, но может считаться лишь предвосхищенным заверением. Истина последнего не содержится в этом, частично повествовательном изложении и потому столь же мало опровергается противным заверением, что это не так, что, мол, дело обстоит так-то и так-то, – когда припоминаются и перечисляются привычные представления, как несомненные и известные истины, или же когда из хранилища (Schreine) внутреннего божественного созерцания преподносят новое и заверяют в нем. – Обычно первая реакция знания, когда оно сталкивается с чем-то ранее ему неизвестным, состоит в такого рода враждебном приеме, который оно оказывает, имея в виду спасти свободу и собственное воззрение, защитить собственный авторитет от чужого (ибо в этом облике предстает то, что сейчас впервые воспринято), – а также с целью скрыть тот ложный стыд, который будто бы заключается в том, что чему-то обучались; точно так же как при одобрительном приеме того, что неизвестно, подобная реакция выражается в таких речах и действиях, которые в другой сфере были ультрареволюционными.
IV. Требования, предъявляемые к философскому изучению
1. Спекулятивное мышление
В силу этого при изучении науки дело идет о том, чтобы взять на себя напряжение понятия. Это напряжение требует внимания к понятию как таковому, к простым определениям, например в-себе-бытия, для-себя-бытия, равенства с самим собой и т. д.; ибо они суть такие чистые самодвижения, которые можно было бы назвать душами, если бы их понятие не обозначало чего-то более высокого, чем они. Для привычки постоянно следовать представлениям прерывание их понятием столь же тягостно, как и для формального мышления, которое всячески рассуждает, не выходя за пределы недействительных мыслей. Такую привычку можно назвать материальным мышлением, случайным сознанием, которое только вязнет в материале и которому поэтому не легко в одно и то же время извлечь из материи в чистом виде свою самость и оставаться у себя. Другое же мышление, дискурсивное, есть, напротив, свобода от содержания и высокомерие по отношению к нему; от высокомерия требуется напряжение, чтобы отказаться от этой свободы, и вместо того, чтобы быть произвольно движущим принципом содержания, – потопить в нем эту свободу и, предоставив содержанию возможность двигаться согласно его собственной природе, т. е. при помощи самости как его собственной самости, рассматривать это движение. Освободиться от собственного вмешательства в имманентный ритм понятий, не вторгаться в него по произволу и с прежде приобретенной мудростью – такое воздержание само есть существенный момент внимания к понятию.
В резонерстве следует более четко выделить обе стороны, с которых ему противополагается мышление в понятиях. – Во-первых, резонерство относится негативно к постигнутому содержанию, умеет его опровергнуть и свести на нет. Усмотрение того, что дело обстоит не так, есть простая негативность; это есть то последнее, что само не может выступить за свои пределы и прийти к новому содержанию; для того чтобы опять располагать каким-нибудь содержанием, оно должно откуда-нибудь раздобыть что-либо иное. Оно есть рефлексия в пустое «я», пустое тщеславие его знания. – Но это пустое тщеславие выражает не только то, что данное содержание пусто, но также и то, что само это усмотрение пусто; ибо оно есть негативное, которое не замечает внутри себя положительного. Вследствие того, что эта рефлексия не приобщает к содержанию самое свою негативность, она вообще – не в самой сути дела, а всегда за ее пределами. Поэтому она воображает, будто, утверждая пустоту, она всегда проникает дальше, чем какое-нибудь богатое содержанием воззрение. Напротив того, как выше указано, в мышлении, обращающемся к понятиям, негативное принадлежит самому содержанию и есть положительное и как его имманентное движение и определение, и как их целое. Понимаемое как результат, это мышление есть возникающее из этого движения определенное негативное и тем самым – также и некоторое положительное содержание.
Но ввиду того, что у такого мышления есть содержание, – будь то в виде представлений или мыслей или в виде смешения тех и других, – у него имеется [еще] другая сторона, которая затрудняет ему оперировать понятиями. Удивительная природа ее тесно связана с вышеуказанной сущностью самой идеи или, лучше сказать, выражает ее в том виде, в каком она предстает как движение, составляющее мыслящее постигание. – Дело в том, что как само дискурсивное мышление в своем негативном поведении, о чем только что была речь, есть самость, в которую возвращается содержание, так самость, напротив того, в своем положительном познавании есть представляемый субъект, к которому содержание относится как акциденция и предикат. Этот субъект составляет базис, к которому прикрепляется содержание и на котором то тут, то там совершается [его] движение. Иначе обстоит дело с мышлением в понятиях. Так как понятие есть собственная самость предмета, которая проявляется как его становление, то это мышление не есть покоящийся субъект, неподвижно несущий акциденции, а есть понятие, которое само приводит себя в движение и принимает в себя обратно свои определения. В этом движении пропадает сам упомянутый покоящийся субъект; он проникает в различия и в содержание и скорее составляет определенность, т. е. как различаемое содержание, так и движение его, а не противостоит неподвижно этой определенности. Твердая почва, которую резонерство располагает в покоящемся субъекте, таким образом, колеблется, и только само это движение становится предметом. Субъект, который наполняет свое содержание, больше уже не выходит за пределы последнего, и у него не может быть еще иных предикатов и акциденций. Наоборот, разбросанность содержания благодаря этому связана самостью; содержание не есть то всеобщее, которое, будучи свободно от субъекта, приходилось бы на долю многих. Содержание тем самым на деле уже не предикат субъекта, а субстанция, сущность и понятие того, о чем идет речь. Мышление в представлениях, поскольку оно по самой своей природе имеет дело с акциденциями или предикатами и с полным правом выходит за их пределы, потому что они только предикаты и акциденции, – это мышление задерживается в своем течении, так как то, что в предложении имеет форму предиката, есть сама субстанция. Это мышление испытывает, так сказать, ответный удар. Начиная с субъекта, как если бы последний все еще служил основанием, оно видит (поскольку скорее предикат есть субстанция), что субъект перешел в предикат и тем самым снят; и поскольку, таким образом, то, что кажется предикатом, стало цельной и самостоятельной массой, мышление не может свободно блуждать, а задерживается этой тяжестью. – Обычно в основу положен прежде всего субъект как предметная устойчивая самость; отсюда продолжается необходимое движение к многообразию определений или предикатов; теперь на место названного субъекта вступает само знающее «я», которое связывает предикаты и есть удерживающий их субъект. Но так как тот первый субъект сам входит в определения и составляет их душу, то второй субъект, т. е. знающий, все еще находит его в предикате. Второй субъект хочет уже покончить с первым и, выйдя за его пределы, уйти назад в себя. И вместо того, чтобы иметь возможность быть в движении предиката действующим началом в качестве рассуждения по поводу того, приписать ли первому субъекту тот или иной предикат, – вместо этого знающий субъект, напротив, еще имеет дело с самостью содержания и должен быть не для себя, а вместе с последним.
Со стороны формы сказанное можно выразить так: природа суждения или предложения вообще, заключающая в себе различие субъекта и предиката, разрушается спекулятивным предложением, и в тождественном предложении, в которое превращается первое, содержится обратный толчок названному отношению. – Этот конфликт между формой предложения вообще и разрушающим ее единством понятия похож на тот конфликт, который имеет место в ритме между метром и акцентом. Ритм получается в результате колеблющегося среднего и соединения обоих. Точно так же в философском предложении тождество субъекта и предиката не должно уничтожать их различие, которое выражается формой предложения, а единство их должно получиться в виде некоей гармонии. Форма предложения есть явление определенного смысла или акцент, которым различается его наполнение. В том, однако, что предикат выражает субстанцию и что субъект сам относится ко всеобщему, и состоит единство, в котором замирает названный акцент.
Для пояснения сказанного возьмем, например, предложение: «Бог есть бытие», в котором предикат – «бытие»; он имеет субстанциальное значение, в котором субъект расплывается. «Бытие» здесь должно быть не предикатом, а сущностью; благодаря этому Бог как будто перестает быть тем, что он есть по месту, которое он занимает в предложении, т. е. устойчивым субъектом. – Мышление, вместо того чтобы идти дальше, переходя от субъекта к предикату, чувствует себя (поскольку субъект пропадает) скорее задержанным и отброшенным назад к мысли о субъекте, потому что оно не видит его; или: так как сам предикат высказан в качестве субъекта, в качестве бытия, в качестве сущности, исчерпывающей природу субъекта, то мышление находит субъект непосредственно также в предикате. И вот, вместо того чтобы в предикате уйти в себя и занять свободную позицию резонерства, мышление все еще углублено в содержание или, по крайней мере, стоит перед требованием углубиться в него. – Точно так же, когда говорят: действительное есть всеобщее, то действительное, будучи субъектом, пропадает в своем предикате. Всеобщее не только должно иметь значение предиката, так чтобы предложение высказывало, что действительное всеобще, но всеобщее должно выражать сущность действительного. – Мышление поэтому в такой же мере теряет под собою твердую предметную почву, которую оно имело в субъекте, в какой оно отбрасывается назад к субъекту в предикате, и в нем уходит назад не в себя, а в субъект содержания.
На этой непривычной задержке основаны по большей части жалобы на непонятность философских сочинений, если у индивида имеются налицо прочие условия образования для понимания их. В сказанном мы видим основание для вполне определенного упрека, который часто делается этим сочинениям, [а именно], что многое нужно перечитывать несколько раз, прежде чем его можно понять; – упрек, который должен содержать в себе нечто обидное и окончательное, так что если бы он был обоснован, он уже не допускал бы никакого возражения. – Из вышеизложенного ясно, в чем тут дело. Философское предложение, потому что оно – предложение, порождает мнение об обычном отношении субъекта и предиката и о привычном поведении знания. Это его поведение и мнение разрушаются философским содержанием предложения; мнение на опыте узнает, что имеется в виду не то, что́ оно имело в виду; и эта поправка его мнения вынуждает знание вернуться к предложению и теперь понять его иначе.
Затруднение, которого следовало бы избегать, заключается в смешении спекулятивного и дискурсивного способов, когда сказанное о субъекте в одном случае имеет значение его понятия, а в другом случае – только значение его предиката или акциденции. – Один способ мешает другому. И только то философское изложение достигло бы пластичности, которое строго исключило бы способ обычного отношения частей предложения.
Фактически и у неспекулятивного мышления есть свои права, которые законны, но в строении (in der Weise) спекулятивного предложения они не принимаются во внимание. Снятие формы предложения должно совершаться не только непосредственно, не через одно лишь содержание предложения. Это противоположное движение должно быть выражено, оно должно быть не только упомянутой внутренней задержкой, но это возвращение понятия в себя должно быть изложено. Это движение, которое составляет то, что в других случаях должно было выполнять доказательство, есть диалектическое движение самого предложения. Оно одно есть действительное спекулятивное, и только выражение этого движения есть спекулятивное изложение. В качестве предложения спекулятивное есть только внутренняя задержка и неналичное возвращение сущности в себя. Поэтому мы так часто видим, что философские изложения отсылают нас к этому внутреннему созерцанию и благодаря этому избавляют себя от изложения диалектического движения предложения, чего мы требовали. – Предложение должно выражать, что́ есть истинное, но истинное по существу есть субъект. В качестве субъекта оно есть только диалектическое движение, этот сам себя порождающий, двигающий вперед и возвращающийся в себя процесс. – Во всяком другом познавании эту сторону высказанной внутренней сущности составляет доказательство. Но после того как диалектика была отделена от доказательства, понятие философского доказывания было фактически утрачено.
Могут указать по этому поводу, что и диалектическое движение пользуется предложениями в качестве своих частей или элементов; названное затруднение поэтому как будто всегда повторяется и есть затруднение, проистекающее из самой сути дела. – Это похоже на то, что бывает при обыкновенном доказательстве: основания, которыми оно пользуется, в свою очередь, сами нуждаются в обосновании, и так далее до бесконечности. Но эта форма обоснования и обусловливания свойственна тому способу доказательства, от которого отличается диалектическое движение, и, следовательно, она свойственна внешнему познаванию. Что касается самого диалектического движения, то его стихия – чистое понятие; поэтому у него есть некоторое содержание, которое в самом себе есть от начала до конца субъект. Следовательно, нет такого содержания, которое было бы субъектом, лежащим в основе, и которому его значение приписывалось бы в качестве предиката; предложение непосредственно есть лишь пустая форма. – Кроме чувственно-созерцаемой или представляемой самости, как раз имя как имя прежде всего обозначает чистый субъект, пустую, лишенную понятия единицу. На этом основании, может быть, было бы полезно избегать, например, имени «Бог», потому что это слово не есть в то же время непосредственно понятие, а есть собственное имя, незыблемый покой лежащего в основе субъекта; тогда как, напротив, [такие слова, как,] например, «бытие» или «единое», «единичность», «субъект» и т. д., и сами непосредственно обозначают понятия. – Если о названном субъекте и высказываются спекулятивные истины, то все же их содержанию недостает имманентного понятия, потому что это содержание наличествует только в качестве покоящегося субъекта, и благодаря этому обстоятельству эти истины легко приобретают форму простой назидательности. – Таким образом, с этой стороны то препятствие, которое коренится в привычке брать спекулятивный предикат в форме предложения, а не как понятие и сущность, также может быть усугублено или уменьшено в зависимости от того, каково само философское изложение. Изложение, оставаясь верным проникновению в природу спекулятивного, должно сохранять диалектическую форму и включать только то, что постигается в понятии и что есть понятие.
2. Гениальность и здравый человеческий смысл
Точно так же, как резонерством, изучение философии затрудняется и не относящимся к резонерству преклонением перед окончательными истинами, к которым обладающий ими не считает нужным возвращаться, а кладет их в основу и думает, что может их провозглашать, а равно – судить и решать по ним. С этой стороны особенно необходимо, чтобы философствование снова стало серьезным занятием. Относительно всех наук, изящных и прикладных искусств, ремесел распространено убеждение, что для овладения ими необходимо затратить большие усилия на их изучение и на упражнение в них. Относительно же философии, напротив, в настоящее время, видимо, господствует предрассудок, что, – хотя из того, что у каждого есть глаза и руки, не следует, что он сумеет сшить сапоги, если ему дадут кожу и инструменты, – тем не менее каждый непосредственно умеет философствовать и рассуждать о философии, потому что обладает для этого меркой в виде своего природного разума, как будто он не обладает точно так же меркой для сапога в виде своей ноги. – Будто и впрямь овладение философией предполагает недостаток знаний и изучения и будто она кончается там, где последние начинаются. Философия часто считается формальным, бессодержательным знанием, и нет надлежащего понимания того, что все, что в каком-нибудь знании и в какой-нибудь науке считается истиной и по содержанию, может быть достойно этого имени только тогда, когда оно порождено философией; что другие науки, сколько бы они ни пытались рассуждать, не обращаясь к философии, они без нее не могут обладать ни жизнью, ни духом, ни истиной.
Что касается философии в собственном смысле, то мы видим, что для длинного пути образования, для столь же богатого, сколь и глубокого движения, в котором дух достигает знания, полным эквивалентом и столь же хорошим суррогатом, каким, скажем, цикорий расхваливается в качестве суррогата кофе, – считается непосредственное откровение божественного и здравый человеческий смысл, который не обременял и не развивал себя ни приобретением другого знания, ни философствованием в собственном смысле. Печально то, что незнание и даже бесцеремонное и лишенное вкуса невежество, неспособное сосредоточить свои мысли на каком-либо абстрактном предложении, а тем более на связи между несколькими предложениями, выдает себя то за свободу и терпимость мышления, а то и за гениальность. Точно так же, как теперь в философии, одно время гениальность, как известно, свирепствовала в поэзии. Но вместо поэзии, если в продукции этой гениальности был какой-нибудь смысл, она создавала тривиальную прозу или, когда выходила за ее пределы, – невразумительную риторику. Так и теперь естественное философствование, которое ставит себя выше понятия и за недостатком его считает себя созерцательным и поэтическим мышлением, выставляет напоказ произвольные комбинации воображения, которое только дезорганизуется мыслями, произведения – ни рыба ни мясо, ни поэзия, ни философия.
Естественное же философствование, протекая по более спокойному руслу здравого человеческого смысла, потчует нас риторикой тривиальных истин. Когда ему ставят в упрек ничтожество этих истин, оно возражает, что смысл и осуществление – у него в сердце, и точно так же должно быть у других, так как оно считает, что, говоря о невинном сердце и чистой совести и т. п., оно вообще изрекает окончательные истины, против которых прекословить невозможно и от которых требовать чего-либо большего нельзя. Но тогда следовало позаботиться о том, чтобы лучшее не оставалось в недрах, а было извлечено из этой глубины наружу. От этого труда – высказывать последние истины такого сорта – давно можно было бы избавить себя; ведь их с давних пор можно найти, например, в катехизисе, в народных поговорках и т. д. – Легко уловить неопределенность или двусмысленность этих истин, и нередко можно показать их сознанию в нем самом прямо противоположные истины. Прилагая усилия выбраться из произведенной в нем путаницы, это сознание впадет в новую путаницу и, конечно, разразится заявлением, что, мол, как всем известно, дело обстоит именно так, а прочее есть софистика; это такое же избитое словечко здравого человеческого смысла, направленное против образованного разума, как и выражение: мечтания, каким невежество в философии раз и навсегда заклеймило последнюю в своих глазах. – Этот здравый смысл, взывая к чувству, этому своему внутреннему оракулу, прекращает разговор с теми, кто [с ним] не согласен; он вынужден объявить, что ему больше нечего сказать тому, кто не находит и не чувствует в себе того же; – другими словами, он попирает ногами корень человечности. Ибо в природе последней – настаивать на согласии с другими, и ее существование заключается лишь в осуществленной общности сознаний. Противочеловеческое, животное состояние не выходит за пределы чувств, и взаимное общение в нем возможно только посредством чувства.
Если бы требовалось назвать царский путь к науке[10], нельзя было бы указать пути более удобного, чем путь, заключающийся в том, чтобы положиться на здравый человеческий смысл и – дабы, впрочем, не отстать от времени и философии, – читать рецензии на философские произведения, да, пожалуй, предисловия и первые параграфы этих произведений. Ибо в предисловиях и первых параграфах даются общие принципы, на которых все строится, а в рецензиях – наряду с историческими сведениями также критика, которая, – именно потому, что она критика, – стоит даже выше критикуемого. Этот обыденный путь проходит в домашнем платье; но возвышенное чувство вечного, священного, бесконечного шествует в первосвященнических облачениях – по пути, который сам уже является скорее непосредственным бытием в самом центре, гениальностью глубоких оригинальных идей и словно молнией озаренных высоких мыслей. Но подобно тому как такая глубина еще не открывает родника сущности, так и эти ракеты еще не есть эмпирей. Истинные мысли и научное проникновение можно приобрести только в работе понятия. Оно одно может породить ту всеобщность знания, которая есть не обыкновенная неопределенность и скудость здравого человеческого смысла, а развитое и совершенное познание, и не необыкновенная всеобщность дарований разума, развращающихся косностью и самомнением гения, а истина, достигшая свойственной ей формы, – словом, всеобщность, которая способна быть достоянием всякого разума, обладающего самосознанием.
3. Писатель и публика
Так как то, благодаря чему существует наука, я усматриваю в самодвижении понятия, то, по-видимому, рассмотрение, показывающее, что приведенные и еще другие внешние стороны представлений нашего времени о природе и образе истины отклоняются от этого [моего взгляда], даже прямо противоположны ему, – такое рассмотрение не обещает благоприятного приема попытке изложить систему науки в данном определении. Но я не могу не принять в соображение, что если, например, иной раз самое лучшее в философии Платона видят в его мифах, не имеющих научной ценности, то бывали также времена, – а их называли даже временами восторженности, – когда аристотелевская философия ценилась за ее спекулятивную глубину, а «Парменид» Платона – величайшее, пожалуй, произведение искусства античной диалектики – считался истинным раскрытием и положительным выражением божественной жизни, и даже при большой тусклости того, что породил экстаз, этот плохо понятый экстаз на деле должен был быть не чем иным, как чистым понятием. – Далее, я не могу не принять в соображение также того, что самое лучшее в философии нашего времени само усматривает свою ценность в научности, и, хотя другие понимают это иначе, оно фактически приобретает значение только благодаря научности. Следовательно, я могу также надеяться, что эта попытка отстоять для науки понятие и изложить ее в этой свойственной ей стихии сумеет найти себе признание в силу внутренней истины самой сути дела. Мы должны проникнуться убеждением, что истинное по природе своей пробивает себе дорогу, когда пришло его время, и что оно появляется лишь тогда, когда это время пришло, а потому оно никогда не появляется слишком рано и не находит публики незрелой. Точно так же мы должны проникнуться убеждением, что индивиду нужен этот эффект, дабы проверить для себя на нем то, что́ еще остается его уединенным делом, и дабы убеждение, которое носит еще лишь частный характер, испытать как нечто всеобщее. Но тут часто приходится отличать публику от тех, кто берет на себя роль ее представителей и поверенных. Публика во многих отношениях ведет себя иначе, чем эти последние, можно сказать, даже противоположно им. Если публика по добросердечию скорее на себя возьмет вину в том, что философское произведение ей не нравится, то те, [которые выдают себя за ее представителей], будучи уверены в своей компетентности, сваливают всю вину на писателя. Влияние на публику сопровождается меньшей болтовней (stiller), чем действия этих мертвых, погребающих своих мертвецов[11]. Если в наше время общая проницательность, вообще говоря, более развита, если ее любопытство более чутко, а ее суждение определено быстрее, – так что «уже входят в двери те, кто тебя вынесут»[12], – то от этого часто надо отличать более медленное влияние, которое дает надлежащее направление как вниманию, навязанному импонирующими заверениями, так и презрительному порицанию, – и только спустя некоторое время одним дает современников (eine Mitwelt), а у других после этого не оказывается потомства (keine Nachwelt).
Так как, впрочем, в эпоху, когда всеобщность духа так окрепла, а единичность, как и должно быть, стала гораздо равнодушнее, всеобщность также придерживается полного своего объема и развитого богатства и требует его, а участие, которое в общем произведении духа выпадает на долю деятельности индивида, может быть только незначительным, то индивид, как того требует уже природа науки, должен тем более забыть о себе; и хотя он должен стать тем, чем может, и делать то, что может, все же от него следует требовать тем меньше, чем меньше он сам смеет ждать от себя и требовать для себя.
Часть первая
Наука об опыте сознания
Введение
Естественно предполагать, что в философии, прежде чем приступить к самой сути дела, т. е. к действительному познаванию того, что поистине есть, необходимо заранее договориться относительно познавания, рассматриваемого как орудие, с помощью которого овладевают абсолютным, или как средство, при помощи которого его видят насквозь. Эта предусмотрительность, по-видимому, оправдана, с одной стороны, тем, что бывают различные виды познания, и среди них один мог бы оказаться пригоднее другого для достижения этой конечной цели, стало быть, возможен и неправильный выбор между ними, – с другой стороны, она оправдана и тем, что так как познавание есть способность определенного вида и масштаба, то при отсутствии более точного определения его природы и границ вместо неба истины можно овладеть облаками заблуждения. Эта предусмотрительность может, пожалуй, даже превратиться в убеждение, что все начинание, имеющее своей целью посредством познавания сделать достоянием сознания то, что есть в себе, нелепо в понятии своем и что между познаванием и абсолютным проходит граница, просто разобщающая их. Ибо если познавание есть орудие для овладения абсолютной сущностью, то сразу же бросается в глаза, что применение орудия к какой-нибудь вещи не оставляет ее в том виде, в каком она есть для себя, а, напротив, формирует и изменяет ее. Или если познавание не есть орудие нашей деятельности, а как бы пассивная среда, сквозь которую проникает к нам свет истины, то и в этом случае мы получаем истину не в том виде, в каком она есть в себе, а в том, в каком она есть благодаря этой среде и в этой среде. В обоих случаях мы пускаем в ход средство, которым непосредственно порождается то, что противоположно его цели; или нелепость заключается скорее в том, что мы вообще пользуемся каким-либо средством. Правда, может казаться, будто этот недостаток устраним, если мы узнаем способ действия орудия, ибо такое знание дает нам возможность вычесть в итоге то, что в представлении, которое мы получаем об абсолютном при помощи орудия, принадлежит этому последнему, и таким образом получить истинное в чистом виде. Но эта поправка на деле лишь вернула бы нас к исходному положению. Ведь если мы отнимем от сформированной вещи то, что сделало с ней орудие, то эта вещь – в данном случае абсолютное – предстанет перед нами опять в том же самом виде, в каком она была и до этой, стало быть, ненужной, работы. Допустим, что орудие нужно вообще только для того, чтобы притянуть к себе с его помощью абсолютное, не внося в него при этом никаких изменений, – на манер того, как птичку притягивают палочкой, обмазанной клеем. В таком случае, если бы абсолютное само по себе еще не попало к нам в руки и не желало бы попасть, оно уж конечно посмеялось бы над этой хитростью. Ибо именно хитростью было бы в этом случае познавание, так как оно постоянно старалось бы сделать вид, что занято чем-то иным, нежели выявлением непосредственного, – а стало быть, не требующего стараний – отношения. Если же рассмотрение познавания, которое мы представляем себе как среду, ознакомит нас с законом преломления в ней лучей, то, когда мы в итоге вычтем преломление, это также ни к чему не приведет; ибо познавание есть не преломление луча, а сам луч, посредством которого мы приходим в соприкосновение с истиной, и после вычета познавания для нас обозначилось бы только чистое направление или пустое место.
Но если, из опасения заблуждаться, проникаются недоверием к науке, которая, не впадая в подобного рода мнительность, прямо берется за работу и действительно познает, то неясно, почему бы не проникнуться, наоборот, недоверием к самому этому недоверию и почему бы не испытать опасения, что сама боязнь заблуждаться есть уже заблуждение. Фактически это опасение предполагает в качестве истины нечто, и весьма немалое, и опирается в своей мнительности и выводах на то, что само нуждается в предварительной проверке на истинность. А именно, оно предполагает представления о познавании как о некотором орудии и среде и к тому же отличие нас самих от этого познавания. Главное же, оно предполагает, будто абсолютное находится по одну сторону, а познавание – по другую для себя и отдельно от абсолютного и тем не менее – в качестве чего-то реального. Иными словами, оно предполагает тем самым, что познавание, обретясь вне абсолютного и, следовательно, также вне истины, тем не менее истинно; – предположение, при наличии которого то, что называется страхом перед заблуждением, следовало бы признать скорее страхом перед истиной.
Этот вывод вытекает из того, что только абсолютное истинно или что только истинное абсолютно. Его можно отвергнуть, если уяснить, что такое познавание, которое, хотя и не познает абсолютного, как того хочет наука, тем не менее также истинно, и что познавание вообще, хотя бы оно и было неспособно постигнуть абсолютное, тем не менее может быть способно к усвоению другой истины. Но в конце концов мы убеждаемся, что такие разговоры вокруг да около сводятся к смутному различению абсолютно истинного от прочего истинного и что абсолютное, познавание и т. д. суть слова, которые предполагают значение, до которого еще нужно добраться.
Вместо того чтобы возиться с такого рода пустыми представлениями и фразами о познавании как орудии для овладения абсолютным или как о среде, сквозь которую мы видим истину, и т. д., – с отношениями, к которым сводятся, пожалуй, все эти представления о познавании, отделенном от абсолютного, и об абсолютном, отделенном от познавания, – вместо того чтобы возиться с отговорками, которые научное бессилие черпает из предположения таких отношений для избавления себя от труда в науке и в то же время для того, чтобы придать себе вид серьезного и усердного труда, – вместо того чтобы мучиться с ответом на все это, можно было бы названные представления просто отбросить как представления случайные и произвольные и можно было бы даже рассматривать как обман связанное с этим употребление таких слов, как «абсолютное», «познавание», равно как «объективное» и «субъективное» и бесчисленное множество других, значение которых, как предполагают, общеизвестно. Ибо ссылка на то, что, с одной стороны, их значение общеизвестно, а с другой стороны, что, мол, даже располагают их понятием, по-видимому, скорее лишь предлог уйти от главного, т. е. от того, чтобы дать это понятие. С бо́льшим правом, напротив, можно было бы избавить себя от труда вообще обращать внимание на подобные представления и фразы, с помощью которых хотят отгородиться от самой науки; ибо они составляют лишь пустую иллюзию (eine leere Erscheinung) знания, которая рассеивается, как только выступает на сцену наука. Но наука, тем самым, что выступает на сцену, сама есть некоторое явление (Erscheinung); ее выступление еще не есть она сама во всей полноте и развитии ее истины. При этом безразлично, представлять ли себе, что она есть явление потому, что выступает рядом с другим [знанием], или назвать другое неистинное знание ее проявлением (ihr Erscheinen). Но наука должна освободиться от этой видимости (Schein); и достигнуть этого она может только тем, что обратится против этой видимости. Ибо наука не может просто отвергнуть неподлинное знание под тем лишь предлогом, что оно представляет обыденный взгляд на вещи, и уверять, что она сама есть знание совсем иного порядка, а обыденное знание для нее ничего не значит; не может она также ссылаться на предчувствие в нем самом некоторого лучшего знания[13]. Таким уверением она объявила бы, что сила ее – в ее бытии. Но неистинное знание точно так же ссылается на то, что оно есть, и уверяет, что для него наука – ничто. Но одно голое уверение имеет совершенно такой же вес, как и другое. Еще менее может наука ссылаться на предчувствие лучшего, которое будто бы имеется в неподлинном познавании и в нем самом составляет намеки на науку; ибо, с одной стороны, она опять-таки ссылалась бы на некоторое бытие, а с другой стороны, на самое себя как на способ своего существования в неподлинном познавании, т. е. скорее на дурной способ своего бытия, и на свое проявление, чем на то, какова она в себе и для себя. Исходя из этого, здесь и следует предпринять изложение являющегося знания.
Поскольку же предмет этого изложения – только являющееся знание, то кажется, будто само это изложение не есть свободная наука, развивающаяся в свойственной ей форме; но с этой точки зрения его можно рассматривать как тот путь, которым естественное сознание достигает истинного знания, или как тот путь, каким душа проходит ряд своих формообразований, как ступеней, предназначенных ей ее природой, дабы она приобрела чистоту духа, когда она благодаря полному познанию на опыте самой себя достигает знания того, что́ она есть в себе самой.
Естественное сознание окажется лишь понятием знания или нереальным знанием. Но так как оно, напротив, непосредственно считает реальным знанием себя, то этот путь имеет для него негативное значение, и то, что́ составляет реализацию понятия, для него, напротив, имеет значение потери себя самого; ибо оно теряет на этом пути свою истину. Вот почему на этот путь можно смотреть как на путь сомнения (Zweifel) или, точнее, как на путь отчаяния (Verzweiflung); на нем совершается как раз не то, что́ принято понимать под сомнением, т. е. расшатывание той или иной предполагаемой истины, за которым вновь следует соответствующее исчезновение сомнения и возвращение к первой истине, так что в конце существо дела принимается таким, как прежде. А этот путь есть сознательное проникновение в неистинность являющегося знания, для которого самое реальное – это то, что поистине есть скорее лишь нереализованное понятие. Этот доводящий себя до конца скептицизм не есть поэтому и то, благодаря чему, быть может, серьезное рвение к истине и науке мнит себя подготовленным и вооруженным для овладения ими, – т. е. благодаря намерению не полагаться в науке на авторитет чужих мыслей, а все самолично проверить и следовать только собственному убеждению, или, еще лучше, все самолично произвести и считать истинным только собственные действия. – Последовательность формообразований, которые сознание проходит на этом пути, есть, напротив, подробная история образования самого сознания до уровня науки. Указанное намерение представляет образование в простом виде намерения непосредственно исполненным и совершившимся; но этот путь по сравнению с этой неистинностью есть действительное осуществление. Следовать собственному убеждению, конечно, лучше, чем полагаться на авторитет; но превращение мнения, основанного на авторитете, в мнение, основанное на собственном убеждении, не обязательно приводит к изменению содержания его и к замене заблуждения истиной. Придерживаются ли системы мнений и предрассудков потому, что полагаются на авторитет других, или потому, что исходят из собственного убеждения, – разница здесь лишь в тщеславии, присущем последнему способу. Скептицизм, направленный на весь объем являющегося сознания, напротив того, только делает дух способным к исследованию того, что такое истина, заставляя отчаиваться в так называемых естественных представлениях, мыслях и мнениях (безразлично, называют ли их собственными или чужими), которыми еще наполнено и обременено сознание, прямо