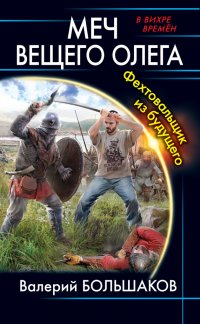
Читать онлайн Меч Вещего Олега. Фехтовальщик из будущего бесплатно
- Все книги автора: Валерий Петрович Большаков
© Большаков В. П., 2016
© ООО «Издательство «Яуза», 2016
© ООО «Издательство «Эксмо», 2016
Глава 1. Вещий сон
Россия, Санкт-Петербург. 2007 год
…Отточенная стрела чиркнула Олега по плечу, располосовав кожу и пустив кровь. Пустяки, дело житейское. Не до того!
Уводили его девушку! Косматый викинг, по колено в воде, волок пленницу за косу, громко гогоча, а пленница лупила по волосатой лапе маленькими кулачками. Олег бросился к пирату, выхватывая самурайский меч катану. Викинг увидал Олега, но девушку не отпустил, только намотал косу на руку. Красавица не удержалась и упала на колени во взбаламученную воду. Мечи скрестились. Отбив удар, Олег в ярости рубанул разбойника по руке, вцепившейся в косу. Катана начисто оттяпала конечность, словно и не было стального обручья. Девушка упала на четвереньки, рыдая, выпутывала из волос кровавый обрубок в железной перчатке и глядела, глядела на Олега, не отворачивая зареванного лица, не отрывая огромных умоляющих глаз.
– К троллям тебя, нидинга![1] – прорычал Олег.
Высверк. Отбив. Высверк. Тень. Удар! Катана обрушилась на бычью шею трубно ревущего пирата, разваливая кожаный панцирь и отворяя вены. Рев перешел в клекот и захлебнулся. Колени морского разбойника подогнулись, в светло-серых глазах угасла последняя искорка сознания, и душа отлетела в мрачный Хель…[2]
* * *
…Олега Сухова разбудил кот Онуфрий. Котяра орал под дверью, требуя незамедлительно впустить, накормить и обогреть.
– С-скотина! – прошипел Олег, садясь в постели. Ведь минут десять еще можно было бы поваляться! Он протер глаза, тронул ладонью лоб. Лоб был мокрым. Ф-фу! Ну и сон! Боевик с элементами эротики, как пишут в аннотациях к фильмам. И какой яркий! Словно и не сон вовсе… Олег поднялся с развороченной постели и прошлепал к ковру на стене. На ковре была развешана коллекция – пара кинжалов, настоящий трехгранный мизерикорд, которым добивали рыцарей, пробивая латы насквозь, волнистый малайский крис, меч эпохи Каролингов. А на подставке-катэмото возлежала катана – та самая, из сна. Сухов любовно провел ладонью по ножнам сайя из дерева магнолии, покрытым черным лаком, сжал длинную, в три с половиной кулака, рукоятку, обмотанную ремешком из акульей кожи, и вытащил клинок. Металл, отшлифованный древним мастером, казался прозрачным, как серебристо-серый лед. Сквозь лезвие проступал узор, запечатлевший тысячи проковок. Морозный блеск меча завораживал…
По правде сказать, Олег и забыл уже, когда в нем проснулся жадный интерес к «стали разящей». В классе, наверное, третьем… Да, тогда боязливый Олежек, «мамсик» и «ябеда-корябеда», сам переступил порог клуба «Эспада», где экс-чемпион области по фехтованию учил мальчишей биться на шпагах. Фамилию экс-чемпиона Олег уже не помнил, а звали его Борис Борисович. Но все сокращали это обращение до Борь Борича. «Борь Борич, скажите Олегу! Чего он без маски дерется?» – «А сам?»
В старших классах Сухов занимался в секции саблистов, заработал даже первый юношеский разряд, но бросил спорт. Жило в нем какое-то неудовлетворение оружием, недоставало чего-то для полного счастья. А на первом курсе института Олег записался в группу кэндзюцу, увидел катану и был сражен ее холодной, убийственной красотой. Катана колола как шпага и рубила как сабля, и в то же время это был меч. И в душе Олеговой все сложилось, все срослось…
* * *
Онуфрий, почуяв хозяина, заорал благим матом.
– Щас! – рявкнул Олег.
Пройдя в прихожую, Сухов щелкнул замком. Дверь отворилась, и кот, благодарно муркнув, проник в помещение. И быстро-быстро протопотал в направлении кухни.
– Собака ты! – обозвался Сухов, но кот не отреагировал на оскорбление. – Только и знаешь, что жрать, жрать, жрать!
Онуфрий мявкнул в том смысле, что да, знамо дело, на том стоим.
– О духовном подумай, животное! – увещевал кота Олег, шагая на кухню.
Вскрыв баночку «Вискаса», он щедро вывалил угощение. Бездуховное животное вертелось тут же, тычась носом.
– Жри!
Пока Олег умывался, брился, одевался, кот успел слопать все дочиста.
– Мя-ау-у! – заявил Онуфрий, облизываясь и щурясь. Дескать, неплохо бы добавочки…
– Обойдешься, – буркнул Олег, приседая на табурет. – Мышей ловить надо!
Онуфрий, усвоив, что вторая порция ему не светит, вспрыгнул Олегу на колени и разлегся во всю их длину, довольно выпустив когти. Сухов погладил котяру, и кухню заполнило громкое мурлыканье.
А Олег постепенно переходил в фазу бодрствования. Сновидение в стиле экшен рассеивалось, заботы, вчерашние и вечные, возвращались и зудели в голове, как осенние мухи.
До конца погрузиться в реал помог звонок с мобильника. Олег поспешно достал верный «Нокиа». Звонил Стемид. Был он «мастером», устроителем и постановщиком ролевых игр. Олег, реальный «цивил», ролевиков не жаловал, полагая, что «каждый сходит с ума по-своему». Оказалось, однако, что не всякая ролевка – «хоббитовы игрища», пристанище инфантов, повернутых на эльфах и орках. Стемид увлекался исторической реконструкцией, у него все было по правде, как в «эпоху викингов»: и мечи, и «доспешка». Правда, завлечь Олега ему не удалось. Сухова заманила Вика, красна девица, ткавшая полотно по старинным правилам и одевавшая всех стемидовцев. Олегу же хотелось ее раздеть…
– Здорово, самурай! – проорал мастер жизнерадостно. – Как твоя жизнь?
– Мас-саракш! – поморщился Олег. – Убавь звук! Совсем контузил…
Стемид хохотнул и продолжил:
– Слушай, мы тут решили на полигон выбраться! На все выходные! «Толки»[3] обещали присоседиться, рыцари… Ну, не фест[4], конечно, но человек сто заявится. Отыграем ха-арошую такую боевочку-феодалку! Бугурт обещаю, и турниры будут, базар, пивка попьем… Ты как?
– Я за! – бодро откликнулся Олег. – И далеко ты собрался?
– Помнишь, где в прошлый раз полевка была? Ты тогда еще с гоблином схлестнулся!
– А-а! Это где «анизотропное шоссе»?
– Да-да-да! Вот по нему и шуруй. Как увидишь шатры, так и тормози. Место шикарное! Там же «запретка», местные шугаются. Тишина… Вода ключевая, хоть залейся! Дров – на три зимы хватит.
– А нас оттуда не турнут?
– Да не! Там не вояки, там физики окопались. Тау-электродинамика! Понял?
– Не-а! – честно признался Олег.
– Я тоже! Короче, подгребай.
– Ладно… А Вика будет?
– А как же?! – изумился Стемид. – Куда ж мы без Викулечки? И Наташка будет, и Рогнеда… Да все, считай! Так что не отрывайся от коллектива.
– Ладно, уговорил!
Сотик курлыкнул и высветил на экране безапелляционное: «Звонок закончен».
– Может, и вправду съездить? – спросил Олег Онуфрика.
Кот не ответил. Устав от ночных бдений, Онуфрий дрых, свесив хвост.
– Гулять, зверь, гулять! – скомандовал Олег, вставая.
Кот поначалу заупрямился, потом смирился. Спрыгнул и пошел, делая потягушечки. Онуфрий был зверем вольным – проживал в подвале и «держал зону», гоняя Васек и Мурзиков со всего квартала. Сухова зверь навещал регулярно, а у Олега нога не поднималась дать пинка голодному представителю семейства кошачьих.
– Мя-ау-у! – затянул Онуфрий, переводя медовые глаза с Олега на запертую дверь и обратно.
– Подождешь! – пропыхтел Олег, скача на одной ноге и затягивая «липучки» на кроссовке.
Пригладив волосы, Сухов вышел из квартиры. И откуда ему было знать, что больше он уже никогда не отопрет эту дверь, обитую черным дерматином, не покормит Онуфрика, не плюхнется со стоном в разваленное кресло перед теликом? Жизнь закладывала крутой вираж…
Глава 2. Кесарю – кесарево
Ромейская империя[5], Константинополь. 858 год от Р. Х.
Кесарь Варда выглядел бы истинным римлянином, какими запечатлевали в бюстах цезарей и августов, если бы не второй и третий подбородки. Тучный, но крепкий, с проседью в густых черных волосах, Варда все еще нравился женщинам. Мужественный профиль кесаря с широким волевым подбородком и крупным носом, с кустистыми бровями и высоким лбом так и просился на новенькие серебряные монеты. Его императорское величество Михаил Третий «Пьяница» пожаловал ему сан магистра[6] и назначил доместиком схол[7]. Кесарю – кесарево. Варда нахватал все титулы и звания, подобрался вплотную к трону и притулился сбоку от василевса ромеев, а по сути исполнял обязанности самого императора – алкаша и гуляки, «византийского Калигулы».
Варда поморщился и пришпорил коня – кесарь возвращался из имения-проастия. Следом пылила стража – полусотня архонта Асмуда, варанга из далекой страны Рос. Повывелись бойцы у ромеев, выродились потомки легионеров, все норовят золотом победить врага, а не железом, молитвой смиренной! А вот тавроскифы, эти варвары с Севера, не желали смирять гордыню и кротко подставлять щеки. Нет, они с великолепной уверенностью брали все, что хотела их душа и требовала плоть! Они наслаждались каждым мигом быстротечной жизни, выжимая из нее все утехи. Любить, так до безумия! Напиваться, так до смерти! Биться, так биться – с неистовством, сгорая от палящей ярости, презирая врага и погибель! Варда вздохнул. Он чувствовал опустошенность. Все его просьбы услышаны, все мечты сбылись – чего еще ждать от жизни? Пустота, холодная черная дыра разверзалась в душе и затягивала, затягивала… Хорошо Михаилу – напьется, и никаких забот! Да только пустоту в душе никаким зельем не наполнишь… Пробовал уже кесарь, тошнило долго, а толку – чуть. И девки тоже не помогают. Ни гетера Елена, черненькая очаровашка, ни Мария, первая жена протостратора[8] Василия, ни его Евдокия, вдовствующая сноха Варды, с которой он сожительствовал при живой супруге…
Все это, кстати, знали, но выводов не делали – Варда был родным братом василиссы Феодоры, регентши при непутевом Михаиле. Какие уж тут выводы…
Вполне вероятно, что, если бы ему и далее позволяли жить по своему хотению, кесарь Варда так и затерялся бы в безымянной людской массе, не оставившей по себе ни дел, ни даже слов, а лишь один культурный слой.
Страшный 856 год словно воздвиг губительные пороги в мерном колыхании жизни Варды, накрыл ледяной водой, сбросил с водопада, закрутил, поволок, притапливая… Великий логофет Феоктист, любимец василиссы Феодоры, коему она передоверила власть, невзлюбил кесаря, а патриарх Игнатий прилюдно отказал ему в причастии – за аморальное поведение. Без разницы Варде была та евхаристия[9], но оскорбление, да еще на глазах у всех… Нет, этого Варда простить не мог. И не стал. Он выплыл из холодной стремнины и одолел пороги. Он подсадил Михаила на императорский трон. Он удалил сестрицу от престола и сослал ее в дальний монастырь. Он сместил патриарха Игнатия и заменил его хитроумным Фотием. Он низверг великого логофета Феоктиста, никудышного правителя, полководца, проигравшего все сражения, а осенью того же года лично зарезал его светлость.
Теперь на коне он, Варда. Вот только куда скакать?..
Кесарь вдохнул теплый воздух – пахло чем-то неуловимым, бодрящим. Всепобеждающей жизнью? Плоды наливались в садах и виноградниках, пшеница поспевала в полях. Лето.
Дорога вывела кавалькаду к стене Феодосия – суровым и величественным укреплениям, защищавшим Константинополь с запада. От Мраморного моря к Золотому Рогу тянулся обложенный камнем ров шириной в пятьдесят локтей[10]. За ним поднималась зубчатая стена из отличного кирпича. За первою стеной вздымался второй ряд стен и башен, высотой в пятиэтажный дом. А дальше вставала третья стена с башнями вдвое выше второй. Твердыня!
Варда усмехнулся – это вам не деревянные заборы, обносившие какой-нибудь варварский Париж или Ингельхайм! Кесарь выехал на луг перед Золотыми воротами – трехпролетной триумфальной аркой, украшенной статуями Геракла и Прометея.
Ворота фланкировали могучие квадратные башни, а над проходом, над зубцами стены-перемычки выступала бронзовая квадрига[11], запряженная четырьмя слонами, уворованная в Остии – там она венчала храм Нептуна. Кесарь направил коня в средний пролет, предназначенный для императора. Нарушение? Конечно. Еще один повод злопыхателям перемыть косточки «этому Варде, вконец обнаглевшему!».
Наверное, подумал Варда, беда его в том, что он позволяет себе смелые и решительные поступки, тогда как иные никак не расхрабрятся даже на смелые и решительные слова. А эти… балагуры только орать могут! Да пусть их… Те, кто «борется» на словах, за беседой в триклинии[12], не берутся за оружие. Пустобрехи разряжают свою ненависть в болтовне. С этими мыслями кесарь выехал на Месу, главную улицу Константинополя, роскошную и великолепную. На холмах вокруг, щетинившихся темной зеленью кипарисов, белели купола церквей и часовен, сверкали крыши золоченые, краснели черепичные. По обе стороны Месы тянулись портики, защищавшие пешеходов от дождя и зноя. Колонны, выломанные из эллинских и римских храмов, были и тонкие, и толстые, и граненые, и каннелированные, и круглые, и квадратные. Всех цветов и оттенков. Чудовищная смесь!
Особую пышность Меса обретала за старой стеной Константина, где в зелени садов утопали беломраморные дворцы. Это миленькое местечко так и называлось – Константиниана. А над золочеными крышами палат, словно призывая заблудившихся, свечой уходила вверх колонна Марциана – как маяк. Мысль плавно перешла к воспоминанию о другой колонне – Аркадиевой, обвитой спиральной лентой мраморного барельефа, прославлявшего победы императора Аркадия и отца его, Феодосия, разделившего некогда Римскую империю между двумя своими сыновьями. Вон она, торчит впереди, на форуме Феодосия. «Дурак ты был, Феодосий, – подумал Варда, щурясь на солнце. – Нельзя было делить Рим, никак нельзя… Деление – это умаление, ослабление вдвое, это раскол и распад. Дурак…»
Варда лениво перекрестился на храм и подумал: а не пора ли подкрепиться?
Цокот копыт стих – конь ступал теперь по коврам, расстеленным по восточному обычаю на мостовой. Варда ехал мимо мастерских оружейников, предлагавших мечи, щиты, шлемы, золоченые и изукрашенные, мимо двухъярусного акведука Валента, мимо дворцов, отделанных розовым мрамором, мимо мрачных боковых улочек, зажатых девятиэтажными кирпичными инсулами-многоэтажками, крытыми черепицей, нищими и грязноватыми и, разумеется, без каменных львов у парадных…
И форум[13] Тавра, плотно заставленный античными статуями, и форум Константина просто кишели народом. Толпа обтекала Варду, демонстрируя общество в разрезе – менял и купцов, кухарок и экономок, мистиев-поденщиков и горластых водоносов, муниципальных рабов-уборщиков и нищих босяков, деловитых чиновников, важных стражников, шустрых воров, константинопольцев и гостей города – пеших, конных, на осликах, ведущих на поводу верблюда… Муравейник.
От форума Тавра до самого Милия, откуда начинались и Меса, и все дороги империи, тянулись Царские портики, в которых укрывались лавки ювелиров-аргиропратов и их мастерские. Этот район так и назывался – Аргиропратий. А Меса уже впадала в устье свое – площадь Августеон, украшенную статуей Святой Елены-Августы. И здесь же был исток всяческим властям. На форум с севера выходил сенат – его колоннада попирала возвышенность, с которой спускались широкие ступени. На южной стороне форума поражали роскошью и размерами бани Зевксиппа. Со всех сторон теснили площадь архитектурные изыски – и резиденция патриарха, и храм Святой Софии, и Главные ворота Ипподрома, и Большой императорский дворец. А рядом с библиотекой крепко сидело мрачное серое здание с колоннами – штаб-квартира городского эпарха, градоначальника Константинополя, уверенного почему-то в том, что является вторым лицом в империи после императора. Дурак… А вот и он сам! «Великолепный светлейший» эпарх Никита Орифа сходил по мраморным ступеням к своей колеснице-каррухе, запряженной лошадьми белой масти, – единственной колеснице во всем городе. Такая уж у эпарха привилегия. Никита ступал величаво, с большим достоинством, из-под складок белой хламиды выглядывала разноцветная обувь: на левой ноге – красный башмак, на правой – черный. Во всей империи обуваться так мог только эпарх и никто другой. «Хоть бы ты запнулся», – пожелал Орифе Варда, но пожелание его не исполнилось.
Многоязыкая толпа толклась по Августеону во всех направлениях – люди будто все разом потерялись и толком не знали, куда им идти. Охрана из варангов-русов окружила Варду, оттесняя толпу даже не мощью мышц, а силою страха. Варангов здесь боялись и уважали – не рождала еще земля лучших бойцов, таких же безумно храбрых, могучих и опытных в войне. Не было им равных ни в пешем строю, ни на море. Пачинакиты-печенеги тоже опасны, но те берут числом. Русы же превосходят врага уменьем. И если, не дай бог, их конунг однажды построит флот и соберет военные дружины в легионы, спаянные железной дисциплиной… Никто тогда не устоит! Никакое царство. Все города падут, и все народы покорятся.
Варда спешился перед Халкой – парадным вестибюлем Большого дворца, куда вели кованые медные ворота. Высокие мраморные колонны Халки, ее купол на четырех арках, вызолоченная бронзовая крыша – все должно было принизить чужеземца, явить варвару величие империи, потрясти дикаря уже в сенях «Священных палат», как прозывали дворец императора.
За спиной гулко топали варанги, позвякивая доспехами. Кесарь вышел на Милий – обширный, как форум, квадратный двор между Халкой и храмом Святой Софии. Рядом с куполом, опертым на четыре арки – точкой отсчета ромейских путей, – высилась конная статуя, поднятая на семь мраморных ступеней. Облаченный в тогу, с перьями павлина на голове, восседал на коне Юстиниан – строитель Софии. В левой руке у него была держава, увенчанная крестом, а правую император простирал к востоку. Варда прочел надпись, высеченную на постаменте: «Злодей унижен перед ним, а он прославляет боящихся Господа», и усмехнулся. Передав коня подбежавшему конюшему, Варда размял члены и не спеша обошел Халку, не обращая внимания на хлопотливых провинциальных просителей, выстаивавших очереди у ворот с медной иконой Спасителя. «Одно и то же везде, одно и то же…» – продолжал свою думу Варда. Только и живописуют наши искусники бесконечную череду императоров, торжественных и безликих. Торжественно-безликих. Безлико-торжественных. Не стало красоты, зато складки одежд на статуях, прически, всякие ничтожные застежки переданы аккуратно и тщательно. Лисипп, Фидий, Пракситель ваяли поэмы. Скульпторы-ромеи составляли протокол. Скорбно качая головой, Варда отпер тяжелую железную дверь и проследовал в круглый зал с полом из фиолетового и желтого мрамора. Мозаика под куполом изображала Юстиниана и Феодору, царедворцев в парадных одеяниях, и полководца Велизария, любовника красотки Феодоры, но Варда даже не поднял головы – однообразное роскошество приедается.
Толкнув створки бронзовых дверей, Варда вышел на дорогу, обставленную колоннами, и зашагал через внутренние дворы, куда выходили казармы. Тут проживала почетная стража императора. Воины носили белые туники и золотые шлемы с красными перьями, а на их позолоченных щитах значилось: «Иисус Христос». Хотя… Варда усмехнулся. Слово «воины» стоило бы взять в кавычки. Воины шагают позади него – молчаливые, суровые варанги. А эти… петухи только и годятся что для парадов.
Дорога уперлась в три двери, выложенные слоновой костью. Варда отворил среднюю и вошел в первый тронный зал, устланный драгоценными коврами. Далее шел Золотой зал – Хрисотриклиний. Двери, в него ведущие, отлили из серебра. А может, и выковали. Купол и стены были отделаны мозаикой на золотом фоне, а против входа висели массивные парчовые портьеры. Сколько денег на все это угрохали, а смысл?..
Долго шел Варда. Через галереи, аркады, залы круглые, квадратные и многоугольные. В одних были колонны из зеленого мрамора, в других – из желтого, в третьих – из полупрозрачного оникса. Он шел мимо фонтана из серебра, мимо чудовищной вазы из чистого золота, мимо бассейна из яшмы. Спустившись в парк и обойдя Порфирную палату – императорский родильный покой с пирамидальной крышей и стенами, облицованными дорогим камнем пурпурного цвета, Варда сошел по гранитным ступеням на причал императорской гавани Буколеон. У самой воды красовалась скульптура, давшая название бухте, – косматый каменный лев терзал ревущего каменного быка. Изогнутые гранитные молы, украшенные статуями, обнимали мандракий – ковш порта. Молы кончались башнями, откуда цепями открывали и запирали ворота гавани.
На тихой воде покачивались пять лодий варангов – изящных «моноксилов», как их прозывали ромеи, «однодеревок». Прозывали с большой долей зависти и ревности – варанги делали киль лодьи из одного дерева, даже если та вытягивалась в длину на пятьдесят шагов. В лесах империи таких громадных дерев не росло… Был и еще один повод для зависти – варанги умели гнуть дерево для шпангоутов. Римляне – те, давние римляне-язычники, тоже владели этим умением. А вот ромеи-христиане утратили тайну сию, забыли… И сколачивали шпангоуты трирем из отдельных кусков, гвоздями. Одно утешает – на громоздких, некрасивых, тихоходных триремах стоят сифоны, пышущие «греческим огнем»…
– Вы славно послужили василевсу, – торжественно сказал Варда, – и будете щедро награждены.
Асмуд с достоинством поклонился.
– Тебе, архонт, – продолжал кесарь, – полагается по шесть литр[14] золота за год службы. Прослужил ты ровно три года, итого – восемнадцать литр! Каждому воину дружины твоей приходится по литре золота за год, итого – три литры в одни руки.
Он повернулся и сделал знак. Служители живо сволокли по лестнице тяжелые кожаные мешочки. Варанги весело загомонили, переняли ценный груз и понесли на борт.
– Прощай, архонт, – чопорно сказал Варда. – С богом!
Асмуд снова поклонился и взошел на борт. Ворота мандракия дрогнули, пошли открываться, но Варда не досмотрел отплытие до конца. Он поднялся во дворец Буколеон и прошел в свою комнату. Большое окно с бронзовой рамой, застекленной мутными стеклами, было распахнуто. Ветерок надувал тяжелые занавеси из дорогих паволок. Варда подошел к окну и облокотился о мраморный подоконник.
Слева светился золотом купол Триконха, справа выступал мраморный вестибюль императорской термы. А впереди, за неприступной грядою стен, сверкал и переливался Босфор. Были хорошо видны кисточки кипарисов на азиатском берегу. По лазурной глади вод, отражаясь в ней, словно в зеркале, проходила мощная трирема, одновременно перенося две сотни весел. А ей навстречу летели пять лодий, распустив полосатые паруса, – варанги спешили домой.
Глава 3. «Из греков в варяги»
Среднее Поднепровье, 858 год от Р. Х.
Асмуд хевдинг[15] не вторил трусливым купцам, плывущим за море вдоль берегов, – так и дольше, и опаснее. Бурю всегда лучше переждать вдали от суши с ее мелями и рифами. Лодьи пересекли Понт Эвксинский, прозванный Русским морем, по прямой, зашли за покупками в Херсон и двинулись к реке Непру, который ромеи звали Борисфеном. Четыре недели поднимались лодьи вверх по реке. Грести варанги могли и быстрее, но куда было спешить? Не в поход шли, а из похода…
Ранним июньским утром лодьи Асмуда хевдинга, скаля зубастые пасти драконов на высоких штевнях, отчалили от пристаней Витахольма[16]. Парусов не распускали, шли на веслах. Начиналось лето, разлив вешних вод давно минул, однако течение Непра не растеряло мощи. Свивая притоки, Непр нес на юг великую массу мутной влаги. Но сильные руки варягов одолевали могучую реку, единым махом окуная в воду десятки весел. Сливая усилия, они загребали на общем выдохе, и пенные бурунчики вскипали, расходясь от острых форштевней.
Асмуд хевдинг оперся спиной о мачту. Поскрипывая кольчугой, сложил руки на груди. Красиво идем!
Он окинул взглядом широкие спины гребцов, бугрившиеся желваками мышц, оглянулся на лодьи, шедшие следом, перевел глаза на тающие синие тучки с лиловой опушью. Ночная гроза уходила на закат, пятная холмы отсветами зарниц. Плотно сжатые губы хевдинга дрогнули в скупой улыбке.
Три года минуло с тех пор, как покинули они родные пределы, их одежды пропахли дымом походных костров и чужих очагов. Две сотни молодых, буйных дренгов[17] водил он в Миклагард[18]. Василевсы ромеев всегда привечали варягов, прозывая их по-своему, «варангами из страны Рос». Воинство Асмуда без разговоров взяли на почетную службу в великую этерию – личную гвардию императора. А кому еще охранить венценосца? У ромеев воины перевелись – мелочь всякая служит, трусливая и жадная до чинов и наград, будто для смеху нацепившая на свои слабые тельца золоченые панцири. А росы с малолетства к мечу приучены, их рука тверда, взгляд бестрепетен, сердце сурово. Недаром пылкие и страстные южанки искали их ласк! И находили…
– Архонт[19] Асмуд! – окликнули хевдинга.
Асмуд повернулся навстречу глыбоподобному ромею, затянутому в черную рясу. Лицо ромея было сплошь покрыто волосами, длинные кудри цеплялись за курчавую бородку, оставляя лишь немного места для хрящеватого носа с горбинкой да черных глаз, цепких и холодных. Это был Агапит Комнин, то ли диакон, то ли иерей – в общем, жрец Распятого. Асмуд презирал христиан, а попов и вовсе считал за врагов веры, но Агапит был непрост. От него исходило ощущение силы и опасности. Другой бы ни за что не согласился плыть в Гарды[20] вместе с варягами, а Агапит сам напросился в Херсоне – надо было ему сменить прежнего священника в Альдейгьюборге[21], в тамошней церквушке. Зачем, Асмуд не понимал. Все равно ведь в ту церковь никто не ходит! Но просьбу смелого попа уважил.
– Как спалось? – усмехнулся Асмуд.
– Скверно, архонт, – признался Агапит. – А мы что, так и будем плыть? Без остановок?
– В Мелинеске[22] постоим чуток, – прищурился Асмуд. – На торгу побываем, друзей проведаем… Там Непр кончается, и начинается Верхний волок.
Асмуд подошел ближе к борту и оперся о распаренное плечо гребца.
– Рогволт, – спросил он, – а это что там такое белеет?
Рогволт приподнялся со скамьи, выглядывая за щиты, навешанные на борт.
– Это колбяги! – уверенно сказал он. – С год как поселились. Мне в Витахольме сказывали.
– Колбяги? – нахмурил брови хевдинг, не отрывая острых глаз от приземистых срубов, белевших свежим деревом. – Не слыхал! Какого они хоть роду-племени?
– Да тоже славины!
– Славины-склавины…[23] – усмехнулся Асмуд и гаркнул: – Братие! А не разжиться ли нам трэлями? А?
– Любо! – заорала, загоготала, засвистела братия.
– Вольгаст! Правь к берегу! – скомандовал хевдинг.
Старый Вольгаст-кормщик осклабился, тряхнул седой гривой и шевельнул рулевым веслом, направляя лодью к селению колбягов. Протрубил рог, разнося приказ хевдинга, и еще четыре лодьи покинули стрежень, сворачивая к берегу. Рабов словить? Любо!
Селение было невелико – десяток землянок, пара шалашей и три больших, длинных дома, сложенных из саманного кирпича, крытых поверху камышом. Хозяйство у переселенцев только-только налаживалось, но жили они без опасу – ни ров не копан вокруг, ни вал не сыпан.
Асмуд пренебрежительно скривился – его гридни, даже если на одну-единственную ночь разбивали лагерь, обязательно обносили шатры крепким частоколом. И выставляли дозор. В степи, конечно, труднее деревом разжиться, но здесь-то что мешает? Вона, лес какой!
За хатами колбягов вставали высоченные дубы, клены и грабы. Вывод? Или жители здешние ленивы, или глупы. И то и другое наказуемо…
– Эгей, гридь! – кликнул Асмуд. – Берем только девок и мужиков помоложе! Крут! Заходишь слева! Лидул! Твои справа! Гляди, чтобы в лес не смылись!
Лодьи, разогнанные веслами, врезались в глинистый берег.
– Вперед!
С ревом и дикими криками варяги повалили в атаку, сигая через борт в мелкую воду. Броней почти ни на ком не было – как гребли, так и в бой кинулись. Да и с кем тут биться? Со славинами?
Асмуд громадными прыжками поскакал вверх по склону, забирая ближе к небеленой мазанке. Из-за угла выскочила девушка зим пятнадцати, испуганно вытаращила карие глазенки и завизжала, порываясь бежать.
– Ку-уда?!
Хевдинг сгреб визгунью за тоненькую талию и передал добычу Люту, поспешавшему следом.
– Вяжи и складывай!
Лют понятливо кивнул, перекинул девчонку через могутное плечо и понесся к лодье. Еще трое гридней бежали в ту же сторону, волоча за волосы вопящих девок. Кряжистый Свенельд, весело бранясь, тащил за шиворот молодого колбяга. Парубок был без сознания, его голова болталась, перекатываясь по впалой груди, а на лице расплывался здоровенный синяк.
– К реке, к реке отжимай! – неслись азартные возгласы.
– Эй, Руалд! Глянь! Никак девка?!
– Вер-рна! Тащим до кучи!
Асмуд быстренько развязал завязки на ножнах и вынул меч. Очень вовремя – из низких дверей хаты на него вылетел бледный мужик, борода лопатой, глаза бешеные, в руке топор. Яростно вереща, колбяг кинулся на Асмуда. Хевдинг небрежно отбил удар, соображая: подходящ ли славин? С сожалением признав – староват, Асмуд сделал выпад, легко уходя от удара, и снес колбягу голову. Тулово рухнуло, дергая топор, а синие губы еще пару мгновений шевелились на отрубленной башке, словно силясь вымолвить последнее слово.
Переступив через труп, Асмуд шагнул в хату. В потемках он разглядел старика, вжимавшего голову в плечи, и двух детишек, таращивших на него испуганные глазенки. То старье, то малье… Хевдинг досадливо махнул мечом, подрубая деда, и развернулся к малышне. Откуда-то из-за печи выпрыгнула молодая женщина и бросилась к детям, заслоняя их своим телом.
– Нет! – вопила она. – Не надо!
В последнюю секунду Асмуд задержал меч, левой рукой хватая женщину за толстую черную косу. Зим двадцать будет славинке, самое то! И лицом смазлива… За такую арабы, не торгуясь, выложат двести дирхемов.
– Не надо! – молила женщина.
– Топай давай! – велел Асмуд, но детей кончать не стал. Да и зачем? Если не от голода сгинут, так в зубах волчьих завязнут…
Вытащив молодицу за порог, хевдинг толкнул ее подлетевшему Люту.
– Всех взяли? – спросил он, оглядывая селение.
– Кого успели! – ухмыльнулся Лют. – Чует моя душа, кто-то там, в лесу, укрылся.
– Не гоняться ж за ними… – пробурчал Асмуд.
Варяги бегали по деревне, высматривая потаенные места, шаря по землянкам. Заполошно кудахтали куры, кто-то выл в голос, громко ревело брошенное чадо. Шалаши валялись, разворошенные, камышовая крыша на крайней хате пылала, с треском и гудом пожирая кривые стропила. В огне сгорали чьи-то мечтанья, надежды, тихие уютные вечера…
Злая стрела просвистела, чиркнув Асмуда по волосам. Вторая «змея битвы»[24], прилетевшая из леса, была метче, но хевдинг отбил ее мечом.
– Взять стрелка! – рявкнул он.
Трое или четверо варягов бросились к лесу, припадая к земле за пнями-выворотнями, хоронясь за деревьями, зигзагом одолевая пустое место. Один варяг упал, хватаясь за древко стрелы, пробившей горло, его товарищи канули в лес. Охота на человека была неслышной, все заглушал рев разошедшегося пламени. Затрещав, крыша рухнула, проваливаясь внутрь хаты, и в небо восклубилось облако искр и пепла.
– Словили! – торжествующе воскликнул Лют. – Ведут.
Двое, Фрелав и Акун, тащили избитого стрелка.
– Охотничек ихний! – крикнул Фрелав возбужденно. – Молодой совсем, а туда же.
– Вяжите, и в трюм, – распорядился хевдинг. – Пора нам…
Дошагав до лодьи, он встретился взглядом с Агапитом.
– Осуждаешь? – поинтересовался Асмуд.
– Отчего же? – пожал плечами ромей. – Одни язычники ловят других язычников, обращая тех в рабство… Моя христианская душа спокойна, ибо крещеных среди них нет. – Агапит усмехнулся. – А у росов в обычае, следуя путем из варяг в греки, разживаться рабами на берегах Борисфена и продавать их на рынках Константинополя. Это окупает дорожные расходы…
– Что правда, то правда, – расхохотался Асмуд. – Полезай на борт, святой отец, – отплываем!
Дружными усилиями гридни столкнули лодьи в воду. Оживленно переговариваясь и гогоча, они перелезали через борта и рассаживались по местам. Дар богов – ветер – задул с юга, и воды Днепра огласились радостными криками.
– Поднять паруса! – скомандовал Асмуд.
Широкие полосатые полотнища, то красные, то синие с белым, развернулись, отражаясь в воде, надулись, принимая ветер и толкая лодьи. Домой!
Глава 4. Эксперимент
Ленинградская область, где-то между Волховом и Сясью. 2007 год
Олег приближался к полигону. Вокруг, зажимая дорогу, зеленел лес, изредка уступая место болотцам, поросшим осокой-резуном и пушистым вейником. Облупленная «Тойота» катилась по узкой колее, затравевшей от безлюдья и безмашинья. Желтые метелки с шелестом ложились под бампер, сеясь колючими семенами.
Забытое шоссе возникло неожиданно – строй одинаковых, высаженных лесхозом сосенок раздвинулся, и влево ушла просека, мощенная растрескавшимся асфальтом. Дорогу перекрывал шлагбаум – ржавая красно-белая труба с «кирпичом» и табличкой для особо непонятливых, грозно извещавшей: «Запретная зона! Въезд строго воспрещен, кроме спецтранспорта!»
– Будем считать, – пробормотал Олег, – что мы как раз спец…
Шлагбаум был прикручен к столбику тонкой арматуриной – ни поднять его, ни опустить, но набитый объезд наглядно демонстрировал уважение к законности и порядку. Олег аккуратно проехал по следам чужих колес и покатил по твердому покрытию, местами разбитому до хрустящего гравия. Годков полста минет, подумал он, и лес окончательно перемелет асфальт – взойдет подорожником, прорастет кустиками, взломает корнями деревьев…
«Тойота» вильнула влево, обогнула пригорок и проехала краем обширной лужайки, заставленной шатрами. Кое-где горели костры, у огня сидели на чурбаках странные личности в сверкавших кольчугах и вороненых доспехах. Поодаль чопорно прогуливались три девицы в длинных одеяниях, изображая прекрасных дам. Конный рыцарь, свешиваясь с седла, заигрывал со всеми тремя. Под мышкой он держал шлем, а правой рукой сжимал копье. Копье здорово мешало рыцарю, и он не знал, куда его деть, пока не приспособился таскать оружие на манер коромысла.
Отогнав «Тойоту» в рощицу, где хоронилось прочее автомотостадо, Олег упаковался по моде девятого века. Раздевшись до трусов, он натянул на себя домотканые порты, крепко сшитые и прочные на разрыв. На ноги – мягкие полусапожки с длинными ремешками. Накинул льняную рубаху, вышитую у ворота Викой. Достал из багажника дешевую катану, купленную по случаю, повесил перевязь через плечо, затянул пряжку, поправил ножны за спиной (вообще-то катану носили за поясом, но Сухову так было удобнее). Вроде все… Шлем и щит он брать не стал – зачем? На турнир он не записывался, а бугурт начнется завтра, не раньше. Пока все соберутся, пока то, пока се…
– Гой еси, добер молодец! – послышался бодрый тенорок.
Олег оглянулся. Позади стоял сам Михаил Михайлович Мальцев, доктор исторических наук, он же главный консультант военно-исторического клуба «Варанг», он же Михал Михалыч, он же МММ, свирепый препод, валивший неуспевающих с особой жестокостью и цинизмом. А на вид не скажешь… Профессор Мальцев был плотненький, какой-то весь домашний дедок с лысиной, похожей на тонзуру, и скобкой седых волос. Полотняная рубаха длиною до колен, с вышивкой по вороту, подвязанная шнурком-гашником, портки да лапти с онучами не опрощали историка и смотрелись потешно – ученая степень «просвечивала» сквозь наряд. И босиком Лев Толстой все равно оставался графом…
– И вы здравы будьте! – солидно ответствовал Олег. – А этот где… мастер наш?
– Оне за водой пошли, – важно сказал Михал Михалыч, – к дальним ключам. Уж больно сладка там водица!
– Ясно…
Сощурившись, Сухов осмотрелся. Шумная компания «толков» ставила шатер, постоянно валя шаткую конструкцию. Точильщик, качая ногой привод, зазывал желающих. Целый выводок стрелков из лука соревновался в меткости, пуляя стрелы в карту полушарий. Игроки переговаривались:
– Просто в Средние века турнирные копья вытачивались на особых таких токарных станках. Совали в них заготовки длиной в одиннадцать футов – это где-то метра четыре. Прикинь? Стандарт такой был! А ты попробуй сейчас такие станки отыщи!
– Так я что и говорю!
– Держи вот здесь. Да не, столб, столб держи! Во! Ванька… тьфу! Дон Сатарина! Натягивай, что стоишь?
– Вот зараза!
– Да вы не там ставите!
– Смойся с глаз!
– Блинский на фиг!
– Точим ножики-мечики! Сабельки правим. Топорики острим.
– Массаракш-и-массаракш!
– Благородные доны, жрать подано!
– Попал!
– Ты куда целился? В Индию? А попал в Австралию!
– Все равно ж попал…
– Тридцать три раза массаракш!
Из белого шатра с криво нашитым красным крестом выбрался парень лет двадцати пяти, полный и румяный, обряженный то ли волхвом, то ли друидом, – белая рубаха спускалась ниже колен, на поясе болталась целая связка оберегов. Это был Шурик Пончев, недавний выпускник мединститута, исполнявший роль знахаря и лекаря.
– Наш привет коновалам и шарлатанам! – заорал Олег.
Шурик обрадованно вскинул руку.
– Здорово! – крикнул он. – Михалыч! Тут Киврин звонил, говорит, запуск у них.
– Да? – оживился Мальцев. – На это стоит посмотреть!
– На что? – не понял Олег.
– А вон, видите? – Профессор протянул руку, указывая на восток, в сторону запретной зоны. Там, за пильчатой стеной ельника, вздымалось массивное, коробчатое сооружение. – Это тау-электродинамическая система. Читали Стругацких?
– А-а! – дошло до Олега. – «Двигатель времени»?
– Да-да-да! Асимметричная механика, ее еще причинной называют… Вы представляете, какова идея? Вырабатывать электричество из хода времени!
– Офигеть! – оценил идею Олег.
– А вы откуда знаете? – спросил Пончев недоверчиво. – Это же, наверное, секретный проект? Угу…
– О, еще какой! – воскликнул Мальцев. – Началось!
Сухов ощутил странное покалывание по всему телу, словно он организм «отсидел». И вдруг ослепительное сиреневое зарево охватило половину небосвода, словно восходила колоссальная чужеземная звезда. Весь мир обездвижел – не трепетали листья в дуновениях ветерка, в нелепых позах застыли люди, будто играя в «Фигура, замри!». В абсолютной тишине накатил синий туман, и пала тьма.
* * *
У Олега зверски засвербило в носу. Он от души чихнул, встал на карачки и лишь потом осмотрелся. И тут же крепко зажмурился. Вокруг стелилась круглая поляна, в центре которой сидел Пончев и лупал глазами, а дальше вставал сказочно-дремучий лес. Ели и сосны в три обхвата вздымались на огромную высоту, с могучих лап свисали сивые бороды мха. И тишина…
– А где все? – растерянно спросил Шурик. – Где наш полигон? Куда делись люди?
Олег оглядел себя. Все порты в соку травяном, вот же ж…
– Не понимаю… – проскулил Пончев.
Он ударил по земле кулаками. Зеленые кузнечики брызнули в стороны.
– Спокойно, Пончик, – процедил Олег. – Без паники!
– Но их не стало! – надрывно сказал Шурик.
– Кого не стало? – гаркнул Сухов.
– Людей!
– Где ты видишь трупы? Что вот зря болтать? Ты бы лучше объяснил, откуда здесь такие деревья взялись!
– Давай пройдемся, – предложил Пончик вздрагивающим голосом, – посмотрим…
И он нерешительно двинулся в лес. Олег зашагал следом. Сосны стояли ровной колоннадой, как при входе в Большой театр, только прогалы меж стволов были наглухо забаррикадированы колючим кустарником, вповалку лежали гниющие, мшистые коряги.
– Фиг пройдешь… Угу… – пыхтел Шурик, тискаясь между сучьями.
Олег полез через скользкий ствол, тот затрещал и изломился, просыпав из сердцевины кучу трухи.
– Ч-черт…
– Олег! – донесся голос Пончика. – Я, кажется, тропинку нашел! Угу…
– Щас…
Продравшись сквозь кусты, Сухов выбрался на звериную тропу и наткнулся на Шурку, озиравшегося с видом триумфатора.
– Веди тогда, – хмыкнул Олег. – Полупроводник…
– Почему – полу?
– А потому что я полпути не шел, а вколачивался, как гвоздь, в эту древесину!
Пончик фыркнул, шагнул и застыл. Секунду спустя Олег понял, почему его «полупроводник» стал вдруг изолятором – в трех метрах от них стоял на задних лапах огромный медведь и с любопытством разглядывал незваных гостей.
– Ва-ва-ва-ва… – слетело с уст потрясенного Шурика.
Медведь глухо зарычал, опустился на все четыре и растворился в кустах. Ни одна веточка не хрустнула, словно не матерый хищник просунулся, а бесплотный лесной дух.
– Пошли обратно… – слабым голосом выговорил Александр. – Дальше все равно болото… Угу…
Под ногами чавкало и хлюпало, обещая близкую хлябь.
– Пошли, – вздохнул Олег.
Вывалившись из дебрей, они проанализировали результаты наблюдений.
– Это не наш лес! – решительно заявил Сухов.
– А чей? – взвился Пончев.
– Да откуда ж я знаю? Только сосняк вокруг полигона насаженный был, ему лет двадцать от силы, а этим деревьям, – Сухов обвел рукой дебри, – далеко за двести. Глянь, стволы какие!
– Господи! – выкрикнул вдруг Пончик. – Какие ж мы идиоты…
Вынув из-за пазухи мобильник на ленточке, он быстро набрал номер и приложил аппарат к уху. Олег с интересом следил за сменой выражений на лице Шурика. Нетерпеливое ожидание перешло в озабоченность, потом в недоумение. Нахмурив лоб, Пончев оглядел сотик.
– Батарейка села, что ли? – пробормотал он.
Шурик потряс «мобилу» и снова прижался ухом.
– «Вне зоны доступа»… – сказал он упавшим голосом. – Угу…
Минут пять они были заняты тем, что бестолково топтались по молодой травке.
– Надо на дерево залезть, – робко предложил Пончев, – и посмотреть… Ага…
– Кстати, да! – сказал Олег и решительно направился к гигантской ели. Меч он не снимал, так и полез.
Первые метры дались ему легко, выше стало туго.
– Чертова смола! – шипел Сухов, отдирая локоть от ствола, залитого живицей. – Клеится, зараза!
Чудом не сорвавшись, он поднялся выше пятиэтажного дома, оглядел из-под руки горизонты и спустился вниз.
– Лес кругом, – сообщил он, с отвращением разлепляя склеенные пальцы. – А к западу водоем какой-то…
– Я даже могу сказать, какой именно, – съехидничал Пончик. – Там Волхов течет.
– Ты уверен? – спокойно спросил Олег. – По нему, между прочим, лодья плывет.
– С чего ты взял, что лодья? – насторожился Шурик.
– Ну как с чего? Парус… По борту щиты вывешены, и весла гребут! Может, мы того… – Олег сделал неопределенный жест. – В прошлое попали? Из-за того эксперимента?
– Фигня полная! – яростно воспротивился Пончик. – Сгущенный, концентрированный бред с элементами шизы. Путешествия во времени невозможны в принципе!
– А откуда тогда лодья?
– Кино снимают!
– А лес? Что, тоже для кино высадили?
Александр засопел, исчерпав аргументы.
– Давай глянем в той стороне. – Олег показал рукой на юг. – Там вроде просвет и речка…
– А зачем тебе речка? – удивился Шурик. – Угу…
– Не знаю, как ты, – заявил Олег, – а лично я есть хочу – умираю! Может, хоть рыбы наловим…
– Точно! – с жаром поддержал идею Пончик. – У меня у самого какое-то щемящее чувство… С утра ж не ел! Думал, в столовке перекушу, а тут… Угу…
И они двинулись на поиски речки. Жутко мешали кусты, но потом стало полегче. Речку они не нашли. Олег поднырнул под лохматую ветку ели и оказался с краю большой круглой лужайки. Посреди лужайки возвышался заросший травой курган, а на его верхушке торчал идол, довольно искусно вырубленный из карельского мрамора. Пухлые каменные губы кумира были щедро извазюканы чем-то липким и черным. Надо полагать, кровью…
– Я ничего уже не понимаю!.. – простонал Шурка и без сил опустился на землю.
– Как ни крути, как ни верти, – поморщился Олег, – а мы таки в прошлом!
– Быть того не может! – затряс головой Пончик с упорством и ожесточением верующего. – Может, это Стемид все… того… организовал?
Олег ничего не ответил, только посмотрел на Пончева с сожалением.
– Пошли лучше шалаш организуем, – вздохнул он. – Стемнеет скоро…
* * *
На рассвете невыспавшийся и голодный Олег умылся холодной водой и сжевал половинку «Сникерса», поделившись с Пончиком.
– Ну, что? – спросил он помятого «знахаря». – Сникерснул?
Шурик кивнул уныло.
– Пошли тогда.
– Куда? – вяло поинтересовался Александр.
– К реке! К Волхову, или что там такое течет…
– Пошли…
Было еще совсем рано – робкая заря едва прокралась в лес, не трогая густые тени, и деревья словно отражали ночь – темные стояли, не перебродные. Олег с Пончиком пересекли гарь и потопали – по заросшей папоротником прогалине, меж бурых сосновых стволов, рассеянно проводя руками по зеленым лохматостям подлеска. Хмельной воздух, настоянный на смоле и хвое, будоражил Олегову душу, наполнял ее каким-то детским ликованием. Он все мог, все умел – здоровый, сильный, сытый! И Пончик рядом. И меч за спиной. А гуляют они где? У начала времен!
Ему было простительно не знать, что там напряли для него норны, распорядительницы судеб, какую нить накрутили на веретено. Норны – бабки скрытные…
Глава 5. Трэль
Нижнее течение Волхова, 858 год от Р. Х.
Олег шел вольно, не скрадом, переступая из матерых сосняков в сквозной березняк, поднявшийся на брошенном огнище; из затравевшего ольшаника шагал в мглистый ельник. Рассветное небо было расчерчено розовым и белесым. Природа просыпалась.
Захоркал вальдшнеп, оповещая лес о явлении красна солнышка. Проиграли зорю журавли. Запели дрозды, подражая соловьям. Зачуфыкал тетерев. С комля-выворотня сорвался глухарь, громко захлопал крыльями, озвучивая посадку. Олег на слух определил кремлевую сосну, на суку коей устроилась птица. Во-он там, на песчаной гряде. Под грядою болото, падь, заросшая черемушником, заваленная подмытыми стволами. Глушь. Глухарю – самое место. На суку защелкали клювом, зашипели, зафыркали – короче, «запели». Олег медленно-медленно выпрямился и задрал голову, высматривая «певца». Глухарь – птица видная, с длинноперым черным хвостом-веером, с горбатым костяным клювом, с ярко-красной кровяной бровью… Холодное лезвие меча уткнулось Олегу в горло.
– Камо грядеши? – Голос был не теплее отточенной стали. Властные обороты звучали в нем – голос не спрашивал, он требовал ответа. Незамедлительно.
Олег отпрянул, суетливо доставая меч. Сердце, как бешеное, моталось в груди, а мышцы, наоборот, зажало страхом. Вот позорище! Засмотрелся, дурака кусок! Птичек не видал!
Человек, стоявший перед Олегом, невысок был, но ладен и крепок. Холщовые порты заправлены в яловые сапожки, поперек стеганой куртки перевязь с ножнами на спине. Если на Олеге, длинном, узковатом в плечах, нарос жирок, то его визави был, похоже, скроен из железа и сыромятной кожи – жесткие скулы, рысьи медовые глаза, суровые морщины у рта. Волосы цвета соломы возле ушей заплетены в косицы и покрыты круглой шапкой-нурманкой. Воин.
Неужто правда?! Или это съемки идут? Господи, лишь бы это были съемки…
– Олег! – крикнул Пончев и слабо замахнулся подобранной палкой.
Воин мягко отскочил, слегка согнул разведенные колени, его меч блеснул в первых лучах и вдруг ударил наискосок, со свистом и зудом рассекая воздух. Палку обрезало, а Пончик оступился и сел с размаху на зад. Олег взялся за рукоятку меча, «как учили», – правой ладонью обхватив ее возле цубы[25], а концом уперев в середину ладони левой. Облизал пересохшие губы. Замахнулся, пугая противника, но воин не моргнул даже. Зато ударил так, что у Олега руки заныли. Прямой меч блеснул и перебил ширпотребовскую катану – обломыш усверкал в траву. Олег поймал взгляд хищных медовых глаз и вдруг все понял и пришел в отчаяние. Ему никогда не победить! Он и с питерской шпаной-то никогда не связывался, а уж в этом времени он – полнейшее чмо!
Из-за густого ракитника выглянул бледный парниша в толстой кожаной куртке, обшитой металлическими бляхами, и сказал что-то ломким баском, кивая на сломанный меч.
Рукою в перчатке парниша сжимал лук – огромную, убийственной силы дугу. Загудела натягиваемая тетива. Олег швырнул катану под ноги парнише.
Тот презрительно скривил рот, мотнул головою, и кто-то проворно связал Олегу руки за спиной. Старый воин спеленал Шурку. Мир перевернулся. В какие-то пять минут жизнь поменяла знак. Олег чуть не плакал от стыда, оглушенный и безвольный, самому себе напоминая что-то желеобразное и колышущееся. Протоплазму. Амебу-переростка…
– Кто это, Олег? – спросил Пончев дрожащим голосом.
Олег не сумел ответить – его чувствительно пихнули в спину, приказывая идти, и он пошел, куда велено. Сказали бы – на колени, ща голову рубить будем! – и он бы повиновался, наверное, и послушно согнул бы выю…
– …Крут! – донесся звонкий голос с вершины гряды, и по песчаному откосу запрыгал белоголовый мальчишка лет десяти, в рубашонке с вышивкой у ворота, по рукавам и подолу. У пояса, болтаясь на шнурках, позванивали бубенчики, отпугивая нечистую силу.
Пацаненок прозвенел что-то непонятное, махая руками для выразительности. Олег понимал с пятого на десятое. Вроде как воина, перебившего катану, звать Крутом…
Крут покивал согласно, дослушав мальчишку, проворчал ответ в усы, а потом подобрал с земли Олегов меч и протянул малолетке. Тот залучился от радости. Взяв меч в одну руку, а обломок в другую, пацаненок полез до верха невысокой кручи. Воин проводил его взглядом и буркнул, указывая путь своим и пленным.
Крут пошел первым, за ним двинулся лучник. Третьим поплелся Олег, рядом шмыгал носом Пончев, а замыкающими шли два молодца в кожаных доспехах и буравили спины пленников в четыре зорких сверлышка. Крутята…
Не оглядываясь, старый воин перешел по камням мелкую речушку и поднялся на обрывчик, где нашлась стертая тропа. Все взошли за ним следом.
Олег споткнулся, больно ударился ногой об корень, но лишь переморщился – не до того. У него болела душа. Корчилась, уязвленная беспощадной правдой. Олег узнал о себе такое, что было больней синяков и ран. Он – трус. И слабак.
Справа брел Пончев. Спотыкался, сопел, мотал светлым чубом и решал непосильную задачу: на каком они свете?! В какое время и пространство их занесло?..
Крут вывел отряд на берег большой реки, быстро несущей мутные воды цвета навозной жижи, и сердце Олегово засбоило. В небольшой заводи, уткнув носы в песок, стояли настоящие лодьи, хищные и длиннотелые. Раз, два, три… Пять боевых единиц. На лодьях торчало по мачте, паруса были свернуты на реях. Штевни поднимались высоко, и Олег заподозрил, что обычно их украшают головами тутошних драконов. Просто в виду родных берегов драконов поснимали, дабы не вспугнуть местный «тонкий план».
На берегу, под скалами был разбит лагерь – кожаные шатры накинуты на столбы в два роста и оттянуты ремешками к колышкам, котлы на треногах булькают кашей над прогорающими кострами. И люди. Много людей – в кожаных штанах, в мягких сапогах с завязками или босиком, в рубахах – выгоревших синих, серых и красных, а то и голых по пояс. Все рослые, крепкие, с уверенными, точными движениями, выдающими бойцовскую породу. Викинги? Варяги? Во-первых, хрен их разберет, во-вторых, хрен редьки не слаще…
Люди сидели кругом костров, бродили по берегу, сторожили со скал, сжимая копья. Кто-то спал, прикрывшись от солнца рукой, кто-то чинил щит, вбивая по гвоздику в вощеную кожу, а кто-то огромный, без рубахи, с татуировкой в «зверином стиле», оплетавшей шею и плечо, стоял, склонясь над водой, и, шумно фыркая, умывался. Чудовищные мышцы бугрили необъятную спину, выбеливая страшные шрамы. Порядком поседевшие космы вымпелами вились по ветру.
– Крут! – окликнули от костра, заговорили шумно и весело, подзывая к себе.
Крут хмыкнул и дотронулся до плеча кашевара – жилистого старика, снимавшего пробу. Старинушка щедро плюхнул в миску пахучего варева, Крут заворчал одобрительно, поставил свою порцию на песок, чтоб остыла.
На Олега с Пончиком глядели с насмешливым интересом и со сдержанным любопытством. Умывавшийся «Седой» снял с шеи полотенце, неторопливо утер лицо и только затем повернулся. Да-а… Вот с кого надо лепить Гераклов и Ахиллов, подумал Олег. Ни капли жира! И кость широка, и мяса на ней наросло – пуды! Грудные мышцы у «Седого» просто устрашали, выдаваясь мощными плитами, а выпуклые кубики пресса напоминали сегментный люк. «Седого» и задушить – проблема. Это ж какие мускулы надо иметь, чтобы обхватить такую-то шею! Колода.
«Седой» задал Круту вопрос, называя того хольдом, и не глядя сунул мокрое полотенце подлетевшему молодцу. Голос у «Седого» был под стать могучему организму – густой бас, с хрипотцой и прохладцей.
Крут ответил, соединяя в звуке голоса и спокойное достоинство, и почтительность. Олег вслушивался в Крутову речь, но понимал лишь отдельности. «Седого», надо полагать, Асмудом кличут. И не просто Асмудом, а еще и хевдингом, вождем, значит…
– А кто такой хольд? – спросил Пончик дрожащим голосочком.
– Ну, это как бы ветеран боевых действий, – объяснил Олег, – действительный рядовой в дружине-гриди…
– А что, и другие бывают? – вяло удивился Шурка.
– Кстати, да. Есть еще дренги. Они вроде как кандидаты в рядовые. Наберутся опыта, в походы сходят, пройдут посвящение, тоже хольдами станут… Понял?
– Понял… – вздохнул Пончик. – Угу… Значит, это правда…
Хевдинг пробасил что-то властно, обращаясь к Олегу.
– Не понимаю, – буркнул Сухов, красноречиво мотая головой.
– Вольгаст тиун! – пророкотал Асмуд, тыча пальцем в старика кашевара, и повелительно упер сучковатый перст в Олегову грудь.
– Олег! – представился Сухов.
Асмуд резко проговорил набор слов, из которых Олег уловил лишь одно – «трэль».
– Я не трэль! Не трэль! – со всей возможной твердостью заявило дитя двадцать первого века, родившееся за месяц до 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Люди на берегу и на кораблях весело загоготали. Олег сжал зубы.
В голосе хевдинга прибыло яду. Асмуд презрительно, двумя крючковатыми пальцами, ухватился за прядь волос у Сухова на голове, подергал и коротко сказал:
– Трэль!
И только тут Олег «приметил слона». У этой ватаги, потешавшейся над ним, – а было их сотни полторы, если не две, – наличествовали длинные волосы и бороды, не шибко аккуратные, но чистые, расчесанные и ухоженные. У двоих-троих подбородки были выбриты, зато вокруг хохочущих ртов спадали роскошные усы, смахивавшие на клыки моржа. Люди в эпоху викингов были твердо убеждены, что в волосах таится жизненная сила, и стригли только рабов-трэлей! Даже дернуть за бороду или за косу почиталось как страшное оскорбление, а в нить, которой перевязывали пуповину младенца, вплетали по волоску от отца и матери! И кем он, стало быть, выглядит, с его-то армейским причесоном? Стриженым трэлем, кем же еще!
Хевдинг молчал. Хольд потихоньку присоединился к товарищам у костра и уплетал кашу, сдобренную чем-то весьма и весьма аппетитным. Дух от нее шел…
Дренг поднес хевдингу рубаху, богато расшитую у ворота. Асмуд, по-прежнему молча, надел ее. Затягивая тесемки на запястьях, он отдал приказание. Олег из всего сказанного уловил только три слова: «торг» и «две марки».
Пара воинов, дожевывая кашу, отвели Сухова с Пончевым к лодье, что была повыше бортами и пошире. По еловым сходням они поднялись на борт. Вся средняя часть палубы была заставлена бочками и тюками – то ли груз, то ли добыча…
– Руки хоть развяжите, – буркнул Олег, поворачиваясь к воинам спиной.
Тот, что был помоложе, фыркнул насмешливо. Гридень постарше молча вытащил нож и разрезал путы обоим пленникам.
Растирая руки, Сухов уселся на кожаный мешок с чем-то мягким. Меха? Да какая ему разница… Он нынче такой же товар, как и эта «мягкая рухлядь» под его седалищем.
– Что нам будет? – спросил Пончик, потирая руки. Руки тряслись. – Какие-то марки… Что за марки? Почтовые?
Олег вздохнул.
– Чует моя душа, хевдинг хочет выручить за нас две марки серебра, – сказал он скучно. – Ну, это что-то вроде денег.
– Выручить? – с трудом доходило до Шурика. – Он нас что, продать хочет?
– Кстати, да. На невольничьем торгу…
– С ума сойти…
О борт плюхала волна, и это слышалось отчетливо. Внезапно шатер на корме пошел волнами и отпахнул полог, выпуская… попа. Самого настоящего попа – огромного ромея-византийца, всего в длинном и черном. И сам черняв, бородой зарос – один нос торчит, а на груди болтается золотой крест. Христианин?
– Пончик! – зашипел Олег, тормоша товарища. – Спроси его! Ты ж врач, латынь должен знать.
– А чего спрашивать? – растерялся Пончев.
– Ну хоть год какой, узнай!
– А-а… Здравствуйте, батюшка! – ляпнул Шурик на корявой латыни.
Поп обрадовался.
– Здравствуй, сын мой! – молвил он басом. – Как звать тебя?
– Меня?.. По… Александр! А вас?
– Зови меня отцом Агапитом. Крещен ли?
– Да нет… – застеснялся Пончик. – Отец Агапит, а какой ныне год на дворе?
– Шесть тысяч триста шестьдесят шестой от Сотворения мира, сын мой.
– Понятно… – протянул Шурка, вычитая. – Восемьсот пятьдесят восьмой год нашей эры… Олег, слышишь? Восемьсот пятьдесят восьмой! О-ох…
– Слышу, не глухой… – проворчал Олег, чувствуя, как все сжимается внутри.
– Вы сами из Константинополя будете? – спросил Пончик, лишь бы что-то спросить.
Священник величественно кивнул.
– Вдвойне приятно слышать имя истинное, – сказал он. – Тавроскифы, что на полдень от Русии, переиначили столицу Ромейской империи в Царьград, а здешние русы и вовсе Миклагардом зовут ее…
– А куда плывут эти корабли?
– В Аль-дей-гью-борг, – старательно выговорил отец Агапит и улыбнулся, сверкнул крепкими зубами в оторочке из курчавого черного волоса. – А славины то место Ладогой кличут… – Голос попа изменился, приобрел пафос: – Доблестным воинам Асмуда поручено доставить меня в Аль-дей-гью-борг. Самим кесарем Вардой послан я!
Однако Олег торжественностью момента не проникся. Дослушав сбивчивый перевод Шурки, он откинулся на локти.
– Да ну? – равнодушно спросил Олег. – Спроси его, не тот ли это Варда, что великого логофета Феоктиста прирезал?
Пончик наивно перевел, и бедного отца Агапита аж шатнуло.
Ромей побледнел и, быстро крестясь, шмыгнул обратно в шатер. Скрипнула палуба, раздраженно загремели железяки. Олег усмехнулся. Странно, но страх и напряжение отпустили его совершенно. Ромей здорово ему помог. Теперь, когда Олег сориентировался во времени и пространстве, стало как-то легче и проще. А Пончик ныл, потирая дрожавшие руки:
– Господи, господи…
– Перестань, – буркнул Олег, – и без тебя тошно…
На берегу протрубил рог, созывая людей к отплытию. Лодья качнулась. По трапу затопали… как их и назвать-то, не знаешь… Бойцы? Гребцы? Гридни? Короче, экипаж затопал.
Гулко загудели доски палуб, разнеслись зычные окрики. На корму, к правилу, пробрался Вольгаст тиун и уселся на высокое сиденье кормщика – далеко с него видать, ничто и никто не застит пейзажи «включенные и обрамляющие». Драконий хвост, в который вытягивалась корма, поднимался над головой кормщика изящным завитком. А старинушка, хоть и худ, да жилист – вон, плечи какие! Костлявые, спору нет, но сила в них еще держится.
Раздалась зычная команда – Олег узнал голос хевдинга. Лодью развернуло и подхватило течением.
Гребцы, поплевав на ладони, взялись за отполированные рукояти. С бурлением и плеском ударили весла, выводя лодьи на простор речной волны. Олегу хорошо были видны гребцы на дубовых скамьях, вернее, их спины, то пригибавшиеся, то откидывавшиеся, с проступавшим витьем мышц. Но он старался не смотреть в их сторону. Было стыдно и неловко до поджимания пальцев. Он тут образованнее любого, но именно его низвели до рабского состояния и везут на продажу. Срам-то какой… И ничего ведь уже не исправишь! Пленили тебя? Пленили. Даже хуже – сам сдался… Ну, хватит. Опять, по новой? Не смог удержать волю, думай теперь, как ее вернуть…
Разнеслась новая команда, гридни уложили мокрые весла на подставки в виде буквы «Т». Двое лбов кинулись к мачте. Парус тяжелым свертком примотан был к длинному рею. Не два, не три, а целый десяток вожжей-шкотов свисал с его нижней шкаторины.
Лодейники быстро разобрались и потянули ременные шкоты. Ветрило поползло, разворачиваясь, вниз и наполнилось ветром, выгладило складки. Заскрипели снасти, и лодью повлекло вперед. Сильнее зажурчала вода, разрезаемая острым форштевнем, окованным позеленевшей медью.
На высоких берегах Волхова – местные звали реку Олкога – четко выделялись белые полосы тропинок и темные леса. Русь. Гардарики.
Серая чайка, пронзительно крича, промахнула над полосатым парусом и отвлекла Олега от размышлений. Он поднял глаза на лодейников, коротавших время за веселым трепом, где баснь неуловимо переходила в истину, а правда вдруг выворачивалась выдумкой. Варяги, «морские люди». «Сице бо ся зваху тьи варязи русь…»
Измученного переживаниями Олега сморило. Проснулся он от толчка. Вскинулся, ошарашенный, не разумеющий ничего. Огляделся – и все пережитое грузом осело на душу. Зато картинка за бортом сменилась.
– Подплываем… – робко доложил Пончик. – Угу…
Показались первые избы – с реки они казались приземистыми, будто придавленными земляными крышами, зелеными в цветочек. А дальше вытягивался чисто русский дом – длинный, подобно опрокинутой лодье. Почерневший от времени сруб прикрывался крышей из торфа – этакий продолговатый холм с пещерой-дверью. Некрасиво? Зато зимой тепло. Из дымогона – на острие киля, если уж продолжать аналогию с перевернутым кораблем, – струился легкий дымок. По берегу бежали два пацаненка, один в рубашке, другой голый, но оба с лукошками. Рядом с ними весело скакал огромный лохматый волкодав. Крики ребятни и хриплый лай разносились над бегущей водой – негромкие, но ясные звуки. Где-то прокукарекал петух, замычала корова, ударила секира, разваливая полено. Одинокий рыбак, сидя в кожаной лодке, снял с крючка гнущегося дугою сига и приставил ладонь к глазам, разглядывая проходившие лодьи. С берега накатили запахи – навозом несло, сеном, молоком, свежеструганым деревом.
– Альдейга! – сказали на носу удоволенно.
Плесы Олкоги, сверкающие на послеполуденном солнце, заметно сузились, выдвинулся Стрелочный мыс, на нем крепко сидела крепость – рубленые башни-вежи… одна, две, три… пять башен. Стены-прясла сложены из мощных дубовых бревен, черных, словно мореных. В животе у Олега будто рой бабочек запорхал – скоро тебя на продажу выставят, узнаешь себе цену…
Асмуд хевдинг отдал приказ убрать парус, и гребцы снова сели за весла. Лодьи обогнули мыс, за ним открылось узкое устье Ала-дьоги, Верхней реки, как называли ижоры Ладожку. Альдейгьюборг строился по обоим берегам этого притока Олкоги, делясь на северную и южную половины. По меркам лета 2007-го от Рождества Христова – поселок городского типа, но туземных охотников град сей должен зело впечатлять. Небось самый крупный на севере Европы. Не хухры-мухры!
У пристанищ-причалов отшвартовались десятки лодий и кнорров, длинных и узких снекк, уродливых фризских коггов – плодов скрещивания бочки и ящика, вместительных сойм и остроносых арабских фелюг, плоскодонных учанов и вертких ушкуев. А дальше, под стенами крепости, шумел торг. Сотни людей бродили меж раскинутых шатров. Околачивались у гостиных дворов с травянистыми крышами, толпились меж дощатых рядов и лавок. Дивились на товар, расхваливая свой и поругивая выставленный у конкурентов. Торговались, приценивались, разворачивали тонкие ткани из Византии. Давали понюхать благовония из Аравии, щелкали по индийским клинкам и слушали долгий, чистый звон истинного булата, взвешивали монеты и рубили серебряные палочки на сдачу, закатывали глаза, демонстрируя предельный уровень восторга, зазывали, ругались, клялись, призывая в свидетели любых богов – от Сварога и Христа до Аллаха и Будды, заключали сделки, ударяли по рукам, бурно выясняли отношения, втихомолку сговаривались и голосили, голосили, голосили – по-булгарски, по-арабски, по-гречески, по-фризски, на северном языке и на местных наречиях. Торжище европейского масштаба!
Лодья причалила к бревенчатому вымолу. Четверо мужиков уже подносили широкие сходни. Прибыли…
Кормщик, кряхтя, встал со своего места и подтянул штаны-гачи. Потирая спину и косо глянув на Олега, он отпер люк в палубе близ мачты. Загремело железо, и наружу, сильно щурясь, выбрался мужик – криво остриженный, босой и со связанными руками. «Был хмур он и зол, но шел». А куда денешься? За ним выбрались несколько зареванных девушек и еще трое парней, смурных и потерянных. Рабы. Олег, значит, один из них. Невольник на продажу. И Пончик с ним… Оптом.
Вольгаст тиун негромко сказал Круту пару слов, тот выслушал и кивнул. Цепко ухватив Олега за локоть, хольд потянул его к сходням.
– Я сам, – буркнул было Олег, но, получив пинка, живо сошел на берег. Пончик сбежал следом, хватаясь за Олега, как маленький мальчик цепляется за маму, боясь потеряться.
Девушек-тир увели в шатер, а мужиков-трэлей погнали на дощатый помост, где уже клонили головы или дерзко разглядывали покупателей около десятка рабов. Молодые, пара пожилых, один и вовсе старец. Этот сидел с краю – смотрел поверх голов и рассеянно улыбался, будто и не его это касалось, будто не ему стать чьей-то покупкой. Олег, по-всякому избегая мыслей о том, что близилось, поставил ногу на помост и упруго поднялся. И только тут, пройдясь по вышарканным лесинам, он постиг свершившееся, «загрузился» полностью: он – раб. Эта маленькая истина потрясла его. Олегу уже говорили, что его продадут, что за него выручат деньги, – слова были ужасны, но они били мимо сознания, скользом, не задевая ум, не попадая в сердце. Все казалось, что его пугают, – ведь нельзя же взаправду продавать в рабство человека! И ладно бы там кого иного, а то ведь его самого, Олега Сухова! Меня – и выставить на продажу?!
Олег лихорадочно, с болезненным пристрастием всматривался в толпу, пытаясь найти в лицах понимание и сочувствие, выискивал в улыбках, гримасах, взглядах намек на поддержку, на помощь, на избавление, но не находил. Люди не видели ничего особенного в том, что носителей разума продавали, как любую другую вещь. Ладожане и гости города пересмеивались, лузгали каленые орехи, а то и вовсе шли мимо, не оглядываясь на помост. Нам-де рабы ни к чему, нам бы отрез полотна купить, женка просила, да шмат сала приобресть изрядный – вчерась тут ха-арошим сальцем торговали… Дайте пройти! Понаставят всяких холопов, ни пройти ни проехать…
Из шатра вышел арабский купец, зябко кутаясь в теплый халат. Конец белой чалмы, покрывавшей его голову, свисал над левым ухом, отмечая ученость. Араб спросил что-то, видимо интересуясь, почем девицы. Продавец, толстенький и кругленький, как колобок, затараторил, на пальцах показывая ничтожность суммы. Поторговавшись, купец крякнул и махнул рукой.
– Ахмад! – позвал он.
Из толпы вышел здоровенный воин Аллаха в бараньей шапке, в замызганном халате и в шикарных, расшитых бисером юфтевых сапогах с загнутыми носками. Ахмад невозмутимо передал увесистый мешочек серебра кланяющемуся «колобку» и повел девушек за собой. Одна из тир заплакала, кривя бледное лицо. Воин Аллаха лениво шлепнул ее по щеке – не сильно, чтобы не пострадал товар, но достаточно для внушения. Девушка смолкла, рукавом вытерла слезы и поплелась за новым хозяином. Ее ждал долгий путь по Великому Волжскому пути, через море Хвалынское, по горам Мазендаранским, по земле Джебел до славного города Багдада. А там уж… кто знает? Может, попадет в Самарру, в гарем халифа Джаафара ал-Мутаваккиля, и назначит ее халиф любимой женой… Возможны варианты.
Потом купили деда. Как понял Олег, старикан был крупным специалистом по лошадям. За него дали хорошую цену – двести дирхемов. На эти деньги четырех коней купить можно. А за сколько, интересно, тебя самого возьмут, Олег-трэль? Почем нынче трэли? И, главное, кому обмывать покупку? Кому-то из местных? А если продадут какому-нибудь франку?! И затеряется Олег-трэль, сын Романа, в перепутанице вонючих улочек Лондона или Парижа, где нет бань и канализации, зато исправно коптят небо аутодафе…
Олегу ярко, в цветах и красках представился его будущий хозяин – краснорожий малый, купчик средней руки, тупой и серый. Какой-нибудь… этот… Винифрид. Пузатый и немытый, он хлещет пиво или дешевое вино, преданно заглядывает в заплывшие глазки попов, угодливо кланяется чванливым графьям, а дома лупит девочку-жену и попрекает куском хлеба «этого бугая, от которого никаких доходов, расходы одни!..»
И тут Крут положил Олегу на плечо тяжелую руку, называя цену. Олег Романович Сухов оценивался в сто пятьдесят дирхемов.
Олег похолодел. Сейчас, сейчас…
Покупатель, тощий и злой старикашка, византийский гость, недовольно скривился. Одетый по-простому, в хитон из грубого полотна, заправленный в порты, старик накинул поверх расшитый плащ. Плохо ему будет, подумал Олег, если достанется он этому старперу, – прикует где-нибудь в эргастерии[26], и фиг сбежишь!
А Крут все набивал цену, живописуя высокое качество товара.
Тут рядом со старым ромеем, черноволосым, несмотря на годы, и смуглым, возник неторопливый в движениях северянин, голубоглазый блондин. «А этот, – отрешенно думал Олег, – запрет в хлеву, где-нибудь на берегу холодного синего фьорда, и будешь ты зимой мечтать о теплом Константинополе…»
Белокурая бестия согласился с ценой и сверху вниз глянул на злющего византийца.
Византиец аж подпрыгнул и тут же надбавил. Уступить норманну-язычнику?! Ни за что!
Страх и отчаяние переливались в Олеге, угнетая рассудок и травя душу. Стать чужой вещью, живым имуществом – ну, как это?! Лишиться всех прав… Жить на положении дитяти. Это неверно – думать, будто «раб» от слова «работа». От «ребенка» – так будет правильно. Трэля кормят и одевают – как ребенка. Он ни за что не отвечает – как ребенок. Дожил!
Хотелось спрятаться, укрыться, забиться поглубже куда-нибудь, чтоб не видеть, не слышать, не понимать сегодняшнего позора и завтрашнего кошмара. Бежать! Куда? Они, может, только и ждут, когда ты бросишься тикать! Тут-то и начнется потеха… Сафари на раба. Погонять по лесу беглого, затравить его, науськать здешних псов… И приволочь обратно. И нацепить ошейник на шею.
Ромей заверещал, бледнея, еще пуще задирая цену. Его дородный брат или сват обеспокоенно затеребил за складку плаща: окстись, мол! Ромей только оскалился.
Вдруг толпу перекричал знакомый голос, и Олег чуть не расчувствовался, узнав запыхавшийся тенорок Вольгаста тиуна.
– Продано! – понял Олег без перевода радостный возглас Крута. А хольд поклонился в сторону крепости, приветствуя конунга.
Олег повернул голову и увидел рослого пожилого человека в богатом плаще-корзне, типа мантии на русский манер. «Хакон, сын Бравлина! Хакон конунг!» – пронеслось по толпе. Рядом с Хаконом конунгом стояла девушка в шелковой рубахе, щедро расшитой узорами по подолу и вороту. Девушка куталась в шаль, заколотую брошкой-сёлье, и смотрела на Олега – с немым вопросом и тайным интересом. Сказать же, что она была красива – значит ничего не сказать…
Конунг спокойно ответил хольду. Прищурив глаза, он осмотрел Олега, вскользь, не пытая взглядом, и сунул Круту кошель с серебром.
Крут поблагодарил, довольно взвешивая в руке всеобщий эквивалент, и ввинтился в толпу.
– И меня, и меня! – заголосил Пончик, бросаясь на колени. – Лекарь я! Целитель! О всех хворях ведаю! – верещал врач. – Паки, понеже…
Тиун сказал что-то вполголоса Хакону конунгу. Тот пожал плечами – где один, там и двое… Пригодятся в хозяйстве.
Глава 6. Путь меча
Гарды, Алаборг
Олег сидел у борта лодьи и глядел на просторы Ладожского озера. Если не смотреть в сторону волховского устья, то кажется, одна вода кругом. Море. Окиян. Гладкая поверхность Ладоги отражала безмятежную лазурь – начало июня, самое тихое время. Ветерки засвистят к середке лета, зашершавят голубое зеркало, замутят блеск…
– Алаборг… – пробормотал Пончик и поерзал. – Это где такой?
– Я доктор? – буркнул Олег. – Я знаю? Не боись, «покупка», не заблудимся… Доведут, куда надо.
Шурка глубоко и тоскливо вздохнул. В «столице» новые рабы не пригодились, и Вольгаст тиун потащил Олега с Пончиком в Алаборг – Нижний город. Поставлен был град сей рядышком со Свирью, которую здесь называли Сувяр, в устье реки Паши, на берегу уютной бухточки за мысом Волчий Нос. Пока лодья дошла, успело стемнеть, и на берег выбирались в потемках. Черный силуэт алаборгской крепости четко выделялся на фоне багряневшего заката. Сухов хмуро полюбовался тем да другим и побрел, куда велено. Пончик тащился следом, причитая.
Имение конунга, куда их определили, располагалось за городом. Надо было, оставляя крепость по левую руку, пройти оба конца Алаборга – Варяжский и Готский – и шагать вдоль Паши по наезженной дороге до святилища Перуна на высоком холме. Суровое изваяние бога грозы и войны рельефно подсвечивали восемь вечных костров. Дорога огибала святое место и выводила прямо к воротам имения-дворища. Из-за частокола-забрала выглядывала крыша высокого терема, этажа в два. К терему примыкала огромная дружинная изба-казарма, к ней – гридница. Хоромы цеплялись друг за друга, а позади еще «длинный» дом построен был, со многими дверьми и покоями – для семейных. Рядом – женский дом, на берегу – корабельные сараи-наусты, повыше – барак для рабов, клети, поварни, ключница на столбах…
– Я так понимаю, – сказал Олег, – что тут у Хакона конунга личное подсобное хозяйство.
– Угу… – тоскливо вздохнул Пончик.
– Ничего, – буркнул Олег. – Как-нибудь выкрутимся…
Покуда его вели по берегу Паши (слева речка журчит, справа лес шумит), Олег повеселел даже, надежды неясные зацвели. Ну, трэль, ну и что теперь? Головой о стенку биться? Биться раньше надо было, и не головой… Хотя, что толку? Ну, ущучил бы он Крута, и что? Машина времени появилась бы? До родного бы веку подбросила?
А только миновали крепкие дубовые ворота имения – тоска еще пуще навалилась. Все вокруг злое, опасное, неприятное и неуютное… Чужое. Совершенно не сочетаемое с Олеговыми помыслами и хотениями. Здесь так: хочешь работать? Вкалывай! Не хочешь? Вкалывай! А не то худо будет!
И с Олегом цацкаться тоже никто не собирается – это ему, Олегу, надо приспосабливаться к новому старому миру, применяться к обстоятельствам и терпеть.
Вольгаст тиун подозвал их и повел к бараку для трэлей. Единственная дверь барака была открыта, и из нее несло. Олег, ведомый тиуном, миновал влазню и оказался в халле, то бишь зале «длинного» дома. Два ряда вильчатых столбов поддерживали крышу, а вдоль стен тянулись лавки. В боковые пазы столбов на ночь вставлялись скамьевые доски – на них и почивали трэли. Немудреный интерьер едва просматривался в свете двух догорающих очагов-лангиллов. Северный вариант.
Поворчав для порядку, Вольгаст вытащил истертые, покрытые неглубокой резьбой спальные доски и сунул в пазы по обе стороны от одного столба, другими концами оперев о лавки. Достал с полки овчинные одеяла, сделав немудреный жест: ложитесь! И ушел.
Олег сел на доску и сгорбился. Скоро он так прорастет в тутошнюю реальность, что с трудом поверить сможет в олигархов и скинхедов, в «Су-35» и «Т-72»… В маму с папой. В соседку Наташку, которой он платонически спинку тер в бане на даче и сам не заметил, как овладел… Хороший у них тогда вечер получился. И целая ночь. И утро…
Глаза у Олега обожгло слезами. Он вздохнул и промокнул глаза рукавом. Не надо было возвращаться в прошедшее, плохая это примета… А возвращаться в будущее – к добру?.. Прислушавшись, он уловил всхлипы – Пончику было худо. Олег встал и пересел к товарищу. Шурка зажимал лицо руками, раскачивался и тихо поскуливал.
– Господи, господи… – шептал он. – За что? Ну что я такого сделал? Почему я здесь? Я не хочу! Не! Хо! Чу-у!
– Сашка, – одернул его Олег, – хватит нюнить!
– Олег! – трагическим голосом сказал Пончик. – Это же на всю жизнь, я не смогу так! Тут полно микробов, и они по мне ползают – во-от такенные! Я первый раз в жизни ложусь неумытым… А как этим можно укрываться? – Шурик с отвращением, двумя пальцами, приподнял за край заскорузлую овчину. – Меня уже тошнит! Вот, вот, поползло что-то, кусается!
– Да это клоп, наверное…
– А-а! – Сашка стал остервенело чесаться. – Септическое все! Грязь, грязь…
– Ничего, Александр Игоревич, – утешал Олег, – а мы – из грязи, да в князи! А?
– Микробы… – стенал Пончик. – Зараза…
Шурка был невменяем.
Из глубины халле долетел грубый голос – надо полагать, требуя тишины и спокойствия. «Все – спать!» Олег снял мягкие сапоги, смахивавшие на мокасины краснокожих братьев, положил их под скамью и лег. Хотя вряд ли удастся заснуть… Лежа, он невольно слушал многоголосый храп, скрип досок, сонное ворочанье, далекие окрики часовых и незаметно уснул.
Ему приснилась та девушка, что стояла рядом с конунгом. Дочь она ему или кто?.. Девушка была в одной маечке – до пупа – и звонко смеялась, убирая волосы с глаз… Красивая дочь у гардского конунга, глаз не отвесть. Невеста. Заливается смехом беззвучным – глаза сощурены, зубки белые дужками жемчуговыми сверкают… Ишь ты ее – распустила черны волосы, да по белым плечам…
Олег вздрогнул и открыл глаза. Разбудила его азартная хриплая брань. Спросонья Сухов решил было, что он на отцовой даче, а под окнами опять стали табором самодеятельные артисты из театра «Аполло» – народец неумеренно болтливый, среднеодаренный, но корчащий из себя Фаин Раневских и Лоуренсов Оливье. Но, открыв глаза, Олег убедился, что до шести соток семейства Суховых тыща с чем-то лет. Кто-то сипло ревел, а другой голос, визгливый и неестественно твердый, бубнил. Потом вступил третий голос, обращаясь к некоему Ошкую.
Олег сел и протер глаза. Земляной пол холодил даже сквозь заскорузлые носки. Сухов зевнул, нагнулся и пошарил рукой под доской. Сунул другую. Свесился посмотреть, куда задевались сапоги. Сапог не было. Под скамьевой доской сидел лишь роскошный кот – белый весь, с рыжим пятном у хвоста. Олег почесал его за ухом. Кот мурлыкнул, выгнул спину и стал точить когти о столб. Так, подумал Олег с тяжеловатостью, упущение. Недобдел.
Он разогнулся… и увидел свою обувку. Точно, его – вон и пятно на левом… Нашлись! Только с нагрузкой. В его сапожки были обуты лапы краснощекого богатыря с мышцами. Ошкуя. А похож… Сам шкафа двухдверного шире, и повадки медвежьи. Глазки махонькие, красные, злые – ну зверь зверем. Глумливо усмехаясь, Ошкуй участливо спросил Олега, видимо интересуясь, не потерял ли тот чего. Олег лениво улыбнулся и прошел мимо, к двери. Он решил не торопиться. Один раз уже поспешил, хватит… Стянув хабэшные носки, он сунул их в загашник.
– А-а-а! – разнесся по халле вопль.
Сухов резко обернулся. Вопил Пончик. Он стоял босиком, дико оглядывался и заходился криком.
– Это не сон! – кричал Шурка. – Это взаправду! Ущипните меня!
Здоровый трэль щипаться не стал. Он отвесил медику увесистую затрещину: «Че орешь?!» Медик обыскал глазами свой материализовавшийся кошмар, нашарил в нем Олега и бросился к товарищу:
– Олег, это девятый век! И те варяги – они тоже были настоящими… Ай! – Он гадливо дернул рукой. – Гляди – ползет! Я же говорил, они тут здоровенные.
– Это блоха, – успокоил Пончика Олег.
Александр содрогнулся от омерзения.
– Антисанитария! – выдохнул он. – Грязь везде… О-о!
Во дворе заколотили по билу.
– Пошли, Пончик, – вздохнул Сухов. – Нас кушать зовут…
Он вышел во двор и умылся из большой деревянной бочки. За неимением полотенца утерся рукавом. Пончик тоже подошел к бочке, увидел плававших в воде головастиков, отшатнулся и присел к длинному столу под навесом, стараясь ничего не трогать руками.
А на столе томилась в горшках толокняная каша, заправленная жаренным на сале луком… «Не судачок «орли», но есть можно, – подумал Олег. – А проблемы будем решать на десерт…»
Вот тут он ошибся. Когда дебелая повариха щедро плюхнула каши деревянным черпаком в его шершавую, малость неровную глиняную миску, напротив, через стол, устроился Ошкуй. Гнусно подмигнув Олегу, зажал в кулаке резанную из клена ложку – и пошел наяривать. Сухов едва притронулся к каше, а тот уже умолол свою порцию и нагло потянулся за Олеговой. Добавки захотелось!
Тут уж терпение Олега лопнуло. Вся злая муть, почти осевшая за ночь, всколыхнулась в нем. Все унижения вчерашние припомнились, весь нерастраченный гнев. Чудовищным усилием воли Олег погасил в себе ярость, доведшую его до белого каления, и та перешла в холодную фазу, расчетливую и жестокую.
Он привстал, что можно было принять за угодливость, и сам подвинул свою миску Ошкую. А когда тот с ухмылкой перевел взгляд на «добавку», Олег ухватил верзилу за нечесаные патлы и резко приложил мордой об стол. Миска раскололась. Ошкуй взревел, подскочил, растирая по физиономии кашу и кровь. Трэли тоже слетели с мест – растерянные, испуганные, азартные. Не поняв толком суть происшедшего, они ждали расправы над новичком, предвкушали зрелище, тем паче что «хлеб» уже был умят. Пончик был в ужасе – сжался весь, побледнел, как нервная дамочка, узревшая мышь.
Ошкуй в слепом полете запрыгал к бочке. Глухо рыча, он смыл с лица разваренное толокно и кровавую юшку, наспех промокнул щеки рукавами и повернулся к Сухову. На толстых устах его змеилась нехорошая усмешка. Будто на дыбы вставший медведь-шатун, он злобно хрюкнул и выбросил здоровенный кулачище, метя новичку в голову. И угодил в пустоту. Новичок же ушел с линии атаки, спасая вместилище для мозга, и врезал локтем в спину Ошкую. Метил Олег в почки, да, видать, не попал. Крякнув, амбал прянул влево и заработал короткий удар локтем снизу вверх в подбородок. Ошкую только и хватило, что заметить ледяной взгляд синих, с прищуром, глаз, и тут же в голове у него полыхнули перуны. Трэля отбросило к стене барака и припечатало о бревна. Другой бы на его месте свалился замертво, но в дюжем организме Ошкуя резерву хватало. Он рухнул на колени, затем на четвереньки, помотал стриженой головой и тяжело поднялся. И кинулся молотить новичка кулаками, как вальками лен. Но вот беда – зря тратилась мощь телесная и злоба сердечная. Редко достигали кулачища верткого новичка, месили бестолково воздух, и все.
А Олег совсем в норму пришел. Утоля обиды, он более не испытывал жажды убивать и даже поражался уголком сознания, что подобное желание вообще в нем возникло. Сухов решил, что пора заканчивать, и уже отшагнул назад, но тут его вызвали на бис. С криками и воплями на Олега бросились еще четверо или пятеро трэлей, откормленных на хозяйских харчах. Вторая серия!
…Этого, с пшеничного цвета бородкой и докрасна загоревшими лопухастыми ушами, успокоим ребром ладони под нос – раз! Слезы и кровь у трэля брызнули одновременно. Костяшками пальцев в кадык – два! – и пяткой ладони в подбородок – три! Отдыхай, ушлятый…
– Ы-ы-ы! – рычал бородатый мужик в штопаной-перештопаной рубахе.
– О-ох…
– А-а-а!..
– У-у-у…
«Бороде» влепим кулаком в ухо. Очень способствует…
– И-эх… – тужился черненький, рябой, с волосатыми ушами. Уложим тебя, друг ситный, ногой по яйцам. Охолонись, длиннопятый…
О, сразу двое… От тычка в ухо в голове Олеговой звон пошел. Хороший удар по корпусу чуть было не уложил его, а от хука правой Сухов «поплыл». Упав, он нащупал палку от исшарканной метлы и кинулся в бой, орудуя ею, как катаной. «Бороде» он перебил руку в запястье, рябому заехал концом палки в солнечное сплетение, а тут и Ошкуй подскочил, от души замахиваясь. Пончик подлетел, держа обеими руками кринку из-под молока, и обрушил ее богатырю на голову – только осколки брызнули. Ошкуй шлепнулся на монументальный зад. Олег уткнул ему палку в горло, под страдальчески кривящуюся рожу, надавил и держал так, пока не вернул свою обувку.
– Спасибо… Понч, – выговорил он, отпыхиваясь.
Тут как плетью ударил хозяйский голос. Вольгаст тиун вышел из-за угла и сурово насупил брови. Послушно опустились руки, разжались кулаки, поникли головы. В глазах рабов трусливо попритухли воинственные огоньки. «Строиться!» – сделал тиун жест, понятный без долгого перевода.
Трэли поспешно выстроились у стены барака. К Пончику вдруг подошла красивая рабыня-тир, оглядела сурово и увела. Тот было подергался, вяло сопротивляясь, – бесполезно. Утащила.
Вольгаст тиун вытащил бересту, исписанную рунами – «чертами и резами», – и стал зачитывать тонким, но сильным голосом. Олегу эта сцена живо напомнила кадры из «Операции “Ы”», где милиционер оглашал весь список работ для «хулиганов, алкоголиков-тунеядцев». Правда, в яви было не так смешно…
Человек двадцать трэлей – с ними и Олега – построили и повели со двора. Следом за рабсилой тронулась телега, груженная орудиями труда – топорами, молотками, колотушками, теслами, скобелями, коловоротами, стамесками… Под конвоем двух скучавших гридней колонна потопала берегом Паши. Мимо кузни, откуда тянуло запахом угля и горячего металла, мимо огромного корабельного сарая-науста, мимо идола, искусно вырезанного из дерева, мимо остова будущей лодьи с частыми, изящно гнутыми шпангоутами. Это мерное движение в строю напомнило Олегу виденное в каком-то фильме: энкавэдэшники гонят зэка по этапу.
Шли долго, лес делался все глуше, а деревья будто соревновались между собой, какое выше вырастет, – стволы в три-четыре обхвата поднимали кроны к облакам.
Вольгаст тиун завел трэлей в самые дебри и указал на ствол ясеня, отмеченный крестом. Трэли покричали, разбираясь, кому первому рубить, и вытолкнули двух дюжих мужиков, кряжистых и длинноруких. Подхватив топоры, парочка подошла к ясеню и глянула вверх. Олег посмотрел туда же. Дерево с метр в поперечнике уходило в вышину круглым обелиском. Выросший в густом лесу, ясень весь свой срок тянулся к свету, почему и не имел нижних ветвей – добрые из него доски выйдут, крепкие!
Вольгаст тиун погладил ствол, бормоча непонятные молитвы, потом отошел в сторонку и положил на плоский камень горбушку хлеба со шматом сала. Олег сглотнул. Увы, угощение было не ему, а древесной душе, чтобы ей не так обидно было, когда срубят ясень…
Тиун отдал команду, и кряжистые взмахнули топорами. В ком-то из трэлей проснулась совесть, и вышел третий лесоруб. Частый стук пошел гулять по лесу. В шесть крепких рук рубили стройный ясень.
Один из кряжистых вскоре отошел, отдуваясь и утирая пот, и его топором завладел Олег. Желающих поработать не было, но тиун строго следил, чтобы очередь никого не миновала.
И вот, наконец, древесина издала глухой треск, ясень повело к северу. Все дружно загомонили, упираясь в ствол руками и клоня его в противоположную сторону. Север – это холод и прочие несчастья, нельзя, чтобы дерево ухнуло верхушкой на полночь! Кто ж тогда доверится доскам из ясеня, отягощенным злом?
Боги помогли – дунул ветер, листья зашумели, и дерево откачнулось к югу, стало клониться (звонко лопались последние волокна), и вот наклон лесного великана перешел в падение. Сшибая сучья и ветки с соседних дерев, ясень рухнул, давя подлесок. Трэли отскочили, спасаясь от подпрыгнувшего комля, и заорали, разбирая топоры, – настал черед рубить верхушку и прочие выступающие части.
Олега Вольгаст тиун приставил ошкуривать бревно, обдирать кору с влажного и скользкого ствола. «Стахановец, блин, – думал Олег урывками, – гвардеец пятилетки! Чего ради я тут корячусь? Почетной грамоты от конунга добиваюсь?..»
Мысли его перебил треск веток. Наскоро утерев потное лицо, Олег обернулся. Нет, это был не медведь. По прямой, через кусты, обирая с себя паутину, брел Пончик с пустым берестяным коробом. Лицо у него было разнесчастное.
– Что еще не слава богу? – проворчал Олег.
– Ой, ты не представляешь даже, какой это был позор! – запричитал Пончик. – Угу… Та девушка числится здешней лекаркой, травницей и ведуньей… Угу… Чара – так зовут ее…
– Ну? – подбодрил его Олег.
– Ну, привела она меня в сарай какой-то, там везде травы развешаны, и называет их – внятно так, четко, чтобы я понял: одолень-трава, пух-трава, зверобой, любистра, чистотел… Угу… И показывает – любистры два пучка, чистотелу одного хватит… Господи, да я ж первый раз в жизни эти травы видел! Я и знать не знал, что есть такие. С шиповника они только плоды берут, ягоды малины сушат, с другого растения одни цветочки собирают, кору какую-то снимают… Жир медвежий, жир барсучий, струя бобровая… Угу… Вместо снотворного – маковый отвар… А знаешь, где они антибиотики берут? Плесень с масла соскабливают! Господи! – с отчаянием сказал Пончик. – А я ж ничего этого не знаю… Совершенно! Вон, Толстой писал, как дамы из высшего общества щипали мох-корпию, у него вроде как антисептическое действие… А как я его найду? Ну откуда я знаю, как эта корпия выглядит? Вот, – вздохнул Шурка, приподнимая короб, – услала меня в лес, крапиву собирать. Ее-то я узнаю сразу…
– Ничего, Пончик, – вздохнул Олег, – освоимся…
Тяжко воздыхая, Пончик убрел в заросли.
– Смотри, не заблудись! – крикнул ему вослед Олег.
– Ладно… – донеслось из-за дерев.
День был жаркий, в лесу парило, и Олег быстро взопрел. Скинув рубаху, пока не провоняла, он набросил ее на сук… и застеснялся своего белого, сытенького тела. Мышцы вроде имеются, но обросли жирком, а там, где полагалось быть прессу, набрякли две складки… Олег ругнулся про себя и бросил взгляд на гридней-конвоиров. Те тоже поскидывали лишние одежды и щеголяли сухим рельефом. Узкие бедра и широкие плечи – истинно мужские фигуры! Хоть сейчас в стриптизеры…
А гридни, изрядно заскучавшие, вырубили себе по увесистой палице и тешились, фехтуя. Олег зачарованно следил, как чертятся мгновенные дуги, как череда ударов и отбивов сливается в размытое мельтешение. И уже лучше понимал, почему трэли с топорами не глядят в сторону воинов, а о том, чтобы замахнуться, даже не думают. Любой из гридней был способен расправиться со всей «бригадой» – уложит каждого по очереди и даже не запыхается…
Из унылых дум его вырвал невежливый тычок. Олег обернулся и увидел одного из кряжистых, кажется, Фарлофа. Трэль протягивал ему кувалдочку – дескать, смени, притомился я. В глазах Фарлофа светился тревожный огонечек, но Олег «выступать» не стал, кивнул только и принял молот.
Откатив в сторонку бревно метров пяти или шести в длину, трэли взялись разделывать его на доски – вбивали клинья по касательной и кололи. Олег принялся охаживать клинья. Оглушительный стук переполнил лес и поднял в небо стаю всполошенных птиц. А бревно затрещало протяжно, да и распалось на две половинки. И опять надо было вбивать клинья, раскалывая ствол на четвертинки, на осьмушки… Пот с Олега не капал – стекал жгучими струйками, зато аккуратным штабелем возлегли два десятка неровных досок. Остругают их топорами, выгладят теслами да скобелями и сладят крепкую обшивку для лодьи. Проложат швы смоленым волосяным шнуром, сплотят стальными заклепками, прошьют моченым еловым корнем, и никакие шторма не будут страшны кораблю! Ударит волна в борт – только гул пойдет.
Трэли неожиданно загалдели – услыхали стуки и грюки горшков, подвозимых на телеге. Обед!
Олег бросил молот на громадный пень и потряс натруженными руками, распрямил спину. Ох и умотал его рабский труд… Если тут и кормежка такая, что пса стошнит, значит, надо мотать отсюда!
Трэли, отбывавшие «наряд на кухне», протащили через заросли пару носилок с горшками и плошками, а толстая повариха волокла здоровый жбан квасу.
Горшок, врученный Олегу, был горяч, а уж запах, щекотавший ноздри, явно исходил не от баланды или иного хлебова. Сухов колупнул варево… Мясо! Разваристое мясо, с подливкой, с кореньями, с травками душистыми… Лучок угадывается… И бобы! «Эге! – подумал Олег весело. – Да на таких кормах, с такой-то работенкой, я тут быстро мускулюсы накачаю!» Мясцо с бобами он умял и потом долго цедил квасок из щербатой кружки. Хорошо!
Трэли разбрелись, разлеглись на травке. Гридни, откушав вместе с трэлями, уселись под сосной играть в тавлеи. Повариха, собрав посуду, убрела, и слышно было, как гремят в отдалении пустые горшки.
Олег лежал и наслаждался. Правда, недолго. Вредная натура толкала разомлевший организм на подвиги, дух бунтовал. «Что, так и будешь в трэлях числиться? – спросил себя Олег. – План перевыполнять, да? В ударники феодального труда выбиваться?» Сцепив зубы, он сел. Потом встал. Нашел подходящую жердину и выстругал себе боккен – деревянный меч. С таким тренировался сам Миямото Мусаси[27], а уж ему сами боги велели. И, вдобавок, сделаем ясеневую катану тяжелей обычного – хорошее упражнение для руки. Он не нанимался всю жизнь холопствовать! Конунгу бы послужить, в дружине его… Да кто ж такое чмо в строй поставит?
Олег отошел за купу елочек, стараясь не оглядываться на гридней, – вдруг подумают, что это попытка к бегству? Выйдя на крошечную полянку, Сухов остановился. Вздохнул – руки ныли – и начал. Сунув боккен за ремень, он расслабился.
Ему никогда не победить варяга или викинга в бою. Таких, как он, потребуется дюжина, чтобы сладить с одним «тигром моря»! И сколько бы он ни тренировался, ему никогда не достичь совершенства, никогда не сравняться со здешними мастерами меча. Надо было с малолетства овладевать искусством боя, как это делают в Гардарике и в далекой стране Ямато. Так что же, все зря?
Олег медленно вдохнул и потянул боккен на выдохе. Есть только один способ преуспеть в этом мире – стать быстрее! Иайдо – так называется искусство мгновенно обнажать меч и тут же наносить удар. Как на Диком Западе! Ведь, когда двое ковбоев-ганфайтеров сходились в поединке, побеждал не тот, кто лучше стрелял, а выхвативший «кольт» первым! И моментально жавший на курок. Иайдо… Говорят, первым искусником стал самурай, желавший отомстить более опытному воину. Вот и ему надо научиться выхватывать меч раньше, чем его противник коснется рукояти своего клинка! Опережать врага на долю секунды и разить без промаха. Просто не давать противнику времени победить! Если же он промешкает, его убьют.
Олег выхватил деревянный меч, как только мог быстро, перебарывая истомленные мышцы. Боккен описал дугу и со свистом рассек воздух по вертикали. Медленно, тролль тебя дери, медленно! Нормальный самурай наносил по три полновесных вертикальных удара в секунду!
Олег выбрал «врагом» пушистенькую елочку и нанес ей подрезающий удар с обходом вокруг. Перехватился на обратный хват и вонзил боккен в сгущенье хвои. Прошелся, ступая коротким приставным шагом, обрушивая меч на бедное хвойное дерево, едва нога касалась земли. Европейским мечом так не ударить – тот же варяг или викинг бьет с «проносом», клинок тащит руку за собой, накопив инерцию. А с катаной иначе – тут рука ведет меч, и лезвие останавливается там, где хочет воин. Если же удар не пришелся в цель, тут же наносится следующий.
Сухов, задыхаясь, сунул боккен за ремень. Развернулся, выхватил меч, рубанул… И только потом заметил стоявшего на краю поляны верховного правителя Гардарики, Хакона конунга. Конунг стоял, сложив руки на груди, и смотрел с изумлением на странного трэля. Олег уставился на конунга, не отводя глаз, бурно дыша, чувствуя, как щекочуще стекают капли, как оттягивает руки деревянный меч.
Конунг ничего не сказал, не усмехнулся даже. Повернулся и ушел. А Олег обтер мокрое лицо ладонью и пошел доканывать елку.
Глава 7. Кузнец
Альдейгьюборг, 859 год от Р. Х.
Наступила зима. Весь Альдейгьюборг коптел дымами. Лодьи переселились в наусты и грезили о далеких теплых морях, воды которых не знают льдов.
А после Йоля[28] свету стало прибавляться с каждым новым днем. Солнце начало пригревать, снега рыхлели и таяли, затокала капель, затрещали льдины и тронулись, с грохотом и скрежетом поползли по течению Олкоги, сплавляясь в холодное Нево[29]. Вернулись птицы, проснулась трава, полезла из парящей земли, радуя глаз первой зеленью. Вешние воды слились, леса буйно зазеленели, зацвели, запахли. Подступило лето 859-е по Рождеству Христову…
Для Олега с Пончиком год не тянулся скучной чередой дней, он пролетел мимо скорым поездом, только окна мельтешили. Работы навалилось – успевай поворачиваться! Пончик рьяно постигал науку «травологию», все пуще томясь по гладкому и гибкому телу Чары, в которую втюрился, как юныш. А Олег заматерел – жирок спустил, мясом зарос. Еще бы! Сколько лесу повалено, да на доски распущено! А зимой березу рубили, дуб и ольху – на дрова. Чем не бодибилдинг? Больше Олега не задевали – трэли чуяли исходившую от него опасность. Олег шагом ступал скользящим, пружинящим, как котяра. В движениях проявились точность и мера. Да и то сказать – десятки деревянных мечей изнахратил за минувший год. А потопчись-ка каждый божий день с боккеном, по капельке, по бисеринке прирастая умением! Ползешь, как та улитка по склону Фудзи – вверх, вверх, до самых высот! Но толк был.
А в начале лета Олега «перевели» в Альдейгьюборг и приставили молотобойцем к кузнецу Веремуду, сыну Труана.
– Выкуешь меч моему хольду, – распорядился Хакон конунг, протягивая пустые ножны. – Харалужного с тебя не требую, но чтоб добрый клинок был!
– Понял, конунг, – поклонился Веремуд, плотно сбитый, налитой здоровьем мужик. Ножны он сунул под мышку.
– Лады. Олег тебе с ковадлом поможет…
Кузнец молча поклонился, не особо, впрочем, прогибаясь, и повел Сухова за собой. Вольгаст тиун двинулся следом.
– Ты уж расстарайся, – ворчал он по дороге. – Проверяет тебя конунг, разумеешь? Знать хочет, что за руки у тебя… Вдруг да не оттуда растут?
Веремуд кивал только. Кузня обнаружилась за городом, за большим подворьем Хакона конунга, зовомым Бравлинсхов – двор Бравлина, в честь отца Хакона, тот тоже в конунгах ходил. Идти было далеко – чащоба поглощала дворовые стуки, а гогот сотен рабов и свободных работников заглушался пением лесных птиц. К лучшему, подумал Олег. Устал он от коллектива.
Кузня была совсем новой – толстые, не тронутые дождями бревна отдавали изжелта-белым. Из открытых настежь дверей доносилось звяканье и бурчание: «Навалят всего, навалят… бур-бур-бур… ищи потом… бур-бур-бур… Ну вот, кто сюда поклал?»
– Это ты, Валит? – позвал Веремуд.
– Я…
Из кузни вышел мрачного вида юнец. Был он в лаптях и онучах поверх портков с заплатами на коленях. Рубахи на нем не было, только оберег в виде молоточка свисал с кадыкастой шеи и болтался на тощей груди. На лицо юнец тоже красавцем не был – скуласт, ушаст, носат. Серые глаза из-под белой челки глядели угрюмо и колюче – только тронь!
– Подмастерье мой, – сказал Веремуд, обращаясь к Олегу, – Валитом звать.
– Валит, сын Ниэры из рода Лося! – звонко отчеканил помощник.
Олег счел за лучшее улыбки не показывать и отрекомендовался:
– Олег, сын Романа.
Валит кивнул довольно безразлично – очень надо, мол, со всякими трэлями знаться. Мы и сами из таковских и носы не дерем-с…
– Ты про меч не забудь… – проворчал тиун, собираясь уходить.
– Я помню, – сказал Веремуд терпеливо.
– И вот еще что… – Тиун замялся, взглядывая на Олега, покопался в бороде, но все же договорил: – Смотри, в бега не подайся. Гридни – это тебе не трэли, не отмахаешься… Им – забава, тебе – погибель. Понял меня?
– Понял, – буркнул Олег.
– Вот и хорошо, что понял…
Валит с любопытством посмотрел на Сухова, но ничего не сказал. Вот характерец…
– Ты… этот… ингрикот? – спросил Олег, лишь бы спросить. – Ижор то есть?
– Я карел! – отчеканил Валит.
– Ну и что ты на меня вызверился? – сказал Олег с внезапным раздражением. – Спросить уже нельзя?
– Почему нельзя… – увял Валит. – Можно…
– Ты не обижайся, если чего ляпну, – помягчел Олег. – Я тут получужой, обычаев ваших не знаю… Уразумел?
– Уразумел! – приободрился Валит и улыбнулся краешком губ. – А что за меч? – спросил он Веремуда. – Тиун говорил…
– Конунг наш заказал… – пробурчал кузнец. – Меч, говорит, надобен. Вынь да положь ему меч. А из чего я его сделаю? Ты не смотрел – железки тут есть какие-нибудь? Прутки, там, проволока, поковки?
– Здесь-то пусто. Может, на прежней кузне пошукать?
– Ну, пошли пошукаем…
«Прежняя» кузня на берегу мелкого прудика не сгорела, как думал Олег, просто старая была – нижние венцы сгнили совсем, крыша на одном честном слове держалась. Но заготовок Веремуд нашел в достатке – и прутки сыскались, и полоски кованые, и даже два ржавых стилета с обломанными остриями. Как их только не сперли…
– Значит, так, – решил Веремуд. – Ты, Олег, молотом машешь, ты – меха качаешь. И чтобы не ругались! А то железо всю злобу впитает и худым выйдет.
Вернувшись, запалили горн. Валит качал сипящие мехи, а Сухов приноравливался к тяжелому молоту-ковадлу.
Веремуд выбрал железные и стальные полосы и прутья, поскручивал через один, разогрел и много раз проковал на наковальне, вбитой, будто в станину, в подковку – громадную, неподъемную колоду. Лязгал молот, бухало ковадло, сыпали искры. И снова Веремуд складывал плетеную заготовку, перекручивал в штопор, собирал гармошкой, резал вдоль, опять скручивал и проковывал, проковывал, проковывал…
Валит тоже участвовал в технологическом процессе – жилясь, качал сипящие мехи да натужно бормотал молитвы и заговоры. И, видать, помогало! Плющилась покорно плетенка под ударами молота, ворочалась, сжатая клещами, огрызалась окалиной, но все более и более обретала форму меча.
Пополудни, отковав клинок начерно, Веремуд вытянул рукоять, выстругал дол – срединный желоб на лезвии, облегчавший меч, и доделал, что попроще, – набалдашник, перекрестье. Вбил в горячее лезвие инкрустацию проволокой: «Веремуд» и отполировал голомень – плоскую сторону меча. После травления на темно-сером фоне клинка проступил узор «елочкой».
– Харалуг! – выдохнул Валит.
– Дамаск, – поправил Веремуд самокритично. Он покачал меч в руках – пахнущее жженым углем холодное оружие. Едва ли не в метр длиной, меч чуток сужался к острию. А дол словно подчеркивал грозную убойную силу клинка. Не хухры-мухры!
– Слышь, дай попробовать! – не удержался Олег.
Веремуд удивился, но теплый меч молотобойцу вручил. Олег приставил клинок череном к глазам и полюбовался прямизной отточенного лезвия. Хоть сейчас в бой! Нацепив пояс с ножнами, Олег вышел на воздух. Помахал мечом, примериваясь, и исполнил «бой с тенью». Валит в полном восторге следил, как губительная сталь сечет воздух, разрубая тень ворога и с того, и с этого боку, спереди смахивая голову, разя косым ударом за спину.
Меч гудел, блистая на свету, а Валиту казалось, что не «солнечные котята» сигали в траву, а лучи валились, словно спелые колосья, подрезанные серпом.
Олег резал пространство короткими дугами и упивался податливостью оружия и своею мерой владения им. Высверк. Мах. Высверк. Тень. Мах. Высверк. Меч завертелся пропеллером и замер, указуя в зенит. И сразу – звенящая тишь повисла в пропахшем хвоей и дымком воздухе. Но ненадолго.
За деревьями в стороне пруда вскрикнула девушка. В крике различались гнев и страх. Послышалось натужное «Отстань!», перебитое звонким ударом. «Дерется еще! – воскликнул веселый баритон. – С-сучка!» Грянул хохот в две глотки.
Олег сунул меч в ножны и поспешил к пруду – нельзя девочек обижать!
Ржали два гридня, шрамолицый и толстомясый, явно близняшки. Рожи сытые, довольные, плечи в обхват. Нет, не гридни это, подумал Сухов. Скорее, просто охрана. А голос подавал рослый, сильный мужчина лет сорока. Кафтан из дорогого бархата обтягивал мощный торс, расшитые сапоги оставляли в мокром песке широкие следы. Чрезвычайно крупные черты лица, мясистый нос, мохнатые щеточки бровей а-ля Брежнев, похожий на утюг подбородок выдавали натуру жестокую и злобную. Он пытался завалить на травку стройную блондинку в простенькой рубахе, сильно оттопыренной грудями и западавшей в талии. Сорванная понева валялась под ракитовым кустом.
– Отстань! – яростно шипела блондинка и, заметив Олега, закричала: – Помоги!
Применив силу, мужик, сопя и потея, повалил девушку на траву. Блондинка извернулась, согнула ноги и так пиханула насильника, что тот отлетел на пару шагов. Девушка вскочила, и Олег тут же встал между нею и мужиком.
– Отдай меч, пес смердящий! – приказал тот, не рискуя, однако, приближаться.
– Это Вадим, – услышал Олег шепот девушки, – ярл ильменский!
Олег заметил испуг в ее голосе и перекинул меч с руки на руку.
– Живо! – рявкнул ярл.
– А ты отними! – промурлыкал Олег.
Бодигарды переглянулись. Хозяин процедил: «Взять!» Шрамолицый картинно взялся за рукоять разукрашенного каменьями меча византийской работы и двинулся рубать языкастого раба.
Олег подобрался, пошире развел ноги, медленно вдохнул и выдохнул. Сдаст он или не сдаст экзамен по иайдо?..
Он опустил ладонь на рукоятку Веремудова меча, и…
Шрамолицый, щеривший мелкие белые зубки, не заметил даже, как противник выхватил меч. Просто сверкнула радужная дуга, и отточенное лезвие ощутимо приложилось к шее шрамолицего. Тот, не успевший и меч из ножен потянуть, замер, выпучивая глаза. Только двинешься, и клинок раскроит кожу, отворит вену…
– Медленно расстегни пояс, – проговорил Олег.
Шрамолицый судорожно сглотнул, и по шее у него стекла тонкая струйка крови. Он посерел. Дрожащими пальцами разъял застежку. Меч в ножнах вместе с поясом упал на землю.
– Пять шагов назад, – ледяным тоном приказал Олег.
Шрамолицый послушался, тараща круглые глаза, осветленные ужасом.
Вадим с горловым криком бросился на Сухова, со свистом обрушил на него клинок – отличный ромейский клинок, грозящий непокрытой головушке Олега… И тут же встрял третий меч, отбивая удар, – клинок ярла только ветерком достал Олегову щеку и со скрежетом отлетел. И снова налетел. И замер, пойманный в трех ладонях от потного лица Олега.
– Кончай, – сказал лениво знакомый голос.
Олег узнал Крута. Хольд стоял, подняв клинок. Вадим зарычал и рубанул ромейским мечом наискосок.
Увесистые лезвия ширкнули и сцепились коваными крестовинами – одна простенькая, выложенная серебром, а другая в виде двух золотых змеек со злющими глазками из рубинов. И вновь распались клинки. Однако ярл горазд рубиться!
Поединщики кружились по утоптанной площадке. Удар. Отбив. И разукрашенный клинок со звоном, вертясь и вихляясь, улетает в кусты. Крут молча указал дорогу:
– Уходи! Людям работать надо…
Но уже грузно топал Толстомясый с уродливым носом, и меч его покидал ножны.
– Пре-кра-тить! – прокаркал голос тиуна.
– А ну, брось меч! Ты, двойня! – добавился подрагивающий тенорок Валита. – Не то стрелу схлопочешь!
Валит стоял на тропе, сжимая тугой лук.
Его обошли Веремуд и трое молчаливых гридней. Блондинка незаметно ушла.
– Ваш раб напал на меня! – в бешенстве закричал ярл. Тиун строго глянул на Олега. Строго, но не зло.
– На хрен ты мне сдался, нападать на тебя… – проворчал Олег, отворачивая голову.
Борода Крута зашевелилась улыбкой.
– Веремуд меч ковал, ну а я вынес поглядеть – по руке ли, а тут эти… К девчонке приставали… – пробурчал Олег и сглотнул пересохшим горлом. Тело его, напряженное до судорог, отмякало. Заполошный перестук сердца входил в обычный ритм. Пронесло…
– Это Рада была, – сообщил Валит, – дочка Ярунова! Она работает у нас.
– Да в мешок его, и в реку! – проорал Вадим.
Тиун нахмурился.
– Конунг волен в трэлях своих, – сказал он сдержанно, – но будь спокоен… ярл… Олега мы накажем.
Ярл усы встопорщил, но сдержался.
– Ла-адно… – процедил он и широко зашагал прочь. Гридни расступились, пропуская его. – Мы еще встренемся… – пообещал Вадим, оборачиваясь, и бросил меч в ножны.
– В любое время, – улыбнулся Крут.
Шаги стихли, и Валит опустил лук. А тиун посмотрел на запаренного Олега, усмехнулся в бороду. Покачал головой и сказал:
– Твое счастье, трэль, что Вадима ярла конунг не жалует особо. А то было б тебе… Всыпали бы плетей, да так, что спину новую пошел бы искать. Ну-ка…
Он протянул руки, и Олег вложил в них меч.
– Ха-арош!..
Тиун любовно провел пальцем по долу, щелкнул пальцем и, жмурясь, заслушал тонкий звон.
– Хорош, – повторил он и передал меч смуглолицему гридню с раскосыми глазами и жесткой черной гривой. – Оцени, Булан.
Булан положил меч на голову и пригнул. Отнял. Клинок распрямился, и сын степей одобрительно зацокал языком.
– Гляди, Олег, – проворчал Крут. – Вадим скользок, как глина после дождя, и подл, как хорек. Ярл будет мстить…
– А что он тут, вообще, делал? – спросил Олег.
– Дом у них тута, на Варяжской улице… – пробурчал тиун и зыркнул на Крута. – Может, Вадим и подл, и сварлив не по делу, но он – ярл!
Крут молча усмехнулся: понимаю, мол, твое положение – служба!
– А где Вадимово ярлство? – спросил Олег. – В Новгороде?
– В каком еще Новгороде? – удивился тиун. – В Гадаре он сидит, у Ильмень-озера. И все конунгом себя мнит… Веремуд! На-ка вот лучше, займись…
Тиун вытащил из сумки большую ржавую кольчугу.
– Великовата больно, – объяснил он заказ, – заузить надобно. Вот, мерку возьми…
Веремуд растянул шнурок с узелками по размеру и ухватил тяжелый ком скрипящих стальных колечек.
– Сделаем, – кивнул кузнец.
– Дозволь сперва на озеро сбегать, – попросился Олег, – взопрел я!
– Сбегай… – проворчал тиун, поворачиваясь к тропе, и добавил через плечо: – Но помни, что я тебе говорил!
– Я помню, – усмехнулся Олег. Он пошел в обход пруда, к старой кузне.
Запруженная стоячая вода хорошо прогревалась на солнышке, но был водоем сей мелок и заилен – больше испачкаешься, чем освежишься.
Душа Олегова и рассудок его, все мысли и все чувства понемногу приходили в равновесие с тишиной и красой окрест. Вадим – прах, мелочь! Тут другое. Сухов стоял на самом пороге понимания русов здешних, готов и вендов, клявшихся секирой Перуна и молотом Сварога, нещадно рубивших неприятеля – и винившихся перед деревом за то, что употребят ствол для новой избы… Эти люди жили в мире с землей и небом, с солнцем, со всем космосом, ведали их жестокие законы и не преступали их, поелику были плоть от плоти мироздания и живой и мертвой материи его. А все их верования, подчас трогательные, иногда пугающие своим немилосердием, были всего лишь средством сохранить гармонию в себе и вовне. Рьяные попы не крестили пока Русь, прекрасную варварку, и не успели внушить еще населению этих лесов, полей и рек, что они – рабы Божии, венцы творения и цари природы, а посему все дозволено. Здешние народы не примеряли корон и мантий, они считали себя ровней и зверю лесному, и дереву, и облакам, свету дневному и лунному. Они не покоряли природу – они были ею и жили с ней в ладу.
Олег вышел на берег озерца. Ветер стих, и зеркало вод отразило высоченные сосны, индиговое небо с ватой облаков и песчаную оторочку берегов. Вода была не теплой, но и не шибко студеной – в самый раз. Сухов совлек с себя порты и, гол как сокол, нырнул в озерцо. Холод обжег кожу и нервы, водица смыла пот трудовой. Олег доплыл до того берега, развернулся, словно в бассейне на соревнованиях, и рванул обратно. Выйдя на берег, он растерся ладонями и стал, руки в боки, обсыхать на ветерке. «Какой лес все-таки…» – подумалось ему. Русская народная сказка. Тут дерево в обхват и за дерево не считается. Так, деревце… Представитель флоры. В его родном времени Ладога тоже вся «в лесах», но там почти все выпилено еще при Петре. А тут… Вон, дуб на опушке – чисто баобаб! Его и обойдешь-то не сразу, не то что обхватишь. Лет пятьсот тому дубу, если не больше. Во времена дерзкого набега Эрманариха это древо уже выше крыши зеленело, должно помнить нахальных готов. И русов, которые тем готам всыпали, чтоб не лезли, куда не просят…
В следующий момент все его мысли как ветром раздуло – Олег услышал плеск воды и нежный смешок. Не веря глазам, испытав взрывную радость, он увидел давешнюю блондинку, выходящую из воды, – голую и прекрасную. Бикини в эту пору еще не изобрели, да и комплексы християнские – чтоб срам прикрывать – пока не попортили духовного здоровья. Купались все вперемежку, не разбирая полу и чину, и гимнофобией не страдали.
Девушка вышла на берег в двух шагах от Олега и завернулась в шаль, оглядывая молотобойца полунасмешливо-полувосхищенно и приводя его во все большее волнение. Рада…
– Спасибо тебе, – проговорила она. Словно хрустальный колокольчик прозвенел…
– Да не за что…
Девушка фыркнула и, перекинув волосы на грудь, принялась обжимать пряди.
– Как я посмотрю, – сказала она, лукаво косясь на Олега, – ты доволен жизнью?
– Жизнью?.. – переспросил Олег и пожал плечами. – Доволен, пожалуй… Мне только мое место в ней не нравится.
– А-а!.. – протянула девушка. Она растрясла волосы и откинула их за спину. – Значит, в трэлях тебе не по нраву? Это хорошо…
– Почему? – пробормотал Олег, не сводя глаз с подрагивающей груди девушки.
– Ну, что не ошиблась, – просто ответила Рада.
Олег отвел глаза от ее ножек, но никакие деревья, даже в десять обхватов, не могли удержать его взгляда. Зрачок вновь и вновь возвращался, скользя по гладким плечам, вприглядку оглаживая их, трогая зрением коленки, вскидываясь на хорошенькое личико – прелестный юный овал, где по-детски пухлые губки сочетались с умными синими глазищами. Сколько ей лет, интересно? Двадцать? Не, молода больно…
– Люди делятся на рабов и на кесарей. Знаешь про таких?
– Читал, – коротко сказал Олег. По его мысли, одуряющая, ослепительная красота Рады в данные, вялотекущие мгновения не вязалась, вразрез шла с любомудрием.
– Ты умеешь читать?! – изумилась Рада. – Ну надо же… А я не договорила. Ты меня слушаешь? Люди-рабы могут носить длинные волосы и жить во дворцах, но в душе оставаться стрижеными трэлями. Слабы они, потому что и трусливы. И лень вперед них родилась. Таким хозяин потребен для полного счастья, чтобы думал за них, кормил и защищал от напастей. А вот люди-кесари, пусть даже они в навозе по колено, могут возвыситься, потому что они сильные и храбрые. Все хотят лучшей жизни, но только люди-кесари не ленятся ее добыть…
Рада посмотрела на Олега серьезно, склонив головку к плечу, будто не замечая даже, как действуют на него ее красы.
– А ты какой-то непонятный… – тихо проговорила Рада. – Странный… Будто в промежутке. Не трэль, не кесарь, а так… – и выпалила, не выдержав философического тона: – Ты думаешь выкупаться или нет?!
– Обязательно! – вздрогнул Олег. – Сотню с чем-то дирхемов я уже насобирал… Ближе к зиме верну конунгу все до последнего даника!
– Посмотрим, посмотрим… – протянула Рада улыбчиво и добавила с некоей потаенной эмоцией: – Каждый трэль может стать свободным карлом, карл – выйти в ярлы, а ярлу прямая дорога в конунги. Но все почему-то обходят этот всход…
– Я стану карлом, – твердо сказал Олег. – И обязательно выйду в ярлы.
– Посмотрим, посмотрим… – заулыбалась Рада. – Олег ярл!
– Какая ж ты… – пробормотал Олег, не находя слов для выражения.
– Какая? – кокетливо, якобы не понимая, спросила девушка.
– Красавишна! Сил нет! Сколь лет тебе?
– Семнадцать зим… будет, – улыбнулась красавишна. – А тебе?
– Тридцать два… осенью стукнет.
– Ага… Ну, пока… – И девушка помахала Олегу, перебирая пальчиками.
Он смотрел, глуповато улыбаясь, как покачиваются неприкрытые шалью загорелые ягодицы, как Рада ступает босыми ногами по тропинке, как оглядывается, и из-за гладкого плеча выступает шелом груди, как опускает взгляд и выгибает губки в очаровательной хулиганской улыбке. Олег посмотрел вниз. Да-а…
Вздыхая и прислушиваясь, как за кузней шелестит шелк и шуршит тонкое сукно, он натянул штаны.
Мир для него изменился и стал другим. Потрясающе красивый мир, кристально чистый мир! Он уже любил его, правда, без взаимности. Ну и ладно, обойдемся… Рабство? Пустяки, дело житейское! Где моя кубышка? Я вам столько всего тут понаделаю, товарищи варяги, столько понапридумываю… Да у вас серебра не хватит со мной рассчитаться! И я куплю себе свободу, оптом или в розницу, и еще останется на мунд[30] за невесту! Или вено? Короче, калым!
Олег возвращался в кузницу почти бегом, разгоряченный то ли свиданием, то ли блестящей будущностью. Сильнейшее желание действовать бродило в нем, распирало мышцы и мысли.
У кузни на ошкуренном бревне сидел Валит и с прежним мрачным выражением уплетал что-то аппетитное из горшочка. Рядом с ним пристроилась молодая еще женщина в старенькой рубахе и в чем-то наподобие сарафана на лямках, только не сшитого по бокам, а перепоясанного. Удерживался сарафан парой бронзовых фибул, похожих на скорлупки грецких орехов.
Олег обратил внимание на лицо женщины. Скуластенькое, с заостренным подбородком, оно было довольно-таки симпатичным. Глаза, как у Валита, – серые. Нос, правда, великоват, но губы красивого очерка искупали сей изъян. Волосы женщины были завязаны в узел и спрятаны под платок, повязанный банданой. По тому, как женщина смотрела на Валита, можно было понять, что это ее сын. Завидя Олега, стремительно шагавшего к ним, женщина испуганно привстала. Олег успокоил ее жестом – свои, мол.
– Здрава будь… – начал Олег, выжидательно уставившись на сероглазую.
– Кайсой меня называют, – торопливо представилась та, порываясь встать.
– Здрава будь, Кайса.
– И тебе поздорову…
– Олег, – отрекомендовался Сухов и спросил бодро: – Что, перерыв на обед?
Кайса смущенно кивнула и отвела взгляд.
– Вот, поесть принесла для Валита, – сказала она скороговоркой. – Присоединяйся, Олег…
– Спасибо, я уже ел, – соврал Олег. Не хватало еще Валита объедать.
– Да тут много… – засопел Валит, отрываясь от горшка.
– Ты лопай, лопай, – присоветовал ему Олег.
Кайса жалостливо посмотрела на сына:
– Надорвешься еще…
– Мама! – ломким баском укорил ее Валит.
– Ничего, – успокоил Олег материнское сердце, – он парень крепкий, выдюжит. А перерабатываться мы не собираемся. Верно я говорю?
Валит не принял Олегов тон, но сумрачно кивнул.
– Уж как я не хотела его в кузнецы пускать… – вздохнула Кайса.
– Мама! – воззвал Валит.
– Не мамкай! – шикнула Кайса и продолжила – для Олега: – А что делать? Четвертую зиму пытаюсь выкупиться, и все без толку. Вот… – Она выпростала из длинного рукава худое предплечье. Руку уродовал косой шрам, багровый на белом.
– Волк порвал… – вздохнула Кайса. – И все, с тех пор пальцы плохо слушаются. Думала, буду прясть да ткать, да деньгу откладывать… А как я с такими пальцами – за веретено?..
Валит тихо подкреплялся, склонившись над горшком так, что соломенные волосы совсем завесили лицо – только уши пламенели, как надранные.
– Может, хоть Веремуд чему-нибудь подучит его… – вздохнула Кайса.
– Подучит, чего там… – уверил ее Олег и задумался, вспоминая, как устроена самопрялка с ножным приводом. Примитивное же изделие! А додумаются до него нескоро…
Кайса ушла, забрав пустой горшок, а Олег взялся одним топориком колоть чурбачки и обтесывать их под ножки самопрялки.
– Ты вот что, – сказал он Валиту, – я там, у реки, видел… эту… как ее… ну, где корабль делают!
– Подель, – подсказал Валит.
– Во-во! Сбегай, попроси у мужиков сверло, такое вот. – Олег показал на пальцах какое. – А я пока кое-что соображу…
– А чего… вообще?
– Матери хочешь помочь?
– Ну!
– Лапти гну… Сделаем ей самопрялку!
– Сама прясть будет?! – ахнул Валит.
– Ну, не сама, конечно… В общем, увидишь. Давай, бегом!
Нетерпение, жажда великих дел отошли у Олега на второй план – успеется. Он подостыл, да и работа его увлекла. Тут вам не абстрактное громадье свершений, а конкретная помощь хорошему человеку. А заодно толчок научно-техническому прогрессу. Пора им тут НТР устроить… И чего б не с самопрялки начать? Вещь полезная.
Довольно быстро он сколотил крепкий остов, насадил на ось большое колесо-маховик, протянул от него кожаный ремень на веретено, приладил педаль с рычагом. Опробовал ладонью. Педаль подалась, качнулась, потянула рычаг, раскрутила колесо – веретено злобно зажужжало, как шершень у гнезда.
– Ух ты! – заценил Валит.
– Топорная работа, – поскромничал Олег. – Но крутится, и ладно. Пошли, покажешь, куда нести.
Валит повел Сухова, сам на себя непохожий – оживился подмастерье, раскраснелся.
– А то, что веретено тута не стоймя, а плашмя – ничего? – тараторил Валит. – А разве удобно ногой? Жужжало как! Так только у Беляны случалось, и то иногда – когда от большухи нагоняй получала!
– А большуха – это кто? – спросил Олег, перехватывая самопрялку.
– Давай понесу! – вызвался Валит.
Сухов отмахнулся.
– Большуха – это конунгова жена, Умила, – объяснял Валит. – Старшая которая. Молодая – та в Алаборге, а большуха здесь, на хозяйстве. Она не злая, просто лодырей не любит.
– Кто ж их любит…
За разговором они одолели большую часть пути и вышли к женскому дому. Был он тих и почти пуст – это долгими зимними вечерами наполнится женский дом визгом играющей малышни и пением девок, вьющих бесконечную пряжу, а летом кого удержишь в душных потемках? Толпа работниц – и тир, и свободных – трудилась во дворе, на свежем воздухе – на свете солнечном. Работницы готовили растворы колеров на квасе, на дубовом уваре и окрашивали холсты – в красный цвет, желтый, оранжевый, синий, малиновый, черный. Или, наоборот, отбеливали – укладывали ткань в котел и заливали ее горячим щелоком на всю ночь. Потом стирали. А уже отстиранные «отрезы» девки волокли на травку и раскатывали на солнечном месте. Весь день будут водой обрызгивать, чтоб лучше выгорало. Называется – зорить.
А вон те девки, в поневах, подоткнутых «кульком», собирают уже выгоревшее – опять стирать, бить вальками, а потом «золить» – складывать мокрые холсты в бочку, щедро пересыпать золой (любой, кроме черемуховой), заливать горячей водой и кипятить, опуская в выварку камни, накаленные в огне – «разожженные», как тут говорят. А что делать? Супермаркетов тут нет – тыщу лет надо ждать, пока таковые появятся. Все самим приходится робить. Но, с другой стороны… Олег припомнил любимую свою рубаху, которую Вика подарила ему на день рождения. Домотканую, крашенную в луковой шелухе. Ее было приятно носить – никакая синтетика не сравнится с нею, натуральной на все сто, от и до сделанной добрыми руками.
Из-под навеса, где стояли ткацкие станы, раздался многоголосый смех, и хорошенькая девушка, без поневы еще, явно подосланная старшими товарками, осведомилась на весь двор:
– А кого кузнец ищет?
Олег приосанился, поместил самопрялку под мышку и спросил в пространство:
– А где мне найти Кайсу… э-э…
– … Дочь Тойветту, – задушенным голосом подсказал Валит.
– Кайсу, дочь Тойветту?
Несколько девичьих голосов вперебой объяснили, что Кайса сейчас заправляет кросна на иной узор, во-он в той клети. Из «во-он той клети» уже выскочила перепуганная Кайса. Всплеснув руками, она кинулась к Валиту:
– Что случилось?!
– Да ничего не случилось, мама! – досадливо отбивался Валит. – Просто мы тебе… эту принесли… самопрялку.
Девчонки в рубашках бросали дергать тесьму и бежали к Олегу – дивиться на чудо техники. Девки постарше тоже отрывались помалу от дел. Скоро вокруг Сухова собралось все женское население, включая Умилу – статную женщину с кокетливыми ямочками на щеках и сияющими синими глазками. На поясе у большухи позвякивала увесистая связка ключей – символ женской власти.
– Прялку сюда, – скомандовал Олег, и ему мигом явили лопатообразную прялку. Запыхавшиеся девки с толстыми косами приволокли и доску-донце, воткнули в нее прялку и прикололи к ней кудель.
– Садись, – велел Кайсе Олег. – Ставь ногу сюда…
– Какую? – робко спросила «Тойветтовна».
– А какую хочешь… Теперь качни педаль – так вот, с пятки на носок перекати…
Кайса резковато нажала. Колесо самопрялки дернулось и застыло. В толпе ойкнули, и женщина сделала движение встать.
– Да ты не волнуйся! – удержал ее Олег. – Спокойно жми, катай туда-сюда! Вот так! Во!
Кайса попала в ритм – рычаг раскрутил колесо, веретено зажужжало, и бедная тир едва успевала слюнявить пальцы левой руки, большой и указательный, которыми она вытягивала нить.
– Принесите ей клюквы! – велела Умила, захваченная процессом.
Девки припустили к женскому дому и скоро вернулись, протягивая две полные миски – одну с клюквой, другую с брусникой. Кислятина дюже способствовала слюноотделению. Перепало и Олегу – чья-то маленькая лапка сунула ему пирожок с требухой. Он слопал его не глядя. Ему тут же скормили еще один.
А Кайса сияла. Маховик самопрялки представлялся ей чем-то вроде колеса Фортуны. Теперь она столько напрядет, столько наткет – и закладной тканины, и браной, и всякой! Воля, давно закатившаяся звезда, начала восходить для Кайсы Тойветтовны, из мечты перетекая в явь. А если еще и Валит пособит… Счастье-то какое! Расчувствовавшись, Кайса всхлипнула и быстро смахнула слезу правой рукой. Незанятой! Только и дел для нее, калеченной, что брать из миски кислую ягоду.
Вытягивалась из кудели прядь в размах рук – и скручивалась жужжащим веретеном в нить.
– Несите еще кудель!
Звонкие девичьи голоса затянули: «Мягче пуха ле-ебеди, тоньше паутинки-и…»
Глава 8. Купальница
Альдейгьюборг, Бравлинсхов. 23 июня 859 года от Р. Х.
На заре Пончика разбудила Чара. Девушка нарядилась во все расшитое, золотняное, даже понева на ней выглядела празднично, а свита, накинутая по холодку, была расшита мелким речным жемчугом. Чара была красивее себя, о чем Пончик и поспешил сообщить, натягивая рубаху. Щечки Чарины зарозовели, она похлопала ресницами, играя сердцем Шуркиным в пинг-понг, и в награду завязала ему тесемки на рукавах.
– Пошли, – мило проворчала она, – а то говоришь, говоришь, сам не знаешь что…
– Знаю, – улыбнулся Пончик стеснительно и взял в свои руки маленькие девичьи пальчики. – Как увижу тебя, сразу хоть просыпается… Угу…
Тут щечки у Чары и вовсе разбагрелись. Девушка подхватила свою косу и пушистым концом пощекотала Пончику нос. Он засмеялся и поймал Чару, не спеша убегавшую, обнял со спины и шепнул на ушко:
– Погуляем вечерком?
– Я подумаю, – важничая, ответила девушка и встрепенулась. – Заговорил меня совсем. Пошли, пошли скорее!
– Да куда такая спешка? Солнце еще не взошло!
– Когда взойдет, поздно уже будет. Ты что? Сегодня ж двадцать третье!
– Ну?
– Лапоточки гну-у… – ласково пропела Чара. – Купальница сегодня!
– А-а… – дошло до Пончика.
– Бэ-э! Сегодня ж самая пора травы собирать – до свету. Проводишь меня? А то одной страшно!..
– Слушаюсь и повинуюсь…
Пончик подхватил на руки взвизгнувшую девушку, но у порога послушался ее сбивчивого шепота и опустил на пол. Вдруг люди увидят? Подумают не то… А богам все и так видно.
Стояла та пора, когда покров ночи поднят, но свет пока не осилил темень, только разбавил ее.
В такую рань многие не спали. Слышно было, как двое или трое дренгов хохочут в гриднице, гремя тяжелыми столами и скамьями. Мебель, что ли, переставляют? Заспанные простоволосые девки бежали к бочкам умываться и плести косы – к обычаю краситься по утрам они еще не дошли, да и какой макияж для этих хорошеньких мордулек подходит лучше юной свежести? Вон, у Чарочки какие губки яркие – и помады не надо, а после бани ее пушистые волосы отдают запахом любистры. Разве «Шанель» сравнится с этим первобытным парфюмом?
Пончик поглядывал на Чару, девушка посматривала на него – древняя эта игра захватывала обоих, затягивала в жаркий омут, где рассудок подчиняется зову Великой Богини-Матери. Близость девушки волновала Пончика, но ее доверчивость осаживала влечение лучше всяких запретов. Да и не хотелось ему так быстро рвать волшебные ниточки, что протягивались между ним и Чарой, – пусть сплетутся крепче, накрепко, навсегда. Хотя, если честно сказать, все эти размышления посещали Пончика в минуты редкого одиночества. Сейчас же, наблюдая, как шевелятся лопатки на узкой спине, как толстая коса шлепает по выпуклой, тугой попке, мысли вообще выветрились, мудреностью не искажая первобытных ощущений.
Широкая тропа, заведшая двоих в лес, оказалась старой, заброшенной дорогой. По сторонам успели вырасти березы с ногу толщиной, мешаясь с елками и соснами в привычный «шишкинский» лес. Пару раз дорожку пересекали крупные, с тарелку поперечником, следы лося. Его размашистому шагу вторила мелкая поступь лосихи, оставившей овальные отпечатки. Из-за дерев, то по левую руку, то по правую, мелькали девичьи рубахи и перекликались звонкие голоса. Смеша подруг, аукали парни – и так ли уж важно было всем им собирать травы?
Чара, правда, исправно приседала, орошая подол обильной росою, строила из себя ведуницу, щебетала, называя срываемые травы красивыми, но непонятными словами. А заря вставала – во все небо! Ало-золотная, ярая, навылет пробивавшая древний бор. Истаивали тени, туманом курились бисеристые росы.
Набрав целый мешок «лекарственного сырья», Чара вручила его Пончику.
– Все! – сказала она довольно.
– Вымокла вся… Угу… – проворчал Пончик.
– Высохну. Сейчас солнышко встанет…
И встало солнце, лучистые потоки хлынули из-за черных, словно обугленных сосен, обдали теплом и светом.
– Пошли скорей!
И они пошли. Побежали, то попадая в теплый сноп лучей, то ныряя в сырую, знобкую тень.
В Бравлинсхове чувствовалось приближение праздника. 23 июня повторяло с детства знакомые детальки, присущие 1 Мая. Та же веселая суматоха и перепутаница, так же валит сдобный дух из окон, девки принаряжаются, роются в сундуках, бегают друг к дружке «посоветоваться». Весь двор украсился зеленью – резные ставенки окон были окружены березовыми веточками, еловые лапы оплетали балясины крыльца, девицы понадевали пахучие веночки, и даже коровам увили рога зелеными плетями.
Молодежь, галдя и хохоча, шарила по всей округе, стаскивая в кучу хворост, старые метлы, рассохшиеся бочки, сломанные колеса – все старое и ненужное, что могло гореть, должно быть сожжено этой ночью, самой короткой ночью в году, брачной ночью для Хорса, ответственного за свет и тепло, и девы Зари, невесты «Солнышка светлого и трижды светлого»…
Ясный день сменился белой ночью, а на берегу реки, на выгоне, на холму, у развилки дорог запылали костры, затрещали буйно.
Галдели шалые девки, уворачиваясь от хохочущих гридней; Жучка – огромная матерая волкодавица, носилась кругами и восьмерками, как малый щенок, и радостно брехала. И уже где-то запевали, и в лад бренчали гусли, соревнуясь с кантеле, трубил рог турий и звенела медью труба, дудошники выводили заполошные ноты, а гудки, словно пародируя будущие скрипки, запиливали плясовые ритмы.
– На реку! На реку! – веселым звонким голосом воскликнула Чара и потянула Пончика к восточным воротам.
Крепко держась за руки, они выбежали на берег Ила-дьоги. Все дворовые уже были здесь. Они ждали невесту. Возбуждение владело нарядной толпой, люди смеялись, спорили, махали факелами, галдели, орали и пели. На пригорке стояли Хакон с Асмудом, рядом с ними – Аскольд, а чуть поодаль – знать рангом пониже.
Внезапно шум утих. Близилась песня – полумолитва, полугимн, славящий Хорса, уговаривающий бога не творить безлетья человекам, а умыться добела, встать завтра ясно и послать всякого приплоду.
Чара подпрыгивала, не в силах углядеть процессию за широкими спинами, и Пончик подсадил ее к себе на плечо. Толпа расступалась, пропуская поющих девушек к реке, и смыкалась за ними в почтительном отдалении. А впереди подруг молча шагала Рада – в одной рубахе, босая, похожая на валькирию после ночи любви – томную и благостную. В руках валькирия несла угощение божеству – гору дымящихся блинов и горшочек меду. Гордо подняв голову, девушка ступила в тихую воду Ила-дьоги.
Подруги-певуньи остановились на берегу, а валькирия прошла шагов на сорок, пока вода не поднялась по пояс ей. Девушка протянула свои дары и отдала их реке.
– Хорс светел!
Единым взывом исторглись людские крики, и Пончик тоже поддержал дружную благоносицу. Подпрыгивая на плече, радостно визжала Чара и лохматила Пончику волосы.
– А ну! – ужасным голосом крикнул Хакон.
Вдвоем с Аскольдом они зажгли громадное колесо о четырех спицах, знаменующее собой Солнечный Крест, и покатили гудящее коло с горки в реку, повторяя вечный солнцеворот. Пылающий круг не погас, скача под горку, только разгорелся пуще, въехал в воду, взбурлил ее и пропал. Обеспечено доброе лето!
Хотя, если честно, Пончик не досмотрел «Солнцеворот-2». Он в это время любовался выходящей из воды валькирией. Мокрое платье облепило великолепную фигуру, выпячивая каждую округлость.
– Куда глазопялишься?! А? – Ладони Чары повернули голову Пончика налево и подняли вверх, к смеющемуся лицу, тщетно напускавшему на себя гневливость. – На меня смотри, понял?
– Понял, – кротко ответил Пончик.
– Ой, спусти меня скорей! Скорей, батя смотрит!
Засмеявшись, Пончик снял ее, крепко вжимая ладони в налитое, упругое, горячее. Чара замерла, встав на цыпочки и вытянувшись стрункой. У Пончика толклась на языке куча нежных глупостей, но тут подруги Чарины со смехом разъяли его руки и увели ведуницу с собою – вести священный русальский хоровод, бросать, замирая, венки в черную воду реки, где колеблются отблески огней и горячего дыма.
Пончик, улыбаясь будущему, радуясь настоящему, не печалясь более о прошлом, шел через толпу, уворачиваясь от плясуний, от девчонок в одних рубашках, но с обязательными венками на ворохах волос. Из потемок вынырнул Олег, хлопнул пятерней об его пятерню и поволок дальше виснущую на нем девицу, ту самую блондинку-валькирию. Чуть поодаль Пончик со спины узнал Ошкуя – тот, живо поводя руками, толковал с белолицей девою, «приукрашая сотней врак одну сомнительную правду».
Пончик шлялся по поляне, захаживал на выгон. Глядя на него со стороны, можно было подумать, что парень чем-то расстроен и сильно переживает или просто устал и ищет уединения. А он просто шел и думал. Обо всем сразу и ни о чем. Сжился он с этим миром, принял его, нашел в нем место для себя – и все его страхи, отчаяние ушли, растворясь во времени. А ведь всего какой-то год прошел! Незаметно он поднялся на холм, что стоял против кузни Олежкиной. Здесь тоже полыхал костер, и девки с парнями сигали через него, держась за руки. Считалось, что, если руки не расцепятся, любовь будет долгой и крепкой.
– Вот ты где! – догнал его сердитый голосок Чары. Пончик обрадованно повернулся навстречу. Девушка стояла руки в боки, грозно нахмурив брови, но Пончика смешило ее негодование – очень уж не шло оно к облику Чары, к характеру ее – милому, доброму и нежному.
– Ах, ты уже не хочешь со мной прыгать? – завела девушка. – С той беляночкой, поди, скакал?
– Глупенькая ты… Угу… – засветился Пончик и протянул Чаре руку.
Девушка ответила улыбкой ослепительной радости, и они помчались к костру. Их встретили криками. Пламя поднималось высоко, горело жарко – Пончик даже испугался, не опалит ли оно Чарочку, – и прыгнул, сжав девичью ладошку. Пахнуло жаром, шибануло дымом, и они приземлились, не разняв рук.
– Ты мне чуть пальцы не склеил, – радостно сказала ведуница, дуя на ладонь.
– Прости, пожалуйста.
– Да ладно… – улыбнулась Чара и закричала: – Купаться, купаться!
Молодежь завопила и, на ходу стаскивая рубахи, распахивая поневы, понеслась к реке. Пончик ринулся за ними, но Чара вцепилась в него двумя руками:
– Побежали на озеро!
Навалилась из полутьмы кузня и отвалилась. Накинуло запахом тины из пруда. А вот и озеро, посеребренное луною. Чара скинула венок и стащила через голову рубаху. Лунный свет облил ее тело, скатился, очерчивая округлости, обрамляя тени в ложбинках. Пончик распустил гашник, развязал тесемки, поскидывал все с себя и, снова взяв Чару за руку, завел девушку в озеро.
– Ой, какая теплая! – запищала Чара и поплыла. Пончик нырнул следом. На глубине вода была холодной, но поверху ее будто подогрели. Доплыв до противоположного берега, Пончик и Чара повернули обратно и вышли на берег. Поодаль, за деревьями, клубились светящиеся дымы, ветер доносил до них безутишные песни и выкрики.
Девушка прижалась к Пончику спиной, и он, чуя холодок услады, положил ладони на упругие, не по возрасту большие груди, ощутил, как деревенеют соски, и бросился целовать шею лебединую, плечи царственные… Обцеловав всю спину жарко вздыхавшей Чары, Пончик добрался до тугих ягодиц – не больно-то и ущипнешь! Но целовать их – одно удовольствие…
– Ладушко мое… – умирающе сказал девичий голос.
– Чарочка…
Их ложем была поляна. В изголовье шумел бор, оттуда тянуло смолой и хвоей. В ногах плескалось озеро. Муаровая тучка была шторкой, задернувшей нескромный лунный фонарь.
И лишь большая серая сова, отдыхавшая в старой кузне после охоты, следила, как свивались два нагих тела, становясь одним целым, как скрещивались ноги и соприкасались губы. Птицу пугал горячий шепот любви, и сладкие стоны, и бурное дыхание. Но потом двое изнемогли, «из жара страсти вернулись вновь во хлад и явь», счастливые и умиротворенные. Сова сердито нахохлилась и задремала.
Глава 9. Свадьба
Гарды, Альдейгьюборг. Июль 858 года от Р. Х.
Роду Хакон конунг был знатного – он числил в своих предках самого Сколота, сына Водана, которого датчане с урманами звали Скьелдом, а потомков его Скьелдунгами. Скоро уж тысяча лет минет с той поры, когда случился исход росов и асов с донских степей. Храбрый Водан повел за собою тех, кому на месте не сиделось, кто был легок на подъем и охоч до нового. Росы и асы пересели с горячих коней на лодьи и больше уже в седла не возвращались. Переселенцы поднялись по Дону до Переволоки, одолели ее, спустили лодьи в Итиль[31] и долго плыли вверх по великой реке. Росы первыми сделали остановку, укоренившись на берегах Невы и Олкоги, а асы перебрались на ту сторону моря Варяжского, заселив фьорды и шхеры…
Местные: карелы и чудины, весины и ижоры, меряне и биармы – не разумели пришлых росов, толковавших на сарматском языке. Тогда пришельцы перевели свои речи на язык меча… Обложили всех данью, но и в обиду не давали, живо делая укорот всяким чужеземцам.
Отец Хакона, Бравелин конунг, держал в страхе всю Ромейскую империю. Его варяги грабили Амастриду и Фессалоники, Эгину и Таврию. Дед Хакона, Рогволт Русский, бился под Бравеллиром, что в землях свейских, на стороне Сигурда Метателя Колец, братца своего, конунга свеев, когда на того напал правитель датчан – Харальд Боевой Клык. Побили тогда датчан, и в честь той славной победы Рогволт и назвал своего первенца. А прапрадед Хакона, Радбард Гардский, разгромил войско Ивара Широкие Объятия, когда тот вздумал карел грабить. Ах, сколько их было, пра-пра-пра…[32]
Хакон конунг вздохнул тяжко и насупил брови. Да и он вроде предков не позорил. И арабам «давал жизни» – первый раз он их еще в Табаристане прижучил, а потом и Севилью[33] брал на копье. И на Париж хаживал, злато-серебро добывая… А кому ж теперь род продолжать? Выросла дочь Ефанда, красавица да умница, а вот сына боги не дали… И на кого теперь люди возложат венец? Кто воспримет меч конунгов гардских? Нет на то ответа…
Хакон тяжело поднялся с резного кресла и прошел к распахнутому окну. Половину вида загораживала стена крепости, сложенная из дубовых бревен, почерневших от дождей, а дальше играла блестками Олкога, и вставал на том берегу ельник, темный, словно схоронивший ночь недавнюю, тянущий лапы к мутной воде, усыпая узкий бережок шишками и хвоей. Хакон конунг крякнул в досаде – куда ни глянь, всюду мрак!
Скрипнула дверь, и в покои сунулся Аскольд сэконунг[34], здоровенный человечище, лобастый, сероглазый, с гривой волос цвета соломы и роскошными пшеничными усами, опадавшими на могучую грудь.
– Здорово, Хакон! – прогудел Аскольд. – Что у тебя за двери? Застряну когда-нибудь в этих мышиных норках!
Хакон ухмыльнулся.
– Брюхо разъел, – сказал он, – вот и не влазишь. Скоро и в море не выйдешь.
– Чего это? – не дошло до сэконунга.
– Лодью опрокинешь! – радостно объяснил Хакон.
Оба загоготали. Отсмеявшись, Хакон конунг сказал:
– Чего заявился? Выкладывай!
Аскольд закряхтел, полез пятерней в космы, лохматя прическу.
– Да засиделся я, – признался он. – И скедии[35] мои скоро мохом обрастут. Дела хочу! Настоящего!
– Дела ему… – проворчал Хакон и вздохнул: – Мне б твои заботы…
– Я тут с Асмудом перетолковал, – продолжил Аскольд, – да и подумал: а не сходить ли мне на ромеев? Согласись, давно мы их не трепали. Как батя твой стребовал с них ругу, так и все.
– У тебя лодей не хватит, чтоб ромеев прижать, – отозвался Хакон.
– О! – просиял Аскольд. – В самую точку. А если мы с тобою сговоримся, да на пару двинем в поход? А?
Хакон засопел.
– И куда ты собрался? – спросил он неласково.
– Хочу Миклагард на щит взять! – бухнул Аскольд.
Хакон конунг ошеломленно вытаращился на старого приятеля.
– Вот это ты размахнулся… – вымолвил он. – Не по пасти сласти, Аскольдушка! Где ты столько бойцов наберешь?
– Ха! А как мы Париж брали? Сколько нас тогда было – помнишь? И трех сотен насчитать не могли.
– Ну, ты сравнил! – рассердился Хакон. – Париж – тьфу! Городишко размером с Альдейгу. А Миклагард – это Миклагард. Там одних домов столько, что все Гарды расселить можно, и еще место останется!
Но идея осадить самый большой город мира уже завладела им и подбирала ключики к тайным сусекам души, выпуская на волю демонов алчности и тщеславия. Что Париж? Что Севилья? Не всякий скажет, где такие есть! А вот Миклагард… Годы минут, века пройдут, а имя человека, прибившего щит на ворота Миклагарда, останется в памяти людской!
– На лодьях не пройти, – проворчал Хакон, – тяжелы больно…
Аскольд сэконунг, поняв, что товарищ сдается, сильно оживился.
– Подумаешь! – воскликнул он. – Спустимся по Непру на скедиях!
– А брать Миклагард тоже со скедий станешь?
– А чего такого?
– Чего-чего… Знаешь, как ромеи наши скедий кличут? Моноксилами! Сиречь однодеревками!
– Да и пусть их! – отмахнулся Аскольд.
– Не… – помотал головой Хакон. – Надо, чтобы нас уважали…
– Тогда зайдем в Таматарху![36] – вывернулся Аскольд. – Там у нас большие лодьи стоят. Кстати, и твой «Лембой» там. Ну, этот, который в пятьдесят шесть шагов.
– Да помню я…
Хакон конунг поскреб в бороде.
– Все равно… – протянул он. – Поздно уже, лето к середине двинулось… Пока охочих людей соберем, пока доберемся, уже и листья опадут! Давай уж на тот год перенесем поход. Двинем по весне, как только лед сойдет.
– Давай! – легко согласился Аскольд. Видимо, он не рассчитывал на легкую победу, готовился долго канючить и убеждать конунга гардского.
– Значит, по рукам? – сказал он, сияя, и протянул свою пятерню, рубчатую от мозолей, натертых рукояткою весла.
– А, была не была! – воскликнул Хакон и впечатал свою ладонь. Крепко сжались твердые пальцы в извечном жесте мужской дружбы и согласия.
В открытую дверь робко заглянул гридень. Поклонился и сказал:
– Собрались бояре, ждут.
– Идем, – сказал Хакон.
Конунг гардский и сэконунг по очереди протиснулись в низкую дверь и потопали в гридницу.
Гридница занимала все левое крыло двухэтажного терема, крепко сидевшего в крепостном двору. Большие окна гридницы на зиму закладывались резными досками, а по теплу их снимали, запуская внутрь свежий воздух и свет.
Посередине обширного зала стоял громадный овальный стол, сбитый из плах и скобленный дожелта. Вокруг стола делили скамьи бояре – Думный круг верховного правителя Гардарики.
Хакон занял крепкое дубовое кресло во главе стола и пробурчал приветственное слово. Аскольд сэконунг пристроился рядом, по правую руку. А верховного опять посетили мысли о престолонаследии. Видать, придется ему выбирать преемника среди бояр… Вопрос, кого выдвинуть? Хакон оглядел бояр по правую руку. Вот Лидул конунг, сын Алвада. Крепкая личность, ежели упрется, вовек не сдвинешь. Но разве можно оставить после себя твердолобого? Умение властвовать требует гибкости, изворотливости даже. А за Лидулом расселся кугыжа мерянский, Шаев, сын Чекленера. Вот уж кто верток! И вашим и нашим! Вечно пляшет на лезвии меча, всем угодить хочет. С утра он в одной вере, а к вечеру в иную переходит. Худо! Гибкость – гибкостью, однако и твердость надобно иметь, за свое стоять и не сдавать. А вот ярл[37] Ильменский, Вадим Храбрый, сын Годлава. Говнистый человечишко, хоть и рода княжеского… Веры ему нет. И смел он напоказ, лихостью берет, а вот перед сильными пасует, поджимает хвост и прогибается, стелется весь… Тьфу! И пакостлив больно. Что скажешь не по нему – зыркнет зло и прищурится, словно целится в тебя, а потом припомнит, ударит исподтишка. Может, тогда князя Буривоя выбрать? Родня все ж. Карелы князю доверие выказали, призвали его, чтоб тот оборону держал, – опыта Буривою не занимать. Все это хорошо, но… Уж больно стар Буривой, сын Турвида, не выдюжит он тяготы власти, да и обидчив не в меру. Или на Антеро поставить, кунингаса ижорского? Всем взял – и смел, и мудр. Только вот не русских кровей Антеро, не пойдут за ним конунги с ярлами, не последуют. Та же история с риксом готским Гайной, сыном Ильдибада, что с Верхнего волока. Не много готского племени под ним, да и можно ли малое ставить над великим? Вот и думай теперь…
– Почнем, бояре… – сказал Хакон.
Все согласно кивнули.
– Тогда я первым слово возьму, по старшинству, – сказал Буривой и кашлянул. – Ропщут карелы, конунг. Не по чести ты их прижал! Почто дань нарастил? Сдали тебе меха по зиме? Сдали! Хорошие шкурки? Да одна к одной! Зачем же лишнее брать?
Конунг нахмурился и раздельно сказал:
– Мерянам или весинам я подати не увеличил. Сказать почему?
– Сказать! – задиристо молвил Буривой.
– Потому что они сами соболей да горностаев бьют! – с силой выговорил Хакон. – Это их добыча. А карелы твои нагличают! По всему Северу рыщут, по дешевке меха скупают у биармов да у лопарей. Сами же и везут потом к свеям или к саксам, торгуют, нам цену сбивая. Негоже так!
– И что? – повысил голос Буривой. – Разве они крадут те меха? Или силой у биармов отнимают? Все по чести да по совести! И везут они те шкурки продавать на своих же лойвах, кнорров ваших не занимают. Что тебе не по нраву?
– В единых Гардах, – проговорил Хакон, сдерживаясь, – и власть едина, и правда[38]. Как я сказал, так и будет.
– Не будет! – возопил Буривой. – Пока я на княжении в Кирьялаланде[39], обдираловке быть не позволю!
– Что, княже, – сощурил глаз правитель Гардов, – из общей лодьи желаешь в лойву пересесть?
– Желаю! Считай, уже пересел!
– Ай, молодец! – Злая насмешка искривила Хакону губы. – Вот только, далече ли уплывешь? А защищать ту лойву кто станет?
– Да уж как-нибудь справимся! – высказался Буривой в запале.
– Думай, что говоришь, – сердито сказал Аскольд. – Карелы в охоте смекают, а к войне они не годны. А ежели датчане явятся? Рагнар Кожаные Штаны давненько на Кирьялаланд облизывается!
– Пусть только попробует, – пробурчал Буривой. – Живо языка своего слюноточивого лишится!
– Дурак ты… – с сожалением сказал Аскольд.
Буривой вздернул седую бороденку, засверкал глазками.
– Так мне ждать подати али как? – тяжело спросил Хакон.
– Али как! – ответил Буривой, как отрубил.
– Тогда проваливай! – рявкнул конунг. – Греби в своей лойве наособицу и подмоги не жди. Ни одного варяга в помощь не дам!


