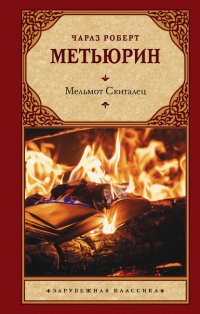Читать онлайн Мельмот Скиталец бесплатно
- Все книги автора: Чарлз Роберт Метьюрин
Иностранная литература. Большие книги
Перевод с английского Алексея Шадрина
Серийное оформление Вадима Пожидаева
Оформление обложки Валерия Гореликова
Издание подготовлено при участии издательства «Азбука».
© М. П. Алексеев (наследники), статья, библиография, примечания, 2021
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021
Издательство Иностранка®
* * *
Книга первая
Глава I
Он жив еще? Так покажи мне, где он,
Я тысячи отдам, чтоб только глянуть.
Шекспир1, [1]
Осенью 1816 года Джон Мельмот, студент дублинского Тринити-колледжа2, поехал к умирающему дяде, средоточию всех его надежд на независимое положение в свете. Джон был сиротой, сыном младшего из братьев; скудных отцовских средств едва хватало, чтобы оплатить его пребывание в колледже. Дядя же был богат, холост и стар, и Джон с детства был приучен смотреть на него с тем противоречивым чувством – притягательным и вместе с тем отталкивающим, когда страх смешивается с желанием: так мы обычно смотрим на человека, который, по уверению наших нянек, слуг и родителей, держит в руках все нити нашей жизни и в любую минуту властен либо продлить их, либо порвать.
Джона вызвали в усадьбу, и ему пришлось незамедлительно отправиться в путь.
Красота местности, по которой он проезжал, – это было графство Уиклоу3 – не в силах была отвлечь его от тягостных мыслей: иные из них были связаны с его прошлым, большинство же относилось к будущему. Причуды дяди, угрюмый его нрав, странные слухи, ходившие по поводу его многолетней затворнической жизни, ощущение собственной зависимости от этого человека – все это стучалось в его мозг тяжелыми, назойливыми ударами. Для того чтобы отогнать их, он старался приободриться, выпрямлялся на своем месте в почтовой карете, где он был единственным пассажиром, выглядывал в окно, смотрел на часы; ему казалось, что на какое-то мгновение он освобождается от всех этих неотвязных мыслей, но образовавшуюся вдруг пустоту нечем было заполнить, и тогда ему невольно приходилось снова приглашать их себе в спутники. Когда человек так настойчиво сам зазывает к себе врагов, то неудивительно, что они очень скоро одерживают над ним победу. И чем ближе он подъезжал к Лоджу – так именовалось поместье старого Мельмота, – тем тяжелее становилось у него на душе.
Воспоминания об этом страшном дяде начинались с самого раннего детства, когда мальчику то и дело приходилось выслушивать бесчисленные наставления: ничем не докучать дядюшке, не подходить слишком близко, не задавать никаких вопросов, ни при каких обстоятельствах не перекладывать с раз и навсегда отведенных для них мест табакерку, колокольчик и очки, не допускать, чтобы блеск золотого набалдашника дядюшкиной трости ввел его в смертный грех – взять ее в руки, и, наконец, быть до чрезвычайности осторожным и, совершая опасный переход – до середины комнаты и обратно, не натолкнуться на груды книг, глобусы, кипы старых газет, болванки для париков, трубки и табакерки, не говоря уже о подводных камнях в виде мышеловок и нагромождений покрытых плесенью книг под креслами; и не забыть отвесить последний почтительный поклон, уже стоя в дверях, после чего осторожно и неслышно закрыть их и спуститься вниз по лестнице, едва касаясь ногами ступенек.
Вслед за тем ему вспоминались школьные годы, когда на Рождество и на Пасху за ним посылали лохматого пони, над которым потешалась вся школа, и он без всякой охоты ехал в Лодж, где ему целые дни приходилось просиживать наедине с дядюшкой, не говоря ни слова и не шевелясь до тех пор, пока фигуры их не начинали походить на дона Раймонда и на призрак Беатрисы из «Монаха»4, а потом – смотреть, как тот вылавливает тощие бараньи кости из миски с жиденьким супом, остатки которого он протягивал племяннику с совершенно излишним уже предостережением «не есть больше, чем захочется». После этого Джона поспешно отправляли спать еще засветло, даже в зимнее время, чтобы понапрасну не жечь огарка свечи, и ему приходилось лежать без сна, терзаемому голодом, пока не било восемь часов и дядюшка не уходил к себе, чтобы лечь; это служило сигналом для управительницы, ведавшей незатейливым хозяйством старика, и та прокрадывалась к мальчику, чтобы поделиться с ним крохами своего жалкого обеда, причем после каждого куска шепотом предостерегала его, чтобы он как-нибудь не проговорился дяде об ее щедротах.
Потом потянулись воспоминания о жизни в колледже, в низенькой, расположенной в глубине двора каморке под самой крышей: жизни, которая ни разу даже не была скрашена приглашением приехать в усадьбу; тоскливые летние дни, когда он бродил по пустынным улицам, – ибо дяде совсем не хотелось тратить лишние деньги и брать его на лето домой. Старик напоминал о себе только приходившими раз в три месяца письмами, в которых наряду со скудным, но регулярно посылаемым вспомоществованием содержались жалобы на то, что обучение племянника обходится очень дорого, предостережения против всякого рода расточительности и сетования на то, что арендаторы не платят вовремя податей и что цены на землю падают. Все эти воспоминания нахлынули на него сейчас, а вслед за ними живо вспомнился и последний разговор с отцом, когда тот, умирая, наказал ему во всем полагаться на дядю.
«Джон, бедный мой мальчик, я оставляю тебя; Господу угодно прибрать к себе твоего отца, прежде чем он успел сделать все то, что облегчило бы теперь его последние часы. Джон, во всех делах тебе придется слушаться дяди. У него есть свои странности, и он человек больной, но ты должен привыкать мириться со всем этим, да и со многим другим, как тебе вскоре доведется увидеть. А теперь, бедный мой мальчик, да утешит тебя в твоем горе Отец всех сирот и да пошлет Он тебе расположение дяди».
Едва только Джон вспомнил свое прощание с отцом, как глаза его наполнились слезами. Он поспешил утереть их; в это время карета остановилась у ворот усадьбы.
Он вышел из нее с узелком в руке – там была смена белья, единственное, что он захватил с собой, – и, подойдя к воротам, увидел, что сторожка привратника окончательно развалилась. Из соседнего помещения выскочил босоногий мальчишка и отворил то, что некогда было воротами, а теперь – всего-навсего несколькими досками, державшимися на единственной петле и сбитыми так небрежно, что при сильном ветре они хлопали, точно вывеска. Эти неподатливые доски, уступившие наконец силе Джона и его босоногого помощника, тяжело проскрежетали по гравию и грязи, оставив после себя глубокую и топкую борозду. Путь был открыт. Джон стал шарить в кармане, ища какую-либо мелкую монету, чтобы вознаградить мальчишку за его труды, но, ничего не нащупав, пошел вперед, мальчишка же в это время прокладывал ему дорогу, прыгая то в одну, то в другую сторону, окунаясь в грязь, как утка, находя в этом удовольствие, и, вероятно, не менее гордый своим лихачеством, нежели тем, что «сослужил службу» джентльмену. Идя в молчании по грязной дороге, некогда бывшей въездом во двор, при тусклом свете осенних сумерек Джон заметил, до какой степени все переменилось с тех пор, как он был здесь последний раз: на всем лежала печать крайнего запустения; с каждым шагом он все больше убеждался, что это уже не просто скудость, как то было раньше, а беспросветная нищета. Никакой ограды или изгороди; вокруг тянулась стена, сложенная из ничем не скрепленных камней со множеством щелей, из которых торчали колючки и дрок. Ни деревца, ни кустика на газоне; да и самый газон превратился в пастбище, где овцы отыскивали себе жалкое пропитание среди камней, комьев глины и чертополоха и где только изредка пробивались пожелтевшие хилые травинки.
Господский дом резко выделялся даже на фоне вечернего сумрачного неба; по бокам не было ни флигелей, ни служб, ни кустарников, ни деревьев, которые давали бы тень и сколько-нибудь смягчали суровые очертания фасада. Печально посмотрев на заросшие травою ступеньки и заколоченные окна, Джон собрался с духом и решил постучать в дверь, однако молотка на месте не оказалось5. Вокруг в изобилии были разбросаны камни; взяв один из них, Джон принялся изо всей силы колотить в дверь, пока в ответ не послышался неистовый лай сторожевого пса, который, казалось, вот-вот сорвется с цепи. Его дикие завывания, горящие глаза и оскал зубов, в которых угадывались и голод, и ярость, заставили Джона снять осаду двери и вместо этого избрать иную, хорошо знакомую ему дорогу, которая вела на кухню. В окне горел огонек. Джон нерешительно приотворил дверь, но стоило ему бросить взгляд на собравшуюся на кухне компанию, как он сразу же направился вперед уверенным шагом человека, который не сомневается, что его приветливо встретят.
В очаге ярким пламенем полыхал торф, и одно это говорило уже о том, что хозяин дома занемог, ибо он скорее бы сам бросился в огонь, чем допустил, чтобы туда кинули сразу целый киш6; вокруг очага сидели старая управительница и несколько прихлебателей, людей, которые привыкли есть, пить и бездельничать на каждой кухне в округе, приключись в доме какое горе или радость, и все ради «их милости» и в знак «уважения» к хозяину дома и его семье, и старуха, в которой Джон сразу узнал лекарку округи. Эта иссохшая Сивилла7 поддерживала свое жалкое существование, извлекая выгоду из суеверий, невежества и мучений существ, столь же жалких, как и она сама. Попадая к людям знатным – а ей иногда удавалось проникнуть в их семьи через прислугу, – она применяла известные ей целебные травы и, будучи довольно искусна в своем ремесле, порою кого-нибудь и вылечивала. Когда же ей приходилось иметь дело с простолюдинами, она пускалась обычно в продолжительные разглагольствования касательно «дурного глаза»8, хвастая тем, что знает против него надежное средство; при этом она трясла своей седой головой, и развевающиеся волосы делали ее до такой степени похожей на ведьму, что ей всякий раз удавалось передать наполовину запуганным, наполовину поверившим ей людям некую долю собственной воодушевленности, которой она в значительной степени была наделена, притом что сама она, разумеется, понимала, что это обман; когда же положение больного становилось безнадежным, терпению доверчивых людей наступал предел и надежда уходила вместе с угасавшей жизнью, она заставляла своего несчастного пациента признаться, что «у него есть грех на душе», и как только добивалась от него этого признания – что стоило ей не очень большого труда, ибо чаще всего это был человек темный и бедный и притом изнемогавший от мук, – она принималась кивать головой и так таинственно что-то нашептывать, что у присутствующих не оставалось сомнения в том, что она действительно столкнулась с такими трудностями, одолеть которые смертному не под силу.
А когда больных не было и у нее не находилось предлога посещать ни господскую кухню, ни лачугу бедняка, когда несокрушимое здоровье всех ее земляков угрожало ей голодом, в ее распоряжении оставалось еще одно средство: если нельзя было укоротить ничью жизнь, можно было предсказывать людям будущее, прибегая для этого к заклинаниям и всякого рода чудодейственным средствам, к тем, что находятся за пределами нашего разумения9. Никто не умел так, как она, сплести магическую нить10 и положить ее потом в яму, где гасят известь, на краю которой стоял тот, кто хотел узнать свое будущее, дрожа от страха и не зная, чей голос ответит ему на вопрос: «Кто это держит нить?» – любимой ли девушки или самого дьявола.
Никто не знал так, как она, место, где сливаются четыре потока и куда глубокою ночью надо было окунуть рубашку, а потом развесить ее перед огнем (во имя того, кого мы не осмеливаемся поминать в «благовоспитанном обществе»)11, дабы под утро из-под этой рубашки объявился суженый. Никто, кроме нее, – так она утверждала сама – не ведал, в какой руке надо держать гребень, пока другою подносишь яблоко ко рту, чтобы в это мгновение в зеркале, в которое глядится девушка, промелькнула призрачная тень жениха. Никто так искусно и так старательно не удалял все железные изделия из кухни, где жертвы ее колдовских чар, запуганные ею и легковерные, обычно исполняли весь этот ритуал, – дабы наместо привлекательного юноши с золотым перстнем на белом пальце возле кухонного стола не появилась фигура без головы, не схватила длинный вертел, а если бы такового не оказалось, лежавшую возле очага кочергу и не стала бы безжалостно измерять рост спящей, чтобы сколотить для нее гроб. Словом, никто лучше ее не умел истерзать и напугать свои жертвы, вселив в них веру в таинственную силу, которая может самых крепких людей превратить в самых хилых и слабых, и не раз уже превращала. Ведь именно под действием этой силы лорд Литтлтон12, человек высокообразованный и скептически настроенный, перед смертью корчился, и стонал, и скрежетал зубами, совсем как та несчастная девчонка, которой померещилось, что к ней забрался вампир13, которая кричала, что по ночам ее собственный дед высасывает из нее кровь, и в конце концов умерла, не вынеся ужасов, которые сама же себе внушила.
Вот какова была та, кому старый Мельмот поручил все заботы о себе наполовину из легковерия, но главным образом – из скупости. Джон оглядел собравшихся на кухне людей: кое-кого он узнал. Они по большей части были ему неприятны, и он понимал, что ни на кого из них нельзя положиться. Старая управительница встретила его сердечно: он и теперь, по ее словам, оставался для нее «белокурым мальчиком» (кстати сказать, волосы его были черны как смоль), и она попыталась поднять свою изрытую морщинами руку, то ли чтобы благословить его, то ли чтобы ласково погладить, что оказалось делом чрезвычайно трудным: она убедилась, что с тех пор, как она последний раз гладила его по голове, голова эта поднялась дюймов на четырнадцать.
Едва только Джон показался на пороге, как сидевшие на кухне мужчины с присущей ирландцам почтительностью по отношению к лицам высокого звания все как один поднялись с мест; табуретки их, раздвигаясь, загрохотали о разбитые плиты пола, и они приветствовали «их милость» пожеланием «здравствовать тысячу лет и еще долго потом» и спросили, не выпьют ли «их милость» малую толику, «чтобы тоску разогнать». При этих словах к нему сразу же протянулось пять или шесть красных и костлявых рук со стаканами виски. Тем временем иссохшая Сивилла сидела молча в пустынном углу возле очага, и только из ее трубки потянулись еще более густые клубы дыма. Джон учтиво отказался от предложенного ему горячительного, очень сердечно выслушал все излияния управительницы и недоверчиво посмотрел на старую каргу, занявшую весь угол у очага, после чего перевел взгляд на стол, где на этот раз стояла совсем иная еда, нежели та, какую он привык видеть, когда «их милость» распоряжался всем в доме. На деревянном блюде картофеля было навалено столько, сколько старый Мельмот ухитрился бы растянуть на целую неделю. Рядом красовалась соленая лососина, роскошь в те времена недоступная даже для Лондона (см. повесть мисс Эджворт «Помещик в отъезде»)14.
Была там также свежая телятина, соседствовавшая с рубцами, и в довершение всего – еще омары и жареный палтус. Последнее может служить подтверждением того, что автор рассказывает suo periculo[2] о своем деде, который был деканом в Киллале15: когда старику приходилось нанимать в дом служанок, те ставили непременным условием, чтобы палтусом и омарами их кормили не чаще двух раз в неделю. Стояли там также бутылки уиклоуского эля, загодя и тайком извлеченные из погреба «их милости». Это было вообще их первое появление на кухне, и они бурно выражали свое нетерпение, пенясь и шипя от близости огня, который подстрекал их на бунт. Виски же – явно незаконный самогон, припахивающий сорными травами и дымом и отдающий духом презрения к акцизным чиновникам, – было, казалось, настоящим Амфитрионом этого пиршества16; каждый расточал ему похвалы и с не меньшим восторгом его вкушал.
Когда Джон оглядел находившееся перед ним общество и подумал об умирающем дяде, ему невольно припомнилась сцена, последовавшая за кончиною Дон Кихота, когда, сколь ни была велика печаль, причиненная смертью достойного рыцаря, племянница его, как мы узнаём из романа, «съела, однако, все, что ей было подано, управительница выпила за упокой души умершего, и даже Санчо и тот усладил свое чрево»17. Ответив, как мог, на приветствия всей компании, Джон спросил, как себя чувствует дядя.
«Хуже некуда», «Куда лучше, благодарствуем вашей милости», – выпалили собутыльники столь стремительно и таким нестройным хором, что Джон только и делал, что поворачивался от одного к другому, не зная, кому и верить.
– Хворь-то у них, говорят, началась с перепугу, – прошептал парень футов шести ростом; шепот этот перешел потом в рев и прозвучал уже над головою Джона, дюймов на шесть повыше.
– Да к тому же их милость, сдается, простыли, – добавил один из мужчин, спокойно опрокидывая стакан виски, от которого отказался Джон. При этих словах Сивилла, сидевшая у очага, не спеша вынула изо рта трубку и повернулась к говорившим: будь то сама Пифия на треножнике18, и то движения ее не могли бы вызвать вокруг такого суеверного страха и погрузить всех в столь глубокое молчание.
– Не тут, – сказала она, прижимая высохший палец к изрытому морщинами лбу, – не тут и не там. – И она простерла руку ко лбам тех, кто сидел ближе к ней и кто почтительно склонил перед ней голову, как будто принимая благословение, однако в ту же минуту снова принялась за спиртное, словно желая этим усилить действие своих слов.
– Вот тут всё, у самого сердца, – при этих словах она прижала пальцы к своей впалой груди с такой силой, которая всех потрясла, – все вот тут, – добавила она, повторяя те же движения (может быть, воодушевленная тем действием, которое успела произвести), а потом снова поднесла ко рту трубку и, опустившись на табурет, больше уже не сказала ни слова.
В ту минуту, когда Джон не успел еще опомниться от невольно охватившего его суеверного ужаса, а все сидевшие, трепеща от страха, молчали, раздался какой-то странный звук. Все вскочили, как будто заслышали выстрел из мушкета: это звонил старый Мельмот, только колокольчик его звучал на этот раз как-то очень уж странно.
Прислуги у старика было совсем мало, и она обычно не отходила от него ни на шаг; поэтому сейчас звон этот поразил всех, как будто старик созывал народ на собственные похороны.
– Раньше он всегда стучал, когда надо было меня позвать, – воскликнула управительница, выбегая из кухни, – он все говорил, что, «когда часто звонишь, перетирается шнур».
Звонок в полной мере возымел свое действие. Управительница кинулась в спальню старика, а вслед за нею еще несколько женщин (ирландских praeficae)[3] из тех, что всегда готовы и облегчать последние минуты умирающего, и плакать по покойнику, – они всплескивали своими жесткими руками и утирали сухие глаза. Все эти ведьмы столпились вокруг кровати старика, и надо было слышать, как громко, с каким неистовым отчаянием они вопили: «О, горе нам, они отходят, их милость отходят, их милость отходят!» Можно было подумать, что жизни их неразрывно связаны с его жизнью, подобно тому как то было в истории Синдбада-морехода, когда женам надлежало быть погребенными заживо вместе с их умершими мужьями19.
Четыре из них ломали руки и завывали вокруг постели, в то время как одна с ловкостью миссис Куикли принялась щупать ноги «их милости», а потом «еще выше и еще выше», и присутствующих оповестили, что он «холодный как камень»20.
Старый Мельмот отдернул ноги так, что старуха не смогла удержать их, проницательным взглядом (проницательным, несмотря на приближавшийся уже предсмертный туман) сосчитал собравшихся у его постели, приподнялся на остром локте и, оттолкнув управительницу, пытавшуюся поправить его ночной колпак, который во время этой схватки съехал набок и придавал его мрачному, мертвеющему уже лицу грозный и вместе с тем нелепый вид, прорычал так, что все вокруг обомлели:
– Какого черта вас всех сюда принесло?
Услыхав слово «черт», все бросились было врассыпную, но тут же опомнились и стали шепотом совещаться между собою, то и дело крестясь и бормоча:
– Черта! Господи Исусе, спаси нас, «черт» – вот первое слово, что мы от него услыхали.
– Да, – что есть мочи закричал больной, – и первый, кого я тут вижу, – черт!
– Где? Где? – в ужасе вскричала управительница, припадая к умирающему и словно пытаясь уткнуться в складки одеяла, которое она меж тем немилосердно стаскивала с его дрыгавших голых ног.
– Там, там, – повторял он (стараясь в то же время не дать ей стащить с него одеяло), показывая на столпившихся вокруг испуганных женщин, ошеломленных тем, что их гонят вон, как нечистую силу – ту самую, которую они собирались изгонять.
– Господь с вами, ваша милость, – сказала управительница уже более мягким голосом, когда первый испуг миновал, – вы же всех их знаете, эту зовут так, а эту так, а эту вот так, не правда ли? – И, показывая на женщин, она называла одно за другим их имена, перечислением которых мы уже не станем докучать читателю. (Чтобы он мог оценить нашу заботу о нем, достаточно сказать, что последнюю, например, звали Котхлин О’Муллиген.)
– Врешь, шлюха проклятая, – завопил старый Мельмот, – имя им легион, потому что их много21. Гони их вон из комнаты! Вон из дома!.. Уж коли они завоют, так будут выть от души, умру ли я, буду ли навеки проклят. Только по мне-то они и слезы не проронят – а вот по виски… уж они бы непременно украли его, доведись им только до него добраться, – тут старый Мельмот схватил лежавший у него под подушкой ключ и торжествующе потряс им перед носом у старой управительницы; впрочем, торжество его было напрасным: та давно уже нашла способ доставать из шкафа напитки без того, чтобы «их милость» об этом знал, – да по той снеди, которой ты их тешила.
– Тешила! О Господи Исусе! – вскричала управительница.
– А чего ради это у тебя столько свечей горит, все четыре, да еще, верно, внизу одна. Креста на тебе нет! Срамница! Ведьма старая!
– Правду говоря, ваша милость, их целых шесть горит.
– Шесть! А какого черта ты жжешь шесть свечей? Ты, стало быть, решила, что в доме уже покойник? Так, что ли?
– Нет, что вы, ваша милость, нет еще! – хором ответили старые грымзы. – У Господа на все свой час, и ваша милость это знают, – продолжали они тоном, в котором звучало плохо скрываемое нетерпение. – Ах, лучше бы уж ваша милость о душе подумали.
– Вот первое человеческое слово, что я от тебя слышу, – сказал умирающий, – дай-ка мне молитвенник, там вон, под разувайкой; паутину-то смахни – сколько лет уже, как я его не раскрывал.
Управительница подала ему молитвенник; старик укоризненно на нее посмотрел.
– И чего это ради ты шесть свечей на кухне жгла, мотовка несчастная? Сколько лет ты у меня в доме живешь?
– Да уж и не знаю, ваша милость.
– Видела ты хоть раз, чтобы тут что-нибудь зря тратили?
– Нет, что вы, что вы, ваша милость, никогда такого не бывало.
– А на кухне у меня когда-нибудь больше одной грошовой свечки горело?
– Никогда такого не было, ваша милость.
– Разве тебя не держали здесь в страхе Божьем, не стесняли всегда в деньгах как только можно было, скажи-ка?
– Ну разумеется, ваша милость; все мы это знаем, все мы вас почитаем, и каждый видит, что во всей округе ни дома нет такого крепкого, как у вас, ни хозяина такого расчетливого, как вы, так оно всегда и было, и есть.
– А как же вы смеете отпирать мой шкаф раньше, чем смерть вам его открыла? – воскликнул несчастный скряга, потрясая высохшею рукой. – Я почуял запах мяса, слышал голоса, слышал, как ключ то и дело поворачивается в двери. Эх, кабы я только мог на ноги встать, – добавил он, раздраженно ворочаясь в кровати. – Кабы я мог встать и увидеть, как меня разорили, как все прахом пошло. Но ведь это меня бы убило, – продолжал он, снова опуская голову на жесткий валик: он никогда не позволял себе спать на подушке, – это бы убило меня, одна мысль об этом убивает меня сейчас.
Женщины, растерявшиеся и смущенные, многозначительно поглядев друг на друга и пошептавшись, столпились у двери, собираясь уйти, как вдруг нетерпеливый голос старого Мельмота окликнул их и заставил вернуться.
– Куда это вы все потянулись? Опять на кухню, опять обжираться да опиваться? Не грех бы одной из вас побыть у меня да молитвы почитать! Настанет день, когда и вам в этом нужда придет, ведьмы старые.
Испуганные этими речами и угрозами, женщины вернулись и в молчании обступили постель старика, меж тем как управительница, хоть сама и была католичкой, спросила, не хочет ли их милость позвать священника, чтобы тот напутствовал их по обычаю их церкви. При этих словах в глазах умирающего вспыхнуло недовольство.
– Зачем? Только чтобы он ждал потом, когда на похоронах ему дадут шарф да траурную повязку на шляпу? Сама изволь молитвы читать, шлюха старая, так мы хоть что-нибудь сбережем.
Управительница попробовала было читать, но вскоре отказалась под тем предлогом, что, с тех пор как господин ее занемог, ее слепят слезы.
– Это все от виски, – сказал больной со злобной усмешкой, которую предсмертные корчи превратили в отвратительную гримасу. – Неужто же среди вас всех не найдется никого, кто бы мог почитать молитвы и отогнать нечистую силу? Или все вы способны только выть да зубами скрежетать?
После этих слов одна из женщин предложила свои услуги. О ней поистине можно было сказать, как о недалеком стражнике Догберри, что «читать и писать ее научила сама природа»22. В школу она никогда не ходила, и до этого дня ей никогда не случалось не только открывать, но даже видеть протестантский молитвенник. Тем не менее она не сробела и взялась читать, и при этом весьма выразительно, однако без должного понимания. Она прочла почти все очистительные молитвы после родов, которые в наших молитвенниках идут следом за похоронной службой; может быть, она вообразила, что именно это больше всего под стать положению старика.
Читала она очень торжественно, – к сожалению, два раза чтение это пришлось прервать: первый раз по вине старого Мельмота, который вскоре после начала молитв повернулся к управительнице и неподобающе громко сказал: «Поди закрой поплотнее заслонки на кухне да дверь запри, да чтобы я слышал, что ты ее заперла. До тех пор я ни о чем и думать не могу». Второй раз чтение прервалось оттого, что прокравшийся в комнату Джон Мельмот, едва только он услыхал, что эта бестолковая женщина читает вовсе не то, что надо, стал возле нее на колени, спокойно взял из ее рук молитвенник и приглушенным голосом принялся читать ту часть торжественной службы, которая по правилам Англиканской церкви предназначена для утешения умирающего.
– Это голос Джона, – сказал старик. Ему припомнилось, как он всегда бывал холоден с несчастным юношей, и его черствое сердце смягчилось. Он увидел, что и его самого окружают теперь бессердечные и жадные слуги, и, как ни слабы были узы, связывавшие его с племянником, с которым он всегда обращался как с чужим, в эту минуту он вдруг почувствовал, что это как-никак его кровь, и ухватился за него, как утопающий за соломинку.
– Джон, славный мой мальчик, хоть ты здесь. Всю жизнь я тебя держал далеко от себя, а теперь вот умираю и вижу, что нет у меня человека ближе, чем ты. Читай, Джон, читай.
Джон, до глубины души удрученный тяжелым положением, в котором он нашел старика среди всех богатств, которые его окружали, и тронутый его торжественной просьбой облегчить ему последние минуты жизни, продолжал читать. Но вскоре голос его сделался невнятным от ужаса, в который его повергла начавшаяся у больного непрерывная икота. Умирающий, однако, продолжал бороться с нею, а в наступавшую порой минуту покоя умудрялся еще раз спросить управительницу, закрыты ли все заслонки. Обладавший чувствительным сердцем Джон встал с колен: он был глубоко взволнован.
– Как, и ты тоже покидаешь меня, как и все остальные? – сказал старый Мельмот, пытаясь приподняться на кровати.
– Нет, сэр, – ответил Джон и, заметив перемену во взгляде умирающего, добавил: – Мне думается, что вам надо бы чем-нибудь подкрепиться, не так ли, сэр?
– Да, надо, надо, только кому же я могу доверить принести мне еду? Им, – тут он угрюмым взглядом обвел всех присутствующих, – да ведь они же меня отравят.
– Доверьтесь мне, сэр, – сказал Джон. – Я схожу к аптекарю или куда вы прикажете.
Старик схватил его за руку, притянул к постели, бросил грозный, но в то же время испуганный взгляд на всех собравшихся и сдавленным голосом прошептал:
– Я хочу выпить стакан вина, это прибавит мне несколько часов жизни, только я никому не могу доверить сходить за ним – они стащат бутылку и окончательно меня разорят.
Слова эти совершенно потрясли Джона.
– Ради самого Создателя, сэр, позвольте мне принести вам стакан вина.
– А ты что, знаешь, где оно спрятано? – спросил старик, и лицо его приняло какое-то особое выражение, которого Джон не мог понять.
– Нет, сэр, вы знаете, я ведь здесь ни во что не вмешивался.
– Возьми вот этот ключ, – сказал старый Мельмот после нового жестокого приступа икоты, – возьми этот ключ, там в кабинете у меня есть вино. Мадера. Я им всегда говорил, что там ничего нет, только они мне не верили, иначе бы они так не обнаглели и меня не ограбили. Раз как-то я им, правда, сказал, что там виски, и это было хуже всего – они стали пить вдвое больше.
Джон взял ключ из рук дяди; в это мгновение старик пожал его руку, и Джон, видя в этом проявление любви, ответил ему таким же пожатием. Но последовавший за этим шепот сразу охладил его порыв:
– Джон, мальчик мой, только смотри не пей этого вина, пока ты будешь там.
– Боже ты мой! – вскричал Джон и в негодовании швырнул ключ на кровать; потом, однако, вспомнив, что на этого несчастного не следует обижаться, он дал старику обещание, на котором тот настаивал, и вошел в кабинет, порога которого, кроме самого владельца дома, по меньшей мере лет шестьдесят никто не переступал. Он не сразу отыскал там вино, и ему пришлось пробыть в комнате достаточно долго, чем он возбудил новые подозрения дяди. Но он был сам не свой, руки его дрожали. Он не мог не заметить необычного взгляда дяди, когда тот позволил ему пойти в эту комнату: к страху смерти примешивался еще ужас перед чем-то другим. Не укрылось от него также и выражение испуга на лицах женщин, когда он туда пошел. И к тому же, когда он очутился там, коварная память повела его по едва заметному следу и в глубинах ее ожила связанная с этой комнатой быль, полная несказанного ужаса. Он вдруг со всей ясностью осознал, что, кроме его дяди, ни один человек ни разу не заходил туда в течение долгих лет.
Прежде чем покинуть кабинет, он поднял тускло горевшую свечу и оглядел все вокруг со страхом и любопытством. Там было много всякой ломаной мебели и разных ненужных вещей, какие, как легко себе представить, нередко бывают свалены и гниют в комнатах старых скряг. Но глаза Джона словно по какому-то волшебству остановились в эту минуту на висевшем на стене портрете, и даже его неискушенному взгляду показалось, что он намного превосходит по мастерству все фамильные портреты, что истлевают на стенах родовых замков. Портрет этот изображал мужчину средних лет. Ни в костюме, ни в наружности его не было ничего особенно примечательного, но в глазах его Джон ощутил желание ничего не видеть и невозможность ничего забыть. Знай он стихи Саути, он бы потом не раз повторял эти вот строки:
- Глаза лишь жили в нем,
- Светившиеся дьявольским огнем.
Повинуясь какому-то порыву чувства, мучительного и неодолимого, он приблизился к портрету, поднес к нему свечу и смог прочесть подпись внизу: «Дж. Мельмот, anno[4] 1646». Джон был по натуре человеком неробким, уравновешенным и отнюдь не склонным к суевериям, но он не в силах был оторвать глаз от этого странного портрета, охваченный оцепенением и ужасом, пока, наконец, кашель умирающего не вывел его из этого состояния и не заставил поспешно вернуться. Старик залпом выпил вино. Он как будто немного оживился: давно уже он не пробовал ничего горячительного, и на какое-то мгновение его потянуло к откровенности.
– Джон, ну что ты там видел в комнате?
– Ничего, сэр.
– Врешь! Каждый старается обмануть или обобрать меня.
– Я не собираюсь делать ни того ни другого, сэр.
– Ну так что же ты все-таки там видел, на что обратил внимание?
– Только на портрет, сэр.
– Портрет, сэр! Оригинал до сих пор еще жив.
Несмотря на то что Джон был весь еще под действием только что испытанных чувств, он отказывался этому верить и не мог скрыть своего сомнения.
– Джон, – прошептал дядя, – говорят, что я умираю то ли от того, то ли от другого; кто уверяет, что я ничего не ем, кто – что не принимаю лекарств, но знай, Джон, – и тут черты лица старика чудовищно перекосились, – я умираю от страха. Этот человек, – он протянул свою исхудавшую руку в сторону кабинета, как будто показывая на живое существо, – я знаю, что говорю, этот человек до сих пор жив.
– Быть не может! – вырвалось у Джона. – Портрет помечен тысяча шестьсот сорок шестым годом.
– Ты это видел, заметил, – сказал дядя, – ну так вот, – он весь затрясся, на мгновение облокотился на валик, а потом, схватив племянника за руку и очень странно на него посмотрев, воскликнул: – Ты еще увидишь его, он жив.
И, опустившись снова на валик, он не то уснул, не то впал в забытье. Открытые глаза продолжали недвижно глядеть на Джона.
В доме воцарилась полная тишина, и у Джона были теперь и время и возможность обо всем поразмыслить. Он не в силах был справиться с множеством нахлынувших на него мыслей, но отделаться от них никак не удавалось. Он стал думать о привычках и характере дяди, снова и снова возвращался к тому же и сказал себе: «Я не знаю человека, менее склонного к суеверию. Если он о чем-нибудь и думал, то разве что о ценах на акции, и о разменном курсе, и об издержках на мое образование, его это особенно тяготило. Можно ли представить себе, что такой, как он, умирает от страха, от нелепого страха, что человек, живший полтора столетия назад, до сих пор еще жив, – и тем не менее он умирает».
Поток его мыслей прервался: факты всегда таковы, что могут опровергнуть самую упрямую логику. «Как ни трезвы ум его и чувства, он все-таки умирает от страха. Я слышал это на кухне, слышал от него самого, тут уж не может быть никакого обмана. Если бы мне когда-нибудь довелось проведать, что у него не в порядке нервы, расстроено воображение или что он склонен к суевериям, но в характере его нет ни одной из этих черт. Чтобы человек, который, как говорит наш бедный Батлер в своем „Антикварии“24, готов был продать Христа еще раз за сребреники, как это сделал в свое время Иуда, – чтобы такой человек умирал от страха! И однако, он умирает», – подумал Джон, в ужасе глядя на втянутые ноздри, остекленевшие глаза, отвисшую челюсть и на все страшные признаки facies Hippocratica[5], 25, отчетливо выраженные, но уже близкие к тому, чтобы перестать что-либо выражать.
В эту минуту старый Мельмот был, казалось, погружен в глубокое оцепенение, во взгляде его больше не было ужаса, и руки его, которые перед этим судорожно перебирали одеяло короткими, прерывистыми движениями, застыли теперь и недвижно лежали на нем, точно лапы умершей от голода хищной птицы, – такие высохшие, пожелтевшие, так далеко раскинувшиеся вширь. Джон, которому ни разу не приходилось видеть смерть, решил, что старик просто засыпает, и, движимый неким безотчетным порывом, схватил огарок свечи и еще раз отважился проникнуть в запретную комнату, которая среди обитателей дома известна была под именем голубой. Шорох его шагов разбудил умирающего; тот приподнялся на постели. Джон не мог этого видеть, ибо уже находился в это время в кабинете, но он услышал стон, скорее даже какой-то сдавленный, клокочущий хрип, который возвещал, что наступила ужасающая борьба охваченного судорогами тела и смятенного духа. Он вздрогнул, повернул назад и тут же, заметив, что глаза портрета, от которых он не мог оторваться, обращены на него, опрометью кинулся назад к постели старика.
Старый Мельмот умер этой же ночью, и умер так, как жил, одержимый бредом скупости. Последние часы его являли собою ужас, которого Джон не мог себе даже представить. Он осыпа́л всех проклятиями и богохульствовал по поводу трех полупенсовых монет, пропавших, по его словам, несколько недель назад, – сдачи, которую ему не отдал конюх, покупавший сено для едва волочившей ноги от голода клячи. Потом он схватил руку Джона и попросил племянника дать ему причаститься.
– Если я пошлю за священником, – сказал он, – то придется ему платить, а я не могу, не могу. Они считают, что я богат, а ты только погляди на это одеяло; я, правда, не пожалел бы и денег, если б только был уверен, что спасу душу.
– Право же, ваше преподобие, – добавлял он уже в бреду, – я человек очень бедный. Никогда мне раньше не случалось беспокоить священника, и я хочу только, чтобы вы исполнили две мои маленькие просьбы, для вас это сущий пустяк: спасти мою душу и, – тут он перешел на шепот, – добиться, чтобы гроб мне заказали за счет прихода. Того, что останется после меня, на похороны не хватит. Я всегда всем говорил, что беден, но чем больше я твердил об этом, тем меньше мне верили.
Слова эти произвели очень тяжелое впечатление на Джона; он отошел от кровати больного и сел в дальнем углу. Женщины снова вернулись в комнату; было очень темно. Окончательно обессилевший Мельмот не мог больше произнести ни слова, и на какое-то время все погрузилось в тишину, напоминавшую о близости смерти. В эту минуту Джон увидел, как дверь вдруг открылась и на пороге появилась какая-то фигура. Вошедший оглядел комнату, после чего спокойными мерными шагами удалился. Джон, однако, успел рассмотреть его лицо и убедиться, что это не кто иной, как живой оригинал виденного им портрета. Ужас его был так велик, что он порывался вскрикнуть, но у него перехватило дыхание. Тогда он вскочил, чтобы кинуться вслед за пришельцем, но одумался и не сделал ни шагу вперед. Можно ли было вообразить бо́льшую нелепость, чем приходить в волнение или смущаться от обнаруженного сходства между живым человеком и портретом давно умершего! Сходство, разумеется, было бесспорным, если оно поразило его даже в этой полутемной комнате, но все же это было не больше чем сходство; и пусть оно могло привести в ужас мрачного и привыкшего жить в одиночестве старика, здоровье которого подорвано, Джон решил, что уж он-то ни за что не даст себя вывести из состояния равновесия.
Но в то время, как в душе он уже гордился принятым решением, дверь вдруг открылась и фигура появилась снова: она, казалось, манила его с какой-то устрашающей фамильярностью. Джон вскочил, на этот раз преисполненный решимости погнаться за нею, но вынужден был остановиться, услыхав слабые, но пронзительные крики дядюшки, боровшегося одновременно и с наступавшей агонией, и со своей управительницей. Несчастная, заботясь о репутации своего господина, а заодно и о своей собственной, пыталась надеть на больного чистую рубашку и ночной колпак; Мельмот же чувствовал только, что у него что-то хотят отнять, и совсем слабым голосом восклицал:
– Они грабят меня, грабят в последние минуты жизни, грабят умирающего. Джон, помоги мне, я умру нищим, они снимают с меня и последнюю рубашку, я умру нищим.
И скупец испустил дух.
Глава II
Ты, что стонешь, бродишь тенью
Вкруг былых своих владений.
Роу1
Спустя несколько дней после похорон завещание покойного было вскрыто в присутствии надлежащих свидетелей, и Джона провозгласили единственным наследником состояния дяди, которое, хоть поначалу и было невелико, в силу страсти старика к стяжательству и бережливой его жизни превратилось в весьма значительное.
Закончив чтение завещания, стряпчий добавил:
– Тут еще на уголке приписаны какие-то слова. Они, должно быть, не относятся к завещанию, ибо не введены в него по форме в качестве приписки и не скреплены подписью завещателя. Однако, насколько я могу судить, приписка сделана рукою покойного.
Он показал эти строчки Джону, который тут же признал, что они написаны почерком дяди (этим прямым и тесным почерком – таким, что казалось, писавший стремился елико возможно полнее использовать каждый листик бумаги, бережно сокращая каждое слово и даже не оставляя полей), и не без некоторого волнения прочел следующие слова: «Приказываю племяннику и наследнику моему, Джону Мельмоту, убрать, уничтожить самолично или велеть уничтожить портрет с подписью „Дж. Мельмот, 1646“, висящий у меня в кабинете. Приказываю ему также отыскать рукопись: полагаю, что он найдет ее в третьем, самом нижнем левом ящике бюро красного дерева, над которым висит портрет, – она лежит среди всяких ненужных бумаг, писанных от руки проповедей, брошюр о благосостоянии Ирландии и тому подобных. Он узна́ет ее по черной тесьме, которой она перевязана, по выцветшей и покрытой плесенью бумаге. Он может, если захочет, прочесть эту рукопись; только пусть лучше не читает. Во всяком случае заклинаю его, если заклинание умирающего может иметь силу, ее сжечь».
После прочтения этой странной приписки собравшиеся вернулись к обсуждению существа дела, и так как воля старого Мельмота была выражена вполне ясно и по узаконенной форме, то все было очень скоро закончено; официальные лица и свидетели уехали, оставив Джона Мельмота одного.
Следует упомянуть, что опекуны, назначенные наследнику по завещанию (ибо он не достиг еще совершеннолетия), советовали ему возвратиться в колледж и в надлежащий срок завершить там свое образование; однако Джон решил остаться, сославшись на то, что считает себя обязанным почтить память дяди и провести известное время в доме покойного. В действительности побуждения его были иными. Любопытство, а может быть, и некое более высокое чувство, неистовое и страшное, преследование некоей смутной цели захватило его безраздельно. Опекуны его – а это были соседние помещики, люди весьма уважаемые, в чьих глазах, после того как было прочтено завещание, Джон сразу вырос, – настоятельно предлагали ему какое-то время прожить у них, прежде чем он вернется в Дублин. Юноша поблагодарил их за приглашения, но ответил решительным отказом. Тогда они велели подать лошадей и, распростившись со своим подопечным, разъехались по домам. Мельмот остался один.
Всю вторую половину дня он провел в тревожном и мрачном раздумье; он расхаживал из угла в угол по комнате покойного дяди, подходил к двери кабинета, а потом отступал назад, глядел на свинцовые тучи и прислушивался к завыванию ветра, как будто то и другое могло не усугубить, а, напротив, развеять его тяжелое настроение. Наконец, под вечер уже, он вызвал старую управительницу, рассчитывая, что она так или иначе объяснит ему необыкновенные происшествия, свидетелем которых ему довелось стать в доме дяди. Старухе польстило то, что он обратился к ней, и она тут же явилась на его зов. Однако рассказать она могла очень мало. (Мы не станем докучать читателю, передавая ее бесчисленные разглагольствования, ирландские слова и выражения, которые она употребляла, и частые паузы, вызванные тем, что она прикладывалась к табакерке и пила приготовленный из виски пунш, который Мельмот распорядился ей подать.) Вот примерно то, что она сообщила.
Она рассказала, что их милость (так она привыкла называть покойного) очень пристрастились к маленькой комнатке, примыкавшей к его спальне, и последние два года любили проводить там время за чтением; что люди, знавшие, что их милость богаты, пробрались в эту комнату (то есть попросту покушались их ограбить), однако, увидев, что там ничего нет, кроме бумаг, убежали; что господин ее был так всем этим напуган, что велел заложить кирпичом окно, но что она твердо убеждена: в комнате не только одни бумаги, а кое-что еще. Ведь стоило ее господину недосчитаться полупенса, как он подымал шум на весь дом; когда же окно комнаты заложили кирпичом, он больше ни слова не промолвил; потом их милость стали часто запираться у себя в кабинете, и, хотя раньше они никогда не любили читать, теперь, когда им приносили обед, их часто заставали склоненными над какой-то бумагой, которую они тут же прятали, стоило только кому-нибудь войти. И один раз даже очень забеспокоились по поводу портрета, боялись, как бы кто-нибудь его не увидел; что, зная, что в семье приключилось что-то недоброе, она всячески старалась узнать правду и даже наведывалась к Бидди Браннинген (врачевавшей всю округу Сивилле, о которой у нас уже шла речь), но та только покачала головой, набила трубку, произнесла какие-то слова, которых нельзя было понять, и закурила; все это было за два дня до того, как на их милость немочь нашла. Сама она стояла во дворе (в прежнее время он был окружен конюшнями, голубятней и другими строениями, как то водится в господских усадьбах, но теперь от всего остались лишь полуразрушенные стены находившихся там некогда служб, и место это поросло чертополохом и сделалось прибежищем свиней), когда их милость велели ей запереть дверь, – их милость всегда требовали, чтобы двери запирались рано; она поспешила исполнить их приказание, но тут они вдруг стали вырывать из ее руки ключ и принялись ее ругать (они ведь очень беспокоились, чтобы двери были заперты, замки-то никуда не годились, а ключи все проржавели, и когда их поворачивали в скважине, то скрипели они так, что казалось, будто это стенают души грешников). Она постояла с минуту, видя, что господин ее рассержен, и отдала ему ключ, как вдруг он вскрикнул и упал на порог. Она кинулась поднимать его, подумала, что ему просто худо стало, но оказалось, что он весь похолодел и не может пошевелить ни рукой ни ногой. Тогда она стала звать на помощь, и прибежали люди с кухни; от ужаса и отчаяния она совсем растерялась, но все-таки помнит, что, как только люди подняли его, он пошевелил рукой и на что-то показал, и тут она увидела, что по двору идет какой-то высокий мужчина и уходит невесть куда: наружные-то ворота всегда заперты и их уже много лет не открывали, а вся прислуга толклась в это время возле их милости в другом конце двора. Она видела этого человека, видела его тень на ограде, видела, как он медленными шагами прошел по двору, и в ужасе закричала: «Держите его!» – но никто не обратил внимания на ее крик, все суетились возле господина; когда же его перенесли в спальню, то все опять-таки думали только о том, чтобы привести его в чувство. Больше она ничего не могла рассказать. Их милость (это относилось уже к молодому Мельмоту) знает столько же, сколько она: он ведь был при дяде во время последней болезни, при нем господин и умер, откуда же ей знать больше, чем их милости.
– Все это верно, – сказал Мельмот, – я, конечно, видел, как он умер, но вы говорите, что в семье приключилось что-то недоброе, так вот знаете ли вы что-нибудь об этом?
– Ровно ничего, хоть я и стара, все ведь это было давным-давно, когда меня еще и на свете не было.
– Ну конечно, так оно и должно было быть; только скажите, дядя мой был когда-нибудь суеверен, любил фантазировать? – Мельмоту пришлось употребить несколько синонимических выражений, прежде чем собеседница его поняла, чего он от нее хочет. Когда он этого наконец добился, он услышал сказанные решительно слова:
– Нет, никогда, никогда. Случалось, что их милость сиживали с нами зимой на кухне, чтобы не тратиться на дрова и не топить у себя в спальне, так не выносили они, чтобы старухи при них судачили. Уж так они не терпели их россказней, что те втихомолку курили и не смели шептаться ни о том, как на ребенка порчу напустили, ни о парне, который днем выглядел уродцем горбатым, а чуть ночь, так отправлялся танцевать с порядочными людьми на вершину соседней горы, и зазывали его туда волынкой, что как вечер, так беспременно играла.
От этого рассказа мысли Мельмота сделались еще мрачнее. Если дядя его не был суеверен, то не было ли за ним какой-нибудь вины и не было ли причиной его странной и внезапной смерти и даже того странного посещения, которое ей предшествовало, некое зло, которое он жадностью своей причинил какой-нибудь вдове или сиротам? Он стал расспрашивать об этом старуху, начав разговор осторожно, обиняками. Но ответы ее полностью обелили покойного.
– Человек-то он был скупой, черствый, – сказала она, – но чтобы он на что чужое позарился, так этого никогда не бывало. Он целый свет мог голодом уморить, но никого ни на грош не обманул.
Последнее, что оставалось Мельмоту, – это послать за Бадди Браннинген, которая все еще была в доме и от которой он во всяком случае надеялся услышать о том недобром, что приключилось в семье. Та явилась, и, когда она здоровалась с Мельмотом, любопытно было видеть на ее лице выражение властности, смешанной с подобострастием, к которому ее приучила жизнь, сочетавшая в себе постыдное нищенство с наглым, но вместе с тем искусным плутовством. Придя, она остановилась на пороге, почтительно присела и пробормотала какие-то невнятные слова, которые, очевидно, должны были выражать благословение, но которые резкий тон и весь ее зловещий облик делали похожими на проклятие. Однако, как только речь зашла о самом важном деле, во всем облике ее появилась какая-то значительность, и она вся вытянулась и преобразилась наподобие вергилиевской Алекто2, которая за одно мгновение из слабенькой старушки превращается в грозную фурию. Размеренным шагом она прошлась по комнате, села или, лучше сказать, опустилась на пол у очага, как припадает к земле заяц, простерла свои костлявые, морщинистые руки к огню и некоторое время молча раскачивалась из стороны в сторону, прежде чем приступить к рассказу. Когда она кончила говорить, Мельмот долго не мог опомниться, ошеломленный всем тем, что узнал; поразило его и то, что такую дикую, неправдоподобную, больше того, совершенно невероятную историю он слушал со все возрастающим волнением, охваченный то любопытством, то страхом, и в конце концов ему стало стыдно своего легковерия и безрассудства, с которыми он не в силах был совладать. И он решил в тот же вечер пойти в голубую комнату и прочесть рукопись.
Решение это оказалось, однако, невозможно осуществить, ибо, когда он потребовал, чтобы ему принесли свечи, управительница призналась, что все, что оставалось, сожгли у гроба их милости; тогда босоногому мальчишке приказано было сбегать в соседнюю деревню за свечами, да поскорее.
– Да хорошо бы еще попросить у кого-нибудь пару подсвечников, – добавила управительница.
– Неужели в доме нет подсвечников? – удивился Мельмот.
– Как же, есть, мой дорогой, сколько угодно, да только не время сейчас старый сундук открывать, серебряные-то все на самом дне упрятаны, ну а медные, те в ходу, да толку в них нет, потому у одного верх отломан, у другого низ.
– Так как же вы без них обходились? – спросил Мельмот.
– Да в картофелину воткнешь свечу, и ладно, – ответила управительница.
Итак, мальчишка побежал со всех ног. Начинало темнеть, и Мельмот, оставшись один, мог снова предаваться раздумьям.
А вечер был такой, что располагал к ним, и Мельмот успел вкусить их сполна, прежде чем посланный вернулся. Было холодно и темно; тяжелые тучи предвещали полосу непрерывных осенних дождей; одна за другой они заволакивали небо подобно темным знаменам надвигающихся полчищ врага, который сметает все на своем пути. Мельмот приник к окну; покосившиеся рамы, потрескавшиеся и разбитые стекла сотрясались при каждом порыве ветра. Перед глазами его расстилалась самая безотрадная картина – пустынный сад, в котором все говорило о скупости покойного хозяина: обвалившаяся ограда, тропинки, заросшие чем-то очень мало походившим на траву, хилые, шаткие деревья с осыпавшейся листвой и густые колючие заросли крапивы и сорняка там, где некогда были цветы; всполошенные ветром плети клонились долу бесформенно и неприютно. Все это походило на кладбище, на сад мертвых. Джон вернулся к себе в комнату, надеясь, что ему станет легче, однако и там не испытал ни малейшего облегчения. Деревянные панели стен почернели от грязи и во многих местах потрескались и обвалились; решетка камина так давно уже не имела дела с огнем, что теперь только клубы унылого дыма могли пробиться между ее закопченными прутьями; соломенные сиденья на шатких стульях совершенно уже провалились; из локотников большого кожаного кресла вылезал войлок, а по краям одиноко торчали гвозди, под которыми не осталось и следа от обивки; пострадавший не столько от копоти, сколько от времени, камин украшала пара щипцов, потрепанный альманах 1750 года, давно уже остановившиеся часы, которых никто не собрался починить, и ржавое ружье без замка. Неудивительно, что вся эта картина запустения вернула Мельмота к его собственным мыслям, тревожным и неотступным. Он припомнил рассказ Сивиллы слово в слово и, казалось, подвергал теперь свидетельницу перекрестному допросу, стараясь уличить ее в противоречиях.
Первый из Мельмотов, обосновавшийся в Ирландии, по ее словам, был офицером армии Кромвеля; конфисковав земельный надел, он получил имение одного ирландского рода, приверженного королю. Старший брат его уехал за границу и так долго жил на континенте, что семья успела совершенно его позабыть. Родные не питали к нему любви, которая одна помогла бы сохранить в памяти его образ, ибо о путешественнике этом ходили странные слухи. Говорили, что он, подобно «проклятому чародею, знаменитому Глендауру»3, занимался какими-то таинственными делами.
Не следует забывать, что в то время, да, впрочем, и позднее, вера в астрологию и колдовство была очень распространена. Даже в самом конце царствования Карла II Драйден составлял гороскоп своего сына Чарльза4, нелепые сочинения Гленвилла были в большом ходу5, а Дельрио и Виерус были настолько популярны6, что один из драматургов (Шедуэлл) обильно цитировал их7 в примечаниях к своей занятной комедии о ланкаширских ведьмах. Рассказывают, что еще при жизни Мельмота путешественник посетил его, и, хотя в то время он должен был уже быть в годах, к удивлению семьи, он нисколько не постарел с того времени, когда они видели его в последний раз. Пробыл он очень недолго, ни словом не обмолвился ни о прошлом своем, ни о будущем, да и родные ни о чем его не расспрашивали. Говорили, что им было как-то не по себе в его присутствии. Уезжая, он оставил им свой портрет (тот самый, который Джон Мельмот видел в голубой комнате и который был помечен 1646 годом), и с тех пор они его больше не видели. Спустя несколько лет из Англии прибыл некий человек; он направился в дом Мельмота, разыскивая скитальца, и с удивительной настойчивостью добивался хоть что-нибудь о нем узнать. Семья не могла сообщить ему никаких сведений, и, проведя несколько дней в волнении и непрестанных расспросах, он уехал, оставив в доме то ли по рассеянности, то ли намеренно рукопись, содержащую удивительный рассказ о тех обстоятельствах, при которых автор ее повстречал Джона Мельмота Скитальца (как называли этого человека).
И рукопись, и портрет сохранились, что же касается оригинала, то распространился слух о том, что он все еще жив и что его много раз видели в Ирландии, даже и в нынешнем столетии, но что он появлялся не иначе как перед смертью кого-либо в доме, но и тогда лишь в тех случаях, когда последние часы умирающего бывали омрачены страшной тенью зла, которое он причинил людям своими дурными страстями или привычками.
Поэтому появление этого зловещего человека перед смертью старого Мельмота, действительное или только мнимое, никак нельзя было счесть хорошим предзнаменованием для пути, уготованного его душе.
Вот что поведала Бидди Браннинген, добавив к этому, что готова поклясться, что у Джона Мельмота Скитальца за все это время не выпало ни единого волоска на голове, а на лице не появилось ни единой морщины, что ей доводилось говорить с видевшими его людьми и что, если понадобится подтвердить все сказанное ею, она готова принять присягу; что она ни от кого не слыхала, чтобы он с кем-то говорил, или что-то ел, или заходил в чей-либо дом, кроме как в свой родной, и, наконец, что сама она убеждена, что последнее появление его не предвещает ничего хорошего ни живым, ни мертвым.
Джон продолжал раздумывать обо всем, что услышал, когда свечи наконец были принесены. Не обращая внимания на бледные от страха лица слуг и на их предостерегающий шепот, он решительными шагами вошел в кабинет, запер за собой дверь и принялся разыскивать рукопись. Он вскоре ее нашел, ибо указания старого Мельмота были точны и он их твердо запомнил. Рукопись, старая, разорванная и выцветшая, действительно лежала в упомянутом ящике бюро. Вытаскивая испачканные чернилами листы, Мельмот почувствовал, что руки его холодны как у мертвеца. Он сел и принялся читать; в доме была мертвая тишина. Мельмот в мрачной сосредоточенности посмотрел на свечи, снял нагар, однако и после этого ему казалось, что горят они тускло (может быть, ему мерещилось, что они горят голубоватым пламенем, но в этом он не хотел себе признаться). Во всяком случае, он несколько раз менял положение и, наверное, переменил бы и место, но в кабинете было одно-единственное кресло.
Он погрузился на несколько минут в какое-то забытье и очнулся, только когда часы пробили двенадцать. Это были единственные звуки, которые он слышал за последние несколько часов, а в звуках, издаваемых неодушевленными предметами в то время, как все живое словно вымерло, есть что-то неописуемо страшное. Джон словно с неохотой посмотрел на рукопись, раскрыл ее, остановился на первых строчках, и, в то время как за стенами опустевшего дома завывал ветер, а дождь уныло стучал в дребезжащие стекла, ему захотелось – чего же ему захотелось? Только одного – чтобы звук ветра не был таким печальным, а звук дождя таким мучительно однообразным. Его можно за это простить; когда он начал читать, было уже за полночь и на десять миль вокруг все живое давно забылось сном.
Глава III
Apparebat eidolon senex[6].
Плиний1
Рукопись оказалась выцветшей, стершейся, попорченной и как будто была создана, чтобы испытывать терпение того, кто попытается ее прочесть. Даже самому Михаэлису2, корпевшему над мнимым автографом святого Марка в Венеции, не приходилось сталкиваться с подобными трудностями. Мельмоту удавалось разобрать только отдельные фразы – то тут, то там. Автором этих записок был, судя по всему, англичанин, некий Стентон, который вскоре после Реставрации отправился путешествовать за границу. Путешествовать в те времена было далеко не так удобно, как в наши дни, когда улучшились средства сообщения, и ученые и писатели, люди образованные, праздные и любопытные, годами колесили по Европе подобно Тому Кориету3, хоть оказывались все же достаточно скромны, чтобы назвать результаты своих многочисленных наблюдений и трудов всего-навсего «сырыми плодами».
Году в 1676-м Стентон был в Испании. Подобно большинству путешественников своего времени, это был человек начитанный, просвещенный и любознательный. Но он не владел языком страны, по которой ездил, и ему нередко приходилось пробираться из монастыря в монастырь в поисках того, что именовалось «приютом». Это означало, что он получал питание и ночлег, а в уплату за это должен был оспаривать первенство у того из монахов, кто пожелал бы состязаться с ним в учености по части теологии или метафизики. А поелику теология была католической, а метафизика – аристотелевской, то Стентон порою даже тосковал по жалкой харчевне, где ему доводилось ночевать и откуда его выпроваживали грязь и холод. Надо сказать, что, хотя его досточтимые противники неизменно обличали его веру и, даже когда он побеждал в споре, утешали себя мыслью, что он все равно обречен на муки ада – и не только как еретик, но и как англичанин, они тем не менее вынуждены бывали признать, что латынь его безукоризненна, а доводы неопровержимы; поэтому чаще всего дело кончалось тем, что они предоставляли ему и ужин, и ночлег. Не так, однако, сложилась его судьба в ночь на 17 августа 1677 года, когда он оказался в валенсийских равнинах и когда трусливый проводник его, напуганный видом распятия, поставленного на месте, где было совершено убийство, украдкой соскочил со своего мула и, крестясь на ходу, постарался удрать от еретика, оставив Стентона среди ужасов приближавшейся бури и опасностей, неминуемо подстерегавших его в незнакомой стране. Величественная и вместе с тем мягкая красота природы наполняла душу Стентона радостью, но он вкушал ее как истый англичанин, ничем не выказывая своих чувств.
Великолепные руины двух вымерших династий4, развалины римских дворцов и мавританских крепостей обступали его со всех сторон и возвышались над его головой. Медленно надвигавшиеся тяжелые темные тучи стлались по небу, словно саваны этих призраков былого величия, наползали на них, но развалины все еще никак не давали им себя одолеть и укрыть, и казалось, что природа на этот раз преисполнилась благоговейным страхом перед могуществом человека; а далеко внизу, лаская взгляд, валенсийская долина рдела и пламенела в закатных лучах солнца, как новобрачная, на устах которой избранник ее перед наступлением ночи запечатлевает жгучий свой поцелуй. Стентон огляделся кругом. Его поразило различие между римской и мавританской архитектурой. Первая обращала на себя внимание развалинами театра и, по-видимому, места общественных собраний. Что же касается второй, то тут были лишь остатки крепостей с зубчатыми стенами, башнями, укрепленными сверху донизу; нигде не открывалось ни единой отдушины, через которую могла бы проникнуть радость жизни: все отверстия были предназначены только для стрел; все говорило о военной силе и деспотическом подчинении à l’outrance[7]. Различие это могло бы заинтересовать философа; погрузившись в размышления, он, возможно, пришел бы к мысли, что, хотя древние греки и римляне и были дикарями (а по мнению д-ра Джонсона5, все народы, не знающие книгопечатания, – дикари, и он, разумеется, прав), это все же были удивительные для своего времени дикари, ибо они одни оставили следы своего пристрастия к наслаждениям в завоеванных ими странах в виде великолепных театров, храмов (которые тоже в какой-то мере посвящались наслаждениям) и бань, тогда как другие победоносные орды дикарей оставляли после себя всякий раз лишь следы своей неистовой жажды власти. Так думал Стентон, глядя на все еще отчетливо обозначавшийся на фоне неба, хотя и слегка затененный темными тучами, огромный остов римского амфитеатра, его гигантские арки и колоннады, то пропускавшие луч заходящего солнца, то сливавшиеся воедино с окрашенной в пурпур грозовой тучей, а вслед за тем – на тяжеловесную мавританскую крепость с глухими стенами, непроницаемыми для света, – олицетворение силы темной, самовластной, неприступной. Стентон позабыл уже о трусливом проводнике, о своем одиночестве, о том, сколь опасна встреча с надвигающейся бурей в отнюдь не гостеприимных краях, где стоило ему только назвать себя и сказать, откуда он родом, чтобы все двери захлопнулись перед ним, и где каждый удар грома мог легко быть приписан дерзкому вторжению еретика в страну древних христиан, как испанские католики нелепо называют себя, для того чтобы их не смешивали с принявшими крещение маврами.
Все это он позабыл, созерцая открывавшуюся перед ним величественную и страшную картину, где свет боролся с тьмой, а тьма грозила ему другим, более страшным светом и возвещала эту угрозу свинцово-синей густою тучей, которая неслась подобно ангелу-истребителю, чьи стрелы готовы разить неведомо кого. Однако все эти мелкие опасности местного характера, как было бы сказано в героическом романе, сразу вспомнились ему, едва только он увидел, как первая же вспышка молнии, размашистая и алая, точно знамена полчищ захватчиков, девиз которых Vae victis[8], 6, осыпает развалины римской стены; расколотые камни покатились вниз по склону и упали к ногам Стентона. Он стоял, охваченный страхом и ожидая, чтобы ему бросила вызов сила, в глазах которой пирамиды, дворцы и черви, создавшие их своим трудом, равно как и другие черви, те, что корпят под их тенью или под их гнетом, одинаково жалки и ничтожны; он преисполнился решимости и на какое-то мгновение ощутил в себе то презрение к опасности, которое опасность сама пробуждает в нас, когда столкновение с ней повергает в восторг, когда нам хочется, чтобы она обернулась врагом из плоти и крови, и мы просим ее «быть беспощаднее», понимая, что все самое худшее, что мы сейчас испытаем, со временем обернется нам во благо. И тут он увидел еще одну вспышку, озарившую ярким, мгновенным и недобрым светом развалины былого могущества и роскошь расцветшей вокруг природы. Какой удивительный контраст! Остатки созданного человеком погибают навеки, а круговорот природы несет в себе вечное обновление. (Увы! Ради чего же совершается это обновление, как не ради того, чтобы посмеяться над бренными творениями рук человеческих, которыми смертные понапрасну стараются ее превзойти.) Пирамиды и те рано или поздно должны будут погибнуть, тогда как пробивающаяся меж их разъединенных камней трава будет возрождаться из года в год.
Стентон погрузился в раздумья, но мысли его самым неожиданным образом оборвались: он увидел двоих мужчин, которые несли тело молодой и, должно быть, очень хорошенькой девушки, убитой молнией. Стентон подошел к ним и услыхал, как оба они повторяли: «Здесь некому по ней горевать!»
«Некому по ней горевать», – повторяли шедшие за ними следом двое других – те несли обезображенное и почерневшее тело мужчины, который недавно еще был и привлекателен, и красив.
– Некому по ней теперь горевать!
Это были двое влюбленных; когда ее убило ударом молнии, он кинулся оказать ей помощь, и в ту же минуту новый удар поразил и его.
Когда тела уже должны были унести, подошел некий человек – очень спокойной и размеренной походкой, как будто только он один не сознавал опасности положения и страх был над ним не властен; какое-то время он взирал на мертвецов, а потом вдруг разразился смехом, столь громким, неистовым и раскатистым, что крестьяне, которых смех этот ужасал не меньше, чем завывания бури, поспешили поскорее убраться, унося с собою тела убитых. Даже Стентон был до такой степени поражен этим смехом, что удивление в нем взяло верх над испугом, и, обернувшись к незнакомцу, который стоял все на том же месте, он спросил его, кто дал ему право глумиться так над человеческими чувствами. Незнакомец не спеша повернулся к нему и, открыв лицо, на котором… (тут в рукописи шло несколько строк, разобрать которые не было возможности)… сказал по-английски… (в этом месте был большой пропуск, и следовавшие затем записи, которые можно было разобрать, хотя они и были продолжением начатого рассказа, не имели ни начала ни конца).
* * *
Ужасы этой ночи заставили Стентона упорно и неотступно стучаться в дом; и ни пронзительный голос старухи, повторявшей: «Еретика, англичанина, ни за что! Матерь Божья, защити нас! Отыди, Сатана!» – ни тот особый стук оконных створок, столь характерный для валенсийских домов, который раздавался, когда она открывала их, чтобы излить на пришельца весь поток ругательств, и снова закрывала при каждой вспышке молнии, врывавшейся в комнату, не в силах были удержать его от настойчивых просьб впустить его в дом: ночь выдалась такая, что все мелкие житейские страсти должны были притихнуть и уступить место одному только трепету перед силой, которая посылала эти ужасы людям, и состраданию к тем, кому приходилось их испытывать.
Однако Стентон чувствовал в возгласах старухи нечто большее, нежели свойственный этой нации фанатизм: то было особое избирательное отвращение к англичанам, и чувство это его не обмануло; но от этого не ослабевало упорство, с которым он…
* * *
Дом был обширный и красивый, но печать грусти и запустения…
* * *
У стены стояли скамейки, но на них никто не сидел; в помещении, которое некогда служило залом, стояли столы, но казалось, что много лет уже никто не собирался за ними; отчетливо били часы, но ничей веселый смех, ничей оживленный разговор не заглушал их звука; время давало свой страшный урок одной только тишине; в каминах чернели давным-давно прогоревшие угли; у фамильных портретов был такой вид, будто это они – единственные хозяева дома; казалось, что из потемневших рам слышатся голоса: «Некому смотреть на нас», и эхо от шагов Стентона и его дряхлой спутницы было единственным звуком, доносившимся между раскатами грома, столь же зловещими, но уже далекими, – теперь они все больше походили на глухие шумы изношенного сердца. Проходя одной из комнат, они вдруг услышали крик. Стентон остановился, и ему сразу представились страшные картины опасностей, которым путешествующие по континенту подвергаются в пустынных и отдаленных замках.
– Не обращайте на это внимания, – сказала старуха, тусклою лампою освещавшая ему путь. – Просто он…
* * *
Убедившись воочию, что у ее английского гостя, даже если это был сам дьявол, нет ни рогов, ни копыт, ни хвоста, что крестное знамение не приводит его в содрогание и что, в то время как он говорит, изо рта его не извергается горящая сера, старуха немного осмелела и наконец приступила к своему рассказу, который, как ни был Стентон устал и измучен, он…
* * *
– Все препятствия были теперь устранены; родители и вся родня перестали противиться, и влюбленные соединились. Они составляли прелестную пару; казалось, что это ангелы во плоти, всего лишь на несколько лет упредившие свой вечный союз на небесах. Свадьбу справили очень торжественно, и несколько дней спустя было устроено большое празднество в том самом обшитом панелями зале, который, как вы помните, показался вам очень мрачным. В тот вечер стены его были увешаны роскошными шпалерами, изображающими подвиги Сида7, а именно сожжение нескольких мавров, которые не захотели отречься от своей проклятой веры. На шпалерах этих было великолепно изображено, как их пытали, как они корчились и вопили, как из уст их вырывались крики: «Магомет! Магомет!», когда их жгли на костре, – вы как будто слышали все это сами. На возвышении под роскошным балдахином, на котором красовалось изображение Пресвятой Девы, восседала донья Изабелла де Кардоса, мать невесты, а возле нее на богато вышитых подушках – сама невеста, донья Инес; напротив нее сидел жених, и, хотя они ничего не говорили друг другу, две пары медленно поднимавшихся и стремительно опускавшихся глаз (глаз, которым свойственно смущаться) делились одна с другой своим упоительным и тайным счастьем.
Дон Педро де Кардоса пригласил на свадьбу дочери много гостей; в числе их оказался англичанин по имени Мельмот, путешествовавший по стране; никто не знал, кем он был приглашен. Он сидел, как, впрочем, и все остальные, в молчании, когда гостям подносили холодные напитки и обсахаренные вафли. Ночь была очень душной; полная луна горела, точно солнце над развалинами Сагунта8; вышитые занавеси на окнах тяжело колыхались, и казалось, что ветер все время пытается поднять их, а они противятся его силе…
(В рукописи был снова пробел, но на этот раз очень незначительный.)
* * *
Гости разбрелись по бесчисленным аллеям сада; по одной из этих аллей прогуливались жених и невеста; восхитительный аромат апельсиновых деревьев смешивался с запахом цветущих мирт. Вернувшись в зал, оба стали спрашивать собравшихся, слышали ли они удивительную музыку, звучавшую в саду перед тем, как им уйти оттуда. Но оказалось, что никто ничего не слышал. Их это удивило, и они сказали об этом гостям. Англичанин все это время не выходил из зала; говорят, что, услыхав эти слова, он улыбнулся необычной и странной улыбкой. Его молчание было замечено еще и раньше, но все приписали его незнанию испанского языка, обстоятельству, к которому сами испанцы, как правило, остаются равнодушны: они не подчеркивают его, когда им случается говорить с иностранцем, но вместе с тем и ничем не облегчают своему собеседнику его трудного положения. К разговору об удивительной музыке больше не возвращались до тех пор, пока все не уселись за ужин; в эту минуту донья Инес и ее юный супруг, обменявшись улыбкой, в которой сквозили удивление и восторг, воскликнули оба, что слышат те же самые восхитительные звуки. Гости прислушались, но ни один из них ничего не услышал, и каждый ощутил странность происходящего. «Тсс!» – произнесли все одновременно. В зале воцарилась мертвая тишина; в каждом взгляде чувствовалось такое напряжение, что можно было подумать, что все хотят вслушаться в наступившую тишину глазами. Это глубокое безмолвие никак не вязалось с великолепием празднества, и свет факелов, которые держали слуги, выглядел зловеще: временами можно было подумать, что в зале пируют мертвецы. Тишина эта была нарушена, хотя всеобщее удивление отнюдь не улеглось, когда появился отец Олавида, духовник доньи Изабеллы, которого еще до начала торжества вызвали в один из соседних домов напутствовать умирающего. Это был священник, известный своей праведной жизнью, которого любили в семье и уважали по всей округе, где он выказал особое рвение и искусство в изгнании злых духов. Действительно, ему это необыкновенно удавалось, и он этим гордился по праву. Дьяволу никогда не доводилось еще попадать в худшие руки. Если он оказывался настолько упрям, что не смирялся перед латынью и даже первыми стихами Евангелия от святого Иоанна по-гречески, к которым, надо сказать, отец Олавида прибегал только в тех особо трудных случаях, когда противник его проявлял крайнее упорство (здесь Стентон вспомнил историю английского мальчика из Билдсона9 и даже теперь, в Испании, покраснел за своих соотечественников), – то священник этот непременно обращался за помощью к Инквизиции. И как ни были перед этим упорны дьяволы, все-таки они в конце концов вылетали из бесноватых, и как раз тогда, когда под их отчаянные выкрики (разумеется, кощунственные) людей этих привязывали к столбу, чтобы сжечь живыми. Были среди бесов и такие, которые не покидали своих жертв и тогда, когда их лизали уже языки пламени; но даже самые упорные должны были перебираться в другое место, ибо бесы не могут жить в куче золы, рассыпчатой и липкой. Таким образом, молва об отце Олавиде распространилась очень далеко, и семейство Кардоса было весьма заинтересовано в том, чтобы заполучить его в духовники, чего им и посчастливилось добиться.
После только что исполненного долга лицо доброго пастыря помрачнело, но мрачность эта рассеялась, как только он очутился среди гостей и был им представлен. Ему тут же нашли место за столом, и случайно он оказался как раз напротив англичанина. Когда ему поднесли вина, отец Олавида (который, как я уже говорил, был человеком исключительного благочестия) приготовился произнести про себя коротенькую молитву. Вдруг он замешкал, весь задрожал, а потом совершенно обессилел; поставив бокал на стол, он утер рукавом проступивший на лбу пот. Донья Изабелла сделала знак слуге, и ему тут же подали другое вино, высшей марки. Губы священника зашевелились, словно для того, чтобы благословить и поданное вино, и всех сидящих за столом, но ему это снова не удалось. Он так изменился в лице, что присутствующие это заметили. Он почувствовал, что обратил на себя внимание всех своим необычным видом, и еще раз попытался сгладить это тягостное впечатление и поднести бокал к губам. Все общество взирало на него с такой тревогой, что в этом наполненном людьми зале слышны были только шорохи его рясы, в то время как он сделал еще одну напрасную попытку выпить вино. Пораженные гости сидели молча. Стоял один только отец Олавида. В эту минуту сидевший напротив англичанин поднялся с места и, казалось, задался целью воздействовать на священника своим колдовским взглядом. Олавида зашатался, у него закружилась голова; он ухватился за плечо стоявшего сзади пажа и наконец, на мгновение зажмурив глаза, как бы для того чтобы уйти от страшных чар этого непереносимого света (все присутствующие заметили, что глаза англичанина с минуты его появления в зале излучали ужасный, неестественный блеск), воскликнул:
– Кто это среди нас? Кто? Я не в силах произнести слов благословения, пока он здесь. Я не чувствую благодати. Там, где он ступает, земля сожжена! Там, где он дышит, в воздухе вспыхивает огонь! Там, где он ест, яства становятся ядом! Там, куда устремляется его взгляд, сверкает молния! Кто это среди нас? Кто? – повторял священник, уже слабеющим голосом произнося последние слова заклинания; капюшон его откинулся назад, редкие волосы вокруг тонзуры пришли в движение от охватившего его ужаса, вытянутые руки, высунувшиеся из рукавов рясы, были простерты к незнакомцу и делали его похожим на охваченного страшным наитием прорицателя. Он все еще стоял, а англичанин спокойно стоял напротив него. Окружающие были охвачены волнением, и их смятенные позы резко контрастировали с суровой неподвижностью этих двух людей, в молчании воззрившихся друг на друга.
– Кто знает этого человека? – воскликнул Олавида, словно пробуждаясь от забытья. – Кто его знает? Кто его сюда привел?
Раздались голоса, заверяющие, что тот или другой знать не знают англичанина, и каждый шепотом спрашивал соседа: «Кто же все-таки привел его в дом?» Тогда отец Олавида, поочередно указывая на каждого из гостей, стал расспрашивать каждого в отдельности: «Вы знаете его?»
– Нет! Нет! Нет! – послышались решительные ответы.
– Ну а я его знаю, – сказал Олавида, – я узнаю его по этим холодным каплям, – и он вытер лоб, – по этим скрюченным суставам. – И он снова сделал попытку перекреститься, но не мог. Он возвысил голос и с большим трудом проговорил: – Но этому хлебу и вину, которые для исполненного веры суть плоть и кровь Христовы, но которые его присутствие превращает в нечто столь же нечистое, как пена на губах порешившего с собою Иуды; по всем этим признакам я узнаю его и заклинаю его сгинуть! Это… это… – При этих словах он наклонился вперед и посмотрел на англичанина взглядом, который был ужасен, оттого что в нем смешались ярость, ненависть и страх.
Все поднялись с мест, собравшиеся как бы разделились сейчас на две части: с одной стороны это были пришедшие в смятение гости и хозяева дома, которые все сбились вместе и спрашивали друг друга: «Кто же он, кто?», а с другой – стоявший недвижно англичанин и Олавида, который упал и, мертвый уже, все еще продолжал указывать на врага…
* * *
Тело священника вынесли в другую комнату, исчезновения англичанина никто даже не заметил до тех пор, пока все опять не вернулись в зал. Там все засиделись далеко за полночь, обсуждая необыкновенное происшествие, и в конце концов решили остаться до утра в доме, дабы злой дух (а они были убеждены, что англичанин не кто иной, как сам дьявол) не надругался над телом покойного, что было бы нестерпимо для ревностного католика, тем более что умер он без последнего напутствия. Едва только это похвальное решение было принято, как всех подняли на ноги крики ужаса и предсмертные хрипы, донесшиеся из спальни новобрачных.
Все кинулись к двери, и первым отец. Они распахнули ее, и глазам их предстала новобрачная, лежавшая бездыханной в объятьях своего юного супруга…
* * *
Рассудок к нему больше уже не вернулся; семья покинула замок, в котором ее постигло столько горя. В одной из комнат до сих пор живет несчастный безумец; это он кричал, когда вы проходили по опустевшим покоям. Бо́льшую часть дня он пребывает в молчании, но в полночь всякий раз начинает кричать пронзительным, душераздирающим голосом: «Идут, идут!» – после чего снова погружается в глубокое молчание.
Во время погребения отца Олавиды произошло нечто странное. Хоронили его в соседнем монастыре; доброе имя этого праведника и необычные обстоятельства, при которых он умер, привлекли на похороны много народа. Произнести надгробную проповедь поручили монаху, который славился своим красноречием. А для того чтобы придать больше убедительности его словам, покойника положили в боковом приделе на возвышении с непокрытым лицом. В основу проповеди своей монах положил слова одного из пророков: «Смерть вошла во дворцы наши». Он пространно говорил о смерти, чей приход, будь он стремителен или медлен, в равной мере ужасен для человека. Он вспоминал о превратностях судьбы – о крушении империй, и в словах его были и ученость, и сила, однако незаметно было, чтобы все это произвело особенное впечатление на слушателей. Он цитировал различные места из житий святых, где описываются исполненное славы мученичество и героизм тех, кто проливал кровь и горел в огне за Христа и Пресвятую Матерь Божью, но собравшиеся, казалось, ждали, что он скажет еще нечто другое, что растрогает их больше. Когда он грозно обрушился на тиранов, оставивших по себе память кровавыми преследованиями этих святых, слушатели его на какое-то мгновение словно очнулись от забытья, ибо всегда бывает легче пробудить в человеке страсть, нежели нравственное чувство. Но когда он заговорил о покойном и выразительно простер руку, указуя на лежавшее перед ним холодное и недвижное тело, все взгляды обратились на него и все насторожились. Даже влюбленные, которые, делая вид, что окунают пальцы в святую воду, умудрялись передавать друг другу записки, прервали на какое-то время свое увлекательное занятие и прислушались к словам проповедника. Он с большим жаром говорил о добродетелях покойного, утверждая, что тот находился под особым покровительством Пресвятой Девы, и перечислил все, что с его кончиной теряло братство, к которому он принадлежал, все общество в целом и христианская вера. Он даже разразился по этому поводу инвективою, обращенной к Богу.
– Господи, как Ты мог, – воскликнул он, – так поступить с нами? Зачем Ты отнял у нас этого великого праведника, ведь добродетелей его, если должным образом употребить их, несомненно хватило бы, чтобы искупить отступничество святого Петра, противодействие апостола Павла (до его обращения) и даже предательство самого Иуды! Господи, почему Ты отнял его у нас?
И вдруг из толпы глухой и низкий голос ответил:
– Потому что он этого заслужил.
Шепот одобрения, донесшийся со всех сторон, почти заглушил эти неожиданно прозвучавшие слова, и хотя среди тех, кто стоял ближе всех к человеку, который их произнес, и произошло некоторое замешательство, все остальные продолжали внимательно слушать.
– За что, – продолжал проповедник, указывая на мертвеца, – за что наказали тебя этой смертью, раб Божий?
– За гордость, невежество и страх, – ответил тот же голос, сделавшийся еще более страшным.
Смятение охватило теперь всех. Проповедник умолк, и в расступившейся толпе предстала фигура монаха того же монастыря…
* * *
После того как были испробованы все обычные способы – увещевания, внушения и взыскания – и местный епископ, которому доложили об этом чрезвычайном происшествии, прибыв в монастырь, потребовал, чтобы строптивый монах объяснил ему свое поведение, но так ничего и не добился, было решено предать виновного суду Инквизиции. Когда несчастному сообщили об этом, ужас его был безграничен, и он готов был снова и снова повторять все то, что может рассказать о смерти отца Олавиды. Но все его самоуничижение и повторные просьбы исповедовать его пришли слишком поздно. Его передали в руки Инквизиции. Существо процессов, которые ведет этот суд, редко становится известным, но имеются некие тайные сведения (за достоверность которых я не могу ручаться) касательно того, что он говорил на суде и какие пытки ему пришлось вынести. На первом допросе он обещал рассказать все, что может. Ему ответили, что этого недостаточно и что он обязан рассказать все, что знает…
* * *
– Почему ты пришел в такой ужас, когда хоронили отца Олавиду?
– Не было человека, который не испытал бы ужаса и тоски при виде смерти этого чтимого всеми священника, который оставил после себя добрую славу. Поступи я иначе, это могло бы служить доказательством моей вины.
– Почему ты прервал надгробное слово такими странными возгласами?
На вопрос этот не последовало ответа.
– Почему ты продолжаешь упорствовать и навлекаешь на себя опасность своим молчанием? Взгляни, заклинаю тебя, брат мой, на распятие, что висит на стене, – с этими словами инквизитор указал на большой черный крест, висевший позади кресла, на котором он сидел, – одна капля пролитой Им крови может смыть все грехи, какие ты когда-либо совершал; но вся эта кровь вместе с заступничеством Царицы Небесной и подвижничеством всех мучеников, больше того, даже отпущение, данное самим папой, не сможет избавить тебя от проклятия, которое тяготеет над нераскаявшимися грешниками.
– Но какой же я совершил грех?
– Самый тяжкий из всех возможных грехов: ты отказался отвечать на вопросы, заданные судом Пресвятой и всемилостивой Инквизиции, ты не захотел рассказать нам, что́ тебе известно о смерти отца Олавиды.
– Я уже сказал вам, что, как я полагаю, гибель его есть следствие его невежества и самомнения.
– Чем ты можешь доказать это?
– Он пытался постичь то, что скрыто от человека.
– Что же это такое?
– Он считал себя способным обнаружить присутствие нечистой силы.
– А сам ты владеешь этой тайной?
Подсудимый весь затрясся в волнении, а потом совсем слабым голосом, но очень внятно сказал:
– Господин мой запрещает мне говорить об этом.
– Если бы господином твоим был Иисус Христос, он бы не мог запретить тебе слушаться приказаний Инквизиции или отвечать на ее вопросы.
– Я в этом не уверен.
В ответ на произнесенные монахом слова все разразились криками ужаса. После этого следствие продолжалось.
– Если ты считал, что Олавида виновен в том, что занимается тайными науками, осужденными матерью нашей церковью, то почему же ты не донес о нем Инквизиции?
– Потому что я не считал, что занятия эти могут принести ему какой-нибудь вред; он оказался слишком слаб духом, он изнемог в этой борьбе, – очень решительно сказал узник.
– Ты, значит, считаешь, что у человека должна быть сила духа, для того чтобы хранить эти постыдные тайны, когда он занят исследованием их природы и целей?
– Нет, он прежде всего должен быть крепок телом.
– Сейчас мы это испытаем, – сказал инквизитор, давая знак приступить к пытке…
* * *
Узник выдержал первое и второе истязания мужественно и стойко, но когда была применена пытка водой10, которую человек не в силах перенести и которая слишком ужасна, чтобы ее можно было даже описать, как только наступила передышка, он тут же закричал, что во всем признается. Тогда его отпустили, дали ему прийти в себя и немного окрепнуть, и день спустя он сделал следующее примечательное признание…
* * *
Старуха-испанка открыла потом Стентону, что…
* * *
…и что англичанина несомненно видели потом в округе, и видели даже, как ей сказали, в ту же самую ночь.
– Боже праведный! – вскричал Стентон, вспомнив незнакомца, чей демонический смех так напугал его в ту минуту, когда он взирал на бездыханные тела двух влюбленных, убитых и испепеленных молнией.
После нескольких вымаранных и неразборчивых страниц рукопись сделалась более отчетливой, и Мельмот продолжал читать ее, сбитый с толку и неудовлетворенный, не понимая, какая же связь между этими происшедшими в Испании событиями и его предком: он все же узнал его в англичанине, о котором шла речь; Джона удивляло, как это Стентон мог найти нужным последовать за ним в Ирландию, исписать столько листов, рассказывая о том, что случилось в Испании, и оставить рукопись в руках семьи самого Мельмота, для того чтобы, по выражению Догберри, можно было «проверить недостоверное»11. Когда он вчитался в последующие строки, разобрать которые было нелегко, удивление его улеглось, но зато любопытство еще более возросло. Теперь Стентон находился уже, судя по всему, в Англии…
* * *
Около 1677 года Стентон был в Лондоне; мысли его все еще были заняты таинственным соотечественником. Человек этот, на котором теперь сосредоточились все его интересы, оказал даже заметное влияние на его внешность; в походке Стентона появилось сходство с описанной Саллюстием походкою Катилины12; у него были такие же foedi oculi[9], как у того. Каждую минуту он говорил себе: «Только бы напасть на след этого существа, человеком его назвать нельзя!» А минуту спустя он уже спрашивал себя: «А что бы я тогда сделал?» Довольно странно, что в таком состоянии он все же продолжал бывать в театрах и на балах, но так оно действительно было. Когда душа охвачена одной всепоглощающей страстью, мы особенно остро ощущаем нужду во внешнем возбуждении. И наша потребность в светских развлечениях возрастает тогда прямо пропорционально нашему презрению к свету и тому, чем он занят. Он часто посещал театры, которые были модны тогда, когда
- Скучая, ждали зрители развязки
- И за вечер остепенялись маски13.
Лондонские театры того времени являли собою картину, при виде которой должны были бы навсегда умолкнуть безрассудные крики по поводу возрастающей порчи нравов – безрассудные даже тогда, когда они выходили из-под пера Ювенала14, а тем более, когда они вылетали из уст современного пуританина. Порок во все времена находится на некоем среднем уровне: единственное различие, которое стоит проследить, – это различие в манере, обычаях и нравах, и в этом отношении у нас есть явные преимущества перед нашими предками. Говорят, что лицемерие – это та дань уважения, которую порок платит добродетели, соблюдение же правил приличия есть та форма, в которую это уважение облекается; а если это так, то приходится признать, что порок за последнее время на редкость присмирел. Что же касается царствования Карла II, то в его пороках было какое-то великолепие и хвастливый размах. Об этом говорил уже самый вид театров тогда, когда Стентон усердно их посещал. У дверей их с одной стороны выстраивались лакеи какого-нибудь знатного дворянина (с оружием, которое они прятали под ливреями) и окружали портшез известной актрисы[10], которую они должны были увозить vi et armis[11], как только она садилась в него по окончании спектакля. По другую сторону ожидала карета со стеклами16, приехавшая, чтобы после окончания пьесы увезти Кинестона17 (Адониса тех времен), переодетого в женское платье, куда-нибудь в парк и выставить его там на потеху во всем великолепии женственной красоты, которая его отличала и которую еще больше подчеркивал его театральный костюм.
Спектакли начинались тогда в четыре часа и оставляли людям много времени для вечерних прогулок и полуночных встреч в масках при свете факелов – встреч, которые происходили обычно в Сент-Джеймсском парке, отчего становится понятным название пьесы Уичерли «Любовь в лесу»18. В ложах, которые оглядывал Стентон, было много женщин; их обнаженные плечи и груди, которые верно запечатлели картины Лили19 и мемуары Граммона20, могли бы удержать наших современных пуритан от многих назидательных стенаний и хвалебных гимнов былым временам. Все они, прежде чем посмотреть ту или иную пьесу, посылали на первое представление сначала кого-нибудь из родственников-мужчин, дабы тот мог сообщить им, пристало ли смотреть ее женщинам «порядочным и всеми уважаемым»; однако, несмотря на эту предосторожность, при некоторых репликах – а надо сказать, что из них чаще всего состояла добрая половина пьесы, – им ничего не оставалось, как раскрывать веера или играть тогда еще бывшими в моде длинными локонами, развенчать которые оказалось не под силу даже самому Принну21.
Сидевших в ложах мужчин можно было разделить на две категории. К первой относились «веселящиеся городские остряки», которых отличали галстуки из фламандских кружев, перепачканные нюхательным табаком, перстни с алмазами, выдававшиеся за подарки королевских любовниц (будь то герцогиня Портсмутская22 или Нелл Гуинн23), нечесаные парики с кудрями, ниспадавшими на грудь, развязность, с которой они во всеуслышание поносили Драйдена24, Ли и Отвея25 и цитировали Седли и Рочестера26.
Другую категорию составляли изящные любовники, «дамские кавалеры», их можно было отличить по белым, украшенным бахромой перчаткам, по церемонным поклонам и по тому, что каждое свое обращение к даме они начинали неуместным восклицанием: «Господи Исусе!»[12], или более мягким, но столь же бессмысленным: «Умоляю вас, сударыня», или: «Сударыня, я весь в огне»[13]. Своеобразие нравов того времени сказывалось в одном очень необычном для нас обстоятельстве: женщины не заняли еще тогда надлежащего положения в жизни; их то чтили, как богинь, то честили, как потаскух; мужчина мог говорить со своей возлюбленной языком Орондата, боготворящего Кассандру29, а минуту спустя осыпать ее потоком самых отборных ругательств, которые вогнали бы в краску даже видавшую виды площадь Ковент-Гарден[14], 30.
Партер представлял собою зрелище более разнообразное. Там можно было увидеть критиков, вооруженных с ног до головы всей премудростью от Аристотеля до Боссю32; люди эти обедали в двенадцать часов, диктовали в кофейне до четырех, потом мальчишка чистил им башмаки, и они отправлялись в театр, где до поднятия занавеса сидели в мрачном бездействии и в ожидании вечерней добычи. Были там и адвокаты, щеголеватые, развязные и болтливые; кое-где можно было увидеть и какого-нибудь степенного горожанина; он сидел, сняв свою остроконечную шляпу и пряча скромно завязанный галстук в складках пуританского плаща, а в это время глаза его, глядевшие искоса, но с явным волнением на какую-нибудь женщину в маске, укрытую капюшоном и кутавшуюся в шарф, не оставляли сомнения насчет того, что завлекло его в «шатры Кидарские»33. Сидели там и женщины, но на лицах у всех были маски, и хотя маски эти успели уже обветшать, как у тетушки Дины в «Тристраме Шенди»34, они все же скрывали красавиц от молодых вертопрахов, которых те хотели завлечь, да и от всех остальных, за исключением продавщиц апельсинов, которые громко их окликали у входа[15]. На галереях теснились счастливцы, ожидавшие исполнения обещания, которое давал Драйден в одном из своих прологов[16]; им было все равно, являлся ли на сцену призрак матери Альмансора36 в промокшем насквозь плаще или дух Лайя37, который в соответствии с указаниями, написанными для сцены, выезжает вооруженный на колеснице, а за спиной у него призраки трех убитых слуг, – шутка, которую не оставил без внимания аббат Леблан[17], 38 в своем руководстве к писанию английской трагедии. Иные из зрителей требовали, правда, время от времени «сожжения папы»39, но, хотя пьеса,
- Всех океанов одолев преграду,
- Начавшись в Мексике, вела в Элладу, —
не всегда оказывалось возможным доставить им столь милое развлечение, ибо действие широко известных пьес чаще всего происходило в Африке или в Испании; сэр Роберт Хауард, Элкене Сеттл и Джон Драйден – все единодушно остановили свой выбор на испанских и мавританских сюжетах40. В этой веселой компании было несколько светских дам в масках; они втайне наслаждались свободой, которой не решались пользоваться открыто, и подтверждали характерные слова Гея, хоть и написанные много лет назад, что
- На галерее Лора смело может
- Смеяться шутке, что смущает ложи41.
Стентон взирал на все это как человек, «в котором ничто не может вызвать улыбки». Он посмотрел на сцену: давали «Александра»42, пьесу, в которой участвовал сам автор ее, Ли, а главную роль исполнял Харт43, с такой божественной страстностью игравший любовные сцены, что зрители готовы были поверить, что перед ними настоящий «сын Аммона»44.
В пьесе этой было достаточно всяческих нелепостей, которые могли вызвать возмущение – и не только зрителя с классическим образованием, но и вообще всякого здравомыслящего человека. Греческие герои появлялись там в башмаках, украшенных розами, в шляпах с перьями и в париках, доходивших до плеч; персидские принцессы – в тугих корсетах и с напудренными волосами. Однако иллюзию было чем подкрепить, ибо героини оказались соперницами не только на сцене, но и в жизни. Это был тот памятный вечер, когда, если верить рассказу ветерана Беттертона[18], 45, миссис Барри, исполнявшая роль Роксаны, поссорилась с миссис Баутелл, исполнительницей роли Статиры, из-за вуали, которую костюмер, человек пристрастный, присудил последней. Роксана подавляла свой гнев вплоть до пятого акта, когда же по ходу действия ей надлежало заколоть Статиру, отплатила сопернице ударом такой силы, что острие кинжала пробило той корсет и нанесло ей рану, хоть и не опасную, но глубокую. Миссис Баутелл лишилась чувств, представление было прервано, большинство зрителей, в том числе и Стентон, взволнованные всем происшедшим, повставали с мест. И вот как раз в эту минуту в кресле напротив он неожиданно обнаружил того, кого искал столько лет, – англичанина, некогда встреченного им на равнинах Валенсии, который, по его убеждению, был главным действующим лицом рассказанных ему необыкновенных историй.
Как и все остальные, он поднялся с места. В наружности его не было ничего примечательного, но выражение его глаз не оставляло никаких сомнений, что это именно он, – забыть его было нельзя. Сердце Стентона сильно забилось, в глазах у него потемнело, – безымянный и страшный недуг, сопровождающийся зудом во всем теле, на котором проступили капли холодного пота, возвестил, что…
* * *
Прежде чем он успел окончательно прийти в себя, послышались звуки музыки, тихой, торжественной и пленительно-нежной; они доносились откуда-то из-под земли и, распространяясь вокруг, постепенно нарастали, становились сладостней и, казалось, заполонили собою все здание. В порыве восторга и удивления он спросил кого-то из присутствующих, откуда доносятся эти звуки. Однако отвечали ему все так, что было совершенно очевидно, что его считают рехнувшимся, да и в самом деле, происшедшая в его лице перемена могла только подтвердить это подозрение. Ему припомнился тогда рассказ о том, как в роковую ночь в Испании такие же сладостные и таинственные звуки послышались жениху и невесте и как молодая девушка погибла в ту же самую ночь.
«Неужели следующей жертвой должен стать я? – подумал Стентон. – И неужели назначение этой божественной мелодии, которая словно создана для того, чтобы подготовить нас к переходу в иной мир, только в том, чтобы возвестить этими „райскими песнями“ присутствие дьявола во плоти, который насмехается над людьми благочестивыми, готовясь излить на них „дыхание ада“?» Очень странно, что именно в эту минуту, когда воображение разыгралось до крайнего предела, когда существо, которое он так долго и так бесплодно преследовал, за одно мгновение сделалось, можно сказать, ощутимым и доступным и для тела и для души, когда злому духу, с которым он боролся во тьме, пришлось бы наконец себя обнаружить, Стентон испытал какое-то разочарование, перестал верить в смысл того, чего так упорно добивался; нечто подобное испытал, вероятно, Брюс, открывши истоки Нила46, или Гиббон, завершив свою Историю47. Чувство, которое столько времени владело им, что сделалось для него своего рода долгом, в сущности, было самым обыкновенным любопытством; но есть ли страсть более ненасытная или более способная окутать ореолом романтического величия все совершающиеся во имя ее странности и чудачества? В известном отношении любопытство походит на любовь, оно всегда сводит воедино предмет и чувство, которое он вызывает; и если чувство это достаточно сильно, то предмет может быть и ничтожен, и это не будет иметь никакого значения. Ребенок, пожалуй бы, улыбнулся при виде необычайного волнения Стентона от неожиданной встречи с незнакомцем, но любой мужчина в расцвете сил содрогнулся бы от ужаса, обнаружив, что ему грозит катастрофа и конец близок.
После окончания спектакля Стентон простоял еще несколько минут на пустынной улице. Ярко светила луна, и неподалеку от себя он увидел фигуру, тень от которой, достигавшая середины улицы (в те времена еще не было вымощенных плитами тротуаров, единственною защитой пешеходов были стоявшие по обе стороны каменные тумбы и протянутые между ними цепи), показалась ему невероятно длинной. Он так давно уже привык бороться с порожденными воображением призраками, что победа над ними всякий раз наполняла его какой-то упрямой радостью. Он подошел к поразившей его фигуре и увидел, что гигантских размеров достигала только тень, тогда как стоявший перед ним был не выше среднего человеческого роста; подойдя еще ближе, он убедился, что перед ним именно тот, кого он все это время искал, – тот, кто на какое-то мгновение появился перед ним в Валенсии и кого после четырехлетних поисков он только что узнал в театре…
* * *
– Вы искали меня?
– Да.
– Вы хотите что-нибудь у меня узнать?
– Многое.
– Тогда говорите.
– Здесь не место.
– Не место! Несчастный! Ни пространство, ни время не имеют для меня никакого значения. Говорите, если хотите что-то спросить меня или что-то узнать.
– Мне много о чем надо вас спросить, но, надеюсь, мне нечего от вас узнавать.
– Ошибаетесь, но вы все поймете, когда мы встретимся с вами в следующий раз.
– А когда это будет? – спросил Стентон, хватая его за руку. – Назовите время и место.
– Это будет днем, в двенадцать часов, – ответил незнакомец с отвратительной и загадочной улыбкой, – а местом будут голые стены сумасшедшего дома; вы подыметесь с пола, грохоча цепями и шелестя соломой, а меж тем над вами будет тяготеть проклятие здоровья и твердой памяти. Голос мой будет до тех пор звучать у вас в ушах и каждый предмет, живой или неживой, будет до тех пор отражать блеск этих глаз, пока вы не увидите их снова.
– Может ли быть, что наша новая встреча произойдет при таких ужасных обстоятельствах? – спросил Стентон, стараясь уклониться от блеска демонических глаз.
– Никогда, – глухо сказал незнакомец, – никогда я не оставляю друзей в беде. Стоит им низвергнуться в глубочайшую бездну уничижения и горя, как они могут быть уверены, что я явлюсь их проведать.
* * *
Когда Джону вновь удалось разобрать страницы рукописи, на которых продолжался рассказ, он прочел о том, что сталось со Стентоном спустя несколько лет, когда тот очутился в самом плачевном положении.
Его всегда считали человеком со странностями, и это убеждение, усугублявшееся постоянными разговорами его о Мельмоте, безрассудной погоней за ним, странным поведением в театре и подробным описанием их необыкновенных встреч, которое делалось с глубочайшей убежденностью (хотя ему ни разу не удавалось никого убедить, кроме себя же самого, в том, что встречи эти действительно имели место), – все это привело кое-кого из людей благоразумных к мысли, что он рехнулся. Может быть, правда, ими руководило не только благоразумие, но и злоба. Эгоистичный француз[19], 48 говорит, что мы находим удовольствие даже в несчастьях наших друзей, а уж тем более – наших врагов, а так как человека одаренного, разумеется, каждый почитает своим врагом, то известие о том, что Стентон сошел с ума, распространялось с невероятным рвением и возымело свое влияние на людей. Ближайший родственник Стентона, человек бедный и лишенный каких-либо нравственных устоев, следя за распространением этого слуха, убеждался, что жертве его ничего не стоит попасться в ловушку. И вот однажды он приехал к нему поутру в сопровождении степенного на вид человека, в наружности которого было, однако, что-то отталкивающее. Стентон был, как обычно, рассеян и тревожен; поговорив с ним несколько минут, родственник его предложил ему поехать за город покататься, уверяя, что прогулка эта его подбодрит и освежит. Стентон стал возражать, ссылаясь на то, что трудно будет достать наемный экипаж (как это ни странно, в то время собственных экипажей – хоть, вообще-то говоря, их было несравненно меньше, чем в наши дни, – было все же больше, чем наемных), и сказал, что предпочел бы поехать кататься по реке. Это, однако, совершенно не входило в расчеты его родственника, и тот сделал вид, что послал за экипажем, – на самом же деле карета уже дожидалась их в конце улицы. Стентон и оба его спутника сели в нее и отправились за город.
В двух милях от Лондона карета остановилась.
– Пойдем, братец, – сказал младший Стентон, – пойдем поглядим, какую я сделал покупку.
Стентон, мысли которого были где-то далеко, вышел из кареты и пошел вслед за кузеном по небольшому мощеному двору; незнакомец последовал за ними.
– По правде говоря, дорогой мой, – сказал Стентон, – выбор твой мне что-то не очень нравится; дом какой-то мрачный.
– Не спеши, братец, – сказал тот, – я постараюсь, чтобы он тебе понравился, надо только, чтобы ты тут немного пожил.
У входа их ожидали слуги; одеты они были плохо и не внушали доверия. Все трое поднялись наверх по узенькой лестнице, которая вела в очень убого обставленное помещение.
– Подождите меня здесь, – сказал Стентон-младший приехавшему с ними незнакомцу, – а я схожу пока за теми, кто должен будет скрасить здесь моему кузену его одиночество.
Они остались вдвоем, Стентон не обратил внимания на сидевшего рядом человека и, по обыкновению, схватил первую попавшуюся ему на глаза книгу и принялся читать. Это была переплетенная рукопись, каких в то время было гораздо больше, нежели в наши дни.
Первые же строки поразили его, ибо сразу видно было, что автор не в своем уме. Это было странное предложение (написанное, по-видимому, после большого пожара Лондона) построить город внове из камня, причем автор приводил дикие, неверные, однако порою все же не лишенные смысла расчеты, указывая, что для этой цели можно было бы воспользоваться огромными глыбами Стонхенджа49, которые он рекомендовал перевезти в город. К рукописи прилагались затейливые чертежи машин, с помощью которых можно будет волочить эти гигантские глыбы, а на уголке была сделана приписка: «Я бы начертил все это гораздо точнее, но мне не дали ножа, чтобы очинить перо».
Другая рукопись была озаглавлена «Скромное предложение касательно распространения христианства в различных странах, с помощью которого, как надеется автор, можно будет охватить им весь мир». Это скромное предложение сводилось к тому, чтобы обратить в христианскую веру турецкое посольство (которое существовало в Лондоне несколько лет назад), поставив каждого из турок перед дилеммой: либо быть задушенным тут же на месте, либо сделаться христианином. Разумеется, писавший рассчитывал, что все изберут более легкую участь, но даже тем, кто давал свое согласие, ставилось особое условие, а именно: они должны были дать властям обязательство, что по возвращении в Турцию каждый из них будет обращать в христианскую веру не менее двадцати мусульман в день. Проект этот заканчивался в некотором роде в стиле капитана Бобадила50: каждый из этих двадцати обязан в свою очередь обратить еще двадцать других, а четыре сотни новообращенных должны будут поступить точно так же и обратить соответственное число турок, и таким образом вся Турция окажется христианской страной прежде, чем об этом успеет узнать султан. После этого произойдет coup d’état[20]: в одно прекрасное утро со всех минаретов в Константинополе вместо криков муэдзинов раздастся колокольный звон, и имам, вышедший из дома, чтобы узнать, что случилось, неминуемо столкнется с епископом Кентерберийским in pontificalibus[21], совершающим соборное богослужение в Айя-Софии51; этим все и должно будет завершиться.
Тут, однако, возникало возражение, которое предвидел хитроумный автор проекта. «Люди, в которых желчь берет верх над умом, – пишет он, – могут подумать, что, коль скоро архиепископ будет проповедовать по-английски, слова его не очень-то дойдут до турецкого народа, который, придерживаясь старинки, продолжает лопотать на нелепом своем языке». Однако возражение это, по его словам, «устраняется»: автор весьма здраво замечает, что всюду, где богослужение велось на непонятном языке, благочестие паствы еще более возрастало; так было, например, в римской церкви, когда Блаженный Августин со своими монахами вышел навстречу королю Этельберту52, распевая литании (на языке, которого его величество, безусловно, не мог понять), и сразу же обратил в свою веру и короля, и весь его двор; что Сивиллины книги…53
Приводилось и много других примеров.
* * *
Между листами рукописи были вложены вырезанные из бумаги изображения упомянутых выше турецких послов; бороды их были вырисованы пером с большим изяществом и мастерством, но страницы эти заканчивались жалобой художника на то, что у него отняли ножницы. Он, однако, утешал и себя, и читателя уверением, что, когда настанет ночь, сумеет поймать проникший сквозь решетку лунный луч и, наточив его о железную ручку двери, сотворит им настоящие чудеса. На следующей странице можно было увидеть печальное доказательство того, что это был некогда человек могучего ума, ныне уже совсем ослабевшего. То были строки безумных стихов, которые приписывались поэту-драматургу Ли и начинались так:
- О если б мог мычать я, как горох54
- и т. п.
Нет никаких доказательств в пользу того, что автор жалких этих строк действительно Ли, разве только что написаны они модными тогда четверостишиями. Примечательно, что Стентон читал все это, не подозревая о грозившей ему опасности, совершенно поглощенный альбомом приюта умалишенных и даже не сообразив, в какое место он попал, хотя обнаруженные им труды не оставляли на этот счет никаких сомнений.
Прошло немало времени, прежде чем он огляделся кругом и заметил, что спутника его уже и след простыл. Никаких звонков тогда не существовало. Он кинулся к двери – она была заперта. Он стал громко кричать – и тут же послышались еще чьи-то крики, но такие душераздирающие и разноголосые, что его охватил безотчетный ужас и он умолк. Поелику время шло, а к нему так никто и не приходил, он попытался открыть окно и тут в первый раз заметил, что на нем была решетка. Окно это выходило на узкий, мощенный плитками дворик, где не было ни одного живого существа, да если бы и нашлось хоть одно, оно бы, верно, не выказало никаких человеческих чувств.
Сраженный невыразимым ужасом, он не то чтобы сел, а, обессилев, свалился на койку под этим злосчастным окном и стал с нетерпением дожидаться рассвета.
* * *
В полночь он очнулся от забытья, чего-то среднего между обмороком и сном, которое, впрочем, вряд ли могло длиться долго – до того жестка была койка и сколоченный из сосновых досок стол, к которому он приткнулся головой.
Все было окутано густым мраком; Стентон сразу ощутил весь ужас своего положения; была минута, когда мало что отличало его от обитателей этого дома. Он ощупью добрался до двери, принялся дергать ее с неистовой силой, испуская отчаянные крики, одновременно и моля о помощи, и требуя, чтобы ему вернули свободу. На крики эти тут же отозвались сотни голосов. Сумасшедшим свойственно совершенно особое коварство и необычайная острота некоторых чувств, и в частности слуха, всегда позволяющая им узнать голос незнакомца. В криках, которые раздавались со всех сторон, слышалось какое-то безудержное, сатанинское ликование по поводу того, что в этой обители скорби стало одним постояльцем больше.
В изнеможении он замолчал: в коридоре послышались стремительные и гулкие шаги. Дверь распахнулась – на пороге стоял свирепого вида человек, за его спиной из полумрака выглядывали еще двое.
– Выпусти меня, негодяй!
– Потише, дружок, чего это ты буянишь?
– Где я?
– Там, где тебе положено быть.
– Вы что, собираетесь держать меня здесь? Да как вы смеете?
– Мы и кое-что еще смеем, – ответил наглый страж порядка и принялся хлестать несчастного ремнем по спине и плечам до тех пор, пока его подопечный не упал на пол, корчась от ярости и от боли. – Ну что, теперь ты видишь, что попал туда, куда надо, – повторил негодяй, потрясая над его головой бичом, – вот что, послушай-ка лучше дружеского совета и больше не шуми. Тут у этих ребят кандалы приготовлены, живехонько они их на тебя наденут. Или еще мало тебе того, что сейчас получил?
Сподручные его вошли в камеру с кандалами в руках (смирительные рубашки тогда еще не вошли в употребление). Страшные лица их и сжатые кулаки говорили о том, что они не замедлят привести в исполнение свою угрозу. Когда Стентон услыхал лязг цепей, которые они волочили по каменному полу, кровь в его жилах похолодела. Однако ужас, который он испытал, пошел ему на пользу. У него хватило духа признать, что он находится в жалком положении (или что положение его должно считаться жалким), и вымолить снисхождение у жестокого смотрителя, обещав со своей стороны, что безропотно подчинится всем его требованиям. Этим ему удалось смягчить наглеца, и тот удалился.
Стентон напряг всю свою волю, чтобы ночь эта его не сломила; он понимал теперь, что́ его ждет, и призвал себя выдержать единоборство с судьбой. После долгих размышлений он решил, что самым лучшим для него будет прикинуться покорным и спокойным в надежде, что с течением времени он либо умилостивит негодяев, в чьих руках он сейчас оказался, либо, убедив их в том, что он человек безобидный, добьется себе таких поблажек, которые в дальнейшем, может быть, облегчат ему побег. Поэтому он решил вести себя елико возможно смирно и не допускать, чтобы голос его был слышен в доме; принял он и еще кое-какие решения, причем обнаружил в себе такое благоразумие, что даже испугался, не есть ли это уже первое проявление той хитрости, какая бывает у сходящих с ума, или первое последствие приобщения к омерзительным повадкам обитателей этого дома.
В ту же ночь выводы эти подверглись жестокому испытанию. У Стентона оказались два пренеприятных соседа. Соседом его справа был ткач-пуританин; его свела с ума одна-единственная проповедь, произнесенная знаменитым Хью Питерсом55, и он был отправлен в сумасшедший дом, после того как проникся идеей предопределения и осуждения всего на свете, насколько вообще может проникнуться этим человек и даже еще того больше. С самого утра он без конца повторял пять пунктов56, воображая, что проповедует на тайном собрании пуритан и что те восторженно его слушают. С наступлением сумерек бред его принимал все более мрачный характер, а к полуночи он разражался ужасающими, кощунственными проклятиями. Соседом Стентона слева был портной-монархист, разорившийся оттого, что много шил в кредит роялистам и их женам (ибо в те времена, да и значительно позднее, вплоть до царствования королевы Анны57, женщины заказывали портным даже корсеты, и тем приходилось их подгонять потом по фигуре); портной этот сошел с ума от пьянства и верноподданнических чувств, когда сжигали «Охвостье» Парламента58, и с той поры оглашал стены сумасшедшего дома куплетами песенок злосчастного полковника Лавлейса59, отрывками из «Щеголя с Колмен-стрит»60 и забавными сценами из пьес миссис Афры Бен, где кавалеров называют героями и где представлено, как леди Лемберт и леди Десборо61 идут на религиозное собрание, причем впереди пажи несут огромные Библии, и как дорогой обе влюбляются в двух изгнанников-монархистов.
– Тавифа, Тавифа! – закричал голос62 полуторжественно, полунасмешливо. – Ты пойдешь с завитыми волосами и обнаженной грудью. – И потом проникновенно добавил: – И я ведь канарский63 плясал, жена.
Слова эти всякий раз возмущали чувства ткача-пуританина, вернее, пробуждали в нем вражду, и он тут же отвечал:
– «Полковник Гаррисон64 из райских кущ прискачет верхом на муле небесно-голубом и знак подаст»[22].
– Брешешь, круглоголовый! – взревел портной-кавалер65. – Твоего полковника Гаррисона спровадят в преисподнюю, и не видать ему небесно-голубого мула. – И заключил эту гневную тираду куплетом одной из направленных против Кромвеля песен:
- Дожить бы только мне,
- Чтоб вздернуть на сосне
- Нам Нолла самого
- И всех друзей его;
- И пусть их видит каждый,
- О будь он проклят дважды!66
– Люди добрые, я могу вам много всего поиграть, – пропищал сумасшедший скрипач, привыкший играть в тавернах сторонникам короля и припомнивший слова подобной же песенки, которую некогда исполнял для полковника Бланта67 в Комитете.
– Ну тогда поиграй мне «Мятеж был, дом разнесли»68, – вскричал портной, пустившись плясать по камере, насколько ему позволяли цепи, в такт воображаемой музыке.
Ткач не выдержал.
– Доколе же, Господи, доколе, – воскликнул он, – враги Твои будут осквернять святилище, где Ты сподобил меня быть пастырем? И даже то место, где я поставлен проповедовать заточенным в темницу душам? Обрушь на меня лавиной могущество свое, да разразится буря и валы накроют меня с головой; дай мне среди ревущих волн призвать Тебя так, как пловец подымает вдруг над водою руку, дабы товарищ его увидал, что он тонет. Сестра Руфь, зачем открываешь ты груди, обличая слабость мою? Господи, да будет с нами всесильная десница Твоя, как то было тогда, когда Ты сломал щит и меч и положил конец битве, когда стопы Твои окунались в кровь Твоих врагов, а язык псов Твоих был красен от этой же крови. Омочи одежды свои в крови и позволь мне выткать Тебе новые, когда Ты их запятнаешь. Когда же святые Твои начнут попирать ногами тяжкий камень Твоего гнева? Крови! Крови! Святые призывают пролить ее, земля разверзается, чтобы принять ее, ад ее жаждет! Сестра Руфь, молю тебя, прикрой груди свои и не будь такой, как суетные женщины сего века. О, узреть бы нам такой день, когда явился Господь с сонмом ангелов своих и когда рушились башни! Пощади меня в битве, ибо я плохой воин; оставь в стане врага, дабы я мог проклинать проклятиями Мероза69 тех, кто не призывает Господа помочь им справиться с власть имущими, хотя бы даже для того, чтобы осыпать проклятиями этого мерзкого портного, да, самыми жестокими проклятиями. Господи, я в шатрах Кидарских70, ноги мои спотыкаются в темноте на горных тропах! Падаю, падаю!
И несчастный ткач, измученный бредом, упал и некоторое время ползал потом по соломе.
– О, какое это горестное падение, сестра Руфь! О, сестра Руфь! Не радуйся моей беде! О, враг мой! Ничего что я падаю, я подымусь снова.
Как бы ни обрадовали все эти уверения сестру Руфь, если бы только она могла их услышать, ткачу они причинили в десять раз больше радости, чем ей; его любовные излияния мгновенно сменились воинственными призывами, где в хаосе смешалось все, что он помнил.
– Бог – это воин, – кричал он, – посмотрите на Марстон-Мур!71 Посмотрите на город, на этот возгордившийся город, полный тщеславия и греха! Посмотрите на воды Северна72, красные от крови, как воды Чермного моря! Власть имущие все гарцевали и гарцевали и переломали себе копыта. Это было Твоим торжеством, Господи, и торжеством Твоих святых – заковать их царей в цепи, а вельмож – в железные кандалы.
Теперь настал черед коварного портного:
– Благодари вероломных шотландцев, и их торжественный союз и договор, и Керисбрукский замок73, ты, окорнавший себя пуританин, – проревел он. – Если бы не они, я бы снял мерку с короля да сшил ему бархатную мантию высотою с Тауэр, и стоило бы только взмахнуть ее полой, и Красноносый74 был бы в Темзе, поплыл по ней вниз прямо в ад.
– Врешь ты и не краснеешь, – отозвался ткач, – никакого оружия мне не надо, я и так тебе это докажу, у меня будет челнок против твоей иглы, и я повалю тебя наземь, как Давид повалил Голиафа75. Это его76 (так пуритане непозволительно выражались о Карле I), это именно его плотское, своекорыстное, мирское духовенство заставило людей благочестивых искать слов утешения в горе у их же собственных пасторов; тех, что по справедливости отвергли всю эту бутафорию папистов – все эти батистовые рукава, паскудные орга́ны и островерхие дома. Руфь, сестра моя, не искушай меня этой телячьей головой77, из нее струится кровь; молю тебя, брось ее на пол, не пристало женщине держать ее в руках, даже ежели братья пьют эту кровь. Горе тебе, мой противник, неужто ты не видишь, как пламя охватывает этот проклятый город, в котором царствует сын арминиан78 и папистов? Лондон горит! Горит! – вопил он. – И подожгли его полупаписты, полуарминиане – словом, про́клятый народ. Пожар! Пожар!
Последние слова он прокричал ужасным голосом, но и этот голос был просто детским писком в сравнении с другим, который подхватил эти стенанья и прогремел их так, что все здание зашаталось. Это был голос безумной женщины, потерявшей во время страшного пожара Лондона79 мужа, детей, средства к существованию и, наконец, разум. Крик «пожар» со зловещей неизменностью воскрешал в ее памяти все пережитое. Женщина эта забылась тревожным сном, но стоило ей услыхать этот крик, и она мгновенно вскочила, как в ту страшную ночь. К тому же была суббота, а она всякий раз больше всего боялась именно субботней ночи, приступ безумия по субботам всегда возобновлялся у нее с особенной силой. Стоило ей только проснуться, как ее тут же начинала преследовать мысль, как ей поскорее, сию же минуту, убежать от огня; и она с таким потрясающим правдоподобием разыгрывала всякий раз эту сцену, что Стентон был гораздо больше перепуган ею, нежели ссорой между двумя своими соседями Законником и Буйной головой. Все началось с криков, что она задыхается от дыма, затем она спрыгнула с койки, стала просить зажечь свечу и пришла в неподдельный ужас от озарившей окно вспышки света.
– Судный день! – вскричала она. – Судный день! Небо и то в огне!
– Нет, не настанет он, надо еще сначала убить Великого Грешника, – закричал ткач, – ты вот все вопишь про свет да про огонь, а сама-то ведь пребываешь в кромешном мраке. Мне жаль тебя, несчастная сумасшедшая.
Женщина уже ничего не слышала, она воображала, что карабкается по лестнице в детскую. Она кричала, что ее опалило, обожгло огнем, что она задыхается от дыма; потом присутствие духа, казалось, оставило ее, и она отступила.
– Дети мои там! – кричала она голосом, исполненным невыразимого страдания, и словно пытаясь собрать последние силы. – Я тут, я пришла, я спасу вас. О боже! Они уже в огне!.. Держи меня за руку, нет, не за эту, она обожжена и совсем слабая… Ничего, все равно за какую, за платье держись… Ах, и оно пылает!.. Пусть лучше я сама сгорю дотла… А как потрескивают их волосики!.. Только капельку воды для самого маленького… для моего малютки… для моего малыша, а там пусть я сгорю!
Она умолкла, и это было страшное молчание: ей чудилось, что падает горящая балка, та, что должна была сокрушить лестницу, на которой она стояла.
– Крыша валится мне на голову! – вскричала она вдруг.
– Земля ослабела, и ослабели все, кто на ней живет, – провозгласил ткач, – я держу опорные столбы на своих плечах.
Женщина высоко подпрыгнула и пронзительно вскрикнула – это означало, что площадка, на которой она стояла, обрушилась: вслед за тем она спокойно смотрела, как дети ее скатываются вниз по горящим обломкам и исчезают в бушующем внизу пламени.
– Гибнут, один… другой… третий… все! – Тут голос ее перешел в невнятное бормотание, и она уже больше не корчилась в судорогах, а лишь слабо вздрагивала; это были далекие завывания стихающей бури; ей мнилось, что «ушла опасность и осталось горе», что она стоит среди тысяч несчастных бездомных людей, что толпятся в предместьях Лондона в ужасные ночи после пожара – без пищи, без крова, полуголые, взирающие в отчаянье на пепелища, в которые превратились их дома со всем, что в них было. Она, казалось, прислушивалась к их жалобам и даже проникновенно повторяла какие-то слова, однако неизменно отвечала тем же: «Но ведь погибли все мои дети… все!»
Примечательно было, что, как только она разражалась этими неистовыми криками, остальные все умолкали. Крик глубокого человеческого горя заглушал все остальные крики: она была единственной во всем этом доме, чье помешательство не было связано ни с политикой, ни с религией, ни с пьянством или какой-нибудь извращенной страстью; поэтому, как ни страшны бывали вспышки ее безумия, Стентон всякий раз ждал их как некоего избавления от несообразного, нелепого и унылого бреда всех остальных.
Но собранных с таким трудом сил его уже не хватало, чтобы справиться с ужасами этого дома. Все, что он видел там, угнетало его чувства, начавшие брать верх над разумом; он не мог не прислушиваться к пронзительным ночным воплям, раздававшимся вновь и вновь, и к щелканью бича, которым их усмиряли. Он начал уже терять надежду, заметив, что безропотная покорность (которая, как он рассчитывал, вызовет к нему снисхождение и, может быть, тем самым облегчит потом побег или просто убедит надзирателя в том, что он здоров) была истолкована этим черствым негодяем, который привык иметь дело только с различными формами сумасшествия, как утонченная разновидность хитрости этих больных, с которой ему часто приходилось сталкиваться и которой он всячески старался противодействовать.
Вначале, как только Стентон осознал свое положение, он решил сделать все от него зависящее, чтобы сохранить в этих условиях здоровье и не повредиться умом, ибо в этом он видел единственную надежду на спасение. Но, начав терять эту надежду, он стал с небрежением относиться и к способам, которыми добивался своей цели. Первое время он вставал рано, непрерывно ходил взад и вперед по комнате и пользовался малейшей возможностью побыть на свежем воздухе. Он усердно заботился о том, чтобы быть всегда в чистоте и одеваться опрятно, и, был у него аппетит или нет, он заставлял себя съедать жалкую пищу, которую ему подавали. Все эти усилия доставляли ему даже, пожалуй, какую-то радость, ибо впереди была надежда на лучшее. Но теперь он стал проникаться равнодушием ко всему. Он проводил половину дня на своем жестком ложе; там же он нередко принимал пищу; он перестал бриться и менять белье, и, когда луч солнца заглядывал к нему в камеру, он только печально вздыхал и в безнадежном отчаянии поворачивался к стене. Первое время, когда сквозь решетку проникала струя свежего воздуха, он всякий раз говорил: «Благословенный воздух неба, я еще буду дышать тобою на воле. Сохрани же всю свежесть свою до того восхитительного вечера, когда я буду вдыхать тебя, такой же свободный, как и ты». Теперь же, ощутив эту струю, он только молча вздыхал. Теперь он уже не замечал ни чириканья воробьев, ни шума дождя, ни завываний ветра – звуков, к которым он, сидя на своем убогом ложе, прислушивался всегда с радостью, ибо они напоминали ему о природе.
Иногда он находил вдруг какое-то мрачное и зловещее наслаждение в криках своих товарищей по несчастью. Он зарос грязью, сделался невнимательным, ко всему равнодушным, и на него неприятно было смотреть…
* * *
В одну из таких унылых ночей, когда он метался на своем ненавистном ложе, еще более ненавистном оттого, что, когда он его покидал, ему становилось еще тягостнее от охватывавшей его тревоги, он вдруг увидал, что едва горевший в очаге огонь заслонен каким-то темным предметом. Словно в полусне, он повернулся к огню, не испытав при этом ни любопытства, ни волнения, а одно только желание, чтобы мрачное однообразие его жизни было хоть чем-нибудь нарушено, пусть даже случайным мимолетным смещением теней в окружавшем его сумраке. Между ним и тлевшим в очаге огнем стоял Мельмот, в точности такой, каким он видел его в первый раз: та же фигура, то же выражение лица – холодное, каменное и неподвижное, те же глаза, сверкавшие ослепительным дьявольским светом.
Снедавшая Стентона страсть вскипела в нем с новой силой. Появление это он воспринял как предвестие грозной, роковой встречи. Он услышал, как сердце его застучало, и мог бы воскликнуть вместе с несчастной героиней Натаниэла Ли:
- Оно томится так, как трусы перед битвой;
- Прислушайся: уже трубит труба!80
Мельмот приблизился к нему с тем ужасающим спокойствием, которое как бы насмехается над вызванным им страхом.
– Пророчество мое сбылось; ты подымаешься мне навстречу, гремя цепями и шурша соломой. Ну что, разве я не оказался пророком? – (Стентон молчал.) – Разве не горестно положение, в которое ты попал?
Стентон продолжал молчать; он начинал уже верить, что все это пригрезилось ему в бреду. «Как мог он пробраться сюда?» – подумал он.
– Так неужели тебе не хочется освободиться? – (Стентон заворочался на своей подстилке, и шорох этот был, казалось, ответом на вопрос пришельца.) – В моей власти освободить тебя.
Мельмот говорил очень медленно и тихо, и мелодичная мягкость его голоса составляла разительный контраст с каменными чертами его лица и сверхъестественным блеском глаз.
– Кто вы и откуда вы явились? – спросил Стентон голосом, который он хотел сделать вопрошающим и властным, но который дни жалкого прозябания в этих стенах сделали одновременно и слабым, и жалобным. Унылый, гнетущий вид всего, что его окружало, повлиял на его рассудок, как то случилось с другим человеком, попавшим в такую же обстановку: когда того привели к врачу на осмотр, было обнаружено, что он оказался совершеннейшим альбиносом81: «Кожа его побледнела, глаза стали белыми; он не мог выносить света и отворачивался от солнца. Судорожные движения его, в которых были и слабость, и беспокойство, походили больше на метания больного ребенка, а не на действия способного постоять за себя мужчины».
Таково было и положение Стентона. Он совсем ослабел, и ни тело его, ни дух не могли противостоять силе его врага.
* * *
Из всего состоявшегося между ними страшного разговора в рукописи можно было прочесть только следующие слова:
– Теперь ты знаешь меня.
– Я всегда вас знал.
– Это ложь, ты вообразил, что знаешь, и это стало причиной всех диких…
* * *
– …со стороны того…
* * *
– …что тебя в конце концов поместили в эту обитель скорби, где только я один могу оказать тебе помощь.
– Ты дьявол!
– Дьявол! Что за грубое слово! Так кто же это, интересно, дьявол или человек водворил тебя сюда? Послушай, что я тебе скажу, Стентон; нет, не прячь голову в это жалкое одеяло, оно не заглушит моих слов. Поверь, даже если ты начнешь кутаться в грозовые тучи, тебе все равно придется меня выслушать! Подумай только, Стентон, в какое бедственное положение ты попал. Взгляни на эти голые стены! Что они могут сказать уму или сердцу? Кругом одна только известка; глазу не на чем остановиться, кроме каракуль, которые твои счастливые предшественники нацарапали углем или кирпичом. Ты любишь рисовать, ну так тебе будет чем поразвлечься. А вот решетка, сквозь которую солнце смотрит на тебя искоса, как на пасынка, а ветер дует так, как будто хочет истерзать тебя, воскрешая в памяти твоей вздохи сладостных уст, поцелуем которых тебе никогда уже не придется насладиться. А что сталось с твоей библиотекой, ты же человек просвещенный, немало поездивший по свету? – повторял он с язвительною усмешкой. – А где твои друзья, твои хилые земляки82, как сказано у твоего любимца Шекспира? Тебе приходится привыкать к другому обществу, смотреть, как вокруг твоей соломенной подстилки ползает паук, слушать, как скребется крыса! Я знаю, что они заводили дружбу с узниками Бастилии и те их прикармливали, – подумай, не пора ли заняться этим и тебе? Я видел, как паука приучили доползать по руке до кончика пальца, а крысу – приходить как раз в те часы, когда приносили обед, который делил с ней ее собрат по тюрьме! Какая же это радость, когда в гости к тебе являются ползучие твари! Ну а если им не приготовлено угощенья, они принимаются за своего кормильца! Дрожишь! Ничего, ты не первый, кого пожирала нечисть, что гнездится в камере! Вот уж пир так пир, когда не ты что-то ешь, а когда едят тебя самого!83 Единственно, чем гости твои выкажут раскаянье, когда начнут тебя пожирать, – они будут скрежетать зубами. И ты это услышишь, а может быть, и почувствуешь тоже! Ну а уж раз речь зашла о еде, то, надо сказать, кормят тебя отменно! Суп, который до тебя лакала кошка, а может, вместе с ней отведали и котята, чем же это не суп? А чего стоят часы одиночества, которое ты здесь вкушаешь, скрашенные голодными воплями, безумными криками, щелканьем бичей и безутешными рыданиями тех, кто, подобно тебе, сочтен сумасшедшим или доведен до сумасшествия преступными действиями других! Неужели ты еще думаешь, Стентон, что ты не повредишься в уме от всего, что здесь видишь? Но представь себе даже, что рассудок твой не ослабеет и здоровье окажется достаточно крепким, – представь себе – хоть это и невозможно вообразить, – как же должны воздействовать все эти картины ужаса, которые повторяются без конца, на все человеческие чувства. Настанет ведь время – и это будет скоро, – когда, повинуясь одной только силе привычки, ты и сам начнешь вторить крикам каждого несчастного безумца, живущего бок о бок с тобой; потом ты умолкнешь, обхватишь руками гудящую голову и в тревоге и страхе начнешь вслушиваться в эти крики, пытаясь решить, исходят они от них или от тебя самого. Придет время, когда, ничем не занятому, угнетенному страшной пустотой, от которой некуда будет деться, тебе неудержимо захочется слышать эти крики, от которых тебя сначала бросало в дрожь, когда тебе захочется следить за беснованьями твоего ближайшего соседа с тем же вниманием, с каким ты следишь за ходом пьесы на сцене. Все человеческое в тебе будет убито. Бред этих несчастных станет одновременно и забавой твоей, и мукой. Ты будешь прислушиваться к каждому его звуку, чтобы потом передразнивать их, щерясь и завывая с дьявольской злобой. У человека есть способность применяться к обстоятельствам, в которых он живет, и ты испытаешь на себе эту горькую долю с ужасающей силой. Вслед за тем явится мучительное сомнение в том, что ты в здравом уме, страшное предвестие того, что это сомнение перейдет потом в страх, а этот страх превратится в уверенность. Может статься – что еще ужаснее, – страх этот в конце концов перейдет в надежду, – отверженный обществом, всецело зависящий от произвола грубого надзирателя, страдающий от собственного бессилия в стараниях овладеть собой, лишенный всякой связи с людьми и их сочувствия, имеющий возможность обмениваться мыслями лишь с теми, кого наместо мыслей осаждают призраки – исчадия утраченного разума, и успевший забыть, что такое ласка и человеческий голос, – ибо все, что может показаться ими, не что иное, как те же зловещие вопли, и, убедившись в этом, хочешь только поскорее зажать себе уши, – может статься, что в конце концов страх твой превратится в еще более страшную надежду: тебе захочется стать одним из них, чтобы спасти себя от муки понимания происходящего. Как человека, склонившегося над пропастью и долго в нее глядящего, охватывает в конце концов желание броситься вниз, чтобы наконец избавиться от нестерпимого головокружения[23], так и ты, услыхав, как в разгар неистовых приступов люди эти вдруг начинают хохотать, скажешь: «Конечно же, у этих несчастных есть утешение, а у меня нет никакого; в этой обители ужасов самое большое проклятие для меня – это мой здравый ум. Они с жадностью поедают убогую пищу, которую нам дают, а мне противно даже смотреть на нее. Они подчас крепко спят, а мой сон тревожнее, чем их пробуждение. Каждое утро им придают силу какие-нибудь новые иллюзии: в безумии своем они измышляют различные хитрости и способны тешиться надеждой бежать, ускользнуть от надзирателя или как-нибудь поиздеваться над ним; мой здравый ум лишает меня этой надежды. Я знаю, что мне никогда не удастся бежать отсюда, и способность думать, которой я не потерял, только усугубляет мои страдания. Я разделяю здесь с другими все тяготы, но у меня нет тех утешений, которые есть у них. Они смеются – я слышу их смех; о, если б я мог смеяться так, как они». Ты попытаешься вторить им и самим усилием этим призовешь демона безумия прийти и завладеть тобой с этой минуты навеки.
(В этом месте рассказывалось подробнее о тех угрозах, к которым прибегал Мельмот, и о тех средствах, которыми он пытался искушать Стентона, но подробности эти слишком ужасны, чтобы о них здесь упоминать. Одна из них может служить примером.)
«Ты думаешь, что умственные способности человека есть нечто отличное от жизненной силы его души или, иными словами, что, даже если разум твой будет поврежден (что в действительности почти уже и случилось), душа твоя сможет в полной мере насладиться блаженством, которое создает развитие ее возросших и возвысившихся дарований, и все тучи, которые заволакивали их, рассеет Солнце Справедливости, и лучи его будут ласкать тебя до скончания века. Так во́т, не вдаваясь в метафизические тонкости касательно различия разума и души, скажу тебе, что нет такого преступления, которое бы не соблазнило сумасшедших и на которое бы они не пустились; занятие их – причинять другим вред, привычка – жить во зле; убийство для них – всего лишь забава, а кощунство – истинное наслаждение. Может ли в этом положении душа надеяться на спасение, суди сам; но только мне кажется, что с потерей рассудка – а в этих местах невозможно долго сохранять трезвый ум – ты лишаешься также и надежды на бессмертие. Послушай, – немного помолчав, сказал искуситель, – послушай несчастного, который тут вот, рядом с тобою, бредит и извергает такие кощунства, от которых содрогнулся бы и сам дьявол. Когда-то это был выдающийся пуританский проповедник. Полдня ему все кажется, что он стоит на кафедре и он осыпает проклятиями папистов, арминиан и даже инфраляпсариев (сам он принадлежит к числу субляпсариев)84. Он обличает их с пеной у рта, корчится, скрежещет зубами; можно подумать, что сам он спустился в ад, о котором он столько говорит, и что огонь и сера, на описание которых он не жалеет красок, изрыгаются из его открытого рта. Ночью вера его обращается против него самого; ему чудится, что сам он – один из тех нечестивцев, которых он весь день обличал, и он проклинает Бога как раз за то самое, за что славил Его днем.
Тот, кого он в течение двенадцати часов провозглашал „лучше десяти тысяч других“85, становится теперь предметом его дьявольской вражды, и он осыпает его проклятиями. Он впивается в железные прутья своей койки и кричит, что вытаскивает крест, вкорененный в глубины Голгофы; и примечательно, что насколько утренние его проповеди полны живительной силы и красноречивы, настолько ночные кощунства оскорбительны и ужасны. Слышишь! Он уже опять вообразил себя злым духом; вслушайся же в эти потоки дьявольского красноречия!
Стентон прислушался и содрогнулся…
* * *
– Беги отсюда, спасай себя, – воскликнул искуситель, – вырвись к жизни, свободе, здоровью. Благосостояние твое, умственные способности, может быть даже бессмертие, зависят от выбора, который ты сделаешь в эту минуту. Вот дверь, ключ от нее у меня в руке. Выбирай же, выбирай!
– А как же это ключ мог попасть в ваши руки? И на каких условиях вы хотите освободить меня? – спросил Стентон…
* * *
Объяснение занимало несколько страниц, но, как ни мучился над ними юный Мельмот, он не в силах был ничего разобрать. Как будто все же Стентон отказался от свободы, которую ему предлагали, с гневом и ужасом, ибо в конце концов Мельмот разобрал слова: «Прочь от меня, чудовище, дьявол! Убирайся отсюда восвояси! Даже эта обитель ужаса и та боится твоего появления; стены ее покрываются потом, а каменный пол содрогается под твоими ногами»…
* * *
Заключительная часть этой необыкновенной рукописи была в таком состоянии, что из пятнадцати полуистлевших и покрытых плесенью листов Мельмот едва мог разобрать какие-то несколько строк. Должно быть, ни один археолог, развертывая дрожащей рукой окаменевшие свитки рукописи, найденной в Геркулануме86, и воодушевленный надеждой отыскать утраченные стихи «Энеиды»87, начертанные рукою самого Вергилия, или хотя бы непристойные строки Петрония или Марциала88, проливающие свет на таинства Спинтрий или на фаллические оргии89, никогда не вглядывался так внимательно в текст и не качал потом головой с таким безнадежным отчаянием. То, что он мог извлечь из этих страниц, не только не утоляло его любопытства, но, напротив, еще больше его разжигало. В рукописи больше не было речи о Мельмоте, но говорилось, что Стентон в конце концов освободился из своего заточения, что он продолжал преследовать Мельмота непрерывно и неутомимо; что сам он понимал, что сделался маньяком и что величайшая страсть всей его жизни обернулась ее величайшей мукой. Он снова отправился на континент, потом еще раз вернулся в Англию, ездил, выведывал, выслеживал, подкупал людей, – но все было напрасно. Существа, которое он трижды встречал при таких удивительных обстоятельствах, ему больше уже ни разу не суждено было увидеть. В конце концов узнав, что Мельмот родом из Ирландии, он решил отправиться туда и осуществил это намерение, но и там все его усилия оказались напрасными, и он так и не получил ответа на мучившие его вопросы. Родные Мельмота ничего о нем не знали, во всяком случае, если даже что-то и знали или предполагали, то не сочли возможным сообщить это незнакомому человеку, и Стентон уехал неудовлетворенный. Любопытно заметить, что и он сам, как то явствовало из многих наполовину стершихся страниц рукописи, никогда ни одной живой душе не обмолвился о содержании их разговора с Мельмотом в стенах сумасшедшего дома; даже малейший намек на это обстоятельство вызывал в нем приступ бешенства и повергал потом в мрачное настроение, причем и то и другое необычностью своей вызывало тревогу во всех окружающих. Он, однако, оставил рукопись в руках семьи, считая может быть, что, коль скоро это люди нелюбопытные и совершенно равнодушные к своему родственнику и вообще непривыкшие что-либо читать, будь то даже книги, рукопись его будет в полной сохранности. В действительности же, должно быть, поступок этот был вызван отчаянием, какое бывает у гибнущих на море, когда они вкладывают предсмертные свои послания в бутылку и, запечатав, вверяют ее потом волнам. Последние строки рукописи, которые оказалось возможным прочесть, были довольно странны…
* * *
Я ищу его повсюду. Желание еще раз встретиться с ним превратилось в страсть, которая все разгорается, – без этого для меня больше нет жизни. Тщетными оказались и последние мои поиски, когда я поехал в Ирландию, узнав, что он родом оттуда. Быть может, последняя наша встреча будет в…
* * *
На этом кончалась рукопись, которую Мельмот нашел в кабинете дяди. Дочитав ее, он в изнеможении опустил голову на стол и застыл, дав волю круговороту обуревавших его чувств; мысли его были напряжены и вместе с тем словно оцепенели. Так прошло несколько минут. Очнувшись словно от толчка и подняв голову, он увидел глядевшие на него с холста глаза; отделенные от него какими-нибудь десятью дюймами, они показались ему еще ближе от осветившего их внезапно яркого света и оттого, что это было единственное в комнате человеческое лицо. На какое-то мгновение Мельмоту даже почудилось, что губы его предка зашевелились, словно тот собирался что-то ему сказать.
Он посмотрел ему прямо в глаза: в доме все было тихо, они остались теперь вдвоем. Наконец иллюзия эта рассеялась, а так как человеку свойственно бросаться из одной крайности в другую, Джон вспомнил вдруг о том, что дядя приказал ему уничтожить портрет. Он впился в него, рука его сначала дрожала, но пришедший в ветхость холст не стал ей противиться. Он выдрал его из рамы с криком, в котором слышались и ужас, и торжество. Портрет упал к его ногам, и Мельмот содрогнулся от этого едва слышного звука. Он ждал, что совершенное им святотатство – сорвать портрет предка, более века провисевший в родовом доме, – исторгнет из этой тишины зловещие замогильные вздохи. Он прислушался: не было ни отклика, ни ответа, но когда измятый и разорванный холст упал на пол, то черты лица странно искривились и на губах как будто заиграла усмешка. Лицо это на мгновение словно ожило, и тут Мельмот ощутил неописуемый ужас. Подняв измятый холст с полу, он кинулся с ним в соседнюю комнату и там принялся рвать и кромсать его на мелкие куски; бросив их в камин, где все еще горел торф, он стал смотреть, каким ярким пламенем они вспыхнули. Когда последний клочок догорел, он кинулся в постель в надежде забыться крепким сном. Он исполнил то, чего от него требовали, и теперь чувствовал сильнейшее изнеможение, как физическое, так и душевное. Однако сон его оказался далеко не таким спокойным, как ему хотелось. Он ворочался с боку на бок, но ему никак не давал покоя все тот же красный свет, слепивший глаза и вместе с тем оставлявший всю обстановку комнаты в темноте. В эту ночь был сильный ветер, и всякий раз, когда от его порывов скрипели двери, казалось, что кто-то ломает замок, что чья-то нога уже на пороге. Но во сне или наяву (определить это Мельмот так и не мог) увидел он в дверях фигуру своего предка? Все было так же смутно, как и тогда, когда он видел ее в первый раз – в ночь, когда умер дядя; так и теперь он увидел, как человек этот вошел в комнату, подкрался к его кровати, и услышал, как он прошептал:
– Что же, ты меня сжег, только такой огонь не властен меня уничтожить. Я жив; я здесь, возле тебя.
Вздрогнув, Мельмот вскочил с кровати – было уже совсем светло. Он осмотрелся: в комнате, кроме него, не было ни одной живой души. Он почувствовал легкую боль в правом запястье. Он посмотрел на руку: место это посинело, как будто только что его с силой кто-то сжимал.
Глава IV
К оружию, ребята, все, скорее
Рубите ванты и крушите реи!
Фолконер1
На следующий вечер Мельмот решил лечь спать пораньше. После полубессонной ночи его клонило ко сну, а день весь был такой сумрачный и тоскливый, что оставалось только хотеть, чтобы он поскорее окончился. Осень была на исходе; тяжелые тучи с утра до вечера медленно и уныло тянулись по небу и такой же тоской отзывались в душе человека и в каждом часе прожитой им жизни. Не упало ни одной капли дождя; тучи уходили прочь, затаив угрозу, как военные корабли, проведавшие, что противник сильнее, чем можно было думать, и возвращавшиеся за подкреплением, чтобы нанести потом новый удар, который неминуемо его сломит. Угроза эта скоро была приведена в исполнение; стемнело раньше обычного; новые тучи, еще более черные и, казалось, сулившие миру еще один потоп, заволокли небо. Гулкие, неожиданно налетавшие вихри время от времени сотрясали дом, а потом столь же внезапно стихали. К ночи буря разразилась со всею силой; кровать Мельмота сотрясалась при каждом порыве ветра, и уснуть было немыслимо. Сам он, правда,
- …любил, когда качались стены2,
но ему не доставляло ни малейшей радости ожидать, пока начнут падать трубы, пока с грохотом обвалятся балки, и видеть вокруг себя осколки разбитых стекол, которые уже начинали сыпаться на пол. Он встал и отправился на кухню, где, как он знал, разведен огонь; собравшиеся там перепуганные слуги, слыша, как ветер завывает в трубе, все наперебой уверяли, что им в жизни не доводилось слыхивать такой бури, и всякий раз, когда порыв затихал, дрожа, шептали молитвы за тех, кто «в эту ночь в море». А так как дом Мельмота стоял у самого берега над скалистым обрывом, им было чего бояться и о чем молиться.
Очень скоро, однако, Мельмот заметил, что в ужас их приводила не одна только буря. Недавняя смерть его дяди и посещение дома странным пришельцем, в реальность которого все они твердо верили, неразрывно сочетались в их представлении не то с причиной, не то с роковыми последствиями этой бури, и, ступая по ломаным плитам, которыми был устлан кухонный пол, Мельмот слышал, как они шепотом сообщали друг другу свои предположения, одно ужаснее другого. Страху свойственно сближать в сознании людей далекие друг от друга события. Мы любим связывать бушевание стихий с превратностями нашей судьбы, и, наверно, не было ни одного порыва ветра и ни одной вспышки молнии, которые не претворились бы в чьем-то воображении в картины близящейся беды, не вызвали бы желания отвратить ее или покориться стихии и не определили бы судьбу человека или участь души после смерти. Страшная буря, потрясшая всю Англию в ночь, когда умер Кромвель3, дала его пуританским капелланам повод заявить, что Всевышний забрал его к себе на небеса в поднятой вихрем огненной колеснице, наподобие того как он некогда вознес пророка Илию. Меж тем партия сторонников короля истолковала то же событие совершенно иначе и во всеуслышание высказала свое убеждение, что это князь тьмы отстаивает свои права и уносит тело жертвы своей (чья душа давно уже стала его достоянием). Таким образом, дикие завывания и яростное торжество бури могли быть совершенно различно, причем в одинаковой степени справедливо, истолкованы каждой из двух сторон на благо ей самой и на горе противнику. Нечто подобное (mutatis mutandis)[24] происходило и в той компании, которая сидела на кухне Мельмота возле сотрясавшегося от наскоков шквала очага, огонь в котором то разгорался, то снова гас.
– Уйдет он с этой бурей, – прошептала одна из старух, вынимая изо рта потухшую трубку и тщетно пытаясь снова зажечь ее от горящих углей, которые порыв ветра разбросал, как пылинки, – уйдет он вместе с бурей.
– Вернется еще, вот увидишь! – вскричала другая. – Вернется! Нет ему покоя! Все бродит тут вокруг да стонет, пока не изрекут то, чего он сам за всю свою жизнь не мог изречь. Господи, спаси нас, – завопила она прямо в трубу, как будто обращая свои слова к разгневанному Богу, – скажи нам, чего Ты хочешь от нас, и укроти эту бурю! Слышишь!
Порыв ветра, словно удар грома, ворвался в трубу; старуха вздрогнула и отшатнулась.
– Если тебе надо вот это… и еще вот это… и еще… – вскричала молодая женщина, которой Мельмот до тех пор не замечал, – на, возьми!
Она стала яростно вытаскивать какие-то спрятанные у нее в волосах бумажки и кидать их в огонь. Тут Мельмот вспомнил нелепую историю, рассказанную ему накануне, о девушке, которая, как она говорила, «на свою беду» сделала себе папильотки из каких-то бумаг старого Мельмота, а теперь вообразила, что существа, навлекшие на ее голову несчастье, больше всего рассержены тем, что она до сих пор держит на себе достояние покойного. Она стала срывать с себя эти клочки бумаги и швырять их в огонь, громко приговаривая:
– Ради всего святого, не серчайте на меня, угомонитесь! Вы получили все, что хотели, чего вам еще надо?
Мельмота все это смешило, и ему трудно было подавить смех, но тут он вдруг встрепенулся от звука, который можно было ясно различить среди завываний бури.
– Чу! Пушка! Тонет корабль!
Все притихли и стали слушать. Как мы уже сказали, дом Мельмотов стоял у самого берега. Близость к морю приучила обитателей его ко всем ужасам кораблекрушений и гибели людей. К чести их надо сказать, что они всегда воспринимали эти выстрелы как призывы, как жалостную безысходную мольбу, обращенную к их человеческим чувствам. Людям этим был неведом варварский обычай, существовавший на берегах Англии: прикреплять к трупу лошади фонарь и пускать этот труп в море, где волны кидали его из стороны в сторону: несчастные утопающие устремлялись к нему с надеждой, приняв его за маяк, и, когда обман открывался, ужас надвигающейся смерти становился еще неодолимей.
Все находившиеся в ту минуту на кухне внимательно вглядывались в выражение лица Мельмота, как будто на нем можно было прочесть «все тайны, скрытые в седой пучине»4. На несколько мгновений буря стихла и воцарилась глубокая и исполненная какого-то зловещего ожидания тишина. Тот же раскатистый звук повторился снова – теперь уже ни у кого не могло быть сомнения, что это выстрел.
– Стреляют из пушки, – закричал Мельмот, – они тонут!
Он выбежал из кухни, зовя за собой мужчин. Те сразу же вскочили и стали деятельно готовиться к встрече с опасностью.
Разгул стихий все же лучше переносить на море, нежели в четырех стенах. Там человеку есть с чем бороться; здесь уделом его становится страдание. Самая жестокая буря, побуждая жертву свою бороться с нею из последних сил, ставит все же перед человеком определенную цель и дает удовлетворение его гордости. Меж тем ни того ни другого нет у тех, кто сидит, забившись в угол, когда сотрясаются стены, и кто готов принять любое страдание, лишь бы избавиться от безысходного страха.
В то время как слуги кинулись искать плащи, сапоги и шляпы своего покойного господина, которых без числа было разбросано по самым разным углам дома; когда один из них срывал плащ с окна, которое им прикрывалось, ибо стекла давно уже были разбиты, а ставни – сломаны, другой стаскивал с палки шляпу, давно уже служившую для подметания пыли, а третий сражался с кошкой из-за пары старых сапог, которые та облюбовала, чтобы произвести на свет потомство, и где теперь копошились котята, – Мельмот поднялся в верхнюю комнату дома. Стекла там были выбиты, и в светлое время дня оттуда можно было увидеть и море, и все побережье. Он высунулся из окна и, поддавшись охватившей его тревоге, стал слушать. Ночь была темная, но постепенно в этой непроглядной тьме глаза его различили проблески света. Порыв ветра заставил его на минуту отойти от окна, но тут же, кинувшись к нему снова, он увидел, как вдалеке вспыхнуло едва заметное пламя, и до слуха его донесся еще один пушечный выстрел.
Медлить было нельзя, и спустя несколько минут Мельмот со своими людьми был уже на берегу. Это было совсем близко, к тому же они спешили, как только могли. Однако ветер был настолько силен, что пробираться им было нелегко, а тревога и нетерпение их все возрастали, и им казалось, что движутся они еще медленнее, чем на самом деле. Время от времени только слышны были их прерывающиеся тихие голоса:
– Позовите людей… видите там домики… в одном окне свет… они не спят… и нет ничего удивительного… Может ли кто спать в такую ночь… Держите фонарь пониже… Никак не устоять на ногах…
– Опять стреляют! – вскричали несколько человек, в то время как на какое-то мгновение едва заметная вспышка света пробилась сквозь густой мрак и тяжелый раскат огласил воздух; он звучал как прощальный салют над могилою погибших страдальцев.
– Скала! Держитесь крепче, не отставайте.
Они взошли на скалу.
– Великий Боже! – вскричал Мельмот, взобравшийся одним из первых. – Тьма-то какая! И какой это ужас! Подымите же фонари… слышите, как кричат? Отвечайте им… Крикните, что мы идем им на помощь, пусть не теряют надежду… Погодите, – добавил он, – дайте-ка я взберусь на этот камень, оттуда они услышат мой голос.
Он ринулся туда, пробираясь прямо по воде; едва переводя дыхание – отпрянувшие от соседней скалы волны накрывали его с головою кипящей пеной, – добрался он до цели и, ободренный своей удачей, крикнул что было мочи. Но грохот бури так заглушал его голос, что даже сам он его почти не слышал. Это были совсем слабые, жалобные звуки, больше походившие на скорбные стоны, нежели на зов, который должен был воодушевить людей надеждой. В ту минуту, когда встревоженные тучи стремительно проносились по небу, точно бегущие врассыпную солдаты разбитой армии, неожиданно выглянула луна и озарила море ослепительным светом. Глазам Мельмота предстал корабль, и он ясно увидел, что́ тому грозит. Накренившееся судно ударялось о скалу, над которой набегавшие буруны вздымали столбы пены футов в тридцать высотой. Это был уже один только остов, наполовину погрузившийся в воду, грот-мачта была сломана, и всякий раз, когда волна захлестывала палубу, Мельмот явственно слышал предсмертные крики тех, кого она уносила с собой, или, может быть, тех, чьи истомившиеся тела и души уже немели и переставали держаться за жизнь и за надежду, которая до тех пор давала еще им силы; он был уверен, что только что раздавшийся крик исходил именно от них и, может быть, стал уже последним в их жизни. Вид человеческих существ, погибающих совсем близко от нас, вселяет такой ужас, что мы порой понимаем, что достаточно сделать всего один шаг, достаточно нашей твердой руки, чтобы спасти хотя бы одного из многих, – и не знаем, куда направить этот шаг, и бываем не в силах протянуть руку, которая вдруг цепенеет. Все чувства Мельмота пришли в смятение, и были минуты, когда он вторил завываниям ветра, испуская безумные крики. Меж тем окрестные жители, узнав о том, что судно потерпело крушение у самых скал, в тревоге высыпали целой толпою на берег. Те, кого прошлый жизненный опыт, твердая убежденность или даже самое обыкновенное невежество беспрерывно заставляли повторять: «Спасти их нельзя, погибнут все до единого», – невольно ускоряли в это время свои шаги, как будто торопясь увидеть исполнение этого предсказания, в то время как другим казалось, что они действительно спешат оказать помощь погибающим и тем самым не дать ему осуществиться.
Особенно обращал на себя внимание один человек, который бежал к берегу и, запыхавшись, продолжал уверять всех остальных, что «оно пойдет ко дну прежде, чем они до него доберутся». Слыша восклицания: «Упаси боже! Не говори таких слов! Даст Господь, мы чем-нибудь им поможем», он только разражался торжествующим смехом. Когда все добежали до места, человек этот, рискуя жизнью, взобрался на скалу и, глядя на корабль, принялся убеждать оставшихся внизу, что конец близок. «Ну что я вам говорил? – кричал он. – Видите, что я был прав?» Буря усилилась, но все еще были слышны его слова: «Видите, я был прав!» И когда вопли погибавших матросов отчетливо донеслись до берега, он в промежутках все еще повторял: «Видите, я был прав!» Это была какая-то исключительная гордыня, кичащаяся своими трофеями – над чужою могилой. В таком духе даем мы советы тем, кто страдает от жизни, так же как и от стихии; и когда мы слышим, что сердце жертвы разрывается, мы успокаиваем себя, восклицая: «Разве я все это не предсказывал? Разве я не говорил вам, к чему это приведет?» Примечательно, что человек этот погиб в ту же самую ночь, сделав отчаянную и напрасную попытку спасти жизнь одному из матросов с корабля, который плыл в расстоянии шести ярдов от него.
Люди заполонили весь берег, они взбирались на вершины и выступы скал; сознавая свое бессилие, все только взирали на этот поединок между морем и сушей, между отчаянием и надеждой. Невозможно было ничем помочь утопавшим: никакая лодка не смогла бы выдержать натиска волн, – и все же до самой последней минуты то с одной скалы, то с другой слышны были крики, страшные крики, возвещавшие, что помощь близка – и уже невозможна. Высоко поднятые фонари с разных сторон освещали все вокруг: глаза несчастных видели берег, на котором суетились люди, но их отделяли от него ревущие неодолимые волны; утопавшим бросали веревки, старались ободрить и воодушевить их громкими криками; кое-кто из барахтавшихся в воде в порыве отчаяния пытался ослабевшей рукою уцепиться за конец брошенной в море веревки, но вместо этого хватался только за воду, а потом не успевал разжать окоченевшие пальцы, как новая волна накрывала его с головой, и всплыть он уже был не в силах. В эту минуту Мельмот, выйдя из состояния оцепенения, в которое повергла его эта страшная картина, и оглядевшись вокруг, увидел внизу сотни озабоченных, бегавших и суетившихся людей, и, хотя все усилия их оказывались, по-видимому, напрасными, у него сделалось радостно на душе.
– Сколько всего хорошего пробуждается в человеке, – вскричал он, – когда чувство долга призывает его облегчить страдания ближнего!
У него не было тогда ни времени, ни желания вдумываться, что именно он называл словом «хорошее», и разлагать это понятие на составные части, выделив из него любопытство, крайнее возбуждение, гордое ощущение силы в теле или просто сознание того, что сам ты сейчас находишься в относительной безопасности. У него действительно не было времени подумать: как раз в эту минуту он заметил в расстоянии нескольких ярдов от себя чуть выше на скале фигуру, вид которой не мог внушить ему ни симпатии, ни страха. Незнакомец не произнес ни единого звука и никому не пытался помочь. Мельмот с трудом удерживался на скользком и шатком камне; человека же этого, находившегося еще выше, казалось, нимало не волновала ни буря, ни гибель экипажа. Как Мельмот ни старался закутаться в плащ, ветер срывал его и раздирал в клочья, в то же время на плаще незнакомца ни одна складка не шелохнулась. Но не столько это поразило Мельмота, сколько полнейшее безразличие его к людям, терпевшим бедствие, и к окружавшему его ужасу, и он воскликнул:
– Милосердный Боже, возможно ли, что существо, всем видом своим похожее на человека, стоит здесь недвижно, не сделав ни малейшего усилия, чтобы помочь этим несчастным, и даже нисколько им не сочувствует?
Последовало молчание, а может быть, порыв ветра заглушил его слова, однако спустя несколько мгновений Мельмот отчетливо услыхал:
– Пусть погибают.
Он посмотрел наверх: незнакомец стоял по-прежнему недвижимо, скрестив руки на груди, выставив одну ногу вперед, как бы бросая всем видом своим вызов подымавшимся ввысь столбам пены, и обращенное в профиль суровое лицо его, которое на несколько мгновений озарял колеблющийся и смутный свет луны, равнодушно взирало на все, что происходило внизу, причем во взгляде его было что-то чужое, неестественное, зловещее. В это мгновение чудовищная волна обрушилась на палубу корабля, и крик ужаса вырвался из груди всех тех, кто это видел; это был словно отзвук других криков, исходивших от несчастных жертв, чьи обезображенные и бездыханные тела через несколько минут были выброшены к их ногам.
Когда крик этот умолк, Мельмот услышал вдруг раскаты смеха, от которого кровь у него похолодела. Смеялся стоявший наверху над ним незнакомец. Словно молнией озарило вдруг его память: внутреннему взору его предстала ночь в Испании, когда Стентон впервые повстречал странное существо, чья опутанная колдовством жизнь, над которой «не властно пространство и время», оказала такое влияние на его собственную, и когда он впервые ощутил сатанинскую злобу в этом торжествующем смехе при виде гибели двух сожженных молнией влюбленных. Эхо этого хохота все еще звучало в ушах Мельмота; он подумал, что в нескольких шагах от него сейчас не кто иной, как этот таинственный пришелец. Разум его, разгоряченный всеми неистовыми попытками его разыскать и вместе с тем омраченный их неудачей, отяжелел, как тяжелеет воздух от нависшей грозовой тучи; он уже больше не в состоянии был что-либо выведывать, строить новые предположения или расчеты. Мельмот сразу же стал взбираться на скалу; недвижная фигура находилась теперь всего на несколько футов выше того места, где он стоял, – тот, о ком он думал целые дни и кто снился ему по ночам, был здесь, рядом, он мог вглядеться в него, коснуться его рукой; он почти что его ощущал. Даже сами Клык и Силок5, при всем свойственном их профессии рвении, и те не произнесли бы с такой решимостью слов: «Попадись он хоть раз мне в лапы», как про себя произнес их Джон. Он стал карабкаться по крутой и опасной тропинке к уступу скалы, на котором стояла неподвижная темная фигура. Изнемогая от яростного ветра, от безмерного душевного напряжения и от трудности задачи, которую он себе поставил, Мельмот столкнулся теперь лицом к лицу с тем, кого он стремился найти; забывшись, он ухватился за наполовину отколовшийся от скалы камень; камень этот, который был настолько мал, что, упав, вероятно, не мог бы ушибить даже ребенка, оказался шаткой и ненадежной опорой для рослого мужчины: Мельмот сорвался вместе с ним и упал вниз, в ревущую пучину, которая, казалось, готова была вцепиться в него тысячами щупалец и его поглотить. Падая, он не успел даже почувствовать головокружения; он только ощутил удар, плеск и услышал рев. Волна накрыла его с головой, а потом тут же выбросила на поверхность. Он пытался бороться с ней, но ему было не за что ухватиться. Тогда он стал погружаться все глубже, движимый смутной мыслью, что, если он доберется до дна и сможет ухватиться там за что-нибудь твердое, он будет спасен. В ушах у него гудели тысячи труб; глаза его слепил свет. «Ему казалось, что он проходит сквозь огонь и воду». Больше он ничего не помнил. Очнулся он только несколько дней спустя: он увидал, что лежит в постели и старая управительница стоит у его изголовья.
– Какой ужасный сон! – воскликнул он и, в изнеможении откинувшись на подушки, добавил: – И до чего он меня довел!
Глава V
– Я слышал, – сказал оруженосец, – что от ада нет спасения.
Сервантес1
После этого Мельмот пролежал еще несколько часов, не произнеся ни слова: память постепенно возвращалась к нему, чувства просветлялись, по мере того как повелитель их, разум, постепенно утверждался вновь на покинутом им престоле.
– Я все теперь вспомнил, – воскликнул он, вскакивая с кровати так порывисто, что ухаживавшая за ним старуха-няня перепугалась, решив, что он снова бредит; однако, когда она подошла к его кровати со свечою в руке, старательно заслоняя другой глаза от света, и поднесла эту свечу к лицу больного, ярко его озарив, во взгляде его она увидела пробудившееся сознание, а в движениях – силу, которая говорила о том, что наступает выздоровление. Ей пришлось удовлетворить его желание и ответить на все его вопросы касательно того, как он был спасен, чем завершилась в тот день буря и остался ли в живых хоть один из потерпевших кораблекрушение. Она, правда, понимала, как он ослабел, и ей было строго наказано ничем не утомлять его, пока к нему не вернется рассудок. Условие это она старательно выполняла в течение нескольких дней – и это было для нее ужасным испытанием: она чувствовала себя, как Фатима в «Кимоне»2, которая в ответ на угрозу колдуна лишить ее дара речи восклицает: «Варвар, не довольно ли с тебя моей смерти?»
Она начала говорить, и рассказ ее подействовал на Мельмота так, что он крепко уснул, раньше чем она успела довести его до половины; он имел случай убедиться на себе, сколь благотворно может такая вот неторопливая речь действовать на больных, о которых Спенсер говорит3, что они нанимали ирландских рассказчиков и, когда просыпались после целительного сна, замечали, что эти неутомимые люди все еще продолжают свой рассказ. Первое время Мельмот слушал с напряженным вниманием; однако очень скоро он оказался в положении человека, описанного мисс Бейли, который
- Сквозь дрему слышит еле-еле
- Рассказ, что льется у постели4.
Вскоре по его глубокому ровному дыханию она почувствовала, что только
- …тревожит попусту того, кто сном забылся5,
а когда она задернула занавеску и заслонила свечу, картины, навеянные ее рассказом, казалось, ожили вновь и бледные тени их проплывали теперь в его снах, все еще с трудом отличимых от яви.
Утром Мельмот приподнялся, оперся на подушку и, оглядевшись вокруг, мгновенно вспомнил все, что с ним произошло. И хоть воспоминание это было смутным, он ощутил сильнейшее желание увидеть чужестранца, спасшегося при кораблекрушении, который, по словам управительницы, все еще памятным ему (хоть слова эти, должно быть, доходили только до порога его непробудившихся чувств), был жив и находился теперь у него в доме, но еще не оправился после полученных им тяжелых ушибов, перенесенного страха и крайнего изнеможения. Мнения домочадцев касательно этого человека разделились. Узнав, что он католик, они как будто успокоились; а он, едва только пришел в себя, попросил послать за католическим священником и в первых же сказанных им словах выразил удовлетворение, что находится в стране, где исполняются все обряды его родной церкви. Таким образом, с этой стороны все обстояло хорошо; однако в его манере себя держать было какое-то странное высокомерие и сдержанность, которыми он отталкивал от себя тех, кто за ним ухаживал. Он часто разговаривал сам с собою на языке, которого они не понимали; они надеялись, что вызванный в дом священник разъяснит их сомнения, но тот долго простоял у двери, слушая эти обращенные к самому себе речи, и решительно объявил, что это никакая не латынь, а потом, вступив с больным в разговор, длившийся несколько часов, отказался разъяснить, на каком языке говорил чужестранец, и не позволил слугам расспрашивать себя о нем. Это одно уже не предвещало ничего хорошего, но еще хуже было то обстоятельство, что чужестранец легко и свободно изъяснялся по-английски и поэтому, как утверждали все домочадцы, был не вправе терзать их слух словами незнакомого языка, которые, как бы четко и красиво они ни звучали, были, по их мнению, заклинаниями, обращенными к некоему незримому существу.
– Все, что ему надо, он просит у нас по-английски, – сказала недоумевающая управительница, – он просит по-английски, например, чтобы ему принесли свечу, он говорит по-английски, что хочет лечь спать, так почему же, черт бы его побрал, ему надо непременно о чем-то еще говорить на непонятном нам языке? Да и молиться он тоже может по-английски на тот образок, что он прячет на груди, хоть, помяните мое слово, то никакой не святой (мне раз удалось поглядеть на него украдкой), а, скорее всего, сам дьявол. Господи Исусе, спаси нас!
Такие вот странные толки и множество других шепотом передавались Мельмоту, и все это делалось с такой быстротой, что он не успевал хорошенько в них разобраться.
– А что, отец Фэй у нас? – спросил он наконец, уразумев, что священник каждый день навещает чужестранца. – Если он сейчас здесь, попросите его зайти ко мне.
Отец Фэй тут же явился на его зов.
Это был человек серьезный и благопристойный, о котором «ходила добрая молва» даже среди людей, исповедовавших иную веру. Когда он вошел в комнату, Мельмот не мог удержаться от улыбки, вспомнив пустые сплетни, которые передавали ему слуги.
– Благодарю вас за внимание к несчастному, который, насколько я понимаю, находится сейчас у меня в доме, – сказал он.
– Я только исполнил свой долг.
– Мне рассказывают, что он говорит иногда на незнакомом языке.
– Да, это действительно так.
– А вы-то знаете, откуда он родом?
– Он испанец, – ответил священник.
Этот прямой и ясный ответ возымел свое действие на Мельмота: он поверил ему и понял, что чужестранец не делает из своего происхождения никакой тайны и она существует только в воображении глупых слуг.
Священник стал рассказывать подробности гибели корабля. Это было английское торговое судно, направлявшееся то ли в Уэксфорд, то ли в Уотерфорд6; на борту было много пассажиров. Бурей его отнесло к уиклоускому берегу, где оно и потерпело крушение в ночь на 19 октября. В полной темноте, среди которой разразилась буря, оно наскочило на риф и разбилось. Экипаж и все пассажиры погибли, спасся один только испанец. Поразительно, что не кто иной, как он, оказался спасителем Мельмота. Стараясь добраться до берега, он увидел, как тот упал со скалы, и, как сам он ни был изможден, собрал последние силы, чтобы спасти человека, которого, как он понял, постигла беда из-за того, что он кинулся оказать помощь утопающим. Испанцу удалось вытащить его из воды, причем сам Мельмот ничего об этом не знал: утром их нашли обоих на берегу; они крепко впились друг в друга, но оба совершенно закоченели и были в глубоком обмороке. Их стали приводить в чувство и, когда обнаружили в том и другом слабые признаки жизни, обоих перенесли в дом Мельмота.
– Вы обязаны ему жизнью, – сказал священник и замолчал.
– Я сейчас же пойду и поблагодарю его, – вскричал Мельмот, но в эту минуту старая управительница, помогавшая ему подняться с постели, в ужасе шепнула ему на ухо:
– Ради всего святого, не говорите ему, что вы Мельмот! Ради бога! Он так взъярился, как сумасшедший стал, когда вчера кто-то произнес при нем это имя.
Мельмоту невольно вспомнилось прочитанное в рукописи, и он испытал какое-то тягостное чувство. Однако он совладал с собой и прошел в комнату, отведенную чужестранцу.
Испанцу было лет тридцать. Он имел вид человека благородного и манерами своими располагал к себе. Помимо свойственной его нации серьезности, на всем его облике лежала печать глубокой грусти. Он бегло говорил по-английски, и когда Мельмот стал расспрашивать, откуда он так хорошо знает этот язык, он только вздохнул и сказал, что прошел тяжелую школу, где и научился ему. Мельмот тут же переменил предмет разговора и стал горячо благодарить испанца за то, что тот спас ему жизнь.
– Сеньор, – ответил испанец, – простите меня, но если бы вы так же мало ценили свою жизнь, как я, то не стоило бы за это благодарить.
– Да, но вы употребили, однако, все силы на то, чтобы ее спасти, – сказал Мельмот.
– Это было какое-то безотчетное побуждение.
– Но пришлось же выдержать борьбу, – сказал Мельмот.
– В эту минуту я не отдавал себе отчета в том, что делаю, – сказал испанец. Вслед за тем тоном, исполненным какой-то особой изысканности, он добавил: – Вернее, побуждение это было внушено мне моим добрым гением. Я никого не знаю в этой чужой мне стране, вы приютили меня, без вас мне было бы здесь очень худо.
Мельмот заметил, что собеседнику его трудно говорить, и очень скоро тот действительно признался, что хоть он и не получил тяжелых повреждений, но до такой степени избит камнями и изранен об острые выступы скал, что ему тяжело дышать и стоит большого труда пошевельнуть рукой и ногой. Закончив свой рассказ о буре, кораблекрушении и всей последовавшей за этим борьбе за жизнь, он воскликнул по-испански:
– Господи, скажи, почему Иона остался жить, а моряки погибли?7
Вообразив, что он произносит слова какой-нибудь католической молитвы, Мельмот собрался было уже удалиться, но испанец не дал ему уйти.
– Сеньор, – сказал он, – я знаю, вас зовут…
Он умолк, задрожал и, сделав над собою усилие, от которого лицо его перекосилось, выговорил имя Мельмота.
– Да, я действительно Мельмот.
– Скажите, был ли у вас предок, далекий, очень, очень давно, в такие времена, о которых в семье не сохранилось преданий… нет, ни к чему даже и спрашивать об этом, – сказал испанец и, закрыв руками лицо, громко застонал.
Мельмот слушал его с волнением, к которому примешивался страх.
– Говорите, говорите, может быть, я и смогу вам ответить…
– Был ли у вас, – спросил испанец с видимым усилием, отрывисто и скороговоркой, – был ли у вас родственник, который лет сто сорок тому назад ездил в Испанию?
– Насколько я знаю, был; боюсь, что был.
– Довольно, сеньор, оставьте меня… может быть, завтра… оставьте меня сейчас.
– Я не могу вас сейчас оставить, – сказал Мельмот и, видя, что он совсем ослабел, кинулся, чтобы не дать ему упасть. Но это не было обмороком; зрачки испанца дико вращались, в глазах его был ужас, и он пытался выговорить какие-то слова. Кроме них, в комнате никого не было. Мельмот не решался уйти и закричал, чтобы принесли воды; когда он пытался расстегнуть ему ворот и облегчить дыхание, рука его наткнулась на медальон с портретом, хранившимся у самого сердца. Прикосновение это подействовало на больного как самое сильное возбуждающее. Он схватил медальон своей холодной рукой с силой, какая бывает только у смерти, и пробормотал глухим, но возбужденным голосом:
– Что вы сделали!
Он принялся ощупывать ленточку, на которой висел медальон, и, убедившись, что его страшное сокровище цело, с ужасающим спокойствием в глазах посмотрел на Мельмота.
– Так, значит, вы все знаете?
– Я ничего не знаю, – неуверенно ответил Мельмот.
Едва не упавший на пол испанец теперь поднялся, высвободился из его рук и, хоть с трудом держась на ногах, стремительно кинулся за свечой (было уже совсем темно) и показал медальон Мельмоту. Оказалось, что это миниатюрный портрет все того же страшного существа. Это было написанное грубой кистью любительское изображение, но сходство поражало: можно было подумать, что создала эту миниатюру не рука человека, а сама душа.
– Значит, он, значит, оригинал этого… ваш предок? Значит, вы владеете страшной тайной, которая… – Он повалился на пол, корчась в судорогах; Мельмоту, который сам был еще очень слаб, пришлось уйти к себе.
Прошло несколько дней, прежде чем ему довелось снова свидеться со своим гостем; на этот раз тот был спокоен и отлично владел собой – до тех пор, пока не вспомнил, что должен извиниться перед хозяином дома за причиненное ему прошлый раз беспокойство. Он начал было говорить, но сбился и замолчал; напрасно пытался он привести в порядок свои спутанные мысли, вернее, бессвязную речь: усилия эти привели его в такое волнение, что Мельмот почувствовал, что должен как-то помочь ему, и, пытаясь его успокоить, очень неосмотрительно стал расспрашивать, с какой целью тот предпринял поездку в Ирландию.
Испанец долгое время молчал, а потом наконец ответил:
– Сеньор, еще всего несколько дней назад никакая сила не заставила бы меня это сказать. Я считал, что мне все равно никто не поверит и поэтому я не должен открывать этой тайны. Я думал, что одинок на земле, что мне неоткуда ждать ни сочувствия, ни помощи. Поразительно, что случай столкнул меня с единственным человеком, который может понять меня и мне помочь, больше того, может даже, если не ошибаюсь, пролить свет на обстоятельства, которые поставили меня в столь необычное положение.
Это вступление, сделанное в сдержанной форме, но потрясающее по своей значительности, произвело сильное впечатление на Мельмота. Он сел и приготовился слушать, а испанец начал уже было говорить, но потом, после минутного колебания, сорвал висевший у него на груди портрет и принялся топтать его ногами с поистине континентальным упорством, крича:
– Дьявол! Дьявол! Ты душишь меня! – А когда портрет вместе со стеклом был разбит на куски, вскричал: – Ну вот, легче стало.
Они сидели в низкой полутемной, скудно обставленной комнате; за окном бушевала буря, и, когда окна и двери сотрясались под порывами ветра, у Мельмота было такое чувство, что он слушает вестника «рока и страха». Волнение говорившего было так мучительно и глубоко, что тот весь затрясся, а во время продолжительной паузы, предшествовавшей рассказу испанца, Мельмот услышал, как у него бьется сердце. Он привстал и, протянув руку, пытался удержать своего собеседника, но тот принял это за признак нетерпения и тревоги и начал свой рассказ, в котором, щадя читателя, мы опустим бесчисленные вскрикивания, вопросы, проявления любопытства и вздохи ужаса, которыми его прерывал Мельмот.
Рассказ испанца
– Вам уже известно, сеньор, – начал он, – что я уроженец Испании, так знайте же, что я происхожу из очень знатного рода, одного из самых знатных в стране, которым она могла бы гордиться в дни своей славы, – из рода Монсада. Я сам этого в детстве не знал, помню только, что обращались со мной очень нежно, но жить мне пришлось в очень убогой обстановке и в большом отчуждении от людей. Жил я в жалкой лачуге в предместье Мадрида, и воспитывала меня старуха, чья привязанность ко мне была, как видно, не бескорыстна. Каждую неделю ко мне приезжал молодой дворянин вместе с очень красивой дамой; они ласкали меня, называли милым мальчиком, и я, восхищенный изяществом, с которым мой юный отец завертывался в плащ, а моя мать прикрывала лицо вуалью, и неописуемым превосходством их над теми, кто меня окружал, был сам с ними очень ласков и просил их взять меня к ним домой; слыша эти слова, они всякий раз плакали, делали какой-нибудь ценный подарок старухе, у которой я жил и которая, предвкушая его, всегда в их присутствии старалась быть особенно услужливой, и – уезжали.
Я заметил, что приезжали они всегда поздно вечером и очень ненадолго; таким образом, детство мое было окутано тайной, наложившей неизгладимую печать на весь мой характер и на чувства и стремления, владеющие мною сейчас.
Потом в жизни моей произошла внезапная перемена: однажды за мной приехали, переодели меня в роскошное платье и посадили в великолепную карету, находиться в которой мне было так удивительно и непривычно, что у меня закружилась голова, – и привезли во дворец, стены которого, как мне тогда казалось, поднимались к самому небу. Меня поспешно провели сквозь анфиладу покоев, роскошь которых слепила глаза, где множество слуг встречало меня низкими поклонами, в кабинет, где восседал благородного вида старец; поза его была столь величественна и его окружало такое торжественное молчание, что мне захотелось пасть на колени и поклоняться ему, как мы поклоняемся какому-нибудь святому, чье изваяние мы видим, пройдя через приделы огромного храма, где-то в глубине его, в уединенной нише. Мои отец и мать стояли тут же, и оба были преисполнены благоговейного страха перед этим бледным и величественным старцем. Увидав их, я стал еще больше его бояться, и когда они подвели меня к его стопам, то у меня было такое чувство, что меня словно приносят ему в жертву. Он все же поцеловал меня, но неохотно, и лицо его сделалось при этом еще более суровым; когда же вся эта торжественная церемония, во время которой я дрожал, закончилась, слуга провел меня в отведенные мне покои, и все прочие слуги были почтительны ко мне, как к сыну вельможи; вечером мои отец и мать пришли ко мне, оба они целовали меня и плакали, но мне казалось, что слезы их вызваны не только печалью, но и любовью. Все окружающее выглядело настолько необычно, что и во мне самом пробудилось, должно быть, что-то новое. Сам я настолько переменился, что мне хотелось видеть изменившимися и окружающих меня людей, и, если бы этого не произошло, меня бы это до крайности поразило.
Одна перемена следовала за другой с такой быстротой, что меня это опьяняло. Мне было тогда двенадцать лет, и образ жизни, который я вел в раннем детстве, непомерно развил мое воображение, подавив все другие способности. Всякий раз, когда открывалась дверь, что бывало нечасто и лишь для того, чтобы возвестить, что наступил час мессы, обеда или занятий, я ждал, что непременно должно произойти нечто необычайное. На третий день после прибытия моего во дворец Монсада дверь отворилась в неурочное время (одно это повергло меня в дрожь от предчувствия того, что будет) и вошли родители мои в сопровождении многочисленных слуг. С ними был мальчик; будучи выше меня ростом и обладая уже сложившейся фигурой, он выглядел старше меня, хотя в действительности был на год моложе.
– Алонсо, – сказал мне отец, – обними своего брата.
Я кинулся к нему со всем простодушием и нежностью детства, которое радуется каждой новой привязанности и, может быть, даже хочет, чтобы она длилась вечно. Однако неторопливые шаги моего брата, та сдержанность, с которой он на какое-то мгновение протянул обе руки и склонил голову мне на левое плечо, чтобы потом тут же вскинуть ее и уставиться на меня пристальным взглядом своих светившихся высокомерием глаз, оттолкнули меня и обманули мои ожидания. Тем не менее, исполняя желание отца, мы обняли друг друга.
– А теперь возьмитесь за руки, – продолжал отец, и, казалось, ему доставляло радость видеть нас вместе. Я протянул брату руку, и мы провели так несколько минут, а отец и мать стояли поодаль и глядели на нас. В течение этих нескольких минут я имел возможность переводить взгляд с родителей на брата и судить о том чувстве, которое испытывали тогда они, видя нас рядом и сравнивая друг с другом. Сравнение это было отнюдь не в мою пользу. Хоть я и был высокого роста, брат мой оказался гораздо выше меня; в выражении лица его была уверенность, вернее даже сказать, торжество; его блестящей внешности был под стать и блеск его темных глаз, которые попеременно глядели то на меня, то на родителей и, казалось, говорили: «Выбирайте же одного из нас, и пусть это буду не я, если у вас хватит на это смелости».
Отец и мать подошли к нам и обняли обоих; я ласково к ним прильнул; брат мой принял эти излияния нежности с каким-то гордым нетерпением, словно ждал от них подчеркнутого признания своего превосходства.
Больше я их не видел; вечером все домочадцы, которых было, вероятно, не меньше двухсот, погрузились в скорбь. Герцог Монсада, весь облик которого был страшным предвестьем смерти и которого мне довелось видеть всего лишь раз, скончался. Со стен были сняты шпалеры; все комнаты заполонились духовными лицами. Приставленные ко мне слуги перестали обращать на меня внимание, и я бродил один по огромным покоям, пока нечаянно не приподнял край черной бархатной занавеси и не увидел картины, которая, как ни был я еще юн, повергла меня в оцепенение. Родители мои, одетые во все черное, сидели возле неподвижно лежавшей фигуры, в которой я узнал моего деда. Я решил, что старец спит, только очень глубоким сном. Там же находился и мой брат, который был тоже в черном, но, как ни причудлив и ни странен был его вид, выражение лица его говорило, что ему вовсе не по душе этот маскарад, а в сверкающих глазах его сквозило высокомерие: казалось, он нетерпеливо ждал скорейшего окончания той роли, которую ему приходилось играть.
Я кинулся к ним – слуги не дали мне подойти.
– Почему же меня не пускают туда, а младшему брату моему все позволено?
Один из священников подошел ко мне и увел меня прочь. Я начал отбиваться и спросил его с заносчивостью, которая выражала мои притязания, но, как видно, отнюдь не была оправдана моим положением:
– Кто же я такой?
– Внук покойного герцога Монсады, – последовал ответ.
– Тогда почему же со мной так обращаются?
Ответа я не получил. Меня отвели в мои покои и приставили к дверям слуг, которым было строго наказано никуда меня не выпускать. Мне не было позволено присутствовать на похоронах герцога Монсады. Я видел, как пышная и печальная процессия выезжала из ворот дворца. Я перебегал от окна к окну, чтобы посмотреть на торжественное шествие, но мне не дали к нему присоединиться.
Через два дня мне сказали, что у ворот меня ждет карета. Я сел в нее, и меня отвезли в монастырь экс-иезуитов1 (все хорошо знали, что они существуют, и при этом ни один человек в Мадриде не смел высказать это вслух); было заранее условлено, что они примут меня на содержание и воспитание и что по приезде я сразу же останусь у них. Я стал прилежно заниматься, учителя мои были довольны мною, родители часто посещали меня, выказывая по-прежнему свою любовь, и все шло хорошо до тех пор, пока как-то раз, когда они уходили, я не услышал, как старый слуга из их свиты сказал, что находит странным, что старший сын теперешнего герцога де Монсады воспитывается в монастыре и готовится к монашеской жизни, в то время как младший пользуется всей роскошью, живя во дворце, и имеет таких учителей, которых приличествует иметь его званию. Слова «монашеская жизнь» поразили меня; они объяснили мне не только то снисходительное отношение, которое я встретил в монастыре (снисхождение, отнюдь не свойственное присущей ему строгой дисциплине), но и те необычные выражения, с которыми всегда обращались ко мне настоятель, вся монашеская братия и воспитанники монастыря. Из уст настоятеля, с которым я виделся раз в неделю, я слышал самые лестные отзывы о достигнутых мною успехах в ученье (похвалы эти заставляли меня краснеть, ибо я знал, что учусь далеко не так хорошо, как иные из воспитанников), после чего настоятель благословлял меня, причем всякий раз добавлял:
– Господи, Ты не потерпишь, чтобы сей агнец был исторгнут из Твоего стада.
Братья всегда старались выглядеть при мне спокойными и выигрывали от этого гораздо больше, нежели от всех цветов красноречия. Все мелкие монастырские ссоры и интриги, непрестанные и ожесточенные столкновения различных привычек, характеров и интересов, старания всех этих пребывающих в заточении душ хоть чем-нибудь себя приободрить, борьба за то, чтобы любым способом скрасить серое однообразие и возвысить безнадежную посредственность, – все это делает монастырскую жизнь похожей на изнанку шпалеры, где заметны только торчащие в беспорядке концы нитей и грубые контуры изображений, где нельзя увидеть ни ярких красок, ни всей роскоши самой ткани, ни великолепия вышивки – словом, того, что делает лицевую сторону такой ослепительно красивой. Вся красота жизни тщательно от меня скрывалась. Иногда, правда, мне доводилось кое-что услышать, и, как я тогда ни был молод, я не мог надивиться тому, что люди, принесшие в обитель из мирской жизни самые худшие свои чувства, могли вообразить, что в ее стенах смогут найти спасение от снедающей их злобы, угрызений совести и кощунственных мыслей. Таким же притворством встретили меня и воспитанники монастыря; у меня было такое чувство, что с момента моего появления все обитатели его стали ходить в масках. Стоило мне подойти к кому-нибудь из них в минуту досуга, как они прерывали дозволенные им игры и напускали на себя тоскующий вид, как будто вся эта тщета лишь напрасно отвлекает их от более возвышенных занятий, которым они себя посвятили. Кто-нибудь из них, подойдя ко мне, мог сказать: «Как жаль, что нам приходится все это делать в угоду нашей немощной плоти! Как жаль, что мы не можем безраздельно отдать наши силы служению Господу!» Другой восклицал: «Самое большое счастье для меня – это петь в хоре! Какое восхитительное надгробное слово произнес настоятель, когда хоронили брата Иосифа! Какой потрясающий реквием! Когда я слушал его, казалось, что небеса разверзлись и ангелы спустились, чтобы взять к себе душу усопшего!»
Подобные речи, да еще и куда более ханжеские, мне приходилось слышать изо дня в день. Теперь я начинал понимать, что́ за этим скрывалось. Они, верно, думали, что имеют дело с человеком очень слабым; однако неприкрытая грубость их действий только насторожила меня; я стал видеть с ужасающей ясностью все хитросплетения лжи.
– Вы готовите себя к монашеской жизни, не так ли? – спросил я нескольких воспитанников.
– Да, мы надеемся на это.
– А ты ведь жаловался, Олива, как-то раз (ты не знал тогда, что я слышу твои слова), что тебе до смерти надоели все проповеди на жития святых.
– Должно быть, это во мне говорил злой дух, – ответил Олива, а он был одного со мной возраста. – Сатане иногда позволяют вводить в соблазн тех, кто находится в самом начале послушания и кого он поэтому больше всего боится потерять.
– А ты, Балькастро, говорил, что у тебя нет ни малейшего влечения к музыке, а уж коли это так, то хоровая музыка меньше всего может прийтись тебе по вкусу.
– Господь с тех пор вразумил меня, – ответил юный лицемер, осеняя себя крестным знамением, – ты ведь знаешь, свет моих очей, нам обещано, что глухие услышат2.
– Где же это обещано?
– В Библии.
– В Библии? Так нам же не позволяют ее читать.
– Верно, дорогой мой Монсада, но с нас довольно и слов настоятеля и братьев.
– Ну разумеется, наши пастыри должны взять на себя полную ответственность за то состояние, в которое они нас повергли, захватив в свои руки право поощрять нас и наказывать. Только скажи, Балькастро, неужели ты собираешься как в этой жизни, так и в грядущей полагаться на их слова и отрекаться от жизни прежде, чем тебе доведется ее испытать?
– Дорогой мой, ты говоришь это только для того, чтобы соблазнить меня.
– Я говорю не для того, чтобы соблазнить, – возразил я и, возмутившись, собрался было уйти, но как раз в эту минуту зазвонил колокол, и звон его подействовал на всех как обычно. Товарищи мои напустили на себя еще более благочестивый вид, а я старался вернуть себе самообладание. По дороге в церковь они перешептывались между собою, стараясь, однако, чтобы я услышал то, что они сообщают друг другу. До меня долетели слова:
– Напрасно он противится благодати; призвание его совершенно явно. Это победа Господа нашего. В нем и сейчас уже можно узнать избранника небес: у него монашеская походка, глаза опущены долу; движением рук он невольно подражает крестному знамению, и сами складки его одежды по какому-то Божественному наитию располагаются так, как на монашеской рясе.
Все это говорилось, невзирая на то что я ходил шатаясь, лицо мое горело и, в то время как взгляд нередко бывал устремлен ввысь, руки торопливо подбирали полы рясы, которая от волнения моего спадала у меня с плеч; беспорядочно свисавшие складки делали ее похожей на все что угодно, только не на монашеское одеяние.
С этого самого вечера я стал замечать грозившую мне опасность и думать о том, как ее избежать. У меня не было ни малейшей склонности к монашеской жизни, однако после вечерни в церкви и вечерней молитвы у себя в келье мне начинало казаться, что само отвращение мое к ней есть уже грех. Чувство это становилось еще острее, когда наступала ночь и все погружалось в тишину. Долгие часы лежал я в кровати, был не в силах уснуть и молил Бога вразумить меня, сделать так, чтобы я не противился Его желанию, и вместе с тем дать мне со всею ясностью почувствовать, чего же Он от меня хочет, и если Ему неугодно призвать меня к монашеской жизни, то пусть Он поддержит мою решимость пройти сквозь все испытания, которые на меня наложат, лишь бы не профанировать эту жизнь исполнением вынужденных обетов и отчужденностью души. Для того чтобы молитвы мои оказались более действенными, я обращал их сначала к Пресвятой Деве, потом – к святому, покровителю нашего рода и, наконец, к святому, в канун дня которого я родился. От волнения я так и не сомкнул глаз до самой утренней мессы. Но к утру я ощутил решимость, во всяком случае, мне показалось, что она наконец пришла ко мне. Увы! Я не знал, с чем мне придется столкнуться. Я был похож на человека, который вышел в открытое море, взяв с собою однодневный запас провианта, и вообразил, что вполне себя обеспечил и сумеет теперь добраться до полюса. В тот день я с необычным для меня прилежанием исполнил все так называемые упражнения для духа. Я уже начал ощущать потребность накладывать на себя какие-то обязательства – роковое последствие монастырских установлений. Обедали мы в полдень; вскоре после обеда отец прислал за мною карету, и мне было позволено покататься в течение часа по берегу Мансанареса3. К моему удивлению, в карете оказался мой отец, и, хоть он поздоровался со мною на этот раз несколько смущенно, я был счастлив его увидеть. Он, во всяком случае, был мирянином и, может быть, человеком с сердцем.
Меня огорчили сдержанные слова, с которыми он обратился ко мне; услыхав их, я весь похолодел и сразу же принял твердое решение быть и с ним настороже, как со всеми, с кем мне приходилось общаться в стенах монастыря.
– Нравится тебе жить здесь, в обители? – спросил отец.
– Очень нравится, – ответил я (в ответе моем не было ни слова правды, но страх быть обманутым неизбежно толкает на ложь, и нам приходится только благодарить за это наших наставников).
– Настоятель очень тебя любит.
– Кажется, да.
– Братья очень внимательны к твоим занятиям, они могут руководить ими и должным образом оценить твои успехи.
– Кажется, да.
– А воспитанники принадлежат к самым знатным испанским семьям, они все довольны своим положением и хотят воспользоваться теми преимуществами, которые оно дает.
– Кажется, да.
– Дорогой мой мальчик, почему ты три раза ответил мне тою же самой ничего не значащей фразой?
– Потому что я подумал, что все это мне только кажется.
– Так как же ты говорил, что все благочестие этих праведных людей и глубокое внимание со стороны учеников, чьи занятия в равной мере благодетельны для человека и умножают славу церкви, которой они служат…
– Папенька, я ничего не говорю о них, но я осмеливаюсь говорить о себе: я никогда не смогу быть монахом, и, если вы хотите добиться именно этого, презирайте меня, прикажите вашим лакеям вытащить меня из кареты и оставить на улице. Лучше пусть я буду собирать милостыню и кричать: «Огонь и вода»[25], только не заставляйте меня стать монахом.
Отец мой был поражен. Он не сказал ни слова в ответ. Он никак не ожидал, что я раньше времени узнаю тайну, которую он собирался мне открыть. В эту минуту карета свернула на Прадо4; глазам моим предстало множество великолепных экипажей, запряженных украшенными перьями лошадьми в роскошных попонах; красавицы кланялись кавалерам, которые несколько мгновений стояли еще на приступке кареты, а потом отвешивали прощальный поклон своим «дамам сердца».
В эту минуту я заметил, что отец мой оправил свою роскошную мантию и шелковый кошель, в который были убраны его длинные черные волосы, и сделал лакеям знак остановить карету, собираясь выйти и смешаться с толпой. Я воспользовался этой минутой и ухватился за край его мантии.
– Папенька, вам, значит, нравится этот мир, так почему же вы упорно хотите, чтобы я, ваш сын, от всего этого отрекся?
– Но ты еще чересчур юн для него, дитя мое.
– Ну, раз так, то я, разумеется, чересчур юн и для другого мира, для того, в котором вы принуждаете меня жить.
– Как я могу принуждать тебя, дитя мое, мой первенец!
В словах этих было столько нежности, что я невольно припал губами к его рукам, а лоб мой ощутил горячее дыхание его поцелуя. Именно в эту минуту, воодушевленный надеждой, я мог внимательно присмотреться к чертам его лица, к тому, что у художников принято называть физиогномией человека5.
Ему не было еще и шестнадцати лет, когда он сделался моим отцом; он был хорошо сложен; лицо его поражало красотой и удивительно располагало к себе; я не знал никого, кто бы мог сравниться с ним по красоте; ранняя женитьба уберегла его от всех дурных последствий юношеских излишеств: он сохранил и свежий цвет лица, и гибкий стан, и все очарование юности, которое так часто, не успев расцвесть, увядает, опаленное пороком. Ему было двадцать восемь лет, а выглядел он лет на десять моложе. Он, как видно, сознавал это сам и умел радоваться жизни так, как будто весна ее все еще длилась. Бросаясь с головой в кипучие наслаждения, которыми его дарила молодость, и вкушая всю сладость окружавшей его роскоши, он в то же самое время обрекал своего совсем юного сына на холодное и безотрадное однообразие монастырской жизни. Я ухватился за эту мысль, как утопающий. Но нет соломинки более хрупкой, чем та помощь, которую вы надеетесь получить от человека, оберегающего свое положение в свете.
Наслаждение до крайности эгоистично, а когда один эгоист обращается за помощью к другому, то не похож ли он на несостоятельного должника, который просит своего товарища по тюрьме взять его на поруки. Таково было мое убеждение в ту минуту, но все же, поразмыслив (ведь в молодые годы отсутствие жизненного опыта нередко восполняется в нас страданием, и более всего умудрены в жизни как раз те, кто прошел в ней эту тяжелую школу), – поразмыслив, я пришел к выводу, что жизнелюбие, которое в известном смысле делает человека эгоистом, вместе с тем развивает в нем великодушие. Тот, кто по-настоящему привык наслаждаться жизнью, хоть он и не поступится даже самой малой толикой своего счастья, чтобы спасти от гибели целый мир, все же полон желания, чтобы все остальные радовались жизни так же, как он (лишь бы не за его счет), потому что собственное его наслаждение станет от этого еще полнее. Я ухватился за эту мысль и принялся просить моего отца дать мне еще раз взглянуть на только что виденные мною пышность и блеск. Он согласился, и уступчивость эта смягчила его сердце; он оживился при виде пестрой светской толпы, интересовавшей его больше, нежели меня, ибо я наблюдал только за тем впечатлением, которое все это производило на него, и сделался еще внимательнее ко мне. Я этим воспользовался и, после того как вернулся в монастырь, обратил едва ли не все свои душевные силы и весь свой ум на то, чтобы исступленной любовью разбудить его сердце. Я сравнивал себя с несчастным Исавом6, которого его младший брат лишил права первородства, и восклицал его словами: «Неужели, отец мой, одно у тебя благословение? Благослови и меня, да, и меня тоже, отец!»
Отец мой был тронут; он обещал мне, что отнесется к моей просьбе со всем вниманием, но тут же намекнул, что против этого могут быть возражения со стороны моей матери, в особенности же со стороны ее духовника, который, как я впоследствии узнал, держал у себя в подчинении всю семью, и сослался на еще какие-то непреодолимые и неизъяснимые трудности. Он позволил мне, однако, поцеловать ему на прощанье руку и тщетно пытался совладать с собой, когда почувствовал, что она сделалась мокрой от моих слез.
Только спустя два дня я был вызван к духовнику моей матери: он ожидал меня в монастырской приемной. Я решил, что причиной того, что он так долго не появлялся, были семейные споры или, как мне тогда казалось, даже некий заговор, и сделал попытку подготовить себя к разного рода военным действиям, какие мне теперь приходилось предпринимать в борьбе с родителями, духовниками, настоятелями и монахами и воспитанниками монастыря: все ведь они дали клятву одержать надо мною победу и, разумеется, готовы были прибегнуть для этого к любым средствам, будь то штурм, подкоп, мина или блокада. Я начал прикидывать в уме, как велики силы нападающей стороны, и старался обеспечить себя оружием, которое могло бы помочь мне отразить различные виды атак. Отец был человеком добрым, податливым и неустойчивым. Мне удалось смягчить его и расположить к себе, и я чувствовал, что большего мне от него не добиться. Духовника же следовало встретить другим оружием.
Спускаясь в приемную, я обдумывал, какой походкой я должен к нему подойти, каким взглядом на него посмотреть, изменял голос, поправлял платье. Я был настороже – телом, духом, выражением лица, тем, как я был одет; все приобретало теперь значение. Это оказался строгий, но с виду приветливый священник. Чтобы заподозрить его в предательстве, надо было быть самому предателем, подобным Иуде. Я почувствовал себя обезоруженным, меня начали даже мучить угрызения совести. «Может быть, – говорил я себе, – я все это время вооружался против того, кто будет вестником мира».
Духовник начал с незначительных вопросов о моем здоровье и моих успехах в занятиях, однако видно было, что делает он это неспроста. Я подумал, что, желая соблюсти все приличия, он не торопится приступить к разговору о том, что побудило его приехать. Отвечал я ему спокойно, но сердце мое стучало. Последовало молчание, а потом, повернувшись ко мне, он сказал:
– Дитя мое, я понимаю, что ты не хочешь становиться монахом и что тебя не переубедить. В этом нет ничего удивительного: монашеская жизнь – дело нелегкое для совсем еще юного существа, да и вообще я не знаю, какому возрасту могут быть особенно приятны воздержание, лишения и одиночество. Таково было, несомненно, желание твоих родителей, но все же…
Слова эти звучали так искренне, что почти покорили меня: я позабыл о том, что надо быть осторожным, да и еще кое о чем, и воскликнул:
– Ну и что же с того, отец мой?
– Я только хотел отметить, сколь редко наши собственные взгляды совпадают со взглядами других в отношении нас и сколь трудно бывает решить, которые ближе к истине.
– И это все, что вы хотели сказать? – разочарованно спросил я и отшатнулся.
– Да, все; есть, например, люди, к числу их я когда-то принадлежал и сам, у которых воображение до чрезвычайности развито: им кажется, что больший жизненный опыт и не подлежащая сомнению родительская любовь дают им право решить этот вопрос лучше, нежели их детям; иные доходят даже до такой нелепости, что начинают говорить о каком-то естественном праве, природных обязанностях, вытекающих из понятия долга, и о пользе принудительной сдержанности. Но с тех пор как я имел удовольствие ознакомиться с твоим решением, я начинаю думать, что подросток, которому нет и тринадцати лет, может быть в этом отношении непревзойденным судьей, в особенности же если дело хоть в малейшей степени касается интересов его вечной, а равно и временной жизни; в этом случае он обладает двойным преимуществом: он может подчинить своей воле не только родителей, но и духовника.
– Отец мой, прошу вас, обойдитесь в разговоре со мной без иронии и насмешки: может быть, вы и очень умны, но мне просто хочется, чтобы слова ваши были серьезны и я оказался бы в состоянии их понять.
– Итак, ты хочешь, чтобы я говорил с тобой серьезно?
Он какое-то время как будто собирался с мыслями, прежде чем задать мне этот вопрос.
– Ну конечно.
– Так вот, если говорить серьезно, то неужели ты не веришь, что родители твои тебя любят? Неужели ты с младенческих лет не почувствовал их любви? Неужели они не прижимали тебя нежно к груди, когда ты еще лежал в колыбели?
Услышав эти слова, я тщетно пытался совладать с собой и, обливаясь слезами, ответил:
– Да.
– Мне жаль, дорогой мой мальчик, что ты так удручен; мне хотелось воззвать к твоему рассудку: ты ведь чрезвычайно умен; к нему-то я и обращаю эти слова, – неужели тебе может прийти в голову, что родители, которые всегда были так нежны с тобой, которые заботятся о тебе не меньше, чем о спасении души, могли проявить в отношении тебя – а именно это и явствует из твоего собственного поведения – беспричинную жестокость, потакая лишь своей прихоти? Неужели ты не задумываешься над тем, что на все это есть причина, и притом весьма основательная? Неужели чувство долга и высший разум не подсказывают тебе, что следует вникнуть в их решение, вместо того чтобы противоборствовать ему?
– Так, значит, я дал им к этому основание своим поведением? Я готов сделать все что угодно, пожертвовать всем.
– Понимаю, ты готов сделать все что угодно, но только не то, чего от тебя требуют, и пожертвовать всем, но только бы не поступиться собственным желанием.
– Но вы намекнули, что есть какая-то причина?
Духовник молчал.
– Вы же сами вынуждаете меня думать о ней.
Духовник продолжал молчать.
– Отец мой, заклинаю вас вашим саном, дайте мне взглянуть на этот страшный призрак; каков бы он ни был, я не дрогну ни перед чем.
– Кроме как перед приказанием родителей. Но есть ли у меня право открывать тебе эту тайну? – сказал духовник, как бы разговаривая сам с собою. – Могу ли я допустить, что, начав с неповиновения родительской власти, ты научишься уважать чувства, которые питают к тебе твои родители?
– Отец мой, мне непонятны ваши слова.
– Дорогой мой мальчик, обстоятельства вынуждают меня действовать с осторожностью и сдержанностью, отнюдь не свойственными моему характеру, ибо, как и ты, я человек прямодушный. Мне страшно открывать эту тайну; я привык оправдывать оказанное мне доверие и не решаюсь что-либо сообщать столь горячей и порывистой натуре, как ты. Я попал в очень трудное положение.
– Отец мой, будьте откровенны со мною и в словах, и в поступках, этого требуют и мое положение, и ваше призвание. Отец мой, вспомните надпись над исповедальней, которая потрясла меня до глубины души, когда я впервые ее прочел: «Господь слышит тебя». Вспомните, что Господь слышит вас повсюду, так неужели же вы не будете откровенны с тем, кого Он вам вверил?
Говорил я в большом волнении, да и духовник, казалось, был тоже взволнован; он провел рукой по глазам, которые были так же сухи, как его сердце. Какое-то время он молчал, а потом сказал:
– Можно ли положиться на тебя, дорогой мой? Должен тебе признаться, что, идя сюда, я собирался говорить с ребенком, а теперь вот убеждаюсь, что передо мною мужчина. Ты вдумчив, проницателен, решителен, как настоящий мужчина. Не таковы ли и твои чувства?
– Испытайте меня, отец мой!
Я не заметил тогда, что его ирония, его таинственность и все горячие излияния чувств были всего-навсего хорошо разыгранным спектаклем и во всем этом не было ни откровенности, ни заинтересованности моей судьбою.
– А что, если я доверюсь тебе, мой мальчик…
– Я буду вам благодарен.
– И сохранишь все в тайне?
– И сохраню все в тайне, отец мой.
– Коли так, то представь себе…
– Отец мой, не вынуждайте меня ничего представлять себе… Откройте мне всю правду.
– Глупыш, неужели ты считаешь меня таким плохим художником, что я должен подписывать под изображенной мною картиной ее название?
– Отец мой, я понял значение этих слов и не стану больше вас прерывать.
– Коли так, то представь себе честь одного из самых знатных домов Испании; спокойствие всей семьи, чувства отца, честь матери, интересы религии, вечное спасение души – и положи все это на одну чашу весов. Как по-твоему, что может все это перевесить?
– Ничто! – порывисто воскликнул я.
– Да ведь тебе и нечего положить на другую чашу; прихоть мальчишки, которому еще нет и тринадцати лет, – вот все, что ты можешь противопоставить требованиям природы, общества и – Бога.
– Отец мой, я проникаюсь ужасом, слушая ваши слова, – неужели же все зависит только от меня одного?
– Да, все зависит от тебя одного.
– Но как же это, я в смущении… я готов на любую жертву… скажите, что же мне делать.
– Принять монашескую жизнь, дитя мое; этим ты осуществишь желание тех, кто тебя любит, обеспечишь себе спасение души и исполнишь волю Господа нашего, который ныне призывает тебя голосами твоих любящих родителей и мольбою служителя небес, который сейчас опускается перед тобой на колени.
И он действительно стал передо мной на колени.
Неожиданная выходка эта была так отвратительна и так напоминала мне напускное смирение, столь привычное в монастырской жизни, что начисто уничтожила действие его речей. Я отшатнулся от протянутых ко мне рук.
– Отец мой, я не могу, я никогда не стану монахом.
– Несчастный! Значит, ты не хочешь внять зову совести, увещаниям родителей и гласу Божию?
Ярость, с которой он произнес последние слова, превратившись вдруг из посланца небес во взбешенного злобного демона, произвела на меня действие, противоположное тому, на которое он рассчитывал. Я спокойно ответил:
– Совесть меня нисколько не мучит, я никогда ничего не делал ей наперекор. Уговоры родителей я слышу только из ваших уст, и я не такого дурного мнения о них, чтобы думать, что они могли на это решиться. А глас Божий, что находит отклик в моем сердце, велит мне не слушать вас и не порочить служение Господу лицемерными обетами.
В то время как я говорил это, духовник весь переменился: выражение лица его, движения и слова – все стало другим, после горячей мольбы и неистовых угроз он мгновенно, с той легкостью, которая бывает лишь у искусных актеров, как бы застыл в суровом безмолвии. Поднявшись с пола, он предстал передо мной подобно тому, как пророк Самуил предстал перед изумленным взором Саула7. За одно мгновение от роли, которую он играл, не осталось и следа: передо мною был не актер, а монах.
– Так, значит, ты не примешь обет?
– Нет, отец мой.
– И не посчитаешься с негодованием родителей и проклятием церкви?
– Я ничем не заслужил ни того ни другого.
– Но ты непременно столкнешься и с тем и с другим, если будешь и дальше упорствовать в своем желании сделаться врагом Господа.
– Оттого, что я говорю правду, я никак не сделаюсь врагом Господа.
– Лжец и лицемер, ты кощунствуешь!
– Довольно, отец мой, такие слова не пристало произносить духовному лицу, да еще в таком месте.
– Упрек твой справедлив, и я принимаю его, хоть он исходит из уст ребенка.
Тут он опустил свои лицемерные глаза, сложил руки на груди и пробормотал:
– Fiat voluntas tua[26], 8. Дитя мое, беззаветное служение Господу и честь твоей семьи, к которой я привязан и умом и сердцем, завели меня слишком далеко, и я это признаю; но неужели я должен просить и у тебя прощения, дитя мое, за избыток беззаветного чувства к семье, отпрыск которой доказал, что начисто этого чувства лишен?
Слова эти, в которых ирония была смешана со смирением, не возымели на меня никакого действия. Он это понял; медленно поднимая глаза, чтобы увидеть, какое впечатление он на меня произвел, он заметил, что я стою в безмолвии, не доверяя голосу своему ни единого слова, дабы оно не оказалось непочтительным и резким, не решаясь поднять глаза, дабы один взгляд их не выразил сразу все, что было у меня в мыслях.
Духовник, должно быть, почувствовал, в сколь трудном положении он очутился. Все это могло поколебать тот авторитет, которым он пользовался в моей семье, и он попытался прикрыть свое отступление, воспользовавшись всем опытом своим и начав плести сеть интриг, к которым привыкли прибегать лица духовного звания.
– Дорогое мое дитя, мы оба с тобой были не правы, я – от избытка рвения, а ты… да не все ли равно почему; мы с тобою должны простить друг друга и вымолить прощение у Господа, перед Которым оба мы согрешили. Дитя мое, падем же перед Ним ниц, и пусть даже сердца наши распалены человеческою страстью, Господь наш может воспользоваться этой минутой и коснуться нас Своей благодатью, запечатлев ее в нас обоих навеки. Часто после землетрясений и вихрей звучит тихий, едва слышный голос, и голосом этим глаголет Господь. Помолимся же Ему.
Я упал на колени, решив, что предамся молитве один. Но очень скоро проникновенные слова священника, красноречие и сила его молитв увлекли меня, и я оказался вынужденным молиться не так, как того хотело мое сердце. Прием этот духовник приберег для конца, и расчет его оказался верен. Мне никогда не случалось слышать ничего, что так бы походило на ниспосланное свыше; когда я помимо воли прислушивался к излияниям, которые, казалось, не могли исходить из уст смертного, я начал вдруг сомневаться в благости побуждений, которые мною владели, и стал снова вопрошать свое сердце. Я не обращал внимания на насмешки духовника, я противился его страстному зову и оказался сильнее; но когда он начал молиться, я неожиданно для себя заплакал. Этот искус сердца – одно из самых тягостных и унизительных испытаний; то, что было добродетелью еще вчера, сегодня становится пороком; мы вопрошаем с тревожным и унылым скептицизмом Пилата9: «Что есть истина?», а оракул, который все время давал такие красноречивые ответы, в эту минуту или вдруг умолкает, или изрекает слова столь двусмысленные, что нам страшно даже подумать, что придется вопрошать его вновь и вновь и до скончания века, а ответа он так и не даст.
Теперь я находился в таком состоянии, что духовнику было бы уже, вероятно, нетрудно достичь своей цели; но он успел устать от роли, которую так неудачно играл, и, прощаясь со мной, призвал меня непрестанно обращаться к небесам, дабы Господь направил меня и просветил. При этом он добавил, что сам он будет молиться всем святым в надежде, что они помогут растрогать сердца моих родителей и вразумят их, как спасти меня от преступного вероломства, которое влечет за собой насильственное посвящение в монахи, и вместе с тем не дать совершить другой грех, еще более тяжкий и великий, если только таковой может быть. С этими словами он ушел; всей силой своего влияния он решил убедить моих родителей принять самые строгие меры, чтобы заставить меня сделаться монахом. У него были достаточно сильные основания для этого и тогда, когда он явился ко мне, но к концу нашего разговора основания эти сделались в десять раз сильнее. Он твердо рассчитывал, что речи его меня убедят, и вместо этого получил отпор. Потерпеть такое поражение было для него позором, и он чувствовал себя уязвленным. Если раньше он был только сторонником моего обращения, теперь он сделался его ярым поборником. То, что прежде было для него делом совести, превратилось теперь в вопрос чести, и я склонен думать, что последнее было для него куда важнее; возможно, правда, что то и другое оказалось связанным воедино.
Как бы там ни было, после его посещения я несколько дней был сам не свой. У меня была надежда, а это нередко лучше, нежели обладание. Чаша надежды всегда возбуждает жажду, чаша ее осуществления обманывает эту жажду или ее утоляет. Я подолгу гулял один по саду. Я затевал воображаемые разговоры с собой. Воспитанники смотрели на меня и говорили так, как им велено было говорить: «Он размышляет о своем призвании, он молит, чтобы его осенила благодать Божия, не будем ему мешать». Я не пытался их в этом разочаровывать, но с возрастающим ужасом думал о системе, которая принуждает людей к лицемерию с самого раннего возраста и ведет к тому, что порок, который в мирской жизни приходит последним, в жизни монастырской появляется у детей раньше всех остальных. Вскоре, однако, я перестал об этом думать и предался мечтам. Я представил себя в отцовском дворце; я увидел, как отец, мать и духовник спорят между собой. Я говорил за каждого и чувствовал за всех. Я проникался страстным красноречием духовника, его же словами рисовал мое отвращение к монашеству, громогласно заявляя родителям моим, что дальнейшие настояния с их стороны и бесполезны, и греховны. Мне снова начинало казаться, что некогда сказанные мною слова произвели впечатление на отца. Я видел, что моя мать уступила. Я слышал, как они перешептывались между собой, с неохотой давая свое сомнительное согласие, как наконец все было решено и меня начали поздравлять. Я видел, как подъехала присланная за мной карета, слышал, как ворота монастыря распахнулись. Свобода! Свобода! Я кидаюсь в их объятия; нет, я припадаю к их стопам. Пусть те, в ком рассказ мой вызовет улыбку, спросят себя, чему они в большей степени обязаны радостями, которые они когда-либо испытали – если в их жизни вообще были радости, – действительности или воображению. Вместе с тем, переживая драмы, которые разыгрывались в эти дни у меня в душе, я не мог избавиться от ощущения, что действующие лица говорят не столь проникновенно, как мне бы того хотелось. Те речи, которые я вкладывал в их уста, сам бы я, вероятно, произнес с гораздо большей живостью и страстью. Однако подобные мечты доставляли мне величайшее наслаждение, и мысль о том, что я все это время обманываю своих товарищей, вряд ли могла его омрачить. Но тот, кто притворяется, сам всегда учит притворству другого, вопрос только в том, суждено ли нам стать мастерами этого искусства или его жертвами. И решает этот вопрос мера нашего себялюбия.
На шестой день я услыхал, как под окнами остановилась карета, и сердце мое забилось. Я узнал ее по звуку колес. Не дожидаясь вызова, спустился я в монастырскую приемную. Я чувствовал, что не мог ошибиться, и оказался прав. В каком-то возбуждении, почти что в бреду, поехал я в отцовский дворец. Мне чудились то примирение, то разрыв, то слезы благодарности, то крики отчаяния.
Меня ввели в комнату, где уже сидели молчаливые и неподвижные как статуи родители мои и духовник. Я подошел к ним, поцеловал им руки и с замирающим сердцем сел неподалеку от них. Первым нарушил молчание мой отец, но говорил он так, словно повторял продиктованную ему роль, и самый голос его, казалось, противоречил словам, которые он готовился произнести.
– Сын мой, – начал он, – я послал за тобой не для того, чтобы вести борьбу с твоим бессильным, но злобным упорством, а для того, чтобы объявить тебе мое решение. Волею небес и родителей твоих тебе предназначено служить Господу, и всякое твое противление этой воле может только сделать нас несчастными, но все равно ничего не изменит.
Я был поражен; чтобы перевести дух, я невольно открыл рот; отец решил, что я собираюсь что-то сказать в ответ, и, хотя в эту минуту я не в силах был вымолвить ни слова, поспешил меня упредить:
– Сын мой, знай, что всякое сопротивление бесполезно, а всякий спор напрасен. Участь твоя решена, и упорство твое может ее только ухудшить, изменить ее оно не может. Примирись, дитя мое, с волею небес и родителей твоих: помни, что, как бы ты ни поносил ее, нарушить ее тебе не дано. Наш досточтимый духовник лучше меня объяснит тебе, сколь необходимо твое повиновение.
И отец в изнеможении от навязанной ему задачи поднялся и хотел уже уйти, но священник удержал его:
– Подождите, сеньор, и, прежде чем уйти, заверьте вашего сына, что я исполнил обещание, которое дал ему последний раз, когда мы виделись с ним, и очень решительно высказал герцогине и вам все то, что, по моему мнению, больше всего послужит ему на благо.
Я знал уже, сколь двусмысленны и лицемерны эти слова, и, собравшись с силами, ответил:
– Святой отец, никакого заступника перед родителями моими мне не нужно. И если в сердце их не найдется такого заступника, посредничество ваше все равно ни к чему не приведет. Я просил вас только об одном: поставить их в известность о том, что никакая сила не заставит меня стать монахом…
Все трое возмущенно меня прервали.
– Никакая сила! Ни за что! – восклицали они, повторяя мои слова. – Неужели ради этого тебя сюда привезли? Неужели ради этого мы столько времени терпели твое непослушание? Только ради того, чтобы ты еще упорнее стоял на своем?
– Да, папенька, ради этого – и только. Если вы не хотите позволить мне говорить, то как же вы терпите мое присутствие в вашем доме?
– Мы надеялись, что увидим твое смирение.
– Позвольте же мне доказать его, став на колени.
И я опустился перед ними на колени, надеясь этим смягчить действие слов, не произнести которых я не мог. Я поцеловал отцу руку, он не отдернул ее, и я почувствовал, что рука его дрожит. Я поцеловал подол юбки у матери; она хотела подобрать его одной рукой, а в это время другою закрыла лицо, и мне показалось, что сквозь пальцы ее сочатся слезы. Я опустился на колени и перед духовником, попросил его благословить меня и, преодолев отвращение, попытался все же поцеловать ему руку, но он не дал мне этого сделать. Резко отдернув руку, он возвел глаза к небу, растопырил пальцы, словно отстраняясь в ужасе от существа, проклятого навеки. Тогда я понял, что мне остается только попытаться еще раз умилостивить отца и мать. Я повернулся к ним, но они отшатнулись от меня, и по всему видно было, что они решили предоставить окончание дела духовнику. Он подошел ко мне ближе.
– Сын мой, – начал он, – ты уверял нас, что твое решение отказаться идти по начертанной Господом стезе непоколебимо, но подумал ли ты о том, что есть на свете силы еще более непоколебимые, чем это твое решение? Силы эти – проклятие Господне, укрепленное проклятием твоих родителей и усугубленное всеми громами церкви, чьи объятия ты отверг и чью святость ты осквернил этим своим отказом?
– Святой отец, вы произнесли страшные слова, но никакие слова сами по себе для меня теперь ничего не значат.
– Глупец несчастный, я не понимаю тебя, да ты и сам себя не можешь понять.
– Нет, понимаю, понимаю! – вскричал я.
И, повернувшись к отцу и все еще продолжая стоять на коленях, я воскликнул:
– Дорогой папенька, неужели жизнь, все, что составляет человеческую жизнь, навсегда теперь заказано мне?
– Да, – ответил за него духовник.
– Значит, для меня нет никакого выхода?
– Никакого.
– И я не могу выбрать себе никакой профессии?
– Профессии! О несчастный выродок!
– Позвольте мне избрать самую презренную, но только не заставляйте меня стать монахом.
– Он не только слабодушен, но и растлен.
– О папенька, – все еще взывал я к отцу, – не позволяйте этому человеку отвечать за вас. Наденьте на меня шпагу, пошлите меня воевать в рядах испанской армии, искать смерти на поле боя, я прошу только одного – смерти. Это лучше, чем та жизнь, на которую вы хотите меня обречь.
– Это невозможно, – ответил отец, который все это время стоял у окна, а теперь подошел ко мне. Лицо его было мрачно. – Дело идет о чести знатного рода и о достоинстве испанского гранда…
– Папенька, какое все это будет иметь значение, если я раньше времени сойду в могилу и если у вас сердце разорвется от горя при мысли о цветке, который вы одним своим словом обрекли на увядание.
Отец вздрогнул.
– Прошу вас удалиться, сеньор, – сказал духовник, – эта сцена лишит вас сил, которые вам нужны, чтобы вечером сегодня исполнить свой долг перед Господом.
– Так, значит, вы меня покидаете? – вскричал я, видя, что родители мои уходят.
– Да, да, – ответил за них духовник, – они покидают тебя, и отцовское проклятие будет отныне тяготеть над тобой.
– Нет, не будет! – воскликнул мой отец; однако духовник схватил его за руку и крепко ее сжал.
– И материнское, – продолжал он.
Я услышал, как моя мать громко всхлипнула, как бы опровергая сказанное, но она не смела вымолвить ни слова, мне же было запрещено говорить. В руках духовника уже было две жертвы; теперь он овладевал и третьей. Он уже больше не скрывал своего торжества. Помедлив немного, он во всю силу своего звучного голоса прогремел:
– И Господнее!
И он стремительно вышел из комнаты, уводя за собой моих родителей, которых он продолжал держать за руки. Меня это поразило как удар грома. В шуршанье их платья, когда он тащил их за собой, мне причудился вихрь, сопровождающий прилет ангела-истребителя.
В порыве безнадежного отчаяния я закричал:
– Ах, был бы здесь мой брат, он заступился бы за меня! – И в то же мгновение я ударился головой о мраморный стол и упал, обливаясь кровью.
Слуги – а как то в обычае у испанской знати, во дворце их было не меньше двухсот – подбежали ко мне. Они подняли крик, мне была оказана помощь; все подумали, что я хотел порешить с собой. Вызванный ко мне врач оказался, однако, человеком сведущим и добросердечным: обрезав волосы с запекшейся на них кровью, он осмотрел рану и нашел, что она неопасна. Такого же мнения была, очевидно, и моя мать, ибо через три дня я был вызван к ней. Я повиновался. Черная повязка, упорная головная боль и неестественная бледность были единственными признаками несчастной случайности, как назвали все происшедшее со мной. Духовник убедил мою мать, что настало время исполнить предназначенное. Как искусно духовные лица владеют секретом заставить каждое событие нашей земной жизни влиять на жизнь грядущую, утверждая вслед за тем, что грядущее наше властвует над настоящим!
Доведись мне даже прожить на этом свете больше, чем положено людям, я никогда не забуду этой встречи с моей матерью. Когда я вошел, она была одна и сидела ко мне спиной. Я стал на колени и поцеловал ей руку. Бледность моя и смиренный вид, казалось, взволновали ее, но она превозмогла это волнение, овладела собой и спросила холодными чужими словами:
– К чему все эти знаки напускного почтения, если сердце твое опровергает их?
– Маменька, я ничего этого не знаю.
– Не знаешь! Почему же ты явился сюда? Почему же ты еще задолго до этого дня заставил отца своего пережить такой позор – упрашивать собственного сына, позор, еще более унизительный оттого, что мольбы его оказались тщетны; почему ты заставил нашего духовника пережить поношение пресвятой церкви в лице одного из ее служителей и отнесся к доводам долга столь же пренебрежительно, как и к голосу крови? Что уж говорить обо мне! Как мог ты заставить меня перенести такую муку, такой великий стыд? – Тут она залилась слезами, и мне казалось, в этих слезах тонет моя душа.
– Маменька, что я сделал худого, чтобы вы так упрекали меня, проливая слезы? Нельзя же счесть мой отказ принять монашество преступлением?
– Да, для тебя это преступление.
– Тогда скажите мне, дорогая маменька, если подобный выбор будет предложено сделать моему брату и он откажется, как и я, это тоже будет сочтено преступлением?
Слова эти вырвались у меня почти непроизвольно, мне просто захотелось сравнить его положение с моим. Я не придавал им никакого другого смысла, и мне в голову не могло прийти, что моя мать может истолковать их иначе, чем как намек на ничем не оправданную пристрастность. Я понял мое заблуждение, когда она сказала вдруг голосом, от которого кровь во мне похолодела:
– Между вами большая разница.
– И правда, маменька, ведь он ваш любимец.
– Нет, Господь тому свидетель, нет!
Моя мать, казавшаяся мне перед этим такой суровой, такой решительной, такой непроницаемой, произнесла эти слова с непосредственностью, которая потрясла меня до глубины души: она, казалось, взывала к небесам, прося их вразумить предубежденного против нее сына. Я был растроган и сказал:
– Но послушайте, маменька, этой разницы в положении я никак не могу понять.
– Так что же, ты хочешь, чтобы ее тебе объяснила я?
– Все равно кто, маменька.
– Я! – повторила она, не слыша моих слов, а вслед за тем поцеловала крест, висевший у нее на груди. – Господи! Наказание Твое справедливо, и я покоряюсь ему, хоть налагает его на меня мой родной сын. Ты – незаконный ребенок, – добавила она, внезапно повернувшись ко мне, – не сравнивай себя с братом, ты – незаконный, и твое вторжение в отцовский дом не только приносит несчастье, но и неустанно напоминает о совершенном мною преступлении, оно усугубляет его и не прощает. – (Язык присох у меня к горлу.) – О дитя мое, – продолжала она, – сжалься над своей матерью. Неужели этого признания, которое вырвал из ее уст собственный сын, недостаточно, чтобы искупить совершенный ею грех?
– Продолжайте, маменька, теперь я все могу вынести.
– Ты и должен все вынести, коли сам вынудил меня говорить с тобой откровенно. Я происхожу из семьи гораздо более низкого звания, чем твой отец, – ты был нашим первым ребенком. Он любил меня и простил мне мою слабость, видя в ней только доказательство того, как я горячо его люблю; мы поженились, и твой брат был уже нашим законным сыном. Отец твой беспокоился о моем добром имени, и, так как свадьба наша была тайной и о дне ее никто ничего не знал, мы уговорились, что будем выдавать тебя за нашего законного ребенка. Взбешенный нашим браком, дед твой в течение нескольких лет не хотел нас видеть, и мы жили в уединении. Ах, лучше бы мне тогда умереть! За несколько дней до смерти дед твой смягчился и послал за нами; тогда не время было признаваться в учиненном нами обмане, и мы представили тебя ему как его внука и наследника его титулов и званий. Но с этого дня я больше не знаю ни минуты покоя. Я ведь осмелилась произнести слова лжи перед лицом Господа нашего и всего света, обращаясь к умирающему свекру, я была несправедлива к твоему брату, я нарушила родительский долг и требования закона. Меня мучила совесть, коря меня не только за порочность мою и обман, но и за святотатство.
– Святотатство?
– Да, каждый час, на который ты откладываешь исполнение обета, украден у Бога. Еще до твоего рождения я посвятила тебя Ему, и это единственное, что я могла сделать во искупление своего греха. Еще тогда, когда я носила тебя во чреве и в тебе не пробудилась жизнь, я набралась смелости молить Его о прощении при единственном условии, что, сделавшись служителем церкви, ты заступишься потом за меня. Я положилась на твои молитвы прежде, чем ты начал лепетать. Я решила доверить покаяние мое тому, кто, усыновленный Господом нашим, искупил бы мой проступок, сделавший его сыном греха. В воображении моем я уже стояла на коленях перед твоей исповедальней, слышала, как ты властью святой церкви и волею небес возвещаешь мне прощение. Я видела, как ты стоишь у моего смертного одра, как прижимаешь распятие к моим холодеющим губам и указуешь на небо, где, как я надеялась, данный мною обет уже уготовил тебе место. Еще до твоего рождения я старалась расчистить твой путь к небесам, и вот как ты меня отблагодарил: упорство твое несет нам обоим погибель, низвергает нас в бездну. О дитя мое, если только молитвы наши и заступничество могут помочь спасти души наших умерших близких от наказания за грехи, внемли мольбе матери твоей, которая еще жива и молит тебя не обрекать ее на вечные муки!
Мне было нечего ответить. Увидев это, моя мать удвоила свои старания убедить меня.
– Сын мой, знай я, что мне надо стать перед тобой на колени, чтобы смягчить твое сердце, я бы простерлась сейчас перед тобой на полу.
– О маменька, один вид такого чудовищного унижения способен убить меня.
– Так ты все равно не уступишь… ни признание, стоившее мне стольких мук, ни спасение души, как моей, так и твоей собственной, ни даже моя жизнь ничего для тебя не значат.
Она увидела, что слова ее повергли меня в дрожь, и повторила:
– Да, моя жизнь; в тот день, когда твое непреклонное решение осудит меня на позор, я наложу на себя руки. Если ты решился, то решилась и я; и я не боюсь последствий этого поступка, ибо Господь воздаст твоей душе, а не моей за преступление, которое принудил меня совершить мой незаконный сын… Но ведь тебе это все нипочем, ты все равно не хочешь смириться. Ну что же! Унижение, которому я подвергаю тело мое, ничто в сравнении с унижением моей души, которого ты от меня уже добился. Я опускаюсь на колени перед собственным сыном и молю его о жизни и о спасении.
И она действительно опустилась передо мной на колени. Я попытался поднять ее, она оттолкнула меня и вскричала хриплым от отчаяния голосом:
– Так ты не смиришься?
– Я этого не говорю.
– Так что же ты тогда говоришь? Не поднимай меня с колен, не подходи ко мне до тех пор, пока ты мне не ответишь.
– Я подумаю.
– Подумаешь! Надо решать.
– Я и решил.
– Что ты решил?
– Я стану тем, кем вы хотите меня видеть.
Стоило мне только произнести эти слова, как моя мать упала к моим ногам, лишившись чувств. В ту минуту, когда я пытался поднять ее и не был окончательно уверен, жива она или в руках у меня уже мертвое тело, я почувствовал, что никогда бы не простил себе, если бы довел ее до этого своим отказом и не посчитался с ее последней мольбой.
* * *
Посыпались поздравления, благословения, объятия и поцелуи. Принимая их, я чувствовал, что руки мои дрожат, губы холодеют, голова идет кругом, а сердце превращается в камень. Все поплыло как во сне. Я видел, как разыгрывается трагедия, но нимало не задумывался над тем, кто должен пасть ее жертвой. Я возвратился в монастырь. Я понял, что судьба моя решена: у меня не было ни малейшего желания уклониться от нее или не дать ей свершиться. Я походил на человека, который видит перед собой огромный механизм, предназначенный для того, чтобы раздробить его на мельчайшие частицы, видит, как этот механизм приводят в движение. Охваченный ужасом, он взирает на него с таким спокойствием, что его легко можно принять за хладнокровного наблюдателя, который старается постичь действие тех или иных колесиков и высчитать всесокрушающую силу удара. Мне довелось читать об одном несчастном еврее[27]: по приказу короля мавров он был брошен на арену, куда выпустили свирепого льва, который перед этим двое суток не получал пищи. Рев изголодавшегося и разъяренного зверя был так страшен, что заставил содрогнуться даже самих исполнителей приговора, когда они связывали несчастного, который в эту минуту оглашал воздух душераздирающими криками. Как ни пытался он вырваться из рук палачей, как ни молил о пощаде, его связали, подняли и бросили на арену. Стоило ему коснуться земли, как силы покинули его, и он остался лежать оцепеневший и уничтоженный. Он больше не испустил ни единого крика, не сделал ни малейшего усилия, он весь съежился и лежал недвижный и бесчувственный, как комок глины.
То же самое случилось и со мной; крики и вся борьба остались где-то позади, меня выкинули на арену, и я теперь лежал там. Я повторял: «Я должен стать монахом», и весь мой разговор с собой на этом кончался. Меня могли хвалить за то, что я выполнил все, что от меня требовалось, или корить за то, что я чего-то не сделал, – я не испытывал ни радости, ни огорчения. Я только твердил себе: «Я должен стать монахом». Когда меня заставляли прогуливаться по монастырскому саду или, напротив, пеняли мне за то, что я позволяю себе слишком много гулять в неположенные часы, я в ответ только повторял: «Я должен стать монахом». Надо, однако, сказать, что наставники мои оказывали мне большое снисхождение. Сын, старший сын герцога де Монсады, принимающий монашество, – это ли не великая победа экс-иезуитов? И они не упускали случая использовать мое обращение в своих интересах. Они спрашивали меня, какие книги мне хотелось бы прочесть. «Какие вам угодно», – отвечал я. Они видели, что я люблю цветы, и комната моя украсилась фарфоровыми вазами с изысканнейшими букетами, которые обновлялись каждый день. Я любил музыку – они узнали об этом, когда я стал принимать участие в их хоре, а это вышло как-то само собою. У меня был хороший голос: владевшая мною глубокая грусть придавала моему пению большую выразительность, и эти люди, никогда не упускавшие случая возвеличить себя или обмануть свои жертвы, уверяли меня, что я пою вдохновенно.
На все эти проявления их снисходительности я отвечал неблагодарностью, чувством, которое, вообще-то говоря, мне совершенно чуждо. Я никогда не читал принесенных ими книг, я пренебрегал цветами, которыми они наполняли мою келью, и если изредка и прикасался к маленькому органу, который они поставили ко мне, то лишь для того, чтобы извлекать из него низкие и печальные звуки. Тем, кто настоятельно требовал, чтобы я развивал мои способности к живописи и музыке, я отвечал все так же бесстрастно:
– Я должен стать монахом.
– Но послушай, брат мой, ведь любовь к цветам, к музыке, ко всему, что может быть посвящено Господу, достойна внимания человека, – ты злоупотребляешь снисходительностью к тебе настоятеля.
– Возможно.
– Ты должен восславить Господа нашего, возблагодарить Его за Его творения, способные радовать взор. – В келье в это время было много красных гвоздик и роз. – Ты должен воздавать Ему хвалу за тот талант, который Он тебе даровал: голос твой – самый богатый и сильный из всех, что слышны в нашем хоре.
– Я в этом не сомневаюсь.
– Брат мой, ты отвечаешь не подумав.
– Я говорю то, что чувствую, но не надо обращать на это внимания.
– Хочешь, погуляем по саду?
– Пожалуйста.
– А может быть, ты хотел бы повидаться с настоятелем и услышать от него слова утешения?
– Пожалуйста.
– Но откуда у тебя это безразличие ко всему? Неужели ты одинаково равнодушен и к аромату цветов, и к ободряющим словам настоятеля?
– Выходит, что да.
– Но почему?
– Потому что я должен стать монахом.
– Брат мой, неужели ты так и будешь повторять все ту же фразу, в которой нет никакого смысла: она ведь свидетельствует лишь о том, что ты совсем отупел или просто бредишь?
– Ну так и считай, что я отупел, что я брежу, все, что твоей душе угодно, – ты знаешь, я должен стать монахом.
Услыхав эти слова, которые я произнес отнюдь не нараспев, как то принято в монастыре, а совсем иным тоном, в разговор вмешался еще один и спросил меня, что это я возвещаю так громко.
– Я только хочу сказать, – ответил я, – что я должен стать монахом.
– Благодари Бога, что с тобой не случилось ничего худшего, – ответил тот, кто мне задал этот вопрос, – упорство твое давно уже, верно, надоело и настоятелю, и всей братии, благодари Бога, что не случилось худшего.
При этих словах я почувствовал, что страсти снова вскипели во мне.
– Худшего! – вскричал я. – А чего мне еще бояться? Разве я не должен стать монахом?
Начиная с этого вечера (не помню уже, когда именно это было) свободу мою ограничили; мне больше не разрешали гулять, разговаривать с другими воспитанниками или послушниками; в трапезной для меня накрыли отдельный стол, причем все места справа и слева от меня оставались незанятыми. Тем не менее келью мою по-прежнему украшали цветы, на стенах висели гравюры, а на столе своем я находил все новые безделушки тончайшей работы. Я не замечал, что окружающие обращались со мной как с умалишенным, а ведь они слышали, как я без всякого смысла повторял несчетное число раз одни и те же слова, и это могло послужить для них оправданием: у них были свои планы, согласованные с духовником, и упорное молчание мое только утверждало их в том, что они думали обо мне. Духовник часто меня навещал, а все эти несчастные лицемеры старались заходить вместе с ним ко мне в келью. Обычно (за отсутствием других дел) я или смотрел на цветы, или любовался гравюрами, а они, войдя, говорили:
– Видите, он счастлив, как только можно быть счастливым, у него все есть, и он занят созерцанием этих роз.
– Нет, я ничем не занят, – отвечал я, – у меня нет никакого занятия.
Тогда они пожимали плечами, обменивались с духовником таинственными взглядами, и я был рад, когда они наконец уходили, не задумываясь о том, какая опасность нависала надо мной именно в эти часы. В это время во дворце герцога Монсады шли совещание за совещанием: надо было решить, в здравом ли я уме и могу ли принять обет. По-видимому, святые отцы, подобно их закоренелым врагам маврам, были озабочены тем, как произвести дурачка в святого. Теперь против меня образовалась уже целая партия, одному человеку было не под силу с ней справиться. Поднялся шум, и люди непрестанно сновали из дворца Монсады в монастырь и обратно. Меня объявляли сумасшедшим, упрямцем, еретиком, дураком – словом, всем чем угодно, лишь бы успокоить ревнивую тревогу моих родителей, корыстолюбие монахов или тщеславие экс-иезуитов, которые подсмеивались над страхами всех остальных и неуклонно блюли свои собственные интересы. Для них очень мало значило, в своем я уме или нет, им было совершенно все равно, причислить ли к своим рядам отпрыска знатнейшего испанского рода, или заковать его в цепи как умалишенного, или же, объявив его одержимым, изгонять из него бесов. Речь шла о coup de thèâtre[28], который должен быть сыгран, и, так как первые роли в этом представлении оставались за ними, их нимало не заботила катастрофа, которая могла разразиться. По счастью, пока длился весь этот шум, поднятый страхом, обманом, притворством и клеветой, настоятель сохранял спокойствие. Он не старался успокоить поднявшееся волнение, ибо оно лишь возвеличивало его собственную роль во всем этом деле, но он твердо стоял на своем: для того чтобы принять обет монашества, я должен доказать, что я действительно в здравом уме. Сам я ничего об этом не знал и был поражен, когда в последний день моего послушания был вызван в приемную. Я неуклонно исполнял все, что от меня требовал монастырский устав, не имел ни одного замечания от поставленного над послушниками священника и был совершенно не подготовлен к тому, что меня ожидало.
В приемной сидели мои отец и мать, духовник и еще несколько человек, которых я не знал. Я подошел к ним ровным шагом и спокойно на них посмотрел. Убежден, что я был в своем уме, как и все присутствовавшие при этой сцене. Настоятель взял меня за руку и провел по комнате, говоря:
– Видите…
– Зачем вы все это делаете? – воскликнул я, прерывая его слова.
Наместо ответа он только приложил палец к губам и попросил меня показать мои рисунки. Я принес их и, став на колени, показал их сначала моей матери, потом отцу. Это были наброски, изображавшие стены монастырей и тюрем. Моя мать отвернулась, а отец оттолкнул их от себя, сказав:
– Совсем мне это не по душе.
– Но вы, разумеется, любите музыку, – сказал настоятель, – вы должны послушать, как он играет и поет.
В соседней комнате был небольшой орган; моей матери не разрешили туда войти, отец же был допущен слушать мое исполнение. Не думая, я выбрал арию из «Жертвоприношения Иеффая»11. Отца она взволновала, и он попросил меня не продолжать. Настоятель решил, что это не только дань уважения моему таланту, но и признание силы его ордена, и рукоплескал сверх всякой меры и порою даже не к месту. До этой минуты мне и в голову не приходило, что из-за меня могут спорить враждующие стороны. Настоятель решил сделать из меня иезуита и поэтому утверждал, что я в здравом уме. Монахам же хотелось, чтобы их потешили изгнанием из меня бесов, либо костром аутодафе, либо еще какой безделицей в том же роде и тем самым скрасили унылое однообразие монастырской жизни. Поэтому они были заинтересованы в том, чтобы я рехнулся или в меня вселились бесы и уж чтобы во всяком случае меня признали умалишенным или одержимым. Однако благие их пожелания так и не были удовлетворены. Будучи вызван в приемную, я вел себя в точности так, как полагалось, и на следующий день мне предстояло принять обет.
На следующий день! О, если бы я только мог описать этот день! Но это невозможно: я погрузился в такое глубокое оцепенение, что перестал замечать вещи, которые, несомненно, поразили бы самого бесстрастного зрителя. Я был настолько погружен в себя, что, хоть в памяти моей и остались сами события, я не в силах воскресить даже слабой тени тех чувств, которые они во мне вызывали. Ночь эту я спал глубоким сном, пока меня не разбудил стук в дверь.
– Дорогое дитя мое, чем ты занят сейчас?
Я узнал голос настоятеля и ответил:
– Отец мой, я спал.
– А я ради тебя, дитя мое, истязал свою плоть; бич покраснел от моей крови.
Я ничего не ответил, ибо понимал, что предатель в большей степени заслужил удары бича, чем тот, кого он предал. Однако я ошибался; настоятеля действительно терзали укоры совести, и он наложил на себя это покаяние не столько за свои собственные прегрешения, сколько по случаю моего упорства и безумия. Но увы! До чего же лжив тот договор с Богом, который мы скрепляем собственной кровью! Не Господь ли сказал, что Он не приемлет ни одной жертвы, даже заклания агнца, совершенной с Сотворения мира! Два раза в течение ночи настоятель тревожил меня, и оба раза я отвечал ему теми же словами. Он, без сомнения, был искренен: он думал, что делает все во имя Бога, и его окровавленные плечи свидетельствовали о его рвении. Но я настолько окостенел духовно, что ничего не чувствовал, не слышал, не понимал. Поэтому, когда он постучал ко мне в келью второй и третий раз, чтобы рассказать мне о том, какому бичеванию он себя подверг и сколь действенным оказалось его общение с Богом, я ответил:
– Неужели же преступник не имеет права выспаться перед казнью?
Услыхав эти слова, которые, должно быть, заставили его содрогнуться, настоятель упал простертый перед дверью моей кельи, а я снова уснул. И сквозь сон до меня долетели голоса монахов, которые подняли настоятеля с пола и унесли его в келью.
Они сказали:
– Он неисправим, вы напрасно перед ним унижаетесь. Вот увидите, когда он станет нашим, это будет совсем другой человек, это он тогда будет лежать простертым перед вами.
Больше я ничего не услышал.
Наступило утро. Я знал, что́ оно должно принести мне; воображение мое рисовало мне всю эту сцену. Мне казалось, что я вижу слезы на глазах у моих родителей и проявление сочувствия со стороны братии. Мне казалось, что руки священников, держащих кадила, дрожат и что дрожь эта передается даже причетникам, придерживающим их рясы.
Неожиданно решение мое переменилось: я ощутил… что же я ощутил? Союз поистине чудовищной злобы, отчаяния и силы. В глазах моих засверкали молнии, мне вдруг подумалось, что я за один миг могу заставить палача и жертву поменяться местами, могу поразить стоящую тут же мать одним только словом, что одной фразой могу разбить сердце моего отца. Я мог посеять вкруг себя больше горя, чем любые человеческие пороки, любая сила, любая злонамеренность способны причинить своей самой презренной жертве. Да, этим утром я чувствовал, что все во мне вступило в борьбу: родственные узы, чувства, угрызения совести, гордость, отчаяние, злоба. Три первых я принес с собой, последние же пробудились во мне за время жизни в монастыре.
– Вы готовите меня в жертву, – сказал я тем, кто был возле меня этим утром, – но стоит мне только захотеть, и я могу сделать так, что жертвами станут все исполнители произнесенного надо мной приговора. – И я расхохотался.
Смех мой привел в ужас всех окружающих; они оставили меня одного и пошли доложить настоятелю о том, в каком состоянии я нахожусь. Он пришел ко мне. Тревога успела охватить весь монастырь; я подрывал его авторитет: приготовления уже были сделаны, и все были уверены, что я стану монахом независимо от того, безумен я или в здравом уме.
Ужас был написан на лице настоятеля, когда он пришел ко мне.
– Что все это значит, сын мой?
– Ничего, отец мой, ровно ничего, просто мне пришла вдруг в голову мысль…
– Мы поговорим об этом в другое время, сын мой, а сейчас…
– Сейчас, – ответил я со смехом, который, должно быть, терзал слух настоятеля, – сейчас я могу предложить вам выбрать одно из двух: пусть отец мой или брат заступят мое место, вот и все. Я никогда не стану монахом.
Услыхав эти слова, настоятель пришел в отчаяние и забегал от стены к стене. Я стал бегать следом за ним, восклицая голосом, который, должно быть, вселял в него ужас:
– Я протестую против обета; пусть те, кто принуждал меня стать монахом, примут всю вину на себя, пусть отец мой самолично искупает свою вину, состоящую в том, что я появился на свет; пусть мой брат пожертвует своей гордостью, почему я один должен платиться за преступление одного и за страсти другого?
– Сын мой, все это было заранее решено.
– Да, я знаю, что приговором Всемогущего я еще во чреве матери был обречен, но я никогда не поставлю своей подписи под этим приговором.
– Что мне сказать тебе, сын мой, ты ведь исполнил уже послушание.
– Да, не понимая того, что происходит со мной.
– Весь Мадрид собрался, чтобы услышать, как ты произнесешь обет.
– Пусть же весь Мадрид услышит, что я отказываюсь произнести его и отрекаюсь от всего, что связано с ним.
– Сегодня наступил назначенный день. Служители Господа приготовились принять тебя в свои объятия. Небо и земля, все лучшее, что есть в нашем бренном мире и в вечности, соединилось и ждет твоих непреклонных слов, которые будут означать твое спасение и обеспечат спасение тех, кого ты любишь. Какой же это бес овладел тобой, дитя мое, и схватил тебя в ту самую минуту, когда ты приближался к Христу, чтобы низвергнуть тебя в бездну и растерзать? Как же теперь я, как наша братия и все те души, которые ты призван спасти молитвами своими от адских мук, ответят Господу за твое страшное отступничество?
– Пусть они отвечают сами за себя: пусть каждый отвечает за себя, этого требует разум.
– О каком разуме может идти речь, заблудшее дитя, когда же это разум вмешивался в дела святой веры?
Я сел, сложил руки на груди и не проронил ни слова. Настоятель стоял, скрестив руки и опустив голову; вид его говорил о том, что он погружен в глубокое и горькое раздумье. Всякий другой мог бы подумать, что в бездонных глубинах мысли он ищет Бога, но я понимал, что он ищет Его всего-навсего там, где найти Его было невозможно, – в недрах сердца, которое «лукаво более всего и крайне испорчено»12. Он приблизился ко мне.
– Не подходите ко мне! – вскричал я. – Вы опять заведете речь о том, что я уже смирился. Говорю вам, покорность эта была напускной! О том, что я неукоснительно исполнял все монастырские правила, – так знайте: все это было ловким обманом, все делалось с тайной надеждой, что в конце концов я смогу от этого избавиться. Теперь я чувствую, что с души моей свалилась тяжесть и совесть моя свободна. Слышите? Понятно вам? Это первые слова правды, произнесенные мною в монастырских стенах, может быть и последние, которые будут здесь сказаны. Так сберегите же их! Хмурьте брови, креститесь и подымайте глаза к небу, сколько вам угодно. Продолжайте же играть свою церковную драму. Скажите, что́ вы сейчас увидели такое страшное, что вы вдруг отпрянули назад и теперь вот креститесь и воздеваете к небу глаза и руки? Человека, которого отчаяние заставило сказать вслух всю жестокую правду! Да, правда, как видно, страшна для обитателей монастыря, у которых вся жизнь искусственна и фальшива, чьи сердца настолько извращены, что даже Господь, которого они лицемерием своим отвратили от себя, не захочет к ним прикоснуться. Но я чувствую, что в эту минуту я все же не столь омерзителен в глазах Господних, сколь был бы, если бы, исполняя то, к чему вы меня хотели принудить, стоял бы у Его алтаря и оскорблял Его произнесением обета, которому так властно противилось мое сердце.
После этих слов – а сказаны они были, должно быть, оскорбительным, вызывающим тоном – я почти был уверен, что настоятель кинется на меня, повалит на пол, вызовет служителей, велит им схватить меня и бросить в монастырскую тюрьму, – а я знал, что такая существует. Может быть, мне этого даже хотелось. Доведенный до крайности, я словно гордился тем, что способен сам довести до подобного же состояния других. В эту минуту я был готов ко всему: к самому страшному потрясению, к головокружительно быстрой перемене моей участи и даже к тяжкому страданию – и чувствовал себя в силах вынести все. Но подобные приступы неистовства очень скоро проходят, доводя нас до полного изнеможения.
Удивленный молчанием настоятеля, я поднял на него глаза. Очень сдержанно, тоном, который самому мне показался неестественным, я сказал:
– Так произнесите же ваш приговор.
Настоятель по-прежнему молчал. Он наблюдал за происходившей во мне переменой и сумел искусно выследить поворот моего душевного недуга, позволявший ему принять свои меры. Он стоял передо мной, кроткий и неподвижный, скрестив руки, опустив глаза, и вид его не выражал ни малейшего негодования. Душевное волнение его ни в какой степени не отразилось на складках его рясы; они лежали так, как будто были вырезаны из камня. Молчание это незаметно смягчило меня: я осуждал себя за резкость. Так мирские люди властвуют над нами силою своих страстей, а люди другого мира – своим уменьем их скрыть.
Наконец он сказал:
– Сын мой, ты восстал против Господа, воспротивился Святому Духу, осквернил Его святилище и оскорбил Его служителя, – но и Его именем, и моим собственным я прощаю тебе все. Суди сам, сколь не похожи наши убеждения, по тому, сколь различно они действуют на нас с тобой. Ты оскорбляешь, поносишь и обвиняешь, я же благословляю и прощаю. Так кто же из нас двоих проникся евангельским духом и кого благословила церковь? Но, оставив в стороне этот вопрос, решить который ты сейчас все равно не можешь, я приведу еще один довод. Если и он не возымеет действия, я больше не стану противиться твоим желаниям или понуждать тебя бесчестить святыню – ведь это только оттолкнет от тебя людей, и сам Господь отвергнет тебя. Добавлю к этому, что сделаю все, что от меня зависит, чтобы облегчить исполнение твоих желаний, ибо они одновременно являются и моими.
Услыхав эти слова, в которых было столько правды и доброй воли, я кинулся было к его ногам, но страх и горький опыт удержали меня, и я только поклонился.
– Обещай мне только, что ты терпеливо дождешься, пока я приведу тебе этот последний довод; подействует он на тебя или нет, нисколько меня теперь не занимает и не тревожит.
Я обещал ему, что наберусь терпения, и он вышел.
Очень скоро он вернулся. Выглядел он несколько более встревоженным, однако всячески старался с собой совладать. Я не мог определить, волнуется он за себя или за меня. Он оставил дверь приоткрытой и первыми же своими словами поразил меня:
– Сын мой, ты хорошо знаешь древнюю историю?
– Но какое это имеет сейчас значение, святой отец?
– Помнишь примечательный рассказ об одном римском генерале13, который презрительно отвергал трибуна, сенаторов и священников, отрекался от своего народа, попирал законы, оскорблял религию, но в конце концов вынужден был уступить голосу крови, ибо, когда его мать пала перед ним ниц и вскричала: «Сын мой, прежде чем ты ступишь на улицы Рима, тебе придется пройти по трупу той, которая носила тебя в своем чреве!» – он смягчился.
– Я все помню, но какое это имеет отношение ко мне?
– А вот какое. – И он распахнул дверь. – Теперь вот доказывай, если можешь, что сердце твое черствее, чем у этого язычника.
Когда дверь открылась, я увидел мою мать, простертую на пороге. Сдавленным голосом она пробормотала:
– Иди, отрекись от обета, но, прежде чем ты свершишь это преступление, тебе придется переступить через труп твоей матери.
Я пытался поднять ее, но она приникла к порогу, продолжая повторять все те же слова, и ее бархатное, отделанное жемчугом платье, раскинувшееся на каменном полу, являло ужасающий контраст унижению, которое она претерпевала, и отчаянию, горевшему в ее глазах, на мгновение поднятых на меня.
Содрогаясь от муки и ужаса, я зашатался и упал. Настоятель воспользовался этим, меня подхватили и отнесли в церковь. Я принял обет целомудрия, бедности и послушания, и участь моя за несколько мгновений была решена.
* * *
День следовал за днем, и так продолжалось долгие месяцы, о которых у меня не осталось никаких воспоминаний, да я и не хотел бы, чтобы они были. За это время я немало всего испытал, но все пережитое ушло куда-то, как морские волны под полуночным черным небом: пусть они еще набегают, но все вокруг окутано мраком, и поэтому нельзя разглядеть их очертаний и проследить, где начинают вздыматься их гребни и куда они низвергаются вслед за тем. Глубокое оцепенение охватило мои чувства и душу, и, может быть, состояние это больше всего подходило к однообразию жизни, на которую я был обречен. Нечего и говорить, что я исполнял все свои монашеские обязанности с добросовестностью, не вызывавшей никаких нареканий, и с апатией, исключавшей всякую похвалу. Жизнь моя походила на море, в котором не стало прибоя. Я всякий раз являлся к мессе с такою же точностью, с какою звонили колокола. В этом отношении я походил на автомат с тончайшим механизмом, который действовал с поистине чудесной слаженностью, всегда бывал исправен и не приносил никаких огорчений сотворившему его мастеру. Ни настоятель, ни монастырская братия не могли бы на меня пожаловаться. Я всякий раз первым занимал свое место в хоре. Я не принимал никаких посетителей в приемной и, когда мне позволяли спуститься туда, никогда этого не делал. Если на меня почему-либо накладывали покаяние, я безропотно его исполнял; если в отношении меня допускали поблажку, я никогда ей не пользовался. Ни разу не просил я, чтобы меня освободили от утрени или от ночных бдений. Сидя в трапезной, я всегда молчал, в саду всегда гулял один. Если жизнь определяется сознательным отношением к ней и актами воли, – то я не думал, не чувствовал, не жил. Казалось, я спал подобно Симоргу в восточном сказании14, но сну этому не суждено было длиться долго.
Отчужденность моя и спокойствие смущали иезуитов. Оцепенение, в котором я пребывал, моя бесшумная походка, устремленные в одну точку глаза, зловещее молчание – все это легко могло внушить склонным к суеверию монахам, что это не кто иной, как злой дух, принявший образ человека, бродит в стенах обители и появляется в хоре. Но они на этот счет держались совсем другого мнения. Они видели во всем этом молчаливый упрек с моей стороны и относили его ко всем ссорам, склокам, интригам и обману, в которые они были погружены с утра до вечера – и телом, и душой. Может быть, они думали, что я избегаю общения с ними для того, чтобы лучше наблюдать их со стороны. Может быть, в монастыре тогда им нечем было занять себя и не на что устремить свое недовольство – и для того и для другого нужно совсем немного. Так или иначе, они снова стали повторять старую историю о том, что я не в своем уме, и решили извлечь из нее все, что им было на руку. Они перешептывались в трапезной, совещались друг с другом в саду, качали головой, указывали на меня пальцем в стенах обители и в конце концов – я в этом уверен – старались проникнуться убеждением, что все, чего они хотят или что им кажется, – сущая правда. Потом всем им стало интересно выяснить, что же со мной происходит, и несколько человек во главе со старым монахом, лицом влиятельным и славившимся своим безупречным поведением, явились к настоятелю. Они рассказали ему о том, что я рассеян, что делаю все машинально, наподобие автомата, что слова мои лишены всякого смысла, что молюсь я с тупым безразличием ко всему, что царящий в обители дух благочестия мне совершенно чужд и, хоть я с особым тщанием исполняю все монастырские правила, я делаю это с деревянным безразличием, и с моей стороны это не более чем насмешка над ними. Настоятель выслушал их с полнейшим равнодушием. Он поддерживал тайные отношения с моей семьей, общался с духовником моей матери и дал себе обещание сделать из меня монаха. Ему удалось добиться своего с помощью усилий, о последствиях которых я рассказал, и теперь уже для него не имело большого значения, в своем я уме или нет. Он весьма решительно запретил им вмешиваться в это дело, сказав, что будет наблюдать за мною сам. Монахи удалились, потерпев поражение, но отнюдь не потеряв надежды, и обещали друг другу следить за мной; иными словами, терзать меня, преследовать и стараться, чтобы я стал таким, каким сделали меня в их глазах их же собственные злоба, любопытство или даже самая обыкновенная праздность и желание хоть чем-нибудь поразвлечься. С этого дня уже все обитатели монастыря начали плести интриги и сделались участниками заговора, который был направлен против меня. Как только слышались мои шаги, двери поспешно захлопывались; вместе с тем трое или четверо из них оставались в коридоре, по которому я проходил: они перешептывались между собою и, откашлявшись, делали друг другу условный знак и начинали громко говорить о каких-нибудь пустяках, стараясь, чтобы я услыхал их слова и сообразил, что делают они это нарочно и что последним предметом их разговора был именно я. В душе я смеялся над ними. Я говорил себе: «Несчастные развращенные существа! Какие нелепые представления вы разыгрываете и на какие измышления вы пускаетесь, лишь бы чем-нибудь скрасить вашу праздность и душевную пустоту; вы боретесь со мной – ну что же, я подчиняюсь». Вскоре сети, которыми они решили меня оплести, стали все больше стягиваться вокруг меня. Люди эти стали то и дело попадаться на моем пути, причем с таким упорством, что мне никак не удавалось избежать этих встреч, и стали выказывать мне такое расположение, что я не решался их оттолкнуть. С подкупающей лаской они говорили мне: «Дорогой мой брат, ты что-то грустишь, тебя снедает печаль, да поможет нам Господь нашим братским участием развеять твое уныние. Но откуда все-таки взялась тоска, которая так подтачивает твои силы?» Слыша такие слова, я не мог удержаться и не посмотреть на них глазами, полными упрека и, должно быть, слез, но я не отвечал им. Уже само состояние, в котором они увидели меня, было достаточной причиной для уныния, которым они же меня попрекали.
* * *
После того как эта попытка их не удалась, они прибегли к другому способу. Они начали стараться вовлечь меня в монастырские распри. Они рассказали мне множество всяких вещей о несправедливых пристрастиях и несправедливых наказаниях, которые каждодневно можно было наблюдать в обители. То они заводили речь о каком-то больном монахе, которого заставляли ходить на утрени, невзирая на предупреждение врача, что ему это может стоить жизни, – и он действительно умер, и в то же время любимца своего, молодого монаха, отличавшегося цветущим здоровьем, освобождали от посещения утрень всякий раз, как только ему этого хотелось, и позволяли ему нежиться в постели до девяти часов. Другие жаловались на непорядки в исповедальне, и слова их, может быть, и возымели бы на меня свое действие, если бы третьи не добавляли, что с церковной кружкой дело обстоит неблагополучно. Это сочетание разноречивых толков, этот разительный переход от жалоб на пренебрежение к тайнам души в ее самом сокровенном общении с Богом к самым низменным подробностям разъедающих монастырскую жизнь злоупотреблений – все это восстановило меня против этой жизни.
До той поры я хоть и с трудом, но все же скрывал свое отвращение, но теперь оно сделалось настолько явным, что общине на какое-то время пришлось отказаться от своих планов в отношении меня, и одному умудренному опытом монаху было поручено сопутствовать мне в моих одиноких прогулках после того, как я стал избегать всяких встреч с другими. Он подошел ко мне:
– Брат мой, ты гуляешь один?
– Я хочу быть один.
– Но почему?
– Я не обязан ни перед кем отчитываться в своих поступках.
– Это верно, но мне ты можешь доверить все свои побуждения.
– Мне нечего вам доверить.
– Я это знаю, я не имею никакого права рассчитывать на твое доверие; побереги его для более достойных друзей.
Поведение его мне показалось странным: он просил меня оказать ему доверие и в то же время заявлял, что понимает, что мне, в сущности, нечего ему доверить, прося одновременно, чтобы я избрал для этой цели более близкого друга. Я, однако, молчал до тех пор, пока он не сказал:
– Брат мой, тебя же снедает тоска.
Я продолжал молчать.
– Если на то будет Господня воля, я помог бы тебе найти средства справиться с нею.
– И что, эти средства вы рассчитываете найти в стенах монастыря? – спросил я, посмотрев ему в глаза.
– Да, дорогой брат, да, конечно, весь монастырь, например, обсуждает теперь, в какие часы лучше начинать утрени, настоятель хочет, чтобы они опять начинались в положенный час, как раньше.
– А велика ли разница?
– Целых пять минут.
– Действительно, это очень важный вопрос.
– О, стоит тебе только один раз это понять, как ты обретешь в монастырской жизни счастье, и ему не будет конца. Здесь постоянно что-то узнаешь, о чем-то тревожишься, из-за чего-то споришь. Дорогой брат, постарайся вникнуть в эти вопросы, и тебе не придется тогда жаловаться на скуку – у тебя не останется ни одной свободной минуты.
Я пристально на него посмотрел и сказал спокойно, но, должно быть, достаточно выразительно:
– Выходит, что мне надо возбудить в себе раздражение, недоброжелательство, любопытство – словом, любую из тех страстей, от которых меня должна была спасти ваша обитель, – и все это только для того, чтобы жизнь в этой обители оказалась мало-мальски сносной. Простите меня, но я не могу, подобно вам, выпрашивать у Господа позволение заключить союз с Его врагом против порчи нравов, если, молясь об избавлении от нее, я в то же время поддерживаю ее сам своими поступками.
Монах ничего не ответил; он только воздел к небу руки и осенил себя крестным знамением.
– Да простит вам Господь лицемерие ваше, – прошептал я, а он в это время продолжал свою прогулку и, обращаясь к товарищам, повторял:
– Он рехнулся, окончательно рехнулся.
– Так что же теперь делать? – стали спрашивать все.
В ответ я услышал только сдержанный шепот. Я увидел, как несколько голов наклонились друг к другу. Я не знал, что замышляют эти люди, да мне это было и не важно. Я гулял один – был чудесный лунный вечер. Я видел, как лунный свет струится сквозь листву деревьев, но мне казалось, что передо мной не деревья, а стены. Стволы их были словно из адаманта, и сомкнутые ветви их, казалось, говорили: «Теперь тебе никуда от нас не уйти».
Я сел у фонтана, под сенью высокого тополя, место это я хорошо помню. Пожилой священник (незаметно подосланный ко мне общиной) уселся возле меня. Он начал свою речь с самых избитых утверждений о бренности земного существования. Я покачал головой, и у него хватило такта, который все же не чужд иезуитам, понять, что этим он от меня ничего не добьется. Тогда он переменил тему разговора и стал говорить о том, как хороша листва и какая чистая вода в фонтане. Я согласился с ним.
– О, была бы наша жизнь такой чистой, как эта струя! – добавил он.
– О, если бы эта жизнь так же зеленела для меня, как это дерево, и так же могла приносить плоды, как этот тополь! – И я вздохнул.
– Сын мой, а разве не случается, что источники пересыхают, а деревья вянут?
– Да, отец мой, да, источник моей жизни был иссушен, а зеленая ветвь ее навсегда загублена ветром.
Произнося эти слова, я не мог удержаться от слез. Священник воспользовался тем, что, по его словам, было минутой, когда Господь дохнул на мою душу. Мы говорили с ним очень долго, и наперекор своему обыкновению и против воли я слушал его упорно и внимательно, ибо не мог не заметить, что среди всей монастырской братии это был единственный человек, который ничем не досаждал мне – ни до того дня, когда я принял монашество, ни после; когда обо мне говорилось все самое худшее, он, по-видимому, просто не слушал и всякий раз, когда его собратья высказывали в отношении меня самые зловещие предположения, качал головой и ничего не говорил. Репутация его была безупречной, и он исполнял все монастырские обязанности с такой же образцовой точностью, как и я. При этом я не испытывал к нему доверия, как вообще ни к одному человеческому существу; но я терпеливо выслушивал его, и терпение мое подвергалось, по-видимому, не совсем обычному испытанию, ибо по прошествии часа (я не заметил, что беседа наша затянулась дольше положенного времени и что замечания нам никто не сделал) он все еще повторял: «Сын мой, ты еще примиришься с монастырской жизнью».
– Никогда, отец мой, никогда, разве что до завтра источник этот иссякнет, а дерево засохнет.
– Сын мой, чтобы спасти человеческую душу, Господь совершал еще более великие чудеса.
Мы расстались, и я вернулся к себе в келью. Я не знаю, чем были заняты в ту ночь он и другие монахи, но перед утреней в монастыре поднялся такой шум, что можно было подумать, что весь Мадрид охвачен пожаром. Воспитанники, послушники и монахи сновали из кельи в келью, причем никто их не останавливал и ни о чем не спрашивал, – казалось, что всякому порядку настал конец. Ни один колокол не звонил, не слышно было никаких приказаний соблюдать тишину; казалось, что монастырские власти навсегда примирились со всем этим гомоном. Из окна моего я видел, как люди бегают во всех направлениях, обнимают друг друга, что-то громко восклицают, молятся, дрожащими руками перебирают четки и восторженно воздевают глаза к небу. Веселящийся монастырь – зрелище странное, противоестественное и даже зловещее. Я сразу же заподозрил что-то недоброе, однако сказал себе: «Худшее уже позади, второй раз сделать меня монахом они не могут».
Сомнения мои длились недолго. Я услышал множество шагов, приближавшихся к моей келье, множество голосов, повторявших: «Скорее, дорогой брат, беги скорее в сад!» Выбора для меня не было: меня окружили и почти силой вытащили из кельи.
В саду собралась вся община; там находился и настоятель, который не только не старался подавить общее смятение, но, напротив, как будто поощрял его. На лицах у всех была радость, а глаза как-то неестественно сверкали; но весь этот спектакль поразил меня своим лицемерием и фальшью. Меня повели или, вернее, потащили к тому самому месту, где я так долго сидел и разговаривал накануне вечером. Источник иссяк, и дерево засохло. Я был так поражен, что не мог вымолвить ни слова, а все вокруг меня повторяли: «Чудо! Чудо! Сам Господь избрал тебя и отметил своей печатью».
Настоятель сделал им знак замолчать. Спокойным голосом он сказал, обращаясь ко мне:
– Сын мой, от тебя хотят только одного – чтобы ты поверил в подлинность того, что ты видишь сейчас. Неужели ты усомнишься в собственных чувствах, вместо того чтобы поверить в могущество Господа нашего? Пади перед Ним сейчас же ниц и торжественно и благоговейно признай, что милость Его снизошла до чуда, дабы привести тебя ко спасению.
Все, что я увидел и услышал, не столько растрогало меня, сколько смутило, но я бросился перед всеми на колени, как мне было велено. Я сложил руки и воскликнул:
– Господи, если Ты действительно сотворил это чудо ради меня, то я верю, что Ты озаришь меня Своей благодатью и просветишь меня, чтобы я мог объять его разумом своим. Душа моя темна, но Ты можешь принести в нее свет. Сердце мое очерствело, но Твоя всемогущая сила может коснуться его и смягчить. Воздействие, которое Ты оказываешь на него в это мгновение, шепот, ниспосланный в его сокровенные глубины, – не меньшее благо, чем то действие, которое Ты оказал на предметы неодушевленные и которое ныне только повергает меня в смятение…
Настоятель прервал мою речь.
– Замолчи, ты не должен произносить таких слов, – сказал он, – сама вера твоя лжива, а молитва оскорбительна для Того, к чьей милости она собирается взывать.
– Отец мой, скажите, какие слова мне надлежит произнести, и я повторю их вслед за вами: пусть я даже не проникся убеждением, я во всяком случае вам повинуюсь.
– Ты должен попросить прощения у всей общины за оскорбление, которое ты нанес ей тем, что молча противился той жизни, к которой она призвана Господом.
Я исполнил то, что он требовал.
– Ты должен возблагодарить общину за ту радость, которую она выказала, когда свершилось чудо, подтвердившее истинность твоего призвания.
Я исполнил и это.
– Ты должен также выразить признательность Господу нашему за вмешательство высшей силы, которое нам дано было узреть и которое Он явил не столько для того, чтобы убедить людей в благости Своей, сколько для того, чтобы на веки вечные прославить обитель сию, которую Ему угодно было прославить и возвысить совершенным в ней чудом.
Некоторое время я колебался, но потом сказал:
– Отец мой, позвольте мне произнести эту молитву про себя.
Настоятель в свою очередь задумался; он решил, что не стоит требовать от меня слишком многого, и наконец сказал:
– Как тебе будет угодно.
Я продолжал стоять на коленях на земле возле дерева и источника. Теперь я простерся ниц, приник головой к земле и горячо молился про себя, окруженный всею братией, однако слова моей молитвы были совсем не похожи на те, каких они в эту минуту от меня хотели. Когда я поднялся с колен, не меньше половины всей братии подошли ко мне и стали меня обнимать. Иные из них действительно проливали слезы, однако исходили эти слезы уж во всяком случае не из сердца. От проявлений лицемерной радости страдает только сама жертва обмана, а лицемерная печаль унижает прежде всего того, кто ее разыгрывает.
Весь этот день превратился в какой-то сплошной праздник. Моления были сокращены, к обычной трапезе добавлены были сладости; каждому было позволено заходить в чужую келью, не испрашивая на то особого разрешения настоятеля. Подарки: шоколад, нюхательный табак, ледяная вода, ликеры и, что было всего приятнее и нужнее, салфетки и полотенца из тончайшей белоснежной камчатной ткани – раздавались всем. Настоятель затворился на полдня с двумя благоразумными братьями, как их принято называть (иначе говоря, с теми, кто избирается для совещаний с настоятелем из числа старых, ни на что не способных монахов, подобно тому, как папа Сикст15 был избран, ибо его сочли глупым), для того чтобы подготовить достоверный отчет о свершившемся чуде, который предстояло разослать по главным монастырям Испании. Не было никакой надобности сообщать эту новость в Мадрид: там уже знали о чуде через час после того, как оно свершилось, – злые языки утверждают даже, что часом раньше.
Должен признаться, что радостная суета, наполнившая этот день, столь не похожая на все, что мне прежде доводилось видеть в обители, имела для меня самые неожиданные последствия. Я превратился в баловня, сделался героем празднества – а в монастырских празднествах есть всегда что-то нелепое и противоестественное, – мне, можно сказать, начали поклоняться. Да я и сам поддался общему опьянению, на какое-то время поверив, что я действительно избранник Божий. Я стал всячески возвеличивать себя в собственных глазах. Если такое самообольщение греховно, то я очень скоро искупил свой грех. На следующий же день водворился обычный порядок, и я убедился, что приведенная в смятение община может очень быстро вернуться к своей размеренной и строгой жизни.
Последовавшие за этим дни только подтвердили это убеждение. Монастырская жизнь подвержена частым колебаниям: сегодня щедро делаются те или иные поблажки, а назавтра восстанавливается самая жестокая дисциплина. Через несколько дней я получил разительное подтверждение того, что мое отвращение к монашеской жизни, несмотря на совершенное чудо, имело веские основания. Мне довелось узнать, что один из братии совершил какой-то мелкий проступок. По счастью, этот мелкий проступок совершил дальний родственник толедского архиепископа, и состоял он всего-навсего в том, что тот явился в церковь в пьяном виде (редкий среди испанцев порок), пытался стащить проповедника с амвона, а когда ему это не удалось, взобрался на алтарь, раскидал свечи, опрокинул сосуды и дароносицу и, точно дьявол когтями, принялся царапать висевший над престолом образ, бесстыдно при этом богохульствуя и даже произнося перед ликом Богоматери слова, повторить которые невозможно. Был созван совет. Можно себе представить, в каком смятении пребывала в это время монастырская братия. Все, кроме меня, были обеспокоены и взволнованы. Много было разговора о суде Инквизиции – ведь учинено было такое бесстыдство, такое непростительное святотатство, что и речи не могло быть о каком-либо снисхождении. Через три дня, однако, приказом архиепископа дело было приостановлено, и на следующее же утро совершивший кощунство юноша появился в зале иезуитов, где собрались настоятель и несколько монахов, прочел короткую епитимью, написанную одним из них на низменное слово Ebrietas[29], и отбыл из монастыря, для того чтобы занять прибыльное место в епархии родственника своего, архиепископа. А день спустя после этого позорного случая, обнаружившего потворство злу, обман и святотатство, один из монахов попался на том, что в неположенное время зашел в соседнюю келью вернуть взятую им книгу. В наказание за эту провинность его заставили три дня подряд во время трапез сидеть босым на каменном полу в вывернутой наизнанку рясе. Его заставили во всеуслышание признать себя виновным во всевозможных преступлениях, причем среди них были и такие, которых не следовало бы называть, и после каждого признания восклицать: «Господи, Ты справедливо меня наказал».
На другой день обнаружили, что нашлась добрая душа, которая подстелила ему коврик. Тотчас же волнение охватило весь зал. Несчастного обвинили в том, что он пытается уклониться от наказания, которое было для него равносильно смерти, – сидеть или, вернее, лежать на каменном полу. Должно быть, коврик этот ему принес из жалости кто-нибудь из монахов. Сразу же началось следствие. Юноша, которого я прежде не замечал, встал из-за стола и, опустившись на колени перед настоятелем, признал свою вину. Настоятель строго на него посмотрел, а потом удалился вместе с несколькими престарелыми монахами на совещание, дабы обсудить это новое преступление, а через несколько минут зазвонил колокол в напоминание о том, что все должны разойтись по кельям. Дрожа от страха, мы все удалились и, простертые у себя в кельях перед распятием, молились и думали о том, кто же теперь явится новой жертвой и каково будет наказание.
Юношу этого мне потом довелось видеть всего только раз. Это был отпрыск богатого и влиятельного рода, но никакое богатство не могло облегчить его участь и смягчить дурное мнение, которое сложилось о нем в монастыре, иначе говоря, у тех четырех монахов, людей строгих правил, с которыми настоятель совещался в тот вечер. Иезуиты любят заискивать перед людьми сильными, но еще больше – быть сильными сами. Совещание пришло к выводу, что виновник должен быть подвергнут в их присутствии унизительному для него покаянию. Ему объявили это решение, и он подчинился. Он повторил вслед за ними слово в слово все, что они заставили его сказать.
Потом он снял рубаху и принялся хлестать себя бичом по голым плечам до тех пор, пока кровь не полилась ручьями, повторяя после каждого удара: «Господи, прости меня за то, что я посмел чем-то помочь брату Павлу и облегчить его участь, в то время как он нес заслуженное им наказание».
Он исполнил все, что от него требовали, втайне все же надеясь, что при первом удобном случае снова постарается чем-нибудь помочь брату Павлу и выручить его. Он был уверен тогда, что наказание этим и ограничится. Ему велели вернуться в келью. Он ушел к себе, однако монахи не удовлетворились произведенным ими расследованием. Они давно уже подозревали брата Павла в распущенности и рассчитывали получить подтверждение этого от юноши, участие которого в судьбе несчастного только укрепило их подозрения. Все человеческие чувства в монастыре принято считать пороками. Только юноша этот лег в постель, как они снова окружили его. Они сказали, что явились по распоряжению настоятеля, для того чтобы наложить на него новое покаяние, которое будет длиться до тех пор, пока он не признается, что́ побуждает его принимать такое горячее участие в судьбе брата Павла. Напрасно он восклицал: «У меня нет к нему никакого другого влечения, кроме сочувствия и сострадания!» Слов этих они не могли понять. Напрасно он просил: «Я приму любую епитимью, которую настоятелю будет угодно на меня наложить, но плечи мои все еще в крови». И он показывал свои кровоточащие раны. Истязатели не знали жалости. Его вытащили из кровати и стали хлестать бичом с такой яростью, что наконец, совсем обезумев от стыда, отчаяния и боли, он вырвался из их рук и кинулся бежать по коридору, взывая о помощи и прося пощады. Монахи все были у себя в кельях; ни один из них не осмелился вмешаться; они только вздрогнули и повернулись на другой бок на своих соломенных постелях.
Это был канун дня святого Иоанна Богослова, и мне было приказано провести то, что в монастырях называют «часом размышления о грехах», в церкви. Я повиновался этому приказанию и лежал простертый, припав лицом и телом к мраморным ступенькам алтаря и уже ничего почти не ощущая от усталости, когда вдруг услышал, что часы бьют двенадцать. Тут я увидел, что назначенный час истек, а я так ни о чем и не поразмыслил. «И так вот всегда, – подумал я, поднимаясь с колен, – сами они сначала лишают меня возможности думать, а потом требуют, чтобы я размышлял о своих грехах».
Идя по коридору, я услышал страшные крики и содрогнулся. Вдруг навстречу мне метнулось какое-то привидение. «Satana vade retro, apage Satana!»[30], 16 – вскричал я, бросившись на колени. Голый, истекавший кровью человек пронесся мимо меня, неистово крича от ярости и боли. За ним гнались четверо монахов со свечами в руках. Я запер дверь в конце коридора, сообразив, что они должны будут еще вернуться и снова пробежать мимо меня: я все еще стоял на коленях и дрожал от головы до ног. Несчастный добежал до двери, увидел, что она заперта, и, собравшись с силами, остановился. Я обернулся: глазам моим предстала группа, достойная того, чтобы ее изобразил Мурильо17. Несчастный юноша отличался на редкость красивым телосложением. Поза его выражала отчаяние, потоки крови струились по его телу. Монахи, в своих черных рясах, со свечами в руках, держали наготове бичи и походили то ли на скопище дьяволов, которым удалось захватить заблудшего ангела, то ли на фурий, которые преследуют обезумевшего Ореста18. И в самом деле, даже среди творений древних скульпторов нельзя было найти фигуры, которая изяществом своим и совершенством форм могла бы сравниться с той, которую они сейчас так варварски истязали. Как ни был мой дух угнетен тем, что все способности столько времени во мне подавлялись, зрелище это было так жестоко, что мгновенно его пробудило. Я кинулся защищать несчастного, ввязался в борьбу с монахами, и при этом у меня вырвались какие-то слова; сам я начисто их забыл, но зато они потом припомнили их во всех подробностях, какие способна воскресить в человеческой памяти злоба, и преувеличили все, как только могли.
Не помню уж, что было потом, но в конце концов меня на целую неделю заперли в келью за то, что я столь дерзко нарушил монастырскую дисциплину. А на несчастного послушника, воспротивившегося этой дисциплине, было наложено дополнительное покаяние, такое суровое, что от стыда и всех мук он потерял рассудок. Он стал отказываться от пищи, не мог уснуть и умер через неделю после ночи истязаний, свидетелем которых я стал. Это был юноша на редкость мягкий и обходительный; он увлекался литературой, и даже монашеское обличие не могло скрыть изысканную прелесть всего его существа и манеры себя держать. Как бы украсили его эти качества, живи он в свете! Пусть даже свет мог употребить их во зло и извратить их, но разве привело бы все это к такому страшному и трагическому исходу? Могло ли быть, чтобы мирская жизнь довела его сначала до безумия, а потом обрекла на гибель? Похоронили его в монастырской церкви, и надгробное слово произнес сам настоятель. Да, настоятель! Тот, кто приказал или разрешил и уж во всяком случае допустил, чтобы он был доведен до безумия, добиваясь, чтобы он признался в низменных побуждениях, которых на самом деле у него никогда не было.
Во время всей этой ханжеской церемонии отвращение мое возросло до крайних пределов. Если раньше я испытывал неприязнь к монастырской жизни, то теперь я ее презирал; каждому, кто знает человеческую натуру, известно, что искоренить это чувство гораздо труднее, нежели обычную неприязнь. Недолго мне пришлось ждать, чтобы оба эти чувства проявились еще раз. Стояло очень жаркое лето, и началась эпидемия, которая проникла в стены монастыря: каждый день двоих или троих отправляли в больницу, а ухаживать за больными поручалось поочередно тем, кто должен был искупать покаянием разные мелкие провинности. Мне очень хотелось попасть в их число; я даже решил, что непременно совершу какой-нибудь легкий проступок, дабы навлечь на себя это наказание, которое в моих глазах было самой высокой наградой. Признаться ли вам, сэр, почему именно я этого добивался? Мне хотелось знать, какими становятся эти люди, когда в силу обстоятельств им приходится скинуть личину, которую они носят в монастыре, когда вызванные недугом страдания и приближение смерти вырывают у них полные откровенности признания. Я втайне предвкушал, что в предсмертной исповеди своей каждый из них признается в том, что обманным путем хотел завлечь меня, будет раскаиваться в причиненном мне зле и что немеющие уже губы будут молить меня о прощении… и мольба их не окажется тщетной.
Желанию этому, хоть и вызванному жаждой возмездия, можно было все же найти оправдание; однако вскоре я был избавлен от необходимости что-то делать, чтобы оно осуществилось. В тот же самый вечер настоятель прислал за мной и распорядился, чтобы я ухаживал за больными, освободив меня от обязанности посещать вечернюю службу. На первой кровати, к которой я подошел, оказался брат Павел. Он так и не поправился от последствий недуга, сразившего его в то время, как он нес свое покаяние; кончина молодого послушника, которого так безжалостно и незаслуженно истязали, окончательно его сразила.
Я пытался заставить его принять лекарства, удобнее уложить его в постели. Никто за ним не ухаживал. Он отказался и от того и от другого и слабым движением руки отстранил меня, сказав:
– Дайте мне хотя бы умереть спокойно.
Немного погодя он открыл глаза и узнал меня. По лицу его пробежала едва заметная улыбка: он ведь помнил, с каким участием я относился к его несчастному другу.
– Так это ты? – спросил он едва слышным голосом.
– Да, брат мой, это я. Скажи мне, могу ли я хоть чем-нибудь облегчить твою участь?
Он долго молчал, а потом вдруг ответил:
– Да, можешь.
– Так скажи мне как.
Голос его, и до этого едва слышный, почти совершенно замер, и он прошептал:
– Не подпускай никого из них ко мне, когда я буду умирать, тебе не придется долго со мной возиться, час этот близок.
Я крепко сжал его руку в знак того, что обещаю ему это сделать. Но я почувствовал, что в этой просьбе умирающего таится что-то ужасное и вместе с тем неподобающее.
– Милый брат мой, ты, значит, чувствуешь, что скоро умрешь? Так неужели же ты не хочешь, чтобы вся община за тебя помолилась? Неужели ты отказываешься от благодати – от последнего причащения?
В ответ он только покачал головой, и боюсь, что я слишком хорошо его понял.
Я не стал больше докучать ему, а спустя несколько минут он уже совсем невнятно пробормотал:
– Не дай им… дай мне умереть. Они не оставили мне сил для других желаний.
Глаза его закрылись; я сидел у изголовья и держал его руку в своей. Сначала я еще ощущал, что он пытается пожать ее; потом движения его сделались все слабее, пальцы разжались. Брат Павел испустил дух.
Я продолжал сидеть возле него, все еще держа его похолодевшую руку, как вдруг стон, донесшийся с соседней кровати, вывел меня из забытья. Там лежал старый монах, тот самый, с кем я вел долгий разговор в ночь накануне чуда, в которое я все еще твердо верил.
Я успел заметить, что у человека этого очень мягкий характер, что он приветлив и обходителен с другими. Очевидно, качества эти у мужчин всегда сочетаются с крайней вялостью ума и холодностью души. (У женщин все это бывает иначе, но весь мой жизненный опыт неизменно убеждал меня, что когда в характере мужчины обнаруживаются черты женской мягкости и уступчивости, то за этим следуют предательство, вероломство и бессердечие.) И во всяком случае если такие качества налицо, то монастырская жизнь особенно способствует тому, чтобы человек еще более ослабел душевно, притом что видом своим и манерами он будет располагать к себе окружающих. Когда человек делает вид, что он хочет помочь другим, а в действительности у него нет для этого ни сил, ни даже настоящего желания, то он тешит этим и свои собственные слабости, и еще большие слабости тех, на кого он направляет свое внимание. Монах, о котором идет речь, всегда считался человеком очень слабохарактерным, и вместе с тем в нем было какое-то особое обаяние. Его постоянно использовали для того, чтобы завлекать в монастырь новых послушников. Теперь он умирал; подавленный тяжелым состоянием, в котором он находился, я ни о чем не думал, кроме тех мер, которые надлежало немедленно принять, и я спросил его, чем я могу ему помочь, готовый сделать все, что было в моих силах.
– Мне ничего не надо, я хочу только умереть, – ответил он.
Лицо его оставалось совершенно спокойным, но в этом спокойствии было не столько смирения, сколько безразличия.
– Значит, вы совершенно уверены, что вы уже на пути к вечному блаженству?
– Я ничего об этом не знаю.
– Как же это, брат мой? Может ли быть, чтобы умирающий произносил такие слова?
– Да, если он говорит правду.
– Но если он монах… если он католик?
– Все это пустые слова. Сейчас я, во всяком случае, ощущаю в себе эту правду.
– Вы меня поражаете.
– Мне уже все равно… Я стою на краю пропасти… должен кинуться вниз, и совершенно не важно, подымут ли при этом крик люди, которые это увидят.
– Но ведь вы же выразили желание умереть?
– Желание! Скажите лучше – нетерпение! Я только маятник, который шестьдесят лет кряду отбивал одни и те же часы и минуты. Не пора ли этому механизму захотеть, чтобы его завели? Жизнь моя до того однообразна, что всякий переход, даже к страданию, может быть только благом. Словом, я устал и мне хочется перемены.
– Но ведь и я, и вся монастырская община уверены, что вы сделались монахом по призванию.
– Все, что вам казалось, было обманом… Я жил обманом… Я весь был обман. В мой смертный час я прошу прощения за то, что говорю правду… Думаю, что теперь никто не может мне отказать в этом праве или опровергнуть мои слова… Монашество было мне ненавистно. Заставьте человека страдать – и силы его проснутся, обреките его на безумие – и он впадет в оцепенение, подобно тем живым существам, которых мы находим теперь в дереве или камне застывшими и успокоенными; но осудите его одновременно и на страдание, и на бездействие, как то бывает в монастырях, – и он испытает и муки преисподней, и муки распада перед небытием. В течение шестидесяти лет я непрестанно проклинал свою жизнь. Ни разу не был я окрылен надеждой: мне ничего не оставалось делать и нечего было ждать. Ни разу не ложился я спать умиротворенный, ибо в конце каждого дня наместо благочестивых молитв я мог только перебирать в памяти намеренно учиненные за этот день святотатства. С тех пор как жизнь твоя перестает подчиняться твоей собственной воле и подпадает под влияние некой механической силы, она становится для мыслящего существа нестерпимою мукой.
Я никогда ничего не ел с аппетитом, ибо знал, что, хочу я есть или нет, я все равно обязан являться в трапезную, как только зазвонит колокол. Я никогда не мог лечь спать спокойно, ибо знал, что тот же колокол призовет меня снова, не посчитавшись с тем, нуждается ли мой организм в продлении или сокращении отдыха. Я никогда по-настоящему не молился, ибо молиться стало моей обязанностью. Я отвык надеяться, ибо возлагать надежды мне всегда приходилось не на Господнюю правду, а на обещания людей и жить в вечном страхе перед ними. Спасение мое зависело от жизни такого же слабого существа, каким я был сам, и мне, однако, приходилось вынашивать в себе эту слабость и добиваться, чтобы луч благодати Господней хоть на миг блеснул мне сквозь жуткую тьму человеческих пороков. Я так и не узрел его – я умираю без света, без надежды, без веры, без утешения.
Слова эти он произнес совершенно равнодушно, и равнодушие его было страшнее, чем самые дикие корчи, в которые повергает человека отчаяние.
– Но послушайте, брат мой, – сказал я, едва переводя дыхание, – вы же всегда были очень точны в исполнении монастырских правил.
– Это было всего-навсего привычкой – поверь словам умирающего.
– Но, помните, вы же ведь очень долго убеждали меня стать монахом; настойчивость ваша была, очевидно, искренней, это ведь было уже после того, как я принял обет.
– Вполне естественно, что человеку несчастному хочется иметь товарищей по несчастью. Ты скажешь, что это крайний эгоизм, что это мизантропия, но вместе с тем это очень естественно. Тебе ведь приходилось видеть в кельях клетки с птицами. Пользуются же люди прирученными птицами для того, чтобы заманивать диких? Мы были птицами в клетках, вправе ли ты осуждать нас за этот обман?
Я не мог не услышать в словах этих той циничной откровенности глубоко порочных людей[31], того страшного паралича души, который лишает ее возможности что-либо воспринять или на кого-либо воздействовать; душа тогда как бы говорит своему обвинителю: «Подойди, сопротивляйся, спорь – я вызываю тебя. Совесть моя мертва, она не способна ни выслушать, ни высказать, ни повторить упрека».
Все это поразило меня, я пытался себя переубедить.
– Ну а как же тогда объяснить, – сказал я, – что вы так неукоснительно исполняли все монастырские правила?
– А ты что, разве никогда не слышал, как звонит колокол?
– Но ведь ваш голос всегда был самым громким, самым отчетливым в хоре.
– А ты разве никогда не слыхал, как играет орган?..
* * *
Я вздрогнул, однако продолжал расспрашивать его, я считал, что, сколько бы я от него ни узнал, этого все равно будет мало.
– Но скажите, брат мой, ведь молитвы, которым вы непрестанно предавались, должны же были привести вас к тому, что вы незаметно прониклись их духом, не правда ли? Через внешние формы вы должны были в конце концов приобщиться и к самой сути вероучения? Не так ли, брат мой? Скажите мне перед смертью всю правду. Как бы я хотел обрести эту надежду! Я готов претерпеть все что угодно, лишь бы она пришла ко мне.
– Такой надежды нет и не будет, – сказал умирающий, – не обольщайся. Если человек непрестанно исполняет все религиозные обряды, а сам не проникнут духом пресвятой веры, сердце его безнадежно черствеет. Нет людей более чуждых религии, нежели те, кто постоянно занят соблюдением ее форм. Я твердо убежден, что добрая половина нашей братии – сущие атеисты. Мне довелось кое-что слышать о тех, кого принято называть еретиками, и читать то, что они пишут. Среди прихожан наших есть люди, которые ведают местами в церквах (ты скажешь, что это страшное святотатство – торговать местами в храме Господнем, и ты будешь прав), у них есть люди, которые звонят в колокол, когда надо бывает хоронить их покойников, и единственное, чем эти несчастные проявляют свою веру, – они следят, пока идет месса (принимать в ней участие они не могут), за взиманием платы и, падая на колени, возглашают имена Христа и Господа Бога и одновременно прислушиваются к тому, как хлопают двери, ведущие к привилегированным местам, ибо не могут отрешиться от суетных мыслей, и всякий раз вскакивают с колен, чтобы и им досталась хоть малая толика того серебра, за которое Иуда предал Спасителя и себя самого. Ну а их звонари – можно подумать, что соприкосновение со смертью делает их человечнее. Как бы не так! Могильщики, например, получают тем бо́льшую плату, чем глубже вырытая могила. И вот звонарь-могильщик и все остальные затевают иногда настоящую драку над бездыханным телом, которое самой недвижностью и немотой своей являет им грозный упрек за эту калечащую человека корысть.
Я ничего этого не знал, но последние его слова смутили меня.
– Так, выходит, вы умираете без надежды и веры?
Ответом мне было молчание.
– Но ведь вы же сумели убедить меня своим красноречием, которое казалось ниспосланным свыше, чудом, которое я увидел собственными глазами.
Он рассмеялся. В смехе умирающего есть всегда что-то очень страшное: находясь на грани земного и загробного мира, он как будто лжет и тому и другому и утверждает, что и радости, которые несет нам первый, и надежды, которые сулит второй, не более чем обман.
– Чудо это сотворил я, – ответил он с невозмутимым спокойствием и, увы, даже с тем торжеством, которое бывает у заядлых мошенников. – Я знал, из какого водоема туда поступает вода; с согласия настоятеля мы за ночь выкачали его весь. Пришлось как следует поработать, и чем больше мы трудились, тем больше потешались над твоим легковерием.
– Но ведь дерево…
– Я знал кое-какие секреты из области химии, сейчас у меня уже нет времени их тебе раскрывать – ночью я обрызгал листья тополя определенным составом, и наутро у них был такой вид, будто они увяли. Сходи посмотри на это дерево недели через две, и ты увидишь, что оно опять такое же зеленое, каким было.
– И это ваши предсмертные слова?
– Да.
– А зачем же вы меня так обманули?
Он на какое-то мгновение задумался, а потом, собрав все силы и приподнявшись на кровати, воскликнул:
– Потому что я был монахом. Мне нужен был этот обман, чтобы завлекать новые жертвы и удовлетворить мою гордость! Нужны были мне и товарищи по несчастью, чтобы облегчить его тяжесть!
Говоря это, он весь содрогался, вместо привычной кротости и спокойствия на лице его появилось выражение, которое я даже не могу описать, – что-то насмешливое, торжествующее и – дьявольское. В эту страшную минуту я все ему простил. Я схватил распятие, лежавшее у его изголовья, и поднес его к губам умирающего. Он оттолкнул его.
– Если бы я захотел, чтобы со мной разыграли этот фарс, я выбрал бы для него другого актера. Знаешь, стоило мне только захотеть, и сам настоятель и половина всего монастыря явились бы сейчас к моему изголовью со своими свечами, со святой водой, с мирницей для последнего помазания и всем предсмертным маскарадом, которым они пытаются обмануть даже умирающего и оскорбить Господа даже у врат Его вечного царства. Я потому и согласился, чтобы ты ухаживал за мной, что знал, какое отвращение ты питаешь к монастырской жизни, и думал, что тебе, может быть, захочется узнать о том, сколько в нем обмана и до какого отчаяния она может довести человека.
Какой эта жизнь ни казалась мне постыдной, ужасы, о которых я услыхал сейчас из уст умирающего монаха, превзошли все то, что рисовало мне мое воображение. Я представлял себе, что она начисто исключает земные радости и даже лишает надежд на них; но теперь речь шла о другой чаше весов, об ином мире – и там тоже была пустота. Можно было подумать, что иезуиты держат в руках обоюдоострый меч и, став между временным и вечным, направляют его против того и другого. На одном лезвии, обращенном в сторону мира бренного, было, как видно, начертано слово «страдай», а на другом, обращенном к вечности, – «не надейся». Потеряв в душе всякую надежду, я все еще продолжал допытываться у него, как мне ее обрести, – у него! А ведь он лишал меня даже тени надежды каждым произнесенным словом.
– Так неужели же все должно погрузиться в эту бездну мрака? Неужели для того, кто страдает, нет ни света, ни надежды, ни утешения? Неужели кому-то из нас не дано примириться с нашей долей – сначала стерпеть ее, а потом ее полюбить? И наконец, если уж отвращение наше так неодолимо, то не можем ли мы поставить ее себе в заслугу перед Богом и принести Ему в жертву все наши земные желания и надежды, уповая на то, что Он воздаст нам за все сторицей? Даже если мы не можем принести эту жертву с тем благоговением, которое явилось бы залогом того, что Господь ее примет, то неужели нам не дано надеяться, что Он все же начисто ее не отвергнет? Неужели мы не можем быть если не счастливы, то хотя бы спокойны; не можем если не удовлетвориться ею, то хотя бы смириться? Говорите же, скажите, возможно ли это?
– Ты хочешь, чтобы уста умирающего исторгли слова обмана, – этого ты не добьешься. Узнай же, что тебя ждет. Люди, обладающие тем, что можно назвать склонностью к религии, иными словами, визионеры, аскеты, люди слабые и угрюмые, творя молитвы, могут возвысить себя до своего рода опьянения. Когда они обнимают мраморные изваяния, им может показаться, что холодный камень затрепетал от прикосновения их руки, что в недвижных фигурах пробуждается жизнь, что они внимают их мольбам, что они оборачиваются к молящимся и в их безжизненных глазах светится милосердие. Когда они целуют распятие, им могут послышаться небесные голоса, изрекающие слова прощения; им может почудиться, что Спаситель принимает их в Свои объятия и зовет их вкусить вечное блаженство; что небеса разверзаются у них на глазах и что звучат райские гармонии, прославляющие их торжество. Но это не что иное, как самое обыкновенное опьянение, и самый заурядный врач знает, какими снадобьями можно вызвать это состояние у своего пациента. Секрет этого самозабвенного экстаза узнается в аптеке, и его можно приобрести по более сходной цене. Жители Северной Европы вызывают в себе это состояние, прибегнув к спирту, турки – к опиуму, дервиши – к пляске, а христианские монахи – к исступленности духа, действующей на изможденную плоть. Все это – опьянение, разница заключается только в том, что в мирянах подобное опьянение всегда вызывает довольство собой, тогда как монахи – люди другого мира, – испытывая подобное же удовольствие, считают, что оно исходит от Бога. Вот почему в последнем случае опьянение бывает более глубоким, обманным и опасным. Однако природа, которую такого рода излишества неизбежно насилуют, взимает поистине ростовщические проценты за все, что у нее незаконно отняли. Она заставляет расплачиваться за минуты восторга часами отчаяния. Переход от экстаза к ужасу совершается почти внезапно. За какие-нибудь несколько мгновений избранники небес превращаются в изгоев. Они начинают сомневаться в истинности испытанных ими восторгов – в истинности своего призвания. Они сомневаются во всем: в искренности своих молитв, в действенности искупления грехов, которое дарует Спаситель, и в заступничестве Пресвятой Девы. Из рая они низвергаются в ад. Они начинают кричать, испускать дикие вопли, богохульствовать. Со дна преисподней, куда, как им кажется, их столкнули, они разражаются проклятиями в адрес Творца, ревут, что их прокляли навеки за их грехи, в то время как единственный их грех – это неспособность вынести чрезмерное возбуждение. Как только припадок этот кончается, они снова мнят себя избранниками Господними. Людям же, которые начинают расспрашивать их по поводу недавно пережитого ими отчаяния, они отвечают, что попали под власть Сатаны, что Господь оставил их и т. п. Все святые, начиная с Магомета и кончая Франциском Ксаверием20, были всего-навсего сплавом безумия, гордости и самообмана; последний не имел бы, может быть, таких тягостных последствий, но людям свойственно мстить за то, что они обманывали себя, тем, что они с особенным рвением начинают обманывать других.
Что может быть ужаснее того состояния души, когда сознание собственной греховности вынуждает нас хотеть, чтобы каждое слово оказалось ложью, и вместе с тем мы знаем, что каждое слово – сущая правда? Именно в таком состоянии я пребывал тогда, но я пытался смягчить его, говоря себе: «Положим, я никогда не стремился сделаться святым, но неужели же участь всех так плачевна?»
Монах, который, казалось, радовался случаю излить всю свою злобу, скопившуюся за шестьдесят лет страдания и лицемерия, напрягал, как только мог, свой уже слабеющий голос, для того чтобы мне ответить. Можно было подумать, что все то зло, которое он будет в силах излить на другого, никогда не сравняется с тем, которое пришлось вытерпеть ему самому.
– Люди очень чувствительные и восприимчивые, – говорил он, – но лишенные веры – несчастнейшие из всех, но их страдания раньше всего приходят к концу. Их изводит повседневное принуждение, угнетает однообразие молитв; их ввергают в отчаяние тупая наглость и чванливое самодовольство. Они борются, они противятся злу. На них накладывают покаяния, их наказывают. Их собственная строптивость служит оправданием жестокого обращения с ними. Впрочем, даже если бы не было этого оправдания, с ними все равно обращались бы жестоко, ибо ничто не дает такой услады людям, гордящимся своей властью над другими, как победа над теми, кто по праву может гордиться умом. Остальное ты легко можешь себе представить, ибо сам был многому очевидцем. Ты видел несчастного юношу, который заступился за брата Павла. Его так избили, что он сошел с ума. Доведенный сначала до безумия, потом до полного отупения, он умер! Я был тайным советчиком в этом деле, причем все было обставлено так, что меня ни в чем нельзя было заподозрить.
– Чудовище! – вскричал я.
Истина теперь сравняла нас, и, больше того, она даже лишила меня возможности говорить с ним с той мягкостью, какую человеческие чувства предписывают нам по отношению к умирающему.
– Почему? – спросил он с тем спокойствием, которое в свое время расположило меня к нему, а теперь возмущало, но без которого нельзя было представить себе его лица. – Это ведь сократило его страдания, так неужели ты станешь осуждать меня за то, что я не продлил их?
Даже когда этот человек старался расположить к себе, в словах его сквозили холод, ирония и насмешка, и это придавало самым обыкновенным вещам убедительность и силу. Можно было подумать, что он всю жизнь скрывал правду для того, чтобы в смертный час высказать ее до конца.
– Такова участь людей чувствительных; люди менее чувствительные постепенно чахнут и погибают; незаметно дни их проходят в разведении цветов, в уходе за птицами. Они превосходно исполняют все, что положено, на их долю не достается ни порицаний, ни похвал, удел их – оцепенение и душевная опустошенность. Им хочется смерти хотя бы потому, что приготовления к ней могут на какое-то время развлечь их и скрасить им монастырские будни, но их и тут постигает разочарование, ибо занимаемое положение запрещает им развлекаться. И они умирают так же, как и жили, – непробудившимися и вялыми. Свечи зажжены – они их не видят, их соборуют – они этого не чувствуют; читаются молитвы, но они не могут в этом участвовать; и в самом деле, представление разыгрывается с начала до конца, только главное действующее лицо отсутствует, его уже нет. Другие постоянно предаются мечтам. Они бродят в одиночестве по монастырю, по саду. Они питают себя ядом обольстительных, но бесплодных иллюзий. Они мечтают о том, что землетрясение превратит монастырские стены в груду обломков, что посреди сада обнаружится вулкан и начнет извергаться лава. Они тешат себя мыслью, что монастырский порядок будет ниспровергнут, что на обитель нападут разбойники, – словом, что непременно что-то стрясется, как бы невероятно это ни было. С тайной надеждой думают они о том, что может вспыхнуть пожар (если в монастыре начнется пожар, то двери отворятся настежь и «Sauve qui peut»[32] будет для них спасительным словом). Мысль эта рождает в них самые горячие надежды: они смогут вырваться вон, кинуться на улицы, убежать куда-нибудь за город, они ведь готовы ринуться куда угодно, лишь бы уйти отсюда. Потом надежды эти в них угасают, тогда они становятся раздражительными, угрюмыми, не знают покоя. Если они занимают какое-то положение в монастыре, то их освобождают от их обязанностей, и они остаются у себя в кельях, ничем не занятые, отупевшие от безделья, если же у них нет этих привилегий, их вынуждают неукоснительно исполнять все обязанности, и тогда отупение наступает гораздо скорее: так изможденные клячи, которых заставляют работать на мельнице, слепнут гораздо раньше тех, которым приходится выполнять обычную работу. Иные из этих людей ищут прибежище в том, что они называют религией. Они обращаются за помощью к настоятелю, но что может сделать настоятель? Ему ведь тоже не чуждо ничто человеческое, и, может быть, самого его охватывает отчаяние, так же как и всех несчастных, которые молят его, чтобы он их от этого отчаяния избавил. Потом они падают ниц перед образами святых – они взывают к ним, а иногда даже оскорбляют их. Они умоляют их заступиться за них, плачут, видя, что мольбы эти оказались напрасны, и устремляются к другим, которые, по их мнению, выше в глазах Господа. Они молят снизойти к ним Иисуса Христа и Пресвятую Деву, возлагая на них свои последние надежды. Но и эти их усилия оказываются тщетными: Пресвятая Дева неумолима, невзирая на то что подножие, на котором она стоит, истерто прикосновениями их колен, а ноги – их бесчисленными поцелуями. Потом они начинают ходить ночами по коридорам, будят спящих, стучатся в каждую келью, восклицая: «Брат Иероним, помолись за меня!», «Брат Августин, помолись за меня!». Потом на перилах алтаря появляется дощечка, на которой написано: «Дорогие братья, помолитесь о заблудшей душе монаха!» На следующий день появляется другая надпись: «Просят всю общину помолиться за монаха, который охвачен отчаянием». Потом они убеждаются, что ждать облегчения их страданий от людей так же напрасно, как ждать его от Бога, что нет на свете такой силы, которая могла бы избавить от них или хотя бы смягчить все те муки, которые причиняет им их доля. Они уползают в свои кельи; через несколько дней звонит колокол, и братья восклицают: «Он почил в бозе», после чего торопятся завлечь к себе еще одну жертву.
– Так это и есть монастырская жизнь?
– Да, и может быть только два исключения из этого правила: первое – когда воображение каждый день возрождает в человеке надежду бежать из монастыря и он продолжает тешить себя этой надеждой даже на смертном одре; и второе – когда (и так это было со мной) человек облегчает свои страдания, перекладывая их на других, и, наподобие паука, освобождается от яда, которым полон и который, вздуваясь, грозит разорвать его; он по капельке вливает его в каждую муху, которая бьется, страдает и гибнет в его сетях, – так же вот, как и ты.
Когда несчастный произносил эти слова, какая-то злобная усмешка перекосила его черты, и мне стало страшно. На минуту я отошел от его постели. Вернувшись, я посмотрел на него: глаза его были закрыты, руки недвижно простерты – он умер. Это были его последние слова. По выражению его лица можно было судить о душе; лицо его было спокойно и бледно, но застывшая насмешка по-прежнему кривила его губы.
Я выбежал из лазарета. В то время мне, как и вообще всем, кто ухаживал за больными, разрешалось выходить в сад в неположенное время, может быть, для того, чтобы уменьшить опасность заразиться. Мне было особенно приятно воспользоваться этим разрешением. Сад, озаренный спокойным лунным светом, ничем не омраченное небо над ним, звезды, обращающие человека к мыслям о Боге, – все это было для меня одновременно и упреком, и утешением. Я пытался пробудить в себе мысли и чувства, но ни то ни другое мне не удалось. А ведь, может быть, именно тогда, когда на душу ложится такая вот тишина, в часы, когда умолкают все наши крикливые страсти, мы больше всего готовы услышать голос Господень. Воображение мое неожиданно раскинуло над моей головой величественный свод огромного храма; лики святых совсем потускнели, когда я глядел на звезды, и даже алтарь, над которым висело изображение Спасителя мира, распятого на кресте, побледнел перед моим внутренним взором, когда я глядел на луну, что «в ярком сиянии проплывает по небу»21. Я упал на колени. Я не знал, к кому я должен обратить свои молитвы, но так, как в эту минуту, мне никогда еще не хотелось молиться. Вдруг кто-то коснулся края моей одежды. Я вздрогнул, как будто совершил какой-то проступок и меня поймали на месте. Я тут же вскочил на ноги. Возле меня стояла темная фигура, и невнятный, прерывающийся голос произнес:
– Прочтите. – В руку мне сунули какую-то бумажку. – Четыре дня носил я это письмо зашитым в рясу. Я следил за вами денно и нощно. Сейчас только мне представился случай передать его вам: то вы были у себя в келье, то пели в хоре, то были в лазарете. Разорвите это письмо на мелкие клочки и бросьте их в ручей или лучше проглотите их, как только прочтете. Прощайте. Ради вас я пошел на опасное дело, – добавил он, исчезая во мраке.
Когда он уже уходил, я узнал его – это был привратник монастыря. Я отлично понимал, какой опасности он подвергал себя, передавая мне эту записку: ведь в монастыре существовало предписание, обязывавшее передавать все письма воспитанников, послушников и монахов, как исходящие от них, так и обращенные к ним, на предварительный просмотр настоятелю, и я не знаю ни одного случая, когда бы это правило нарушили. Воспользовавшись ярким светом луны, я стал читать, и в глубине моего сердца затрепетала какая-то смутная надежда, хоть у меня и не было для этого никаких оснований и я даже представить себе не мог, о чем в ней будет идти речь.
«Милый брат (Боже мой! Как поразили меня эти слова!), представляю себе, как ты возмутишься при первых же строках моего письма. Умоляю тебя ради нас обоих, прочти все спокойно и со вниманием. Мы оба с тобой сделались жертвами обмана, учиненного родителями нашими и духовными лицами; отца и мать мы должны простить, потому что и они сами тоже сделались жертвами этого обмана. Совесть их в руках у духовника, а судьбы – и наши с тобой, и их обоих – брошены к его ногам. Милый брат, какую тайну я должен тебе открыть! Меня воспитывали по указаниям духовника, его влияние на слуг было столь же велико, как и на их несчастного господина: меня всячески старались восстановить против тебя, говорили, что ты лишаешь меня всех моих прав и что твое вторжение и противозаконно, и позорит нашу семью. Может быть, это хотя бы отчасти объяснит тебе ту противоестественную неприязнь, которую ты нашел во мне, когда мы впервые встретились. Едва ли не с колыбели меня учили ненавидеть тебя и бояться – ненавидеть тебя как врага и бояться как самозванца. Таков был замысел духовника. Он считал, что влияния, которое он приобрел, заставляя моих отца и мать во всем его слушать, недостаточно; тщеславие его хотело большего: подчинить себе всю нашу семью и прославить себя как пастыря. Вся власть церкви основана на страхе. Ей непременно надо раскрывать преступления или изобретать их. Смутные слухи, ходившие в нашей семье, постоянное уныние, в котором пребывала моя мать, волнение, тревожившее по временам отца, – все это помогло духовнику напасть на след, и он с неослабевающим рвением пустился по извилистым тропам сомнения, тайны и разочарований, пока наконец на исповеди моя мать под угрозами, что он разоблачит ее, если только она осмелится что-либо от него скрыть, будь то поступок или влечение сердца, откровенно ему во всем не призналась.
Мы оба с тобой тогда еще были детьми. В голове духовника сразу же созрел план, который он потом и осуществил в ущерб всем, кроме себя самого. Я убежден, что, когда он начинал плести свои интриги, у него не было какого-либо злого умысла в отношении тебя. Он хотел только одного: упрочить свое влияние, которое духовные лица привыкли отождествлять с влиянием церкви. Навязать свою волю целой семье, и притом одной из самых знатных в стране, возыметь власть над нею и тиранить ее, использовав для этого проступок женщины, о котором ему удалось выведать, – вот все, к чему он стремился. Людям, принявшим монашество и тем самым лишившим себя всех радостей, которые приносят нам наши чувства, приходится разжигать в себе другие, искусственные страсти, как то: тщеславие и жажду власти, и духовник обрел цель жизни именно в них. С той поры все стало делаться так, как он этого хотел, и всеми поступками моих родителей руководил он. Это по его наущению мы с тобой с детских лет были разлучены: он боялся, чтобы наша кровная близость не нарушила его планов; это он воспитал меня в духе самой жестокой вражды к тебе. Стоило моей матери заколебаться, как он напоминал ей об обете, который она так опрометчиво ему дала. Когда мой отец пытался воспротивиться этому насилию, ему начинали говорить о совершенном моей матерью грехе, о прискорбных раздорах в нашей семье, и из уст духовника раздавались страшные слова: обман, клятвопреступление, святотатство, гнев церкви. Ты поймешь, что человек этот не остановится ни перед чем, если я скажу тебе, что, когда я, в сущности, был еще ребенком, он открыл мне, в чем состоит совершенный моей матерью грех, добиваясь того, чтобы я с самых ранних лет проникся его взглядами. Да падет гнев Божий на негодяя, который мог позволить себе осквернять такими словами слух ребенка и растлевать его сердце рассказом о позоре его матери – и все только для того, чтобы сделать из него ревностного поборника церкви! Но и это еще не все. Как только я вырос настолько, чтобы выслушивать его речи и понимать их смысл, он принялся отравлять мою душу всеми доступными ему способами. Он старался всячески преувеличить пристрастие моей матери к тебе и уверял меня, что чувство это часто вступает в напрасную борьбу с ее совестью. Отца моего он изображал мне человеком слабым, но любящим и в силу гордости, вполне естественной для юноши, столь рано ставшего отцом, крепко привязанным к своему первенцу. Он говорил: „Сын мой, ты должен готовиться к борьбе со множеством предрассудков – этого требуют от тебя интересы церкви и общества. Разговаривая с родителями, будь высокомерен: ты владеешь тайной, которая не может не разъедать их совесть, используй это в своих интересах“. Можешь представить, какое действие производили эти слова на мое пылкое сердце, – ведь говорил их тот, в ком меня учили видеть посланца Божьего.
Все это время, как мне потом довелось узнать, в душе его шла борьба: он долго не мог решить, не лучше ли ему стать на мою сторону или, во всяком случае, лавировать между тобой и мной, дабы, пробудив в моих родителях подозрительность, еще больше укрепить свою власть над ними. Но какие бы обстоятельства ни влияли на его решение, нетрудно понять, какое влияние могли оказать на меня его уроки. Я рос беспокойным, ревнивым и мстительным, я сделался дерзок с родителями и подозрителен ко всем окружающим. Мне еще не исполнилось одиннадцати лет, как я стал уже нагло выговаривать отцу за то, что он оказывает тебе предпочтение, я стал оскорблять мою мать, напоминая ей о содеянном ею грехе, я жестоко обращался со слугами, я стал грозою всех живших в доме; а негодяй, который поторопился сделать из меня дьявола, оскорбляя мои сыновние чувства и заставляя меня попирать вес самое святое, то, что он, напротив, должен был научить меня беречь и лелеять, был убежден, что исполняет свой долг и укрепляет власть церкви.
- Scire volunt secreta domus et inde timeri[33], 22.
Накануне дня нашего первого свидания (которого нам раньше не собирались давать) духовник пришел к моему отцу.
– Сеньор, – сказал он, – я думаю, что будет лучше познакомить братьев друг с другом. Может быть, Господь тронет их сердца и, снизойдя к ним, благодатным влиянием Своим поможет вам отменить приказ, грозящий одному из них заточением и обоим – жестокой разлукой на вечные времена.
Отец согласился, в глазах его засияли слезы радости. Слезы эти, однако, не смягчили сердца духовника; он пришел ко мне и сказал:
– Дитя мое, соберись с силами, твои вероломные, жестокие и несправедливые родители собираются разыграть перед тобою комедию: они решили свести тебя с твоим незаконным братом.
– Я отпихну его ногой у них на глазах, если только они осмелятся это сделать, – сказал я гордо, ибо раньше времени воспитание его сделало из меня деспота.
– Нет, дитя мое, этого нельзя, ты должен сделать вид, что подчиняешься воле родителей, но ты не должен становиться их жертвой. Обещай мне, дорогое дитя мое, обещай, что будешь решителен и сумеешь притвориться.
– Обещаю вам быть решительным, а притворство можете оставить себе.
– Так оно и будет, коль скоро это в твоих интересах.
Он снова побежал к моему отцу.
– Сеньор, говоря с вашим младшим сыном, я пустил в ход все красноречие, дарованное мне Господом и природой. Сердце его смягчилось, он уже уступил; он ждет не дождется, когда сможет кинуться в объятия брата и услышать, как вы благословите обоих ваших сыновей, соединив их сердца: ведь и тот и другой – ваши родные дети. Вы должны отказаться от всех предрассудков и…
– У меня нет никаких предрассудков, – воскликнул мой несчастный отец, – я хочу только одного: увидеть, как оба мои сына обнимут друг друга, и, если Господу будет угодно призвать меня в этот миг к себе, я повинуюсь Его призыву и умру от радости.
Духовник попенял ему за эти слова, вырвавшиеся из глубины сердца, и, нисколько ими не тронутый, поспешил снова ко мне, стремясь довести до конца затеянное им дело.
– Дитя мое, я предупредил тебя о том, что все родные твои вступили в заговор против тебя. Доказательства этому ты увидишь уже завтра; твоего брата привезут сюда, тебе велят обнять его и будут думать, что ты согласишься, но стоит только тебе это сделать, и твой отец истолкует это как знак того, что ты отказываешься от всех своих прав единственного законного сына. Уступи своим лицемерным родителям, обними своего брата, но выкажи при этом свое отвращение к этому поступку, дабы, обманывая тех, кто решил обмануть тебя, не поступать против совести. Будь же осмотрителен, мое дорогое дитя; обними его так, как обнял бы змею: он столь же хитер, а яд его смертелен. Помни, что от решения твоего зависит исход этой встречи. Сделай вид, что воспылал к нему любовью, но помни при этом, что ты обнимаешь смертельного своего врага.
При этих словах, как я ни был к тому времени развращен им, я содрогнулся.
– Но ведь это же мой родной брат! – воскликнул я.
– Это ничего не значит, – сказал духовник, – это враг Господа нашего и самозванец, не признающий закона. Ну что же, дитя мое, теперь ты готов?
– Да, готов, – ответил я.
Ночью, однако, я не знал покоя. Я попросил, чтобы ко мне вызвали духовника.
– Но как же все-таки поступят с этим несчастным? – спросил я. (Речь шла о тебе.)
– Он должен принять монашество, – изрек духовник.
Слова эти пробудили во мне вдруг такое участие к тебе, какого у меня никогда не было раньше.
– Он никогда не станет монахом, – сказал я, исполненный решимости, ибо человек этот научил меня говорить решительно.
Духовник, казалось, был смущен, но в действительности испуган тем духом непокорности, который он сам же во мне пробудил.
– Пусть лучше идет служить в армию, – сказал я, – пусть станет самым обыкновенным солдатом, я помогу ему продвинуться выше; пусть он изберет самую низкую профессию, мне не будет стыдно признать его своим братом, но знайте, отец мой, монахом ему никогда не бывать.
– Дорогое мое дитя, на каком же основании ты так яро противишься этому решению? Это ведь единственное средство для того, чтобы в семье вашей снова воцарился мир, и для того, чтобы его обрело жалкое существо, чья судьба тебя так волнует.
– Отец мой, я не хочу больше этого слушать. Обещайте мне, что вы никогда не станете понуждать моего брата принять монашество, если хотите, чтобы я обещал вам в будущем повиновение.
– Понуждать! Какое же может быть понуждение там, где речь идет о призвании, дарованном свыше.
– У меня нет в этом уверенности, но я хочу, чтобы вы обещали мне то, о чем я прошу.
Духовник колебался, но потом сказал:
– Хорошо, обещаю.
И он поспешил сообщить моему отцу, что я больше не противлюсь нашей встрече с тобой и что я в восторге от того, что, как мне стало известно, брат мой полон ревностного желания сделаться монахом. Так была устроена наша первая встреча.
Когда по приказанию отца руки наши сплелись в объятии, то, клянусь тебе, брат мой, я ощутил в них ту дрожь, которая говорит о любви. Но сила привычки вскоре подавила во мне естественные чувства, и я отшатнулся от тебя; собрав все силы, которыми наделила меня природа и которые во мне породила страсть, я постарался придать лицу своему выражение ужаса и с великой дерзостью выставил его напоказ родителям, а в это время духовник, стоя за их спиной, улыбался и делал мне знаки, которые должны были меня приободрить. Мне казалось, что я отлично сыграл свою роль, во всяком случае, сам я был доволен собой и удалился со сцены такими гордыми шагами, как будто стопы мои попирали простертый под ними мир, – тогда как в действительности я попирал ими голос крови и трепет сердца. Несколько дней спустя меня послали в монастырь. Духовника охватила тревога, когда он услыхал из моих уст тот непререкаемый тон, которому он сам же меня учил, и он настоял на том, чтобы на воспитание мое обратили особое внимание. Родители мои согласились со всеми его требованиями. Как это ни странно, согласился с ними и я; но когда меня посадили в карету и повезли в монастырь, я вновь и вновь повторял духовнику: „Помните, мой брат не станет монахом“».
Следовавшие за этим строки невозможно было прочесть, должно быть, писались они в большом смятении; порывистость и пылкий нрав моего брата передались его почерку. Пропустив несколько совершенно неразборчивых страниц, я смог различить следующие слова.
* * *
«Странно было подумать, что ты, который был предметом моей застарелой ненависти, после посещения монастыря возбудил во мне участие. Если раньше я принял твою сторону из одной только гордости, то теперь у меня уже были веские основания ее отстаивать. Сострадание, инстинкт – все равно что, но чувство это сделалось долгом. Когда я видел чье-либо презрительное обращение с людьми низших сословий, я говорил себе: „Нет, ему никогда не придется этого испытывать – это же мой брат“. Когда, занимаясь чем-либо, я делал успехи и меня за это хвалили, я с горечью думал: „Меня хвалят, а на его долю никогда не достанется похвалы“. Когда меня наказывали, что случалось гораздо чаще, я думал: „Он никогда не испытает этого унижения“. Воображение мое увлекало меня все дальше. Я верил, что в будущем сделаюсь твоим покровителем, мне казалось, что я смогу искупить несправедливость природы, оказать тебе помощь и возвеличить тебя, добьюсь того, что в конце концов ты признаешь сам, что обязан мне больше, чем родителям, что я кинусь к тебе без всякой задней мысли, с открытым сердцем, и мне ничего не надо будет взамен, никакой другой благодарности, кроме твоей любви. Я уже слышал, как ты называешь меня братом, я просил тебя не произносить этого слова и называть меня своим благодетелем. Гордый, великодушный и горячий от природы, я еще не окончательно освободился от влияния духовника, но всем моим существом, каждым порывом души уже тянулся к тебе. Может быть, причина этого лежит в особенностях моей натуры, которая неустанно боролась против всего, что пытались ей навязать, и с радостью вбирала в себя все то, что ей самой хотелось узнать, к чему ей самой хотелось привязаться. Не приходится сомневаться в том, что, как только во мне стали возбуждать ненависть к тебе, мне захотелось твоей дружбы. Твои кроткие глаза, их нежный взгляд постоянно преследовали меня в обители. На все предложения стать мне другом, исходившие от воспитанников монастыря, я отвечал: „Мне нужен брат“. В поведении моем появились резкость и сумасбродство, и в этом нет ничего удивительного: ведь совесть моя стала противодействовать заведенным привычкам. Иногда я исполнял все, чего от меня хотели, с таким рвением, которое заставляло тревожиться за мое здоровье; порою же никакая сила не могла заставить меня подчиниться повседневным монастырским правилам и никакое наказание меня не страшило.
Общине надоело терпеть мое упрямство, резкость и частые нарушения устава. Было написано письмо духовнику с просьбой удалить меня из монастыря, но, прежде чем он успел это сделать, я заболел лихорадкой. Меня окружили неослабным вниманием, но на душе у меня была тяжесть, и никакие заботы не могли облегчить моего положения. Когда в назначенные часы мне со скрупулезной точностью подносились лекарства, я говорил: „Пусть мне его даст мой брат, и будь это даже отрава, я готов принять ее из его рук. Я причинил ему много худого“. Когда колокол созывал нас на утреню или вечерню, я говорил: „Неужели они сделают моего брата монахом? Духовник обещал мне, что этого не случится, но ведь все вы – обманщики“. Кончилось тем, что они обернули язык колокола тряпкой. Услыхав его приглушенный звук, я воскликнул: „Вы звоните по покойнику, брат мой умер, и это я его убийца!“ Эти столь часто повторявшиеся восклицания, которых монахи никак не могли принять, приводили в ужас всю общину. Я был в бреду, когда меня привезли в отцовский дворец в Мадриде. Кто-то похожий на тебя сидел рядом со мной в карете, вышел из нее вместе со мной, когда мы приехали, помог мне, когда меня посадили туда снова. Я так живо ощущал твое присутствие, что часто говорил слугам: „Не трогайте меня, мне поможет брат“. Когда утром они спрашивали меня, как я спал, я отвечал: „Очень хорошо, Алонсо всю ночь сидел у моей постели“. Я просил ухаживающего за мной призрака не оставлять меня и, когда подушки были уложены так, как мне хотелось, говорил: „Какой у меня добрый брат, как он ухаживает за мной, только почему же он не хочет со мной говорить?“ На одной из остановок в пути я начисто отказался от всякой еды из-за того, что призрак, как мне чудилось, отказывался ее принять. Я говорил тогда: „Не заставляйте меня есть, видите, мой брат не принимает никакой пищи. О, я прошу его простить меня, сегодня у него день воздержания, поэтому он и не притрагивается к еде, смотрите, как он верен своим привычкам, – этого достаточно“. Самое удивительное, что еда в этом доме оказалась отравленной, и двое моих слуг умерли, так и не доехав до Мадрида. Я упоминаю об этих обстоятельствах для того только, чтобы показать, как крепко ты приковал к себе мое воображение и как сильна была моя любовь к тебе.
Как только ко мне вернулось сознание, первый же мой вопрос был о тебе. Родители мои это предвидели и, для того чтобы избежать объяснения со мной и последствий, которые оно могло иметь, ибо знали мой горячий нрав, поручили все это дело духовнику. Он взялся за него, а как он его выполнил, ты сейчас узнаешь. При первой же нашей встрече он принялся поздравлять меня с выздоровлением и сказал, что очень сожалеет о тех неприятностях, которые мне пришлось испытать в монастыре, заверив меня, что в родном доме меня ждет поистине райская жизнь. Какое-то время я выслушивал все, что он говорил, а потом вдруг спросил:
– Что вы сделали с моим братом?
– Он в лоне Господнем, – ответил духовник и перекрестился.
За мгновение я все понял. Не дослушав его слов, я кинулся вон из комнаты.
– Куда ты, сын мой?
– Я хочу видеть отца и мать.
– Отца и мать? Сейчас это невозможно.
– Но все-таки я их увижу. Не навязывайте мне своей воли, не срамите себя этим постыдным самоунижением, – сказал я, видя, что он сложил руки в мольбе, – все равно я увижу отца и мать. Проведите меня к ним сию же минуту, не то берегитесь, от вашего влияния на семью не останется и следа.
При этих словах он вздрогнул. Он боялся не того, что я могу повлиять на моих родителей, а моей ярости. Ему приходилось теперь пожинать плоды своих же собственных наставлений. Его воспитание сделало из меня человека порывистого и страстного, ибо ему все это было нужно для определенной цели, но он никак не рассчитывал, что дело примет иной оборот, что все чувства, которые он пробудил во мне, устремятся в направлении, противоположном тому, которое он хотел им придать. Он был уверен, что будет в силах распоряжаться ими и впредь. Горе тем, кто учит слона поражать своим хоботом врагов и в то же время забывает, что за один миг он может повернуть этот хобот назад и, сбросив седока в грязь, потом его растоптать. Именно в таком положении очутился и духовник по отношению ко мне. Я настаивал, чтобы меня немедленно отвели к моему отцу. Он противился нашей встрече, молил меня не настаивать на ней и, наконец, прибег к последнему безнадежному доводу – напомнил мне о том, сколько снисхождения он мне выказывал и как потворствовал всем моим желаниям. Ответ мой был коротким, но если бы только он мог проникнуть в душу таким наставникам и таким священникам! Это и сделало меня тем, что я есть теперь.
– Проведите меня сейчас же в комнату отца, иначе я надаю вам пинков и все равно заставлю вас это сделать!
Услыхав эту угрозу, которую, как он отлично понимал, я мог привести в исполнение, ибо я, как ты знаешь, силен и намного выше его ростом, – он задрожал от страха, и, признаюсь, это проявление физической и духовной немощи окончательно утвердило меня в презрении, которое я к нему испытывал. Весь согнувшись, провел он меня туда, где сидели отец и мать, – на балкон, выходивший в сад. Родители были уверены, что все уже уладилось, и изумлению их не было границ, когда я ворвался в комнату, а вслед за мною вошел духовник, по лицу которого можно было угадать, что разговор наш ни к чему не привел. Духовник сделал им знак, которого я не заметил, но который, однако, нисколько им не помог; за одно мгновение я очутился перед ними, и, увидев, что я смертельно бледен от снедавшей меня лихорадки и в то же время разъярен и, дрожа, бормочу что-то невнятное, они ужаснулись. Несколько раз они обращали к духовнику полные упреков взгляды, а он, по своему обыкновению, отвечал на них только знаками. Мне эти знаки были непонятны, но я за один миг заставил родителей понять, чего я от них хочу.
– Скажите, папенька, – спросил я, обращаясь к отцу, – правда ли, что вы заставили моего брата стать монахом?
Отец мой не знал, что ответить; наконец он сказал:
– Я считал, что духовник, которому это поручено, расскажет тебе все сам.
– Скажите, папенька, а какое право имеет духовник вмешиваться в отношения между отцом и сыном? Этот человек никогда не сможет сделаться отцом сам, у него никогда не может быть детей, так как же он может быть судьей в подобном вопросе?
– Ты совсем забылся. Ты забываешь о том, что следует уважать служителей церкви.
– Папенька, я ведь только что оправился от грозившего мне смертью недуга, моя мать и вы сами дрожали за мою жизнь, так вот, эта жизнь зависит от ваших слов. Я обещал этому негодяю повиновение при одном условии, и это условие он нарушил.
– Умей себя держать, – сказал мой отец, пытаясь придать голосу своему властность, что плохо ему удавалось, потому что губы его, произносившие эти слова, дрожали, – или выйди сию же минуту вон отсюда.
– Сеньор, – вкрадчиво сказал духовник, – я не хочу быть причиной раздора в семье, которую мне всегда хотелось видеть счастливой и честь которой я всегда отстаивал, ибо после нашей пресвятой церкви она мне дороже всего на свете. Пусть он говорит, память об Учителе моем, распятом на кресте, даст мне силы вынести его оскорбления. – Тут он перекрестился.
– Негодяй! – вскричал я, схватив его за рясу. – Обманщик, лицемер! – В эту минуту я был способен на все что угодно, но отец мой не позволил мне дать волю рукам. Моя мать была в ужасе, она громко вскрикнула, и поднялась невообразимая суматоха. В памяти моей остались только лицемерные возгласы духовника, который как будто старался помирить меня с отцом и просил, чтобы Господь вразумил и его, и меня. Он непрерывно повторял:
– Сеньор, прошу вас, не вступайтесь, я снесу любое поношение во имя Господне. – И, продолжая креститься, он взывал ко всем святым и восклицал: – Пусть все оскорбления, клевета и побои лягут на чашу весов небесных вместе со всеми заслугами, которые уже взвешены на этих весах, равно как и мои грехи.
И он еще осмеливался взывать к заступничеству святых, к чистоте непорочной Девы Марии и даже к пролитой крови и к мукам Иисуса Христа, перемежая все эти призывы лицемерным самоуничижением. Комната заполнилась слугами, сбежавшимися на крики. Мою мать, которая все еще продолжала кричать от ужаса, увели прочь. Отца, который очень ее любил, мое вызывающее поведение привело в бешенство – он выхватил тесак. Когда он стал приближаться ко мне, я вдруг засмеялся таким смехом, от которого кровь в нем похолодела. Я растопырил руки и, выставив грудь вперед, вскричал:
– Разите! Это будет достойным завершением монастырского произвола: он начался с насилия над человеческой природой, а кончается детоубийством. Разите! Пусть ваш удар принесет торжество и славу церкви и умножит заслуги его преподобия духовника. Вы уже принесли ей в жертву своего Исава, своего первенца, пусть же второй жертвой вашей станет теперь Иаков!23
Отец подался назад и в ужасе от моего перекошенного от гнева и волнения лица, которое судорожно подергивалось, вскричал:
– Дьявол! – и, отойдя в другой угол комнаты, смотрел на меня, содрогаясь от ужаса.
– А кто сделал меня им? Он, тот, кто развивал во мне все дурные качества, чтобы использовать их в своих собственных целях; из-за того только, что братские чувства вызвали во мне порыв великодушия, он уже готов представить меня сумасшедшим или довести до безумия, для того чтобы достичь своей цели. Папенька, я вижу – все родственные чувства, все законы человеческой природы попраны этим хитрым и бессовестным священнослужителем. Это из-за него брата моего подвергли пожизненному заточению, это из-за него само рождение наше стало проклятием для нашей матери и для вас. Что принесло нам его вторжение в нашу семью и роковое влияние, которое он в ней приобрел, кроме раздора и бедствий? Вы только что направили на меня острие вашего тесака, так скажите – кто, природа или монах, вооружил отца против сына, единственным преступлением которого было то, что он заступился за родного брата? Прогоните же этого человека; от его присутствия черствеют наши сердца! Давайте поговорим с вами хотя бы несколько минут как отец с сыном, и, если я не смирюсь тогда перед вами, оттолкните меня от себя навсегда. Отец, ради всего святого, поглядите, сколь велико различие между этим человеком и мной. Мы оба стоим на пороге вашего сердца, так рассудите же нас. В душе его громоздится образ эгоистической власти, ничего не выражающий и сухой, но освященный церковью; а в моем обращении к вам говорит голос крови, и он не может не быть искренним, хотя бы потому, что, повинуясь ему, я пренебрегаю моими личными интересами. Он хочет одного – иссушить вашу душу, а мне хочется ее растрогать. Идут ли его речи от сердца? Пролил ли он хоть одну слезу? Сказал ли хоть одно искреннее слово? Он обращается к Богу, а я могу обращаться только к вам. Сама ярость моя, которую вы справедливо осуждаете, не только оправдывает меня, но и достойна похвалы. Тому, кто ставит дело, за которое он борется, выше всех личных выгод, нет нужды доказывать, что заступничество его искренне.
– Ты только усугубляешь свою вину тем, что хочешь переложить ее на другого; ты всегда был вспыльчивым, непокорным, строптивым.
– Да, но кто сделал меня таким? Спросите у него самого. Разберитесь в этой позорной комедии, где двоедушием своим он заставил меня играть такую роль.
– Если ты хочешь выказать покорность, докажи это прежде всего тем, что обещаешь никогда больше не терзать меня напоминанием об этом. Участь твоего брата решена – обещай мне никогда больше не произносить его имени и…
– Никогда! Никогда! – вскричал я. – Никогда не стану я насиловать свою совесть подобным обетом, и надо быть человеком совершенно бесстыдным и отверженным небесами, чтобы предлагать мне такое.
Произнося эти слова, я все же опустился на колени перед отцом, но он от меня отвернулся. В отчаянье я обратился к духовнику:
– Если вы истинный служитель небес, то докажите, что вы действительно посланы ими: водворите мир в смятенной семье, помирите отца моего с его обоими сыновьями. Вам достаточно произнести для этого одно слово, вы знаете, что это в вашей власти, но вы не станете этого делать. Мой несчастный брат не оказался таким непреклонным к вашим настояниям, но разве справедливость их может сравниться с моими?
Я так оскорбил духовника, что нечего было надеяться на прощение. И если я говорил, то лишь для того, чтобы разоблачить его, а отнюдь не убедить. Я не ждал, что он мне ответит, и он действительно не вымолвил ни слова. Я стал на колени между отцом и духовником.
– Хоть и отец, и вы оставили меня, – закричал я, – я не падаю духом и обращаю мою мольбу к небесам. Я призываю их в свидетели и говорю, что никогда не покину моего брата, которого вы преследуете и предать которого подбиваете меня. Я знаю, что сила на вашей стороне, – так вот, я бросаю ей вызов. Я знаю, нет такой хитрости, такого обмана, такого коварства, к каким вы не прибегнете, все злобные силы земли и преисподней будут брошены против меня. Призываю небеса в свидетели против вас и молю их об одном – помочь мне вас победить.
Отец мой потерял всякое терпение; он приказал слугам поднять меня с колен и вынести вон силой. Стоило ему заговорить о применении силы, столь ненавистной моей властной натуре, привыкшей располагать неограниченною свободой, как это роковым образом повлияло на мой рассудок, едва обретший ясность и подвергшийся столь тягостному испытанию в последней борьбе: у меня снова началось что-то вроде бреда.
– Папенька! – в исступлении вскричал я. – Знаете вы, сколько мягкости, великодушия и всепрощения в существе, которое вы так жестоко преследуете: я ведь обязан ему жизнью. Спросите ваших слуг, они подтвердят, что он ехал всю дорогу со мной и не покидал меня ни на минуту. Это он заботился о том, чтобы я вовремя ел, он давал лекарства и поправлял подушки, на которых я лежал!
– Ты бредишь! – вскричал отец, услыхав это ни с чем не сообразное утверждение, но сам тут же грозным испытующим взором посмотрел на слуг. Те, дрожа, все как один поклялись, как только можно было поклясться, что с тех пор, как я уехал из монастыря, они не подпускали ко мне ни одно живое существо. Когда я услыхал их клятвы – а каждое слово в них было сущею правдой, – разум окончательно оставил меня. Я назвал последнего из говоривших лжецом и даже дошел до того, что ударил тех, что стояли всего ближе ко мне. Эта вспышка бешенства ошеломила отца, и он вскричал:
– Он сошел с ума!
Духовник, который все это время хранил молчание, тут же подхватил это и повторил:
– Он сошел с ума!
Слуги то ли от страха, то ли из убеждения, что это действительно так, повторили эти слова вслед за ними.
Меня схватили, вытащили вон из комнаты; и это насилие, которому я, как всегда, яростно воспротивился, привело как раз ко всему тому, чего так боялся отец и чего так хотел духовник. Я вел себя так, как только мог вести себя мальчишка, не совсем еще излечившийся от лихорадки и все еще продолжавший бредить. В комнате у себя я посрывал все драпировки и побил все фарфоровые вазы, швыряя ими в слуг. Когда они схватили меня, я покусал им руки; когда они вынуждены были связать меня, я впился зубами в веревки и в конце концов, собрав все силы, их перегрыз. Словом, произошло именно то, на что возлагал свои надежды духовник: меня заперли в комнате на несколько дней. За это время ко мне вернулись только те душевные силы, которые обычно оживают в уединении, а именно непоколебимая решимость и уменье все затаить в себе. Вскоре же мне пришлось воспользоваться и тем и другим.
На двенадцатый день моего заточения появившийся в дверях слуга низко поклонился и сказал, что, если я чувствую себя лучше, отец мой желает меня видеть. Под стать его заученным движениям поклонился и я и, словно окаменев, пошел за ним следом. Рядом с отцом восседал приглашенный, чтобы поддержать его, духовник. Отец поднялся и, сделав несколько шагов мне навстречу, обратился ко мне с отрывистыми фразами, из которых можно было заключить, что говорит он по принуждению. В нескольких словах он выразил мне свое удовольствие по поводу того, что я поправился, а потом спросил:
– Ну как, ты подумал о том, о чем мы говорили с тобой в последний раз?
– Да, подумал, – у меня было для этого достаточно времени.
– И ты с пользой провел это время?
– Надеюсь, что да.
– Раз так, ты, должно быть, сделал выводы, которые будут отвечать надеждам семьи и интересам церкви.
От этих слов мне стало не по себе, но я ответил так, как полагалось. Немного погодя ко мне подошел духовник. Тон его был дружелюбен, и он старался говорить о вещах посторонних. Я отвечал – каких это стоило мне усилий! – и тем не менее я все же отвечал ему со всей горечью, которая сопутствует вынужденной учтивости. Все, однако, обошлось хорошо. Семья моя, как видно, была довольна тем, что я взялся за ум. Совершенно измученный всем, что случилось, отец рад был восстановить мир любою ценой. Мать, еще больше, чем он, ослабевшая от борьбы собственной совести с настояниями духовника, заплакала и сказала, что она счастлива. Уже месяц, как воцарился покой, но покой этот обманчив. Они думают, что я покорился, но на самом деле…
* * *
Правду говоря, одной власти духовника в семье было бы достаточно, чтобы ускорить мое решение. Он поместил тебя в монастырь, но неутомимому прозелитизму церкви этого было мало. Его растущее влияние привело к тому, что даже дворец герцога Монсады стал походить на обитель. Моя мать сделалась настоящей монахиней, вся ее жизнь уходит на то, чтобы вымаливать прощение греха, за который духовник едва ли не каждый час накладывает на нее новое наказание. Отец мой то дает волю своим чувствам, то вдруг становится суровым и строгим – он мечется между земными страстями и помыслами о жизни вечной; доведенный до отчаяния, он начинает осыпать горькими упреками мою мать, а вслед за тем вместе с ней налагает на себя тягчайшую епитимью. Если религия подменяет внутреннее исправление человека внешними строгостями, то не говорит ли это о том, что в ней есть какой-то изъян? Меня тянет проникать в суть вещей, и если бы мне удалось добыть книгу, которую они называют Библией (хоть они и утверждают, что в ней содержатся слова Иисуса Христа, они никогда не позволяют нам в нее заглянуть), то мне кажется… впрочем, это не важно. Слуги и те выглядят in ordine ad spiritualia[34]. Они разговаривают между собой шепотом, крестятся, услыхав бой часов; они осмеливаются говорить, не стесняясь даже меня, что слава Господа Бога и пресвятой церкви умножится от того, что отец мой должен будет принести в жертву ее интересам всю свою семью.
* * *
Лихорадка моя прошла. Не было минуты, когда бы я перестал думать о тебе. Меня уверили, что у тебя есть возможность отречься от принесенных тобой обетов, сказать – так мне советовали, – что ты был вынужден совершить этот шаг под действием угроз и обмана. Знаешь, Алонсо, мне легче согласиться, чтобы тебя сгноили заживо в стенах монастыря, чем видеть тебя живым свидетелем позора нашей матери. Но мне сказали, что отречься от твоего обета ты можешь и на светском суде: если это действительно так, тебя все равно освободят, и я буду счастлив. Не беспокойся относительно могущих быть расходов – я их оплачу. Если у тебя хватит решимости, то я не сомневаюсь, что в конечном счете мы победим. Я говорю „мы“, потому что я не буду знать ни минуты покоя до тех пор, пока не наступит твое освобождение. Употребив на это половину годичного содержания, я подкупил одного из слуг, брата монастырского привратника, и он передаст тебе это письмо. Ответь мне через него же – это самый надежный способ, при котором все останется в тайне. Насколько я понимаю, ты должен письменно изложить свое дело, и послание это будет передано адвокату. Оно должно быть очень резким и решительным, но помни: ни слова о нашей несчастной матери; мне стыдно говорить эти слова ее сыну. Сумей как-нибудь достать бумагу. Если это окажется почему-нибудь трудным, то бумагу я добуду и тебе перешлю, но, для того чтобы не возбуждать подозрений и не слишком часто прибегать к услугам привратника, лучше постарайся достать ее сам. Ты можешь найти предлог, чтобы попросить ее в монастыре, скажи, например, что собираешься писать исповедь, а я позабочусь о том, чтобы все было сохранено и доставлено куда надо. Да хранит тебя Бог, только не бог монахов и духовников, а Бог живой и милосердный.
Любящий тебя брат
Хуан де Монсада».
Вот что содержалось в записках, которые по частям время от времени передавал мне привратник. Первую из них я проглотил, как только успел прочесть, все остальные я сумел сразу же уничтожить: моя работа в лазарете предоставляла мне большую свободу.
Дойдя до этой части рассказа, испанец был сам не свой, должно быть, не столько от усталости, сколько от волнения, и Мельмот уговорил его прервать рассказ на несколько дней, на что тот охотно согласился.
Книга вторая
Глава VI
Τηλε µειργουοι ιυχαι ειϐωλα ϰαµοντων[35].
Гомер1
Когда несколько дней спустя испанец попытался рассказать все, что он пережил, получив письмо от брата: как к нему сразу вернулись сила, надежда, как с того дня жизнь приобрела для него смысл, – речь его сделалась невнятной, он задрожал и расплакался. Волнение его до такой степени смутило не привыкшего к подобным излияниям Мельмота, что тот попросил его не говорить больше о своих чувствах и перейти к рассказу о дальнейших событиях.
– Вы правы, – сказал испанец, утирая слезы, – радость потрясает нас сразу, а горе становится привычкой, и описывать словами то, что все равно другой никогда не сможет понять, так же нелепо, как объяснять слепому, какие бывают цвета. Постараюсь поскорее рассказать вам не о чувствах моих, а о том, к чему они привели. Передо мной открылся совершенно новый для меня мир – мир надежды. Когда я гулял по саду, мне казалось, что в разверзшихся небесах я вижу свободу. Когда я слышал скрип отворявшихся дверей, мне становилось весело и я думал: «Пройдет еще немного времени, и вы распахнетесь передо мной навсегда». Отношение мое к окружающим переменилось: я стал с каждым приветлив. Однако при всем этом я не пренебрегал и теми мелкими предосторожностями, о которых мне писал брат. Но чем же все это было, слабодушием или силою духа? Среди тех мер, которые я принимал, чтобы скрыть нашу тайную связь, и которые не вызывали во мне никакого чувства протеста, единственное, что меня по-настоящему огорчало, – это необходимость сжигать письма милого моему сердцу великодушного юноши, который рисковал всем ради того, чтобы освободить меня. Меж тем я продолжал делать все необходимые приготовления с таким рвением, которое вам, никогда не жившему в монастыре, будет трудно понять.
Начался Великий пост – вся община готовилась к исповеди. Монахи запирались у себя в кельях и становились там на колени перед статуями святых. В течение долгих часов они вопрошали там свою совесть, причем самые незначительные нарушения монастырских правил раздувались ими до степени тяжких грехов, для того чтобы раскаяние их приобрело больше веса в глазах исповедовавшего их священника; в действительности они были бы даже рады возможности обвинить самих себя в каком-нибудь преступлении, для того чтобы избежать вопиющего однообразия мыслей и чувств. В монастыре в эти дни жизнь была отмечена какой-то тихой суетливостью, благоприятствовавшей моим целям. Едва ли не каждый час я требовал, чтобы мне давали бумаги для писания исповеди. Я всякий раз получал ее, однако мои частые требования возбуждали подозрения: они не могли понять, что же я такое пишу. А так как все, что происходит в монастыре, неизбежно возбуждает любопытство, то иные говорили:
– Он пишет историю своей семьи; он расскажет ее на исповеди и откроет тайну своей души.
Другие говорили:
– Он какое-то время был отступником, теперь он кается в этом перед Господом – нам же никогда ничего об этом не доведется узнать.
Третьи, более рассудительные, замечали:
– Он устал от монастырской жизни, он пишет о том, как она мучительно однообразна, и, спору нет, ему этого хватит надолго. – Причем говорившие это зевали, что являлось весьма убедительным подтверждением их слов.
Настоятель наблюдал за моим поведением, но не произнес за все время ни слова. Он был встревожен, и не без причины. Он совещался с иными из благоразумных братьев, о которых была уже речь, после чего те принимались усиленно следить за мной, а я, продолжая то и дело требовать от них бумагу, опрометчивым поведением своим только еще больше разжигал их подозрительность. Должен признаться, что это было оплошностью с моей стороны. Хоть и происходило это в монастыре, даже человек с самой щепетильной совестью не мог бы обвинить себя в таком количестве преступлений, чтобы заполнить ими всю испрошенную мною бумагу. В действительности все листы заполнялись историей их преступлений, а не моих. Второй моей большой ошибкой было то, что, когда настал день исповеди, я оказался к ней совершенно не подготовлен. Братья не раз намекали на это во время наших прогулок по саду. Я уже упоминал о том, что выработал в себе привычку дружелюбно выслушивать их речи. Время от времени они говорили: «Ты, должно быть, очень старательно подготовился к исповеди».
– Да, подготовился, – отвечал я.
– Она будет иметь благие последствия для твоей души.
– Надеюсь, что вам доведется их увидеть, – отвечал я.
К этому я ничего не добавлял, но все их намеки очень меня смущали. Находились и такие, что говорили:
– Брат мой, на совести у тебя тяжким бременем лежит множество прегрешений; чтобы изложить их, ты нашел нужным потратить несколько кип бумаги; посуди же, каким облегчением было бы для тебя открыть душу нашему настоятелю и получить от него, прежде чем начнется исповедь, несколько слов утешения и напутствия.
– Благодарю вас, – отвечал я, – я обо всем этом подумаю.
Однако все это время прошло у меня в мыслях о другом.
За несколько дней до общей исповеди я передал привратнику последний пакет с моими записями. До этого дня никто ничего не подозревал о наших встречах. Я получал письма от брата, отвечал ему, и переписка наша сохранялась в глубокой тайне, что обычно оказывается невозможным в монастырях. Но в последний вечер, передавая в руки привратника пакет, я заметил, что он сильно переменился в лице, и это очень меня испугало. Это был приятный в обращении статный мужчина, но тут даже при лунном свете видно было, что он исхудал как тень, руки его, когда он принимал от меня мои записи, дрожали, голос, по обыкновению заверявший, что все останется в тайне, прерывался. Перемена эта, которая, оказывается, давно уже была замечена всеми, лишь в тот вечер впервые бросилась мне в глаза. Слишком я все это время был занят своими собственными делами. Теперь я, однако, обратил внимание на его странный вид и спросил:
– Что с вами такое?
– И вы еще спрашиваете? Я стал как тень, меня одолевают волнения и страхи с тех пор, как меня подкупили. Знаете, что меня ждет? Пожизненное заточение или, вернее, такое, которое приведет меня к смерти, а может быть, меня даже предадут суду Инквизиции. Каждая строчка ваших писем или тех писем, которые мне поручено вам передать, кажется мне обвинительным актом; видя вас, я каждый раз трепещу. Я знаю, что в ваши руки попала вся моя жизнь – и временная, и вечная. Тайна, которой я сейчас служу, должна быть достоянием одного, а теперь она принадлежит двоим, и второй – это вы. Когда я сижу у себя и слышу шаги, мне чудится, что это настоятель вызывает меня к себе. Когда я пою в хоре, то я слышу, как ваш голос заглушает все остальные и обвиняет меня. Когда ночью я лежу в постели, дьявол садится рядом со мной; он начинает обвинять меня в клятвопреступлении и требовать свою добычу. Куда бы я ни направился, посланцы его мигом меня окружают. Муки ада настигают меня со всех сторон. Лики святых хмурятся и отворачиваются от меня; куда бы я ни повернулся, на меня отовсюду глядит Иуда-предатель. Стоит мне ненадолго забыться сном, как меня будит мой же собственный крик. «Не выдавайте меня, – кричу я, – он еще не нарушил данного им обета, я был всего-навсего посредником, меня подкупили, не надо разжигать для меня костра». Я вздрагиваю и вскакиваю с постели, обливаюсь холодным потом. Какой уж там сон, какая еда! Была бы на то воля Божья – вам очутиться за пределами монастыря, а мне, о господи, никогда не помогать вам освободиться, мы оба могли бы тогда избежать вечного проклятия.
Я старался успокоить его, уверяя, что ему ничего не грозит, но он успокоился только после того, как я клятвенно заверил его, что это последний пакет, который я поручаю ему доставить по назначению, и что я больше никогда не позволю себе обратиться к нему с подобными просьбами. Он ушел, умиротворившись, я же почувствовал, что осуществить задуманный мною план с каждым часом становится все труднее и опаснее.
Это был человек добросовестный, но трус; а можно ли доверять тому, чья правая рука протянута к вам, а левая дрожит от страха, что придется выдать вашу тайну врагу. Не прошло и нескольких недель, как он умер. Должно быть, не предал он меня перед смертью только потому, что последние минуты был в бреду. Но сколько я выстрадал за эти минуты: столь страшная смерть и столь бесчеловечная радость, которую я испытал, когда убедился, что он испустил дух, – в моих глазах все это свидетельствовало лишь о противоестественности той жизни, которую я тогда вел и которая сделала неизбежными и эту смерть, и эту жестокость во мне самом.
На следующий вечер я поразился, увидав, что ко мне в келью входит настоятель и с ним четверо монахов. Я сразу же почувствовал, что приход их не предвещает мне ничего хорошего. Я весь дрожал, но старался принять их со всем подобающим почтением. Настоятель сел напротив меня, пододвинув свой стул так, что свет стал падать мне прямо в глаза; все остальное тонуло во тьме. Я не мог сообразить, что означает эта предосторожность, но теперь я понимаю, что ему хотелось проследить за малейшею переменой в моем лице, оставаясь при этом в тени. Монахи стояли за его спиной, руки всех четверых были сложены, губы сжаты, глаза полузакрыты, головы наклонены – они походили на людей, которым положено присутствовать при казни.
– Сын мой, – вкрадчиво и мягко начал настоятель, – ты долго и усердно готовился к исповеди и за это достоин всяческой похвалы. Но скажи, действительно ли ты сознался во всех преступлениях, которые лежат у тебя на совести?
– Да, отец мой.
– Во всех, ты в этом уверен?
– Отец мой, я признался во всем, что нашел в себе. Кто же, кроме Господа, может проникнуть в тайники сердца? Я обшарил их так, как только мог.
– И ты вспомнил все, что у тебя было на совести?
– Да, вспомнил.
– А не вспомнил ли ты и еще одного: того, что перо и бумагу, которые были даны тебе, чтобы подготовиться к исповеди, ты употребил для совершенно иной цели?
Вопрос попал не в бровь, а в глаз. Я почувствовал, что должен собрать все свои силы.
– Совесть моя не обвиняет меня в этом преступлении, – ответил я с уклончивостью, которую в эту минуту мне можно было простить.
– Сын мой, не притворяйся ни перед своей совестью, ни передо мной. Ведь я для тебя должен быть еще выше, чем она; ведь если совесть твоя заблуждается и обманывает тебя, кому же, как не мне, просветить ее и направить? Только вижу, что я напрасно стараюсь тронуть твое сердце. В последний раз обращаюсь к нему с этими простыми словами. В твоем распоряжении всего несколько минут – употреби их на благо или во зло себе, твое дело. Я должен буду задать тебе несколько самых простых вопросов; если ты откажешься отвечать на них или солжешь, кровь твоя падет тебе на голову.
– Отец мой, разве я когда-нибудь отказывался отвечать на ваши вопросы? – сказал я, весь дрожа.
– В ответах твоих ты всегда стараешься или что-нибудь выпытать у нас, или вообще уклониться от существа дела. Ты должен ответить прямо и просто на вопросы, которые я сейчас задам тебе в присутствии этих братьев. От ответов твоих будет зависеть больше, чем ты думаешь. Предостережения эти вырываются у меня помимо воли.
Ужаснувшись этих слов и унизив себя до того, что мне захотелось услыхать их как можно скорее, я поднялся. Но от волнения у меня перехватило дух, и я должен был опереться о спинку стула.
– Боже мой! – воскликнул я. – Для чего понадобились все эти ужасные приготовления? В чем состоит моя вина? Почему меня так часто предостерегают, а все эти предостережения оборачиваются таинственными угрозами? Почему мне не скажут прямо о совершенном мною проступке?
Четверо монахов, которые за все время не вымолвили ни слова и продолжали стоять, опустив головы, на этот раз устремили на меня свои стеклянные глаза и повторили все вместе голосами, доносившимися словно из могилы:
– Преступление твое состоит в том, что…
Настоятель сделал им знак замолчать, и это привело меня в еще большее замешательство. Совершенно очевидно, что, признавая себя в чем-то виновными, мы всегда ждем, что другие будут осуждать нас в большей степени, чем мы сами. Они как бы мстят нам за всю ту снисходительность к себе, которую мы проявляем, самыми ужасными преувеличениями. Я не знал, в каком преступлении меня собирались обвинить, но я уже чувствовал, что речь шла о чем-то страшном, по сравнению с чем моя тайная переписка с братом была сущим пустяком. Я и раньше слышал, что преступления, совершавшиеся в монастырях, отличались порой невероятной жестокостью; и если всего несколько минут назад мне хотелось сделать все возможное, чтобы уклониться и не быть подвергнутым обвинению, то сейчас, напротив, мне не терпелось услышать, в чем именно меня обвиняют (ибо любая определенность всегда лучше неизвестности). Эти смутные страхи вскоре сменились вполне определенными, стоило только настоятелю начать задавать мне вопросы.
– Ты добился того, что тебе дали много бумаги. Как ты ее употребил?
Я собрался с силами и спокойно ответил:
– Так, как следовало.
– Значит, она послужила тебе для того, чтобы покаяться?
– Да, для того, чтобы покаяться.
– Ты лжешь, у самого великого грешника на земле и то не нашлось бы столько грехов.
– Мне часто говорили в монастыре, что я самый великий грешник на земле.
– Ты опять играешь словами и хочешь, чтобы твои двусмысленные речи превратились в упреки, – это бесполезно, ты обязан ответить на мой вопрос. Для чего тебе понадобилось такое количество бумаги и какое употребление ты из нее сделал?
– Я уже сказал.
– Значит, ты употребил ее на то, чтобы исповедаться в своих грехах?
Я молча кивнул головой.
– Значит, ты можешь подтвердить это, показав нам плоды твоего усердия. Где же рукопись с твоей исповедью?
Я покраснел и замялся, показав им пять-шесть покрытых каракулями и перепачканных листов бумаги, которые должны были быть моей исповедью. Положение мое было нелепо. На эти писания могло уйти не больше одной десятой всей полученной мною бумаги.
– Так это и есть твоя исповедь?
– Да.
– И ты еще смеешь говорить, что всю бумагу, которую тебе дали, ты употребил на это?
Я молчал.
– Негодяй! – вскричал настоятель, потеряв всякое терпение. – Сейчас же говори, на что ты потратил полученную тобой бумагу. Сейчас же признайся, что ты решил обратить написанное тобою против нашей обители.
Слова эти вывели меня из себя. В этот миг я снова увидел, как из-под монашеской рясы выглядывает копыто дьявола.
– Но как же вы можете подозревать меня в подобных действиях, если за вами нет никакой вины. В чем я мог обвинить вас? Что я мог написать худого, если мне не на что было жаловаться? Ваша собственная совесть должна ответить за меня на этот вопрос.
Услыхав это, монахи снова собирались вмешаться в наш разговор. Но тут настоятель, сделав им знак молчать, начал задавать мне вопросы по существу дела, и весь вспыхнувший во мне гнев мгновенно остыл.
– Значит, ты так и не хочешь сказать, что ты сделал с полученной тобою бумагой?
Я молчал.
– Послушание твое обязывает тебя сейчас же сказать всю правду.
Он возвысил голос, и его возбуждение передалось мне.
– У вас нет никакого права, отец мой, требовать от меня, чтобы я объяснял вам свои поступки.
– Право тут ни при чем, я приказываю тебе ответить. Я требую, чтобы ты поклялся перед алтарем Господа нашего Иисуса Христа и перед образом Богоматери, что скажешь нам всю правду.
– Вы не вправе требовать от меня такой клятвы. Я знаю монастырский устав – он гласит, что отвечать я обязан только духовнику.
– Ты что же, утверждаешь, что право есть нечто отличное от власти? Скоро ты поймешь, что в этих стенах право и власть – одно и то же.
– Я ничего не утверждаю, – может быть, между ними действительно нет разницы.
– Так ты отказываешься сказать, куда ты дел эту бумагу, которую ты, разумеется, замарал своей низкопробной клеветой?
– Да, отказываюсь.
– И ты примешь на свою голову все последствия твоего упорства?
– Да, приму.
– Последствия этого лягут на его голову, – повторили четыре монаха все теми же неестественными голосами.
Но в ту же минуту двое из них шепнули мне на ухо:
– Отдай свои записи, и все будет в порядке. Вся обитель знает, что ты что-то писал.
– Мне нечего вам отдавать, – ответил я, – даю вам честное слово монаха. У меня нет ни единого листка, кроме тех, что вы у меня забрали.
Оба монаха, примирительно нашептывавшие мне свои советы, отошли от меня. Они посовещались шепотом с настоятелем.
– Так ты не отдашь нам твои записи? – вскричал тот, метнув на меня ужасающий взгляд.
– Мне нечего вам отдавать. Можете обыскать меня, мою келью – все открыто.
– Сейчас мы это и сделаем, – разъярившись, вскричал настоятель.
В ту же минуту начался обыск. Они разворошили все, что только было у меня в келье. Стол и стул они перевернули, долго трясли и в конце концов разломали, пытаясь обнаружить бумаги, которые могли быть внутри. Они сорвали со стен все гравюры и стали просматривать их на свет. Потом сломали и рамы, чтобы убедиться, что в них ничего не спрятано. После этого они приступили к осмотру моей постели, покидали на пол простыни и одеяла, распороли матрац и вытащили из него всю солому; один из монахов пустил даже в ход зубы, чтобы поскорее разорвать ткань, и охватившее их злобное возбуждение было разительно не похоже на недвижное и угрюмое спокойствие, в котором они только что пребывали. Мне было приказано стоять посреди кельи, не поворачиваясь ни вправо, ни влево. Не найдя ничего, что могло бы подтвердить их подозрения, они обступили меня со всех сторон и обыскали меня самого – столь же стремительно, тщательно и бесстыдно. Всю одежду мою тут же побросали на пол; потом они распороли ее по швам, и мне пришлось все это время стоять, закутавшись в одеяло, которое они сорвали с моей постели.
– Ну как, вы нашли что-нибудь? – спросил я, когда они закончили свою работу.
– У меня есть другие средства обнаружить истину, – яростно вскричал настоятель, с трудом справляясь с досадой и стараясь держаться гордо, – готовься к ним и трепещи!
С этими словами он выбежал из кельи, сделав монахам знак следовать за ним. Я остался один. У меня уже больше не было сомнений относительно опасности, которая мне грозила. Да, я возбудил ярость людей, которые были не способны ничем поступиться, чтобы ее укротить. Я прислушивался и ждал – и каждый шаг, раздававшийся в коридоре, каждая хлопавшая дверь, которую открывали или закрывали поблизости, – все повергало меня в дрожь. Эта мучительная неизвестность длилась часами, и за эти долгие часы так ничего и не происходило. Никто так и не пришел ко мне в этот вечер – а на следующий день была назначена исповедь. Днем я, как обычно, занял свое место в хоре, дрожа и следя за каждым обращенным на меня взглядом. У меня было такое чувство, что все на меня смотрят и каждый говорит про себя: «Это он». Не раз мне хотелось, чтобы нависавшая надо мной гроза разразилась как можно скорее. Лучше ведь слышать раскаты грома вблизи, чем видеть, как издали приближается туча. Но гроза тогда так и не разразилась. И, исполнив свои обычные обязанности, я вернулся к себе в келью и задумался над тем, что меня ожидало. Мне было тревожно, и я не находил в себе сил на что-то решиться.
Исповедь началась; слыша, как братья, получив отпущение грехов, возвращаются потом к себе и затворяют за собой двери келий, я с ужасом подумал, что меня могут не допустить до исповедальни и что, после того как меня лишат моего неотъемлемого священного права, в отношении меня будут приняты некие особо строгие меры, но не мог даже представить себе, в чем они будут заключаться. Однако я продолжал ждать, и в конце концов меня вызвали. Это меня приободрило, и я исполнил все, что полагалось, уже с бо́льшим спокойствием. Когда я покаялся в своих грехах, мне было предложено всего несколько самых простых вопросов, как то: могу ли я обвинить себя в том, что я в душе нарушил свой монашеский долг? Не скрыл ли я чего? Не осталось ли у меня еще чего-нибудь на совести? и т. п. – и, после того как я ответил на все отрицательно, мне было позволено удалиться. Это было как раз в тот вечер, когда умер привратник. Последние переданные ему записи он доставил по назначению за несколько дней до того, – таким образом, все было в порядке и ничто не возбуждало во мне опасений. Ни живой голос, ни написанная строка не могли свидетельствовать против меня, и, когда я подумал, что брат мой непременно сыщет какой-либо иной способ сноситься со мной, в сердце моем снова пробудилась надежда.
На несколько дней наступила полная тишина, но буря была уже близка. На четвертый вечер после исповеди, когда я сидел один у себя в келье, я вдруг услыхал, что в монастыре началось какое-то необычное оживление. Зазвонил колокол; новый привратник был, по-видимому, в большой тревоге. Настоятель быстрыми шагами прошел сначала в приемную, а потом – к себе в келью; туда вызвали кое-кого из старших монахов. Молодые перешептывались между собой в коридорах, иные с силой захлопывали двери своих келий, – словом, все пребывали в волнении. В каком-нибудь доме, где живет только одна небольшая семья, никто бы, вероятно, не обратил внимания на такое вот чрезмерное оживление, но в монастыре жалкое однообразие того, что может быть названо внутренней жизнью его обитателей, придает и важность, и интерес самому заурядному обстоятельству жизни внешней. Я все это чувствовал. Я говорил себе: «Тут что-то неладно» – и добавлял: «Они что-то замышляют против меня». И в том и в другом предположении я оказался прав. Поздно вечером мне было приказано явиться в келью настоятеля – я сказал, что сейчас приду. Через две минуты приказ этот был отменен; мне было велено оставаться у себя в келье и ожидать прихода настоятеля – я ответил, что подчиняюсь и этому приказу. Однако происшедшая вдруг перемена вселила в меня какой-то смутный страх; сколько мне ни приходилось испытывать в жизни превратностей судьбы и тяжелых потрясений, у меня ни разу еще не было такого ужасного чувства. Я ходил из угла в угол и повторял: «Господи, спаси меня и сохрани! Господи, дай мне силы все это вынести!» Потом я перестал просить у Бога защиты, ибо не был уверен, что дело, в которое меня вовлекли, заслуживает Его покровительства.
Я окончательно растерялся, когда в келью внезапно вошел настоятель и с ним те самые четыре монаха, с которыми он приходил ко мне за день до исповеди. При их появлении я встал, и никто не пригласил меня снова сесть. Настоятель был взбешен; сверкнув глазами, он швырнул на стол пачку бумаг.
– Это ты писал? – спросил он.
На мгновение я испуганно взглянул на бумаги – то была копия, снятая с моих записей, отосланных брату. У меня все же хватило духа сказать: «Это не мой почерк».
– Ты хочешь увильнуть, негодяй. Это копия, снятая с того, что писал ты.
Я молчал.
– А вот доказательство, – добавил он, бросая на стол другую бумагу.
Это была копия прошения адвоката, адресованная мне, которую по положению, утвержденному верховным судом, они не имели права от меня скрыть. Я сгорал от нетерпения прочесть ее, но не решался даже взглянуть на нее издали. Настоятель перелистывал страницу за страницей.
– Читай, негодяй, читай! – сказал он. – Хорошенько вглядись в то, что здесь написано, вдумайся в каждую строчку.
Весь дрожа, я подошел к столу. Я бросил взгляд на записку адвоката, в первых же строках я прочел слово «надежда». Я снова приободрился.
– Отец мой, – сказал я, – я признаю, что это копия моих записей. Прошу вас, покажите мне ответ адвоката, вы не можете отказать мне в моем праве.
– Читай, – сказал настоятель и швырнул мне бумагу.
Вы, разумеется, поймете, сэр, что при подобных обстоятельствах я не мог как следует разобраться в том, что увидел, и даже когда незаметно для меня он сделал знак монахам и они, все четверо, покинули келью, мне все равно не удалось вглядеться в написанное более пристально.
Мы остались вдвоем с настоятелем. Он расхаживал взад и вперед по келье, тогда как я делал вид, что вчитываюсь в записку адвоката. Вдруг он остановился и с силой ударил рукой по столу – листы бумаги, над которыми я дрожал, разлетелись в стороны от этого удара. Я вскочил со стула.
– Негодяй, – вскричал настоятель, – когда это было с самого дня основания нашей обители, чтобы кто-нибудь позорил ее так своей писаниной! Скажи на милость, когда это было, до тех пор пока ты не осквернил ее своим нечестивым присутствием, чтобы в дела наши столь оскорбительно для нас вмешивались светские адвокаты? Как это ты посмел?..
– Посмел что, мой отец?
– Отрекаться от принесенного обета и подвергать нас позору светского суда и всего учиненного им разбирательства?
– Я был доведен до этого бедственным положением, в котором я находился.
– Бедственным положением! Так-то ты отзываешься о монастырской жизни, единственной, которая может принести смертному успокоение в этом мире и обеспечить ему спасение души.
Слова эти, произнесенные человеком в припадке неистовой ярости, сами себя опровергали. Чем больше впадал в бешенство настоятель, тем больше я набирался храбрости; к тому же я был доведен до крайности и должен был себя защищать. Вид лежавших передо мной бумаг прибавлял мне уверенности.
– Отец мой, напрасно вы стараетесь приуменьшить мое отвращение к монастырской жизни; у вас в руках доказательство того, как она мне ненавистна. Если я даже и совершил какой-нибудь проступок, подрывающий авторитет обители, то сожалею об этом, но не чувствую за собой никакой вины. В том нарушении устава, которое клеветнически приписывается мне, виновны как раз те, кто заставил меня принять обет монашества. Я исполнен решимости изменить свое положение и сделаю для этого все возможное. Видите, сколько сил я на это уже положил, будьте уверены, что то же самое будет делаться и впредь. Всякая неудача лишь усугубит мои старания, и если только небо или земля в силах освободить меня от принятого обета, то нет такой власти, к которой бы я не решился прибегнуть.
Я думал, что настоятель не даст мне договорить, но он не стал меня прерывать. Напротив, он спокойно выслушал меня, и я уже приготовился встретить и отразить следующие один за другим упреки и возражения, уговоры и угрозы, которыми с таким искусством умеют пользоваться в монастыре.
– Итак, твое отвращение к монашеской жизни неодолимо?
– Да.
– Но что же тебе в ней так ненавистно? Ведь не монастырские же правила – ты исполняешь все что положено с безупречной точностью; не отношение же к себе, которое ты находишь среди нас, – оно ведь самое снисходительное, какое только дозволяется в монастыре; не сама же община – ты пользуешься в ней всеобщим расположением и любовью, так чем же ты недоволен?
– Само́й жизнью в монастыре. Сюда входит все. Я не создан для того, чтобы быть монахом.
– Так помни, прошу тебя, что хоть внешне мы и должны повиноваться решениям суда земного, ибо мы по необходимости зависим от людских учреждений во всем, что касается отношения человека к человеку, все это не имеет никакой силы, когда речь идет об отношениях между человеком и Богом. Помни, заблудшее дитя мое, что, если даже все суды на земле провозгласят тебя сейчас свободным от принятого тобою обета, твоя собственная совесть никогда не сможет освободить тебя. На протяжении всей твоей нечестивой жизни она будет вновь и вновь упрекать тебя в нарушении обета, которое допущено человеком, а отнюдь не Богом. И как ужасны будут эти упреки, когда настанет твой смертный час!
– Он не будет таким ужасным, как тот час, когда я принял обет или, вернее, когда меня вынудили его принять.
– Вынудили!
– Да, отец мой, да, я призываю небо в свидетели против вас. В то злосчастное утро все ваши угрозы, увещания и просьбы были так же тщетны, как и сейчас, до тех пор пока вы не заставили мою мать упасть к моим ногам и молить меня об этом.
– Ты что же, собираешься упрекать меня в том, что я так ревностно добивался спасения твоей души?
– Я вовсе не собираюсь вас в чем-либо упрекать. Вы знаете, какие шаги я предпринял, так помните же, что я буду добиваться своего всеми доступными мне средствами, что я никогда не буду знать покоя и буду требовать, чтобы с меня сняли мой обет, пока во мне еще теплится надежда на это, и что душа, полная такой решимости, как моя, даже само отчаяние способна превратить в надежду. Вы окружили меня подозрительностью, следили за каждым моим движением, за каждым шагом, и, однако, я нашел способ передать мои записи в руки адвоката. Подумайте, какой решимостью надо обладать, чтобы даже в самом сердце монастыря осуществить такой замысел! Судите же сами, сколь напрасным будет все ваше дальнейшее противление этому замыслу, если вам не удалось не только предотвратить, но даже выследить первые шаги, направленные к его осуществлению.
Настоятель молчал. Казалось, слова мои произвели на него впечатление.
– Если вы хотите избавить общину от позора, который повлечет за собой продолжение возбужденного мною дела в ее стенах, вам ничего не стоит это сделать. Пусть в один из дней ворота останутся открытыми, не противьтесь моему бегству, и я никогда больше не стану ни тревожить, ни бесчестить вас своим присутствием.
– Как, ты хочешь сделать меня не только свидетелем, но еще и соучастником твоего преступления? Отступив от Бога и став на путь погибели, ты собираешься отплатить за протянутую тебе руку помощи тем, что, ухватившись за нее, стащишь меня вместе с собою в пропасть?
Совершенно разъяренный, настоятель принялся быстрыми шагами расхаживать по келье. Мое незадачливое предложение задело его главную страсть (он был ревнителем строжайшей дисциплины) и вызвало в нем новый приступ враждебности ко мне. Я стоял и ждал, пока этот взрыв уляжется, а он в это время непрестанно восклицал:
– Боже мой, за какие неисповедимые грехи позор этот бесчестит наш монастырь? Что станется с его доброю славой? Какие толки пойдут в Мадриде?
– Отец мой, за стенами монастыря никому нет дела до того, жив ли еще некий безвестный монах, или умер, или отрекся от принятого обета. Пройдет немного времени, и все обо мне забудут, а вы утешитесь, ибо снова восстановится та стройная дисциплина, та гармония, которую я все равно постоянно бы нарушал как некая диссонирующая нота. К тому же весь Мадрид, какой бы интерес к этому делу вы ему ни приписывали, ни при каких обстоятельствах не может быть ответствен за мое спасение.
Настоятель продолжал расхаживать взад и вперед, повторяя:
– Что скажет свет? Что с нами станется? – пока не довел себя до исступленности, до бешенства; тогда, внезапно повернувшись ко мне, он воскликнул: – Негодяй! Откажись от своего ужасного замысла, сейчас же! Даю тебе пять минут на размышление.
– Если бы вы мне даже дали пять тысяч минут, ничего бы не изменилось.
– В таком случае трепещи, не то поплатишься жизнью за свои нечестивые планы.
С этой угрозой он стремительно вышел из кельи. Минуты, которые я провел в ней после его ухода, были, должно быть, самыми ужасными в моей жизни. Они становились еще ужаснее оттого, что окружала меня темнота. Была глубокая ночь, а настоятель унес единственную свечу. Вначале волнение помешало мне это заметить. Я чувствовал, что нахожусь во мраке, но не знал, как и почему это случилось. В голове моей во множестве проносились картины неописуемого ужаса, нарисованные моим воображением. Мне много всего довелось слышать о чудовищных расправах, творимых в монастырях, – о страшных наказаниях, нередко кончавшихся смертью жертвы или доводивших ее до такого состояния, при котором смерть становится благодеянием. Подземелья, цепи и плети огненным потоком проносились перед моими глазами. Угрозы настоятеля являлись передо мной, начертанные огненными буквами на стенах моей кельи и пламенеющие во тьме. Весь сотрясаясь от дрожи, я принялся громко кричать, хоть и понимал, что ни одна из шестидесяти келий, в которых жила монастырская община, не откликнется на мой зов. В конце концов сами страхи мои достигли такой степени напряжения, что потеряли свою власть надо мной. Я подумал: «Убить меня они не посмеют, не посмеют и бросить в тюрьму: они отвечают за меня перед судом, в который я обратился с просьбой освободить меня. Они не посмеют учинить надо мной никакого насилия». Не успел я прийти к этому утешительному выводу, который в действительности был не чем иным, как торжеством софистических измышлений, подсказанных надеждой, дверь моей кельи отворилась и снова вошел настоятель в сопровождении своих неизменных четырех спутников. Вокруг была кромешная тьма, но я все же мог разглядеть, что они принесли с собой веревку и кусок мешковины. Вид этих предметов предвещал самое страшное. За один миг все представилось мне в ином свете, и, вместо того чтобы убеждать себя, что они не посмеют сделать того-то и того-то, я проникся мыслью прямо противоположной: «Есть ли хоть что-нибудь, чего они не посмеют сделать? Я в их власти. Они это знают. Я вел себя с ними как нельзя более вызывающе, – чего только не могут сделать монахи в своей бессильной злобе? Что же будет со мной?»
Они подошли совсем близко, и я уже представил себе, как мне накидывают на шею петлю, как потом прячут мой труп в мешок. Перед взором моим проплывали бесчисленные картины кровавых убийств, я чувствовал, как пламя костров обжигает меня, мне было нечем дышать. Мне чудились стоны многих тысяч замученных в этих стенах жертв, которых постигла та же участь, что ждет меня. Я не знаю, что такое смерть, но я убежден, что в эту минуту я пережил муки не одной, а многих смертей. Первым побуждением моим было броситься на колени.
– Я в вашей власти, – произнес я. – В ваших глазах я виновен, делайте со мной все, что задумали, только не продлевайте моих мучений.
Не видя, а может быть, и не слыша меня, настоятель сказал:
– Теперь ты в том положении, в каком тебе пристало находиться.
Услыхав эти слова, которые показались мне менее страшными, чем я ожидал, я пал ниц. Еще несколько минут назад я решил бы, что это неслыханное унижение, но страх делает человека кротким. Я испытывал ужас перед насилием; я был молод, и жизнь, хоть пестроту и блеск ее я больше угадывал пылким воображением, нежели знал из опыта, притягивала меня. Монахи, заметившие, что я лежу простертый, испугались, как бы в настоятеле не пробудилась жалость. С тем же гнетущим однообразием, тем же нестройным хором, от которого у меня леденела кровь, когда несколько дней назад я так же вот падал перед ними на колени, они проговорили:
– Ваше преподобие, не допустите, чтобы это лицемерное смирение могло смягчить ваше сердце. Время милосердия уже прошло. Вы назначали ему срок, когда он мог поразмыслить над своим положением, – он отказался воспользоваться им. Теперь вы пришли не для того, чтобы выслушивать его просьбы, а для того, чтобы совершить правосудие.
При этих словах, возвещавших начало самого ужасного, я стал опускаться на колени перед каждым из монахов, стоявших рядом и мрачным видом своим напоминавших палачей. Обливаясь слезами, я говорил каждому из них:
– Брат Климент, брат Иустин, скажите, почему вы так стремитесь восстановить против меня настоятеля? Почему вы так торопитесь вынести приговор, который, справедлив он или нет, неизбежно окажется суровым потому уже, что исполнителями его будете вы? Что я вам сделал худого? Не я ли заступался за вас, когда вас хотели наказать за совершенные вами проступки? Так-то вы хотите отблагодарить меня за все?
– Не трать времени попусту, – сказали монахи.
– Погодите, – вмешался настоятель, – дайте ему сказать, что он хочет. Может быть, ты все же воспользуешься последней минутою снисхождения, единственной, которую я могу предложить тебе, чтобы взять назад твое страшное решение – отречься от принятого обета?
При этих словах оставившие меня силы снова вернулись ко мне. Я поднялся с колен и стоял теперь перед ними.
– Никогда! – воскликнул я. – Я вверяю себя Божьему суду.
– Негодяй! Ты уже отрекся от Бога.
– Что же, отец мой, в таком случае мне остается только надеяться, что Господь не отречется от меня. Я обратился также и к другому суду, над которым вы не властны.
– Но зато мы властны здесь, и ты это почувствуешь.
Он сделал знак монахам, и те подошли ко мне. В испуге я закричал, но в ту же минуту покорился. Я был уверен, что минута эта будет для меня последней. Меня поразило, когда, вместо того чтобы накинуть веревку мне на шею, они связали ею мне руки. Потом они сняли с меня рясу и прикрыли меня мешковиной. Я не сопротивлялся, и, не скрою от вас, сэр, я был в какой-то степени разочарован. К смерти я уже был готов, однако во всех этих приготовлениях было нечто более страшное, чем смерть. Когда нас толкают к самому краю пропасти, где ждет смерть, мы смело бросаемся вниз и нередко бросаем вызов торжеству убийц, восторжествовав над ними. Но когда нас ведут туда шаг за шагом, когда нам дают заглянуть вниз, а потом оттаскивают назад, мы теряем вдруг всю нашу решимость и все терпение; мы понимаем тогда, что один смертельный удар был бы милостью в сравнении с промедлением, с тем, что раз от разу откладывается, а потом опять нависает над нами, колеблется и неопределенностью своей терзает нам сердце. Я был готов ко всему, но только не к тому, что последовало за этим.
Связанного веревкой, как преступника, как каторжника, прикрытого только мешковиной, они поволокли меня по коридору. Я ни разу не вскрикнул, не оказал им никакого сопротивления. Они спустились по лестнице, которая вела в церковь. Я шел за ними следом, вернее, они тащили меня за собою. Они прошли через боковой придел; близ него оказался темный проход, которого я никогда раньше не замечал. Мы вошли туда. В конце его была низкая дверь, которая выглядела зловеще.
– Нет, вам не удастся замуровать меня здесь живым! – вскричал я. – Вам не удастся заточить меня в эту страшную тюрьму, сгноить меня в этой сырости, отдать на съедение гадам! Нет, этому никогда не бывать, вы отвечаете за мою жизнь!
Тут они сразу же обступили меня, и тогда, в первый раз за все время, я вступил с ними в борьбу, стал призывать на помощь; они только этого и ждали; им надо было, чтобы я оказал им сопротивление. Тут же позвали монастырского прислужника, который ждал в коридоре; послышались удары колокола, те страшные удары, при звуке которых всей братии надлежит немедленно разойтись по кельям, ибо это означает, что в обители произошло нечто чрезвычайное. При первом же ударе колокола я потерял всякую надежду на спасение. У меня было такое чувство, что в обители не осталось ни одного живого существа: окружавшие меня в эту минуту монахи при мертвенном свете едва мерцавшей свечи были похожи на привидения, что волокут про́клятую душу в преисподнюю. Они потащили меня вниз по лестнице к этой двери, находившейся значительно ниже уровня прохода, который мы миновали. Прошло немало времени, прежде чем они сумели ее открыть: то ли в руках у них был не тот ключ, то ли их охватило волнение при мысли о насилии, которое им предстояло совершить. Но от этого промедления мне стало еще страшнее: я представил себе, что под эти своды никто никогда не сходил, что я явился первой жертвой, которую туда собирались заточить, и что палачи мои твердо решили, что я не должен выйти оттуда живым. Мысли эти повергли меня в невыразимую муку, и я принялся громко кричать, хоть и хорошо понимал, что ни одна живая душа меня не услышит. Крики мои заглушались скрипом тяжелой двери, которая подалась только после того, как монахи все вместе, вытянув руки, стали изо всей силы толкать ее вперед, шаркая все время ногами по каменному полу.
Они втолкнули меня туда, в то время как настоятель стоял у входа со свечой в руках и, как мне показалось, дрожал от открывавшейся его глазам ужасной картины. У меня было достаточно времени, чтобы увидеть, как выглядел подвал, в котором – я был в этом уверен – мне предстояло окончить мои дни. Стены были каменные, над головою нависал сводчатый потолок. В углу, на каменной глыбе, стояли распятие, череп, кружка с водой и лежал ломоть хлеба. На полу постелили рогожу, которая должна была служить мне постелью. Другая, свернутая, должна была заменить собою подушку. Монахи швырнули меня на эту подстилку и приготовились уйти. Я перестал им сопротивляться; я понимал, что убежать все равно никуда не могу, но я стал умолять их оставить мне хотя бы свечу, и молил их об этом так горячо, как будто речь шла о том, чтобы мне даровали свободу. Так, когда мы бываем придавлены большим горем, мысли наши разбегаются и дробятся по мелочам. Мы не в силах охватить умом того, что свершилось. Мы не ощущаем тяжести навалившейся на нас горы, а только уколы впивающихся в тело мелких камней.
– Во имя христианского милосердия, оставьте мне свечу, хотя бы для того, чтобы я мог защититься от гадов, которыми здесь, верно, все кишит.
Это была сущая правда, я увидел, как потревоженные светом пресмыкающиеся неимоверной длины поползли по стенам. Все это время монахи изо всех сил старались запереть тяжелую дверь; они не проронили при этом ни единого слова.
– Умоляю вас, оставьте мне свечу, хотя бы для того, чтобы я мог взирать на этот череп; вам нечего бояться, что если я что-то буду видеть в таком месте, то это облегчит мою участь. Оставьте свечу; не то, когда я захочу молиться, мне придется ощупью пробираться к распятию. – За это время им, правда, с трудом, но все же удалось запереть дверь, и я услышал их удалявшиеся шаги.
Вы, пожалуй, не поверите мне, сэр, если я скажу вам, что я сразу же погрузился в глубокий сон; но лучше уж никогда больше не спать, чем испытать такое ужасное пробуждение. Когда я проснулся, вокруг все было так же темно. Мне больше уже не суждено было видеть свет; не суждено следить за бегом часов и минут, которые долю за долей отмеряют доставшиеся нам муки и как будто тем самым их уменьшают. Слыша бой часов, мы знаем, что еще один час нашего страдания миновал и что он никогда больше не вернется. Единственным подобием часов для меня было появление монаха, который каждое утро приносил мне хлеб и воду; я прислушивался к его шагам, как будто то были шаги любимого существа, звук их сделался для меня пленительной музыкой. Только находясь в таком положении, в каком был я, можно понять, как много могут значить для человека такие вот вехи, которыми отсчитываешь часы бездействия и полного мрака. Вам, разумеется, приходилось слышать, сэр, что глаза, очутившиеся впервые во тьме, вначале вообще ничего не видят, а потом постепенно привыкают к окружающему их мраку и начинают различать в нем предметы, которые даже освещены для них неким подобием света. Очевидно, та же способность есть и у души, иначе как бы я мог, находясь в этих грозных стенах, размышлять, принимать решения и даже – тешить себя надеждой? Так бывает, когда нам кажется, что весь мир в сговоре против нас; всю силу нашего отчаяния мы обращаем тогда на дружеское сочувствие к себе и на снисхождение к собственной слабости. Когда же все вокруг льстят нам и нас боготворят, мы безнадежно устаем и терзаем себя упреками.
Узник, ежечасно мечтающий о свободе, менее подвержен апатии, нежели государь на престоле своем, окруженный лестью, сладострастием и пресыщением. Я пришел к мысли, что бумаги мои находятся в сохранности, что дело мое ведут с надлежащим упорством, что мой брат очень ревностно за него взялся и поручил его лучшему адвокату Мадрида, что они не посмеют убить меня и что вся обитель будет в ответе, если я не смогу явиться тотчас же, как того потребует суд; что сама принадлежность моя к столь знатному роду является для меня могучей защитой, пусть даже никто из членов семьи, за исключением моего великодушного и пылкого Хуана, не заступится за меня; что коль скоро мне было позволено получить и прочесть первую записку адвоката и передал ее мне сам настоятель, то было бы нелепо думать, что мне могут отказать в дальнейших сношениях с ним тогда, когда дело продвинется дальше. Все это нашептывала мне надежда – и не без оснований. Но стоит мне только вспомнить, какие мысли мне внушало отчаяние, как я содрогаюсь даже сейчас. Самой ужасной из всех была мысль, что монастырская община может убить меня теми средствами, которые имеются в ее распоряжении, не дав мне дождаться свободы.
Вот, сэр, каковы были мои размышления; вы спросите, каковы же были мои занятия. Мое положение было таково, что в них не было недостатка, и, как бы они ни претили мне, это все-таки были занятия. Я имел возможность молиться; вера в Бога была единственной моей опорой в одиночестве и во тьме, и, моля Господа только о том, чтобы мне были дарованы свобода и покой, я чувствовал, что по крайней мере не оскорбляю Его теми лицемерными молитвами, которые я был бы вынужден произносить, если бы пел в хоре. Там я обязан был принимать участие в богослужении, которое мне было ненавистно, а для Него оскорбительно; здесь, в тюрьме, я открывал перед Ним сердце, и у меня было такое чувство, что Он, может быть, мне ответит. Однажды, когда зашел монах, приносивший мне хлеб и воду, я воспользовался светом свечи и переставил распятие так, что теперь, проснувшись, мог сразу же нащупать его руками. А просыпался я очень часто и, не будучи уверен, ночь это или день, все равно читал молитвы. Я не знал, совершается ли в эти часы утренняя или вечерняя месса; у меня не было тогда ни утра, ни вечера, но распятие сделалось для меня неким талисманом, которого я непременно должен был коснуться. Нащупав его, я говорил: «Мой Бог не оставляет меня даже в моей темнице; это Бог, который сам страдал и который может сжалиться надо мной. Величайшее из моих бедствий ничто в сравнении с тем, что Христос, претерпевший унижение за грехи людей, выстрадал за меня!» И я целовал лик Его на распятии (нащупывая его в темноте губами) с таким горячим волнением, какого у меня никогда не бывало тогда, когда я видел Его среди сияющих свечей, когда к Нему поднимали остию, а вокруг все было окутано ароматным дымом, вздымавшимся из кадильниц, когда блистали всем своим великолепием одежды священников, а верующие благоговейно молились, недвижно простертые перед Ним.
Были у меня и другие занятия, менее достойные, но неотвратимые. Гады, которыми кишела темная яма, куда я был брошен, заставляли меня все время держаться настороже, вызывая в душе чувство вражды, неотступной, жалкой, нелепой. Рогожа оказалась постеленной у самого театра военных действий. Я перенес ее в другое место, но гады не перестали меня преследовать. Тогда я положил ее вплотную к стене: прикосновение их раздувшихся холодных и скользких тел нередко будило меня среди ночи и еще чаще заставляло меня содрогаться от ужаса, когда я не спал, стоило мне только ощутить на себе их прикосновения. Я нападал на них, я старался напугать их звуком моего голоса, вооружался против них рогожей; но больше всего меня донимала необходимость постоянно защищать от их непрошеных вторжений хлеб и кружку с водой, куда они непременно всякий раз пытались залезть. Я принимал множество самых необходимых предосторожностей, и все напрасно, ибо ничто мне не помогало, но как-никак мне было чем себя занять. Уверяю вас, сэр, в тюрьме этой у меня было больше дела, нежели в монастырской келье. Сражаться со змеями в темноте – это, может быть, самая ужасная борьба, какая выпадает на долю человека. Но что значит она в сравнении с другой борьбой – с теми змеями, которые бывают зачаты одиночеством человека, заточенного в четырех стенах, и ежечасно рождаются у него в сердце?
Было у меня и еще одно времяпрепровождение – занятием я все же это никак не могу назвать. Помня, что час состоит из шестидесяти минут, а каждая минута – из шестидесяти секунд, я вообразил, что смогу отсчитывать время с такою же точностью, как и монастырские часы, и исчислять, сколько времени я провел в тюрьме и сколько его еще остается. Та́к вот я и сидел и считал до шестидесяти; меня, правда, все время разбирало сомнение, что я отсчитываю минуты быстрее, чем монастырские часы. Как мне тогда захотелось самому превратиться в часы, дабы проникнуться равнодушием ко всему на свете и не иметь никаких пристрастий, желаний, никакого повода для того, чтобы торопить бег времени! Потом я стал отсчитывать его медленнее. Случалось, что за этой игрой на меня нападал вдруг сон (может быть, даже я и принимался за нее в надежде, что он придет), но стоило мне проснуться, как я сейчас же снова возобновлял прерванный счет. Сидя на своей подстилке, я покачивался как бы в такт маятнику, отсчитывал и измерял проходившие часы и минуты, лишенный того чудесного календаря, который нам дарован природой, – с его восходами и закатами, с предрассветной и сумеречной росою, с пылающими зорями и вечерними тенями. Когда счет мой бывал прерван сном – а я даже не знал, сплю я днем или ночью, – я всякий раз пытался восполнить пропущенное, тут же принимаясь опять отсчитывать минуты и секунды, и мне это удавалось: я находил для себя утешение в мысли, что, который бы это ни был час, он все равно состоит из шестидесяти минут. Еще немного, и я бы, вероятно, превратился в того жалкого идиота, о котором я когда-то читал и который, привыкши подолгу слушать, как идут часы, так научился подражать их тиканью и бою, что, когда часовой механизм останавливался, с совершеннейшей точностью воспроизводил то и другое2. Вот из чего складывалась в те дни моя жизнь.
На четвертый день (а я отсчитывал дни всякий раз, когда ко мне приходил монах) тот, как обычно, положил на камень хлеб и поставил кружку с водой, но почему-то медлил с уходом. Ему действительно не хотелось сообщать мне какие-либо известия, могущие заронить в мое сердце надежду; это было несовместимо ни с его положением, ни с этими обязанностями, которые порожденная монастырской жизнью нелепая озлобленность надоумила его возложить на себя как покаяние. Вы содрогаетесь, слыша это, сэр, но тем не менее это сущая правда: человек этот думал, что служит Богу тем, что созерцает страдания себе подобного, которого заточили в тюрьму и обрекли на голод, беспросветный мрак и соседство со змеями. Теперь срок его покаяния окончился, и он отшатнулся от этого зрелища. Увы! Сколько лжи и фальши заключено в религии, которая считает, что, умножая страдания других, мы этим приближаемся к тому Богу, который хочет, чтобы каждый из нас был спасен. И однако, именно этим занимаются в монастырях. Монах этот долго колебался, борясь с жестокостью своей натуры, и кончил тем, что ушел и запер за собой дверь, чтобы иметь возможность еще какое-то время помедлить. Быть может, в эти минуты он молился Богу и просил Его, продлевая мои страдания, облегчить все те, что выпали на его долю. Полагаю, что он был совершенно искренен; только если бы людей учили устремлять силы свои на Великую Жертву, то неужели бы они могли поверить, что собственная их жизнь или чьи-то чужие жизни могут стать ей заменой? Вас удивляет, сэр, что вы слышите такие слова от католика, но вторая часть моего рассказа должна будет пояснить вам, почему я их произнес. В конце концов монах уже не смог откладывать далее исполнение того, что ему поручили. Он был вынужден объявить мне, что настоятель не остался глух к моим страданиям, что Господь коснулся его сердца и смягчил его и теперь он разрешает мне выйти из моей тюрьмы.
Не успел он вымолвить эти слова, как я вскочил и бросился вон оттуда и при этом так громко закричал, что, пораженный, он замер. Выражение каких-либо чувств – вещь очень необычная в монастырях, а выражение радости – это целое событие. Прежде чем он успел прийти в себя от удивления, я уже был в проходе, который вел в церковь, и среди монастырских стен, которые прежде были для меня стенами тюрьмы, обрел настоящее раздолье. Меня охватило удивительное ощущение свободы, и если бы в эту минуту передо мной распахнулись ворота монастыря, то вряд ли оно было бы сильнее. Я упал в этом темном проходе на колени и возблагодарил Господа. Я благодарил Его за свет, за воздух, которые я обретал вновь, и за то, что теперь мог дышать полной грудью. Когда я изливал все эти чувства – а они были столь же искренни, как и все остальные, которые вырывались у меня в этих стенах, – мне вдруг стало худо; у меня закружилась голова, должно быть от избытка света, которого я столько времени был лишен. Я упал на пол и не помню уже, что было со мной потом.
Очнувшись, я увидел, что я лежу у себя в келье, которая выглядит совершенно так же, как тогда, когда я ее оставил; был день, и я убежден, что заливавший ее свет больше способствовал моему выздоровлению, нежели вся пища и укрепляющие средства, которые мне теперь в изобилии давали. В течение всего дня до слуха моего не донеслось никаких звуков, и у меня было достаточно времени, чтобы поразмыслить о возможных причинах той снисходительности, которую ко мне проявили. Мне пришло в голову, что настоятелю мог быть дан приказ вызвать меня или что, во всяком случае, он не в силах был не допустить встреч моих с адвокатом, на которых тот мог настаивать как на необходимых ему для ведения моего дела. Уже под вечер в келью ко мне зашли несколько монахов, они вели разговор о вещах совершенно посторонних, притворились, что отсутствие мое истолковано ими как следствие болезни, и я не стал их разубеждать. Как бы невзначай они упомянули о том, что родители мои, потрясенные надругательством над святою верой, которое я учинил, выразив желание отречься от принятого обета, уехали из Мадрида. Известие это очень взволновало меня, хоть я и старался ничем не выказывать своего волнения. Я спросил их, сколько времени я был болен. «Четыре дня», – ответили они. Это подтвердило мои подозрения касательно причины моего освобождения, ибо в письме своем адвокат сообщал мне, что через четыре дня он будет просить свидания со мной по поводу возбужденного мною ходатайства. Они ушли, но вскоре в келью ко мне явился еще один посетитель.
После вечерни (от присутствия на которой меня освободили) ко мне пришел настоятель. Он был один. Он подошел к моему изголовью. Я пытался встать, но он дал мне понять, что хочет, чтобы я успокоился, и сам уселся возле меня, устремив на меня спокойный, но проницательный взгляд.
– Теперь ты убедился, что наказывать тебя в нашей власти?
– Я никогда в этом не сомневался.
– Дабы ты не начал снова искушать эту власть и толкать ее на крайние меры воздействия, которые, предупреждаю, ты не в силах будешь выдержать, я пришел сюда и требую, чтобы ты отказался от отчаянной попытки отречься от принятого тобой обета. Затея твоя может только оскорбить Господа, для тебя же все неизбежно закончится неудачей.
– Отец мой, не вдаваясь в подробности, которые благодаря мерам, принятым той и другой стороной, оказываются совершенно ненужными, я могу только ответить вам, что буду поддерживать мое ходатайство всеми средствами, которые волею Провидения окажутся мне доступными, и что понесенное мною наказание только укрепило меня в моей решимости.
– И это твое окончательное решение?
– Да, и я прошу вас не докучать мне больше и ничего от меня не требовать. Это все равно ни к чему не приведет.
Какое-то время он молчал; наконец я услышал:
– Так, значит, ты настаиваешь на том, чтобы завтра тебе дали свидание с адвокатом?
– Да. Я буду этого добиваться.
– Во всяком случае ты не должен сообщать ему о наказании, которому тебя подвергали.
Слова эти поразили меня. Я понял все, что скрывалось за ними, и ответил:
– Может быть, в этом и нет особой надобности, но, скорее всего, это не окажется излишним.
– Ты что же, хочешь разглашать тайны обители, в стенах которой ты находишься?
– Простите меня, отец мой, за эти слова, но вы, очевидно, сознаете, что превысили свои полномочия, если вы сейчас так обеспокоены тем, чтобы поступки ваши остались скрытыми. А раз так, то дело не в раскрытии тайн монастырского устава, а в нарушении этого устава. Об этом-то мне и придется сказать.
Настоятель ничего не ответил, а я продолжал:
– Если вы злоупотребили данной вам властью, то, хотя потерпевшим и являюсь я сам, вся вина ложится на вас.
Настоятель поднялся с места и, не говоря ни слова, ушел из кельи.
На следующий день я присутствовал на утренней мессе. Служба шла обычным порядком, но к концу, когда все молящиеся уже вставали с колен, настоятель, с силой стукнув кулаком по аналою, приказал всем не двигаться с места. Громовым голосом он возгласил:
– Прошу всю общину помолиться за одного монаха; Господь оставил его, и он собирается совершить поступок, оскорбительный для Всевышнего, позорящий церковь и пагубный для его души.
Услыхав эти грозные слова, трясущиеся от страха монахи снова опустились на колени. Я был в их числе, как вдруг настоятель, назвав меня по имени, вскричал:
– Встань, негодяй, встань и не оскверняй нашего храма своим нечестивым дыханием!
Я поднялся в смятении, весь дрожа, скрылся к себе в келью и оставался там до тех пор, пока за мной не пришли и не вызвали в приемную, где меня уже дожидался мой адвокат. Свидание это ни к чему не привело, потому что при нем присутствовал монах, ставший по желанию настоятеля свидетелем всего нашего разговора, и адвокат, как оказалось, не имел права потребовать, чтобы тот удалился. Как только мы доходили до обстоятельств дела, он прерывал нас и заявлял, что его обязанность не допускать нарушения правил поведения в монастырской приемной. Когда я обращал внимание адвоката на ту или иную подробность, монах все начисто отрицал, уличал меня во лжи и в конце концов до такой степени сбил нас с предмета нашего разговора, что, только ради того, чтобы защитить себя, я упомянул о понесенном мною наказании, которого тот не мог отрицать и о котором лучше всего свидетельствовал мой измученный вид. Как только я заговорил об этом, монах умолк (он старался не пропустить ни одного моего слова, чтобы все доложить настоятелю), и адвокат стал слушать меня с удвоенным вниманием. Он записывал все, что я говорил, и, казалось, придавал этому больше значения, чем я думал и мог ожидать.
Когда беседа наша окончилась, я вернулся к себе в келью. Адвокат посещал меня и в последующие дни, и так продолжалось до тех пор, пока он не собрал все сведения, необходимые для того, чтобы вести мое дело. И в течение всего этого времени в монастыре обращались со мною так, что у меня не могло быть ни малейшего повода для жалоб. Этим-то, вероятно, и объяснялась столь необычная для всех окружающих снисходительность. Но как только адвокат перестал у меня бывать, враждебность и преследования возобновились с прежнею силой. Я снова сделался для них человеком, с которым можно было нисколько не считаться, и они соответственно стали обращаться со мной. Я убежден, что в их намерения входило не допустить, чтобы я дожил до того дня, когда в суде будет слушаться мое дело; во всяком случае, можно с уверенностью сказать, что они употребили все средства для того, чтобы этого добиться. Началось это, как я уже говорил, со дня последнего посещения адвоката. Прозвонил колокол, сзывавший к очередной трапезе. Я собирался уже сесть на свое место за столом, как вдруг настоятель вскричал:
– Постойте! Постелите ему посреди трапезной рогожу.
Приказание это было исполнено, меня заставили сесть на подстилку и дали только хлеб и воду. Я съел маленький кусочек хлеба, оросив его слезами. Я предвидел, что меня ждет, и даже не пытался протестовать. Когда читалась послеобеденная молитва, мне было приказано выйти за дверь, дабы от моего присутствия благословение, о котором молили все собравшиеся, не утратило своей силы.
Я ушел к себе, а когда колокол зазвонил к вечерне, вместе со всеми стал у дверей церкви. Меня удивило, что все уже собрались, а двери оставались запертыми. Когда колокол умолк, появился настоятель; двери отворились, и вся братия стала поспешно входить в храм. Я пошел вместе со всеми, но настоятель остановил меня.
– Куда ты идешь, негодяй! Стой! – вскричал он.
Я повиновался; вся община вошла в церковь, а я остался стоять у дверей. Отлучение это подействовало на меня угнетающе. Медленно выходившие из церкви монахи молча бросали на меня полные ужаса взгляды; я чувствовал себя самым ничтожным существом на земле; мне хотелось провалиться куда-нибудь под пол и не вылезать до тех пор, пока не окончится дело, возбужденное мною в суде.
На следующий день, когда я отправился к утрене, повторилось все то же самое, но к этому прибавились еще ужасающие, походившие на проклятия упреки как перед началом мессы, так и потом, когда монахи выходили из церкви. Я опустился на колени у церковных дверей. Я не сказал ни слова. Я не стал отвечать на их оскорбления3 и поддерживал в себе присутствие духа едва теплившейся во мне надеждой, что и моя молитва дойдет до Господа так же, как звучное пение хора, с которым мне все же было очень горько расставаться.
В течение дня все шлюзы монастырской злобы и мстительности распахнулись. Я появился в дверях трапезной. Войти туда я не смел. Увы, сэр, знали бы вы только, как проходят у монахов часы трапез! В эти часы, глотая свою еду, они оживленно обсуждают мелкие монастырские происшествия. Они спрашивают друг друга: «Кто сегодня опоздал к молитве?», «На кого наложили покаяние?». Это становится предметом разговора, и подробности их жалкой жизни не доставляют им никакой другой темы для ненасытной злобы и любопытства, неразлучных близнецов, что родятся в монастыре. Я продолжал стоять в дверях трапезной, пока наконец один из братии, которому настоятель кивнул, не попросил меня удалиться. Я вернулся к себе в келью, переждал там несколько часов, и только после того, как зазвонили к вечерне, мне принесли еду, притом такую, от которой отшатнулся бы даже самый голодный из голодных. Я пытался все же съесть ее, но так и не мог и, слыша удары колокола, отправился к вечерне: я не хотел давать никакого повода к недовольству тем, что не исполняю свои обязанности. Я поспешил сойти вниз. Как и утром, двери были заперты; служба уже началась, и мне снова пришлось уйти, не приняв в ней участия. На следующий день мне не позволили присутствовать на утренней мессе; та же самая унизительная сцена повторилась, когда я появился в дверях трапезной. В келью мне посылали такую пищу, какую не стала бы есть и собака, а всякий раз, когда я пытался войти в церковь, двери ее оказывались запертыми. Меня преследовали множеством способов; они слишком омерзительны, слишком мелки для того, чтобы о них рассказывать или даже просто их вспоминать, но вместе с тем они были столь мучительны, что с утра до вечера я не знал покоя. Вообразите только, сэр, что шестьдесят с лишним человек дали друг другу клятву сделать жизнь одного человека невыносимой; что они все сообща решили оскорблять его, преследовать, всеми способами мучить и раздражать; а потом постарайтесь представить себе, каково будет этому несчастному выносить подобную жизнь. Я начал опасаться за свой рассудок, да и за свою жизнь, ведь, как она ни была жалка, ее все же поддерживала надежда на благоприятный исход моего дела.
Постараюсь в нескольких чертах изобразить вам один из дней этой жизни. Ex uno disce omnes[36], 4. Утром я шел к утренней мессе и, дойдя до дверей церкви, опускался на колени; войти внутрь я не смел. Вернувшись к себе в келью, я обнаружил, что распятия моего уже нет. Я решил пойти пожаловаться настоятелю; в коридоре я встретил одного из монахов и двоих воспитанников. Завидев меня, все они прижались к стене; они старательно подобрали подолы ряс, словно боясь, что я могу осквернить их своим прикосновением.
– Вам нечего бояться, – кротко сказал я, – коридор достаточно широк.
– Apage, Satana![37] – воскликнул монах. – Дети мои, – продолжал он, обращаясь к воспитанникам, – повторяйте вслед за мной: «Apage, Satana!»; не подходите к этому дьяволу, он оскверняет рясу, которую носит и которую готовится с себя снять.
Воспитанники отшатнулись от меня и, для того чтобы придать изгнанию дьявола еще большую силу, проходя мимо, плюнули мне в лицо. Я вытер их плевки и подумал, как мало духа Христова в обители тех, кто называет себя братьями во Христе. Дойдя до кельи настоятеля, я робко постучал в дверь.
– Входи с миром, – услышал я в ответ и стал творить молитву, прося у Бога, чтобы меня встретили миром. Отворив дверь, я увидел настоятеля и еще нескольких монахов, собравшихся у него. Едва завидев меня, настоятель в ужасе закричал и накрыл голову полою своей рясы. Монахи поняли этот знак: дверь тут же захлопнули у меня перед носом. В этот день мне пришлось, сидя у себя в келье, особенно долго ждать, пока мне принесут еду. Никакое душевное состояние не может подавить в человеке голод и жажду. Много дней уже я не получал той пищи, которой требует молодой, развивающийся организм, тем более что я был высокого роста и очень исхудал. Я отправился на кухню попросить, чтобы мне дали поесть. Стоило мне появиться в дверях, как повар начал креститься; даже на кухню меня не пускали теперь дальше порога. Ему вбили в голову, что во мне сидит бес, и он трясся от страха.
– Что тебе надобно? – спросил он.
– Что-нибудь поесть, – ответил я, – только поесть.
– Ладно, получай, только не смей подходить ко мне близко, вот твоя еда.
И он швырнул за порог требуху; я был настолько голоден, что с жадностью принялся есть ее прямо с полу. Однако на следующий день счастье мне изменило: повар успел проведать тайный замысел монастырской общины – всеми способами мучить тех, кто вышел у нее из повиновения, – и смешал брошенные мне объедки с золою, волосами и пылью. Мне стоило большого труда выбрать какой-нибудь кусок, который, притом что я был изнурен голодом, я все же решился бы съесть. Мне не дали в келью воды и не позволили прикасаться к той, которую приносили в трапезную; мучимый жаждой, которая становилась еще более жгучей от снедавшей меня тревоги, я вынужден был становиться на колени у края колодца, и, так как у меня не было даже кружки, чтобы зачерпнуть воду, мне приходилось либо пить из пригоршни, либо лакать ее, как собака. Стоило мне на несколько минут выйти в сад, как, воспользовавшись моим отсутствием, они проникали ко мне в келью и старались там все перевернуть и сломать. Я уже сказал, что у меня отняли распятие. Но я продолжал все так же опускаться на колени и повторять слова молитв перед камнем, на котором оно стояло. Потом унесли и камень. Из кельи моей постепенно исчезло все: стол, стул, требник, четки; остались одни только голые стены. Была там, правда, кровать, но они сделали все для того, чтобы я не знал на ней ни часа покоя. И однако, они все же боялись, как бы мне не выдалось даже коротенькой передышки, и придумали для этого новое средство, и, если бы план их удался, я, вероятно, лишился бы не только сна, но и рассудка.
Однажды ночью, проснувшись, я увидел, что келья моя в огне; в ужасе я вскочил с постели, но должен был тут же податься назад: меня окружало целое сонмище дьяволов; на них были огненные одежды, из уст их извергалось пламя. Вне себя от ужаса, я кинулся к стене и убедился, что касаюсь рукой холодного камня. Я пришел в себя и тогда только сообразил, что все эти ужасные фигуры намалеваны на стенах фосфором для того, чтобы меня напугать. Я снова улегся в постель и заметил, что, по мере того как начинает светать, фигуры эти постепенно бледнеют и исчезают. Я принял отчаянное решение – во что бы то ни стало пробиться к настоятелю и поговорить с ним. Я чувствовал, что среди всех ужасов, которыми меня окружили, я могу повредиться умом.
Только около полудня уже удалось мне заставить себя исполнить принятое решение. Я постучался в келью настоятеля, и, когда дверь открылась, он встретил меня с таким же выражением ужаса на лице, как и при моем первом появлении, но принять меня ему все же пришлось.
– Отец мой, – сказал я, – вы должны выслушать меня, я не уйду отсюда, пока вы не сделаете того, о чем я прошу.
– Говори.
– Они морят меня голодом, того, что мне дают, недостаточно, чтобы поддержать мои силы.
– А разве ты этого не заслужил?
– Заслужил я или нет, ни Божеские, ни человеческие законы не осудили еще меня на голодную смерть; и если приговор этот вынесен вами, то знайте – вы совершаете убийство.
– Ты еще на что-нибудь жалуешься?
– Да, на все; меня не пускают в церковь; мне запрещают молиться, у меня отняли распятие, четки и чашу со святой водой. Даже у себя в келье я не могу теперь исполнять все то, что требует от меня святая вера.
– Что требует от тебя святая вера!
– Отец мой, хоть я и не монах, но неужели я по-прежнему не могу оставаться христианином?
– Отрекшись от принятого обета, ты лишил себя этого права.
– Да, но ведь я же остался человеком, и как человек… Но я не взываю к вашему милосердию, я прошу, чтобы вы защитили меня вашей властью. Сегодня ночью на стенах намалевали изображения бесов. Когда я проснулся, я увидел вокруг себя пламя и злых духов.
– То же самое ты увидишь и перед смертью!
– И я буду тогда достаточно наказан, но не слишком ли рано это наказание началось?
– Призраки эти – порождение твоей нечистой совести.
– Отец мой, если вы соизволите осмотреть мою келью, вы увидите следы фосфора на стенах.
– Чтобы я стал осматривать твою келью! Чтобы я туда вошел!
– Значит, просьба моя так и не будет удовлетворена? Прошу вас, употребите вашу власть во имя обители, во главе которой вы стоите. Помните, что, как только ходатайство мое перед судом будет предано гласности, все эти обстоятельства станут также известными, и судите сами, как отразятся они на репутации всей общины.
– Вон отсюда!
Я ушел; просьбу мою, во всяком случае в отношении пищи, удовлетворили, но келью мою оставили разгромленной и опустошенной, и я продолжал пребывать все в том же мучительном отчуждении от монастырской братии, распространявшемся не только на церковные службы, но и на все остальное. Заверяю вас, это отлучение от жизни было до того ужасно, что я часами бродил по монастырю и всем его коридорам с единственной целью попасться на глаза кому-нибудь из монахов, которые – я это знал – могли встретить меня только упреками или проклятиями. Даже это было для меня лучше, нежели окружавшее меня томительное молчание. Я, можно сказать, почти уже привык к их выкрикам и всякий раз в ответ только благословлял их. Через две недели дело мое должно было разбираться в суде; мне об этом ничего не было сообщено, однако настоятеля своевременно уведомили обо всем, и это ускорило его решение. Для того чтобы не дать мне воспользоваться благоприятным исходом дела, он прибег к тайному плану, жестокость которого превзошла все, что могло вместить сердце человека – нет, я оговорился, – сердце монаха. Какие-то смутные сведения об этом я получил в ту же ночь, когда обратился с просьбою к настоятелю, но если бы я даже с самого начала узнал во всех подробностях о том, сколь далеко зашли задуманные им козни и какими способами люди эти хотели достичь своей цели, то мог ли я что-нибудь сделать, чтобы им помешать?
В тот вечер я вышел побродить по саду; сердцу моему было как-то особенно тягостно. Его глухие тревожные удары напоминали собою звуки маятника, приближающего некий роковой час.
Смеркалось; сад был пуст; опустившись на колени, на свежем воздухе (в единственном храме, который мне разрешалось посещать) я пытался молиться. Попытка, однако, оказалась напрасной; вскоре я перестал произносить слова молитв, ибо они были уже лишены всякого смысла, и, совершенно подавленный невыразимой тяжестью на душе и в теле, упал наземь и лежал, простертый ниц, оцепеневший, но не бесчувственный. Я увидел, как какие-то две фигуры прошли мимо, не заметив меня; они горячо о чем-то спорили.
– Надо принять более решительные меры, – сказал один из говоривших. – Это ваша вина, что все так надолго отложили. Если вы и в дальнейшем будете к нему столь же безрассудно снисходительным, на вас ляжет ответственность за позор всей общины.
– Да, но его решение непоколебимо, – сказал настоятель (ибо это был он).
– Это не может служить доводом против той меры, которую я предлагаю.
– В таком случае он в ваших руках; только помните, я не буду отвечать за…
Продолжения разговора я уже не расслышал. Все это вовсе не так напугало меня, как вы могли бы подумать. Те, кому довелось много страдать, всегда готовы воскликнуть вслед за несчастным Агагом: «Самое горькое уже позади»5. Они не подозревают, что именно в эту минуту обнажается меч, которым их должны разрубить на куски. Ночью, вскоре после того, как я уснул, меня разбудил странный шум в моей келье. Я вскочил с постели и стал прислушиваться. Мне показалось, что я слышу убегающие шаги босых ног. Я знал, что дверь моя не запирается и поэтому кто угодно может проникнуть ко мне в келью. Но мне все же думалось, что порядки в монастыре достаточно строгие и этого-то уж никак не допустят. Поэтому волнение мое улеглось, и я стал уже засыпать, как вдруг меня снова разбудили. На этот раз я почувствовал прикосновение чьей-то руки. Я снова вскочил; вкрадчивый голос прошептал:
– Не бойся, я твой друг.
– Мой друг? Да разве у меня есть друзья? И почему вы явились в такой час?
– Это единственное время, когда мне разрешено видеться с тобой.
– Так кто же вы все-таки?
– Я тот, кто без труда проходит сквозь эти стены. И тот, кто может сделать для тебя то, что превыше человеческих сил, если только ты доверишься ему.
В словах его было что-то страшное.
– Уж не враг ли рода человеческого искушает меня сейчас? – вскричал я.
Не успел я произнести эти слова, как из коридора ко мне в келью вбежал монах (должно быть, все это время он выжидал, ибо был одет).
– Что случилось? – спросил он. – Ты напугал меня своим криком, ты произнес имя нечестивого. Что ты такое увидел? Чего ты испугался?
Я овладел собой и сказал:
– Я ничего особенного не слышал. Просто мне привиделись страшные сны, вот и все. Ах, брат Иосиф, можно ли удивляться, что после таких трудных дней я и по ночам не знаю покоя!
Монах ушел, и следующий день прошел как обычно; однако ночью меня снова разбудил тот же вкрадчивый шепот. Накануне голос этот только поразил меня, тут он меня ужаснул. В темной келье, в полном одиночестве, это вторичное вторжение неведомого существа окончательно меня сломило. Я уже готов был думать, что это действительно враг рода человеческого соблазняет меня. Я стал читать молитву, однако шепот, раздававшийся, казалось, над самым моим ухом, продолжался.
– Послушай, послушай меня, – говорил он, – и ты будешь счастлив. Отрекись от принятого тобой обета, согласись, чтобы я стал твоим покровителем, и тебе не придется об этом жалеть. Встань с кровати, попирай распятие, что валяется в ногах, плюнь на образ Пресвятой Девы, что лежит рядом, и…
Услыхав эти слова, я не мог удержаться и не закричать от ужаса. Голос тут же умолк, и тот же самый живший в соседней келье монах снова прибежал ко мне и разразился такими же восклицаниями, что и накануне; когда он вошел ко мне со свечой в руке, я увидел, что и распятие, и образ Пресвятой Девы положены в ногах моей кровати. Увидев монаха, я вскочил с постели и, взглянув на распятие и на образ, узнал, что это были те самые, которые недавно убрали из моей кельи. Все лицемерные возгласы монаха, сетовавшего на то, что я снова его потревожил, не могли сгладить впечатление, которое произвело на меня это незначительное обстоятельство. Я решил, и не без основания, что искуситель, подкинувший мне эти святыни, был человеком. Я встал, увидел, как жестоко меня обманули, и потребовал, чтобы монах ушел. Он был очень бледен и спросил меня, зачем я снова его потревожил, добавив, что я поднимаю такой шум, что не даю ему спать; в довершение всего, наткнувшись на распятие и изображение Пресвятой Девы, он спросил, откуда они взялись у меня.
– Вам это известно лучше, чем мне, – ответил я.
– Что же, ты обвиняешь меня в том, что я в сговоре с нечистой силой? Кто мог принести все это к тебе в келью?
– Тот же, кто отнял их у меня, – ответил я. Слова эти, как мне показалось, на какое-то мгновение смутили его. Он ушел, заявив, что, если я снова буду не давать ему спать по ночам, он вынужден будет доложить об этом настоятелю. Я ответил, что дело здесь вовсе не во мне, сам же дрожал от страха, ожидая приближения следующей ночи.
У меня были к этому все основания. Вечером, перед тем как лечь спать, я повторял молитву за молитвой. Мысль о том, что меня хотят отлучить от церкви, угнетала меня. Повторял я и заклинания, изгоняющие нечистую силу. Мне пришлось читать их по памяти: в келье у меня не осталось ни одного молитвенника. Повторяя эти молитвы – а они были длинны и многословны, – я в конце концов уснул. Но мне не суждено было долго спать. Возле самой постели снова раздался все тот же шепот. В ту же минуту я встал с кровати – у меня не было никакого страха. Вытянув вперед руки, босой, я принялся ходить по келье и обшаривать все углы. Руки мои натыкались на одни только голые стены – нигде ничего нельзя было ни увидеть, ни нащупать. Я снова лег и едва успел приступить к молитве, которой хотел приободрить себя, как те же вкрадчивые слова послышались снова у самого моего уха, и я не мог ни определить, откуда они исходят, ни заглушить их. Так я совершенно лишился сна. Стоило мне на какое-то мгновение задремать, как те же зловещие звуки начинали преследовать меня в моих снах. От этого постоянного недосыпания я был как в лихорадке. Ночи напролет я или прислушиваясь ждал, что вот-вот раздастся этот шепот, или слушал его, а день весь проводил в сменявших друг друга мучительных догадках. К страху моему примешивалась раздражительность, и, как только начинало темнеть, мне становилось нестерпимо тяжко. Я, правда, все время подозревал, что меня обманывают, но это никак не могло меня утешить, ибо иногда человеческая злоба и коварство измышляют такие козни, что и нечистой силе не превзойти их. Каждую ночь преследование возобновлялось и с каждым разом становилось все страшнее. Временами неизвестный мне голос пытался склонить меня к нечестивым действиям, о которых я не решусь даже рассказывать, временами внушал мне кощунственные речи, от которых бы содрогнулся сам дьявол. То он насмешливым тоном одобрял мое поведение и заверял меня, что дело мое будет иметь удачный исход, то вдруг переходил к чудовищным угрозам. Жалкое подобие сна, наступавшее в перерывах между этими вторжениями, нисколько меня не освежало. Я просыпался, обливаясь холодным потом, ощупывал рукою постель и глухим, невнятным голосом повторял последние из отдававшихся у меня в ушах слов. Я вскакивал и видел собравшихся вокруг моей кровати монахов, слышал, как они жалуются на то, что я потревожил их своими криками, напугал и вынудил тотчас же кинуться ко мне в келью. Потом они начинали испуганно переглядываться и в каком-то странном оцепенении говорили друг другу и мне примерно такое: «Случилось что-то из ряда вон выходящее, у тебя на душе какой-то тяжкий грех, он не дает тебе покоя». Они заклинали меня ради всего святого и ради спасения моей души открыть им, что я такое содеял, за что меня постигает теперь эта кара.
Как бы я ни был перед тем взволнован, стоило мне услышать эти слова, как я сразу становился спокойным. Я говорил:
– Ничего не случилось, зачем это вам понадобилось врываться ко мне в келью?
Тогда они качали головами и делали вид, что уходят от меня медленно и неохотно, словно сожалея о моей горькой участи, а я только повторял:
– Ах, брат Иустин, ах, брат Климент, я вижу вас, понимаю вас, помните, есть Господь на небе.
Однажды я долгое время пролежал в постели, не слыша никаких голосов. Я уснул, но скоро был разбужен ослепительным светом. Я сел на кровати и увидел перед собой лик Божьей Матери, окруженный лучезарным ореолом своей славы. Она не то чтобы стояла, а как бы парила в этом сиянии в ногах моей кровати, и в руках у нее было распятие; сама же она, казалось, милостиво приглашала меня лобызать свои пять сокровенных ран[38]. На какое-то мгновение я почти поверил в то, что передо мной действительно находится Пресвятая Дева Мария. Но в ту же минуту прозвучал голос более громкий, нежели обычно: «Выгони их вон, наплюй на них, ты мой, и я требую, чтобы вассал мой сослужил мне эту службу».
При этих словах видение мгновенно исчезло, а голос снова перешел на шепот, но я уже не слышал его, я лишился чувств. Я легко мог отличить это состояние от сна по крайнему недомоганию, холодному поту и мучительному ощущению нарастающей слабости, которые предшествовали ему, и по тем судорогам, которые можно было принять за рыдания, замирания сердца или удушье и которые сотрясали меня всего, прежде чем мне удалось прийти в себя. Все это время монастырская община поддерживала и, казалось, усугубляла страшный обман, который мучил меня тем, что я не мог его разгадать, и еще больше сознанием того, что я сделался его жертвой. Когда искусство обретает всемогущество и оказывается на равной ноге с действительностью, когда мы чувствуем, что иллюзия причиняет нам не меньше зла, чем сама жизнь, страдания наши утрачивают свой высокий смысл и не способны уже принести нам успокоение. В нас самих тогда рождается дьявол, оборачивающий против нас свои силы и смеющийся, видя, как мы корчимся в муках. В течение целого дня все взирали на меня, как на чудовище, содрогались от низких подозрений и, что было всего хуже, украдкой бросали на меня взгляды, исполненные лицемерного сочувствия; взгляды эти на какое-то время, казалось, согревали меня, но потом тут же устремлялись к небесам, словно моля их простить невольно содеянный грех – сострадание к тому, от кого отвернулся Господь. Когда я встречался кому-нибудь из монахов в саду, то, завидев меня, он тут же переходил на другую аллею и осенял себя крестным знамением. Когда же мне случалось встретиться с иными из них в одном из монастырских коридоров, они подбирали полы рясы, поворачивались к стене и, перебирая четки, читали молитвы и ждали, пока я пройду мимо. Если я решался опустить руку в чашу со святой водой, стоявшую у входа в церковь, то всю воду тут же выплескивали у меня на глазах. Вся община приняла чрезвычайные меры предосторожности против нечистой силы. Монахам были розданы заклинания и формулы изгнания бесов, и как за утренней, так и за вечерней мессой всякий раз читались особые молитвы. Усиленно распространялся слух, что Сатане позволено приходить в монастырь проведать своего любимого и преданного слугу и что вся братия должна быть готова к тому, что он может удвоить свои коварные усилия в борьбе с ней. Невозможно даже описать, какое действие все это произвело на юных воспитанников. Стоило им только где-нибудь завидеть меня, как они с быстротою молнии убегали прочь. Если кто-нибудь из них натыкался на меня в коридоре, то на этот случай всегда была припасена святая вода, и они выплескивали ее на меня целыми ведрами; если же почему-нибудь им этого не удавалось сделать, какой они тогда поднимали крик, как корчились от ужаса! Они становились на колени, вскрикивали, опускали глаза, громко взывали: «Сатана, смилуйся надо мной, не попирай меня своими копытами, забери свою добычу», – тут они произносили мое имя.
Наконец я ощутил, какой ужас я им внушаю. Я и сам уже начал верить, что, может быть, и вправду чем-то похож на того, кем они меня считают. Это мучительное состояние, но избежать его невозможно. Бывают обстоятельства, когда весь мир ополчается против нас, и мы сами начинаем становиться на его сторону, ожесточаясь против самих себя, лишь бы избежать томительного отчуждения от всех и вся. Вид у меня был страшный: растерянное, осунувшееся лицо, разорванная одежда, прыгающая походка, привычка постоянно что-то бормотать себе под нос и полная отрешенность от повседневной жизни обители. Можно ли было удивляться, что весь мой облик в их глазах отождествлялся с теми ужасами, которые воображение их приписывало мне? Очевидно, такое впечатление я должен был производить и на всех послушников и воспитанников монастыря. Их все время учили, что они должны ненавидеть меня, но ныне ненависть их сочеталась со страхом, а я не знаю ничего более зловещего, чем союз этих двух страстей. Как ни уныло выглядела моя келья, я старался пораньше вернуться в нее, коль скоро мне не позволяли принимать участие в вечерней службе. Как только колокол созывал всех на молитву, до меня доносились шаги монахов, спешивших к мессе; и хоть она и казалась мне прежде томительной и нудной, я отдал бы теперь все на свете, только бы мне разрешено было присутствовать на ней, дабы защитить себя от ужасной полуночной мессы Сатаны[39], 7, на которую я ждал, что меня вызовут. Но я все же становился на колени у себя в келье и повторял все молитвы, какие только мог вспомнить, а в это время каждый удар колокола и хоровое пение, доносившиеся снизу, отдавались вокруг грозным эхом, возвещавшим мне то, что в страхе моем я уже предчувствовал, – что Небеса ответили на мою мольбу отказом.
Однажды вечером, когда я все еще продолжал громко молиться, проходившие мимо моей кельи монахи сказали:
– Как, ты еще думаешь, что произносишь слова молитв? Умри, несчастный отступник, умри и будь проклят! Низвергнись скорее в преисподнюю, дабы присутствие твое больше не оскверняло наших стен!
Услыхав эти слова, я еще более ревностно возобновил свои молитвы, но это показалось им еще большим оскорблением, ибо церковники не выносят, чтобы кто-то читал молитвы не по той форме, которая принята ими. Возгласы, которые человек в одиночестве своем обращает к Богу, кажутся им профанацией. Они спрашивают: «Почему люди эти молятся не по-нашему? Как они смеют надеяться, что мольба их будет услышана?» Горе им! Неужели же внешние формы имеют какое-нибудь значение для Бога? Не есть ли исходящая от сердца мольба та единственная, которая бывает услышана Им и удовлетворена? Когда, проходя мимо моей кельи, монахи восклицали: «Умри, проклятый нечестивец, умри, Господь все равно тебя не услышит!» – в ответ я, стоя на коленях, благословлял их, – так чьи же молитвы были праведнее? В эту ночь мне снова предстояло выдержать испытание, для которого у меня больше уже не было сил. Тело мое было измождено, дух находился в непрестанном возбуждении, а мы, люди, настолько слабы, что поединок между нашими чувствами и душой неизбежно и очень скоро кончается победой более низменного начала. Не успел я лечь, как голос принялся снова нашептывать мне слова искушения. Я принялся молиться, но у меня кружилась голова, а глаза мои горели; это было пламя, жар которого я почти что физически ощущал: казалось, вся келья моя в огне. Вспомните только, что тело мое было совершенно истощено голодом, а душа изнемогала от преследований. Я боролся с одолевавшими меня видениями и сознавал, что это не что иное, как бред. Но именно оттого, что я все сознавал, бред этот становился еще неодолимей. Лучше уж сразу сойти с ума, чем знать, что все вокруг сговорились считать тебя сумасшедшим и доводить до безумия, в то время как сам отлично сознаешь, что находишься в здравом уме. Шепот в эту ночь был до того ужасен, в словах было столько надругательств и кощунства, которые невозможно повторить, столько… нет, я не в силах даже думать о них, самый слух мой проникался безумием. Казалось, во мне повредился не только рассудок, но и сами чувства. Приведу только один пример, и притом незначительный, тех ужасов, которые…
Испанец шепнул что-то на ухо Мельмоту[40]. Тот содрогнулся, после чего рассказчик взволнованным голосом продолжал:
– Больше я уже не в силах был это вынести. Я соскочил с кровати и побежал по коридору как сумасшедший; я стучался в дверь каждой кельи и взывал: «Брат такой-то, помолись за меня, помолись за меня, умоляю тебя!» Я поднял на ноги всю обитель. Потом я кинулся в церковь; двери были не заперты, и я вбежал туда. Добравшись до алтаря, я пал перед ним на колени, принялся целовать статуи святых, приник к распятию и стал громко молить о помощи, повторяя все время одни и те же слова. Монахи, разбуженные моими криками, а может быть, ожидавшие их, все устремились в церковь, однако, увидав, что я там, не стали заходить внутрь и, остановившись на пороге со свечами в руках, не спускали с меня глаз. Как все, что творилось со мной, было не похоже на состояние, в котором они пребывали; в тревоге я метался по полутемной церкви, где едва мерцали светильники, а монахи недвижной стеной стояли у двери, и на лицах у них застыл ужас, еще более ощутимый оттого, что они были озарены ярким светом, который, казалось, оставил меня, чтобы отойти к ним. У меня был такой вид, что самый непредубежденный человек и тот бы непременно решил, что либо я рехнулся, либо в меня вселился бес, либо и то и другое вместе. К тому же одному Богу известно, как можно было истолковать мои странные действия, которые в окружающем меня мраке казались еще более несообразными и сумасбродными, или произносимые мною молитвы, в которых упоминалось об ужасных искушениях, которым я подвергался и от которых я просил меня защитить. В конце концов, дойдя до полного изнеможения, я упал на пол и остался лежать недвижимо, не будучи в состоянии пошевельнуться, но вместе с тем слыша и видя все, что происходит вокруг. До слуха моего донесся их спор, следует ли оставить меня там или нет, и спор этот продолжался до тех пор, пока настоятель не приказал, чтобы Божий храм был очищен от скверны. Однако страх передо мной, который все они себе внушили, был настолько велик, что ему пришлось несколько раз повторить это приказание, прежде чем оно было исполнено. Кончилось тем, что монахи подошли ко мне с бесчисленными предосторожностями, как будто перед ними был не человек, а смердящий труп, и, подхватив за полы моей рясы, вытащили меня вон из церкви и оставили лежать у порога на каменном полу. После этого они разошлись, а я ухитрился уснуть и проспать там до тех пор, пока меня не разбудил колокол, призывавший к утренней мессе. Очнувшись, я попытался подняться, однако после ночи, проведенной на сыром каменном полу, да еще в лихорадке, вызванной страхом и возбуждением, руки и ноги мне так свело, что каждое движение отзывалось во мне жгучей болью. Я несколько раз невольно вскрикнул от боли, и это было в то время, как вся братия шла к утренней мессе. Они не могли не заметить, в каком положении я нахожусь, однако ни один из них не предложил мне помощи, да и сам я не решался просить о ней. Очень долго и с большим трудом добирался я до своей кельи. Но стоило мне взглянуть на свою кровать, как меня вновь охватила дрожь, и я повалился прямо на пол, надеясь, что хоть там, может быть, обрету отдых.
Я знал, что такое чрезвычайное происшествие не могло не обратить на себя внимания, что нарушение монастырского порядка и покоя братии непременно вызвало бы расследование, даже если бы дело касалось вещей менее значительных. Но у меня было мрачное предчувствие – а когда человек страдает, предчувствия приобретают в его жизни особое значение, – что расследование это, как бы оно ни велось, неизбежно приведет к неблагоприятному для меня исходу. Я был Ионой на корабле9: с какой бы стороны ни подул ветер, я знал, что жребий все равно падет на меня. Было уже около полудня, когда меня вызвали к настоятелю. Я пошел к нему, но не так, как ходил раньше – когда слова мольбы или возмущения были готовы сорваться с языка, когда сердце мое трепетало и преисполнялось надежды и страха, когда я весь дрожал от возбуждения или ужаса, – на этот раз я шел угрюмый, павший духом, относящийся ко всему бездумно и безразлично; физические силы мои были надломлены усталостью и бессонными ночами, душевные – преследованием, непрестанным и непереносимым. Я уже больше не старался избежать самого худшего, что они могли сделать со мной, или спорить с ними; теперь, напротив, я, можно сказать, вызывал их на это, почти что хотел этого, и казалось, что отчаяние мое даже разжигает во мне безграничное любопытство перед тем, что́ они мне готовят.
Настоятель собрал у себя множество монахов; сам он стоял посредине, а они расположились на почтительном расстоянии от него полукругом. Должно быть, я был очень жалок рядом с этими людьми, выступившими против меня и гордившимися своей властью; длинные и неплохо сидевшие на них рясы придавали фигурам их то спокойствие, которое, может быть, действует на человека сильнее, нежели великолепие и блеск, – а я стоял напротив, весь оборванный, исхудавший, мертвенно-бледный и ожесточенный, будто во мне воплотился сам дьявол, призванный на суд ангелов.
Настоятель обратился ко мне с длинной речью, в которой лишь вскользь коснулся той смуты, которую вызвало в монастыре мое намерение отречься от принятого обета. Он не обмолвился также ни одним словом об обстоятельстве, которое было известно всем, кроме меня, а именно о том, что дело мое через несколько дней будет разбираться в суде. Но зато он упомянул, и притом в таких выражениях, которые (несмотря на то что я отлично понимал всю их лживость) повергли меня в дрожь, об ужасе и смятении, охвативших монастырь, когда, как он выразился, ко мне стал являться враг.
– Сатане захотелось завладеть тобой, – сказал он, – ты ведь сам отдал себя в его руки тем, что захотел отречься от обета. Ты – Иуда среди братьев, заклейменный Каин в семье первых людей, тот козел, который стремится вырваться из рук общины, чтобы убежать и остаться одному в пустыне. Ужасы, в которые твое присутствие ежечасно повергает нас, нарушают не только покой нашей святой обители, но и вообще всего цивилизованного общества. Ты не даешь уснуть не только своему соседу, но и тем, кто живет в кельях с ним рядом. Ты беспокоишь их своими душераздирающими стенаниями, ты кричишь, что у постели твоей все время топчется дьявол, что он нашептывает тебе что-то на ухо, ты бежишь из одной кельи в другую и упрашиваешь братьев за тебя молиться, крики твои тревожат праведный сон всей общины, тот недолгий сон, который они урывают в промежутках между молениями. Пока ты среди нас, весь распорядок нарушен, вся дисциплина подорвана. Воображение наших послушников и воспитанников одновременно и оскверняется, и воспламеняется, когда они думают о нечестивых зловещих шабашах, которые дьявол устраивает у тебя в келье; мы ведь даже не знаем, что означают твои крики, которые все мы, однако, слышим, возвещают ли они твое раскаяние или его торжество. Посреди ночи ты вдруг кидаешься в церковь, тревожишь статуи святых, глумишься над распятием, оскверняешь алтарь; когда же братия вынуждена в ответ на это небывалое по своей омерзительности кощунство вытащить тебя вон из храма, ты поднимаешь крик и смущаешь всех идущих к мессе. Словом, вопли твои, корчи, нечестивые речи, все повадки, каждое твое движение самым явным образом подтверждают подозрение, зародившееся у нас, как только ты появился в обители. Ты был мерзок с самого появления твоего на свет – ты был исчадием греха, и ты сам это сознаешь. Как ты ни бледен – а ты так мертвенно-бледен, что даже на губах у тебя нет ни кровинки, – но стоит мне только заговорить об этом, и я вижу, как щеки твои загораются ярким румянцем. Злой дух, под знаком которого ты родился, ярый враг христианского благочестия и монашества, преследует тебя даже в стенах монастыря. Всевышний моими устами повелевает тебе оставить нас и больше не смущать. Постой, – сказал он, увидав, что я собираюсь в точности исполнить его приказание, – не торопись, интересы нашей пресвятой веры и всей общины требуют, чтобы я с особым вниманием отнесся к необычайным обстоятельствам, которыми отмечено твое нечестивое пребывание в этих стенах. В скором времени сюда прибудет епископ – подготовься, как можешь, к его приезду.
Я решил, что это последнее, что он хочет мне сказать, и собирался уже уйти, когда настоятель вдруг снова меня окликнул. Монахи, оказывается, хотели, чтобы я произнес какие-то угодные им слова, чтобы я увещевал, возражал, молил. Я не уступил их желанию и был настолько тверд в своем отказе, будто знал – чего в действительности не было, – что епископ решил самолично расследовать беспорядки в монастыре и что вовсе не настоятель пригласил епископа для этого расследования (мера, к которой он постарался бы ни в коем случае не прибегать), а сам епископ – о котором вскоре будет сказано, что это был за человек, – узнал о смятении в монастыре и решил взять дело в свои руки. Я был настолько подавлен преследованиями и от всего отрешен, что не знал, что весь Мадрид охвачен волнением, а епископ решил не оставаться больше безучастным к тому, что творится в монастыре и о чем ему докладывают, – словом, что на одной чаше весов была моя одержимость, а на другой – моя жалоба в суд, и даже сам настоятель не был уверен, которая из этих двух чаш перетянет. Обо всем этом я ровно ничего не знал – никто не решался сказать мне правду. Поэтому я собирался уже уйти, не ответив ни словом на раздававшийся со всех сторон шепот, который уговаривал меня подчиниться настоятелю и просить его заступничества перед епископом, дабы предотвратить позорное расследование дела, которое ставило всех нас под угрозу. Я вырвался из кольца, которым они меня окружили, и, стоя в дверях, с невозмутимым спокойствием и печальною укоризной посмотрел на них и сказал:
– Да простит вас Господь и да сподобит вас добиться такого же оправдания на Страшном суде, какого я требую для себя на суде едущего сюда епископа.
Слова эти, хоть и произнес их бесноватый – а таким они считали меня, – повергли их в дрожь. В монастырях редко можно услышать правду, и поэтому каждое слово ее звучит столь же убедительно, сколь и грозно. Монахи перекрестились и, когда я вышел из помещения, повторяли:
– Но как же нам быть? Что, если мы попробуем предупредить это бедствие?
– Но каким способом?
– Любым, который нам подскажут интересы церкви; речь идет о добром имени всей нашей обители. Епископ – человек строгого нрава и пытливого ума, обмануть его невозможно, он будет во все вникать. Что станется с нами? Не лучше ли было бы?..
– Что?
– Ну, вы понимаете…
– Если бы я и осмелился вас понять, у нас слишком мало времени.
– Нам доводилось слышать, как иные безумные умирали совершенно внезапно, как…
– На что вы намекаете?
– Ни на что, мы просто говорили о том, что всем известно; о том, что длительный сон нередко оказывает целительное действие на сумасшедших. Он ведь сумасшедший. Весь монастырь готов в этом поклясться, в этого несчастного вселился бес; каждую ночь он призывает его к себе в келью; крики его не дают покоя всей общине.
Настоятель все это время нетерпеливо ходил взад и вперед по своей келье. Он обвивал вокруг пальцев четки; по временам он бросал на монахов гневные взгляды; наконец он сказал:
– Мне самому не дают покоя его крики, его блуждания, его совершенно явные сношения с врагом рода человеческого. Мне надо отдохнуть, мне надо крепко поспать, чтобы прийти в себя после всех этих потрясений. Что бы вы мне посоветовали принять?
Несколько монахов подошли к нему, они не поняли этого намека и стали настойчиво советовать ему различные снотворные, противоядия, и т. п., и т. п.
– Настойку опия, она дает глубокий, здоровый сон. Попробуйте ее, отец мой, если вам нужен отдых; только для того, чтобы быть уверенным в ее действии, не лучше ли сначала испробовать ее на ком-нибудь другом?
Настоятель кивнул головой, и все уже должны были разойтись, как вдруг он схватил старого монаха за рукав и шепнул:
– Только не отравите его!
– Нет, что вы, это просто будет глубокий сон. Какая разница, когда он проснется? Все равно его ждут страдания, в этой ли жизни или в другой. Мы в этом не виноваты. Несколькими минутами раньше или позже, какое это имеет значение?
Настоятель был человек нерешительный и вместе с тем вспыльчивый. Он все еще никак не отпускал от себя монаха.
– Только никто не должен знать об этом, – прошептал он.
– Но кто же может узнать?
В эту минуту раздался бой часов, и один известный своей аскетической жизнью старик, занимавший соседнюю с настоятелем келью и привыкший восклицать: «Господь все знает!» – всякий раз, когда били часы, громко повторил эти слова и на этот раз. Настоятель наконец отпустил монаха; тот крадучись добрался до своей кельи, – слова эти поразили его как удар грома. Опия в эту ночь мне не дали, и голос не возобновился. Я благополучно проспал до утра, и дьявол не тревожил обитель. Увы, как видно, то был не дьявол, а тот дух, которого одинокое озлобление порождает в каждом человеческом сердце, когда страдания наши настолько мучительны, что нам хочется, щадя себя, обрушить их на другого.
Об этом разговоре я узнал впоследствии от одного умирающего монаха. Он слышал его с начала до конца, и у меня нет оснований усомниться в его искренности. Право же, я всегда думал, что смерть была бы для меня облегчением, а не карой. Страдания, которые выпали мне на долю, были страшнее смерти. Если бы наместо них явилось одно-единственное и все бы окончилось разом, то это было бы для меня сущим благодеянием. На следующий день ожидали приезда епископа. Невозможно описать, с каким страхом готовилась к этому дню община. Обитель наша считалась первой в Мадриде; из ряда вон выходящий случай, что отпрыск знатнейшего испанского рода, вступивший в нее совсем юным, по прошествии нескольких месяцев решил отречься от принятого обета и две-три недели спустя был обвинен в сношениях с нечистой силой; надежда, что доведется увидеть, как будут изгонять беса; сомнение в том, что ходатайство мое будет иметь успех; весьма вероятное вмешательство в это дело Инквизиции; сама возможность насладиться зрелищем аутодафе – это разжигало воображение всего Мадрида. Никогда еще публика в театре не проявляла такого нетерпения, ожидая, пока поднимется занавес и начнется любимая всеми опера, с каким жители Мадрида, как верующие, так и неверующие, ждали начала представления, которое должно было состояться в монастыре экс-иезуитов10.
В католических странах, сэр, религия – это национальная драма; священники – это ее главные актеры, а зрители – весь народ, и все равно, закончится ли она низвержением в преисподнюю Дон Жуана или прославлением праведника: и то и другое публика встречает радостными рукоплесканиями.
Я боялся, что меня-то как раз ждет участь Дон Жуана11. Я ничего не знал о епископе и не питал особых надежд на его приезд; однако на моих глазах общиной все больше овладевал страх, и это обстоятельство вдохнуло в меня надежду. С тем недобрым чувством, какое свойственно человеку в несчастье, я рассуждал примерно так: «Коль скоро они уже дрожат от страха, весьма вероятно, что победа останется за мной». Когда на одной чаше весов лежит чужое страдание, а на другой – наше собственное, рука почти всегда дрожит, нам хочется, чтобы первая потянула вниз.
Епископ приехал рано утром и провел несколько часов в разговоре с настоятелем в его покоях. На все это время в обители после недавних волнений воцарилась полная тишина. Я стоял один у себя в келье – стоял, потому что сидеть мне там было не на чем. «Событие это не предвещает мне ничего хорошего, – подумал я. – Я не виноват в том, в чем меня обвиняют. Они никогда ничем не смогут доказать, что я – сообщник Сатаны, что дьявол прельстил меня обманом. Увы, мое единственное преступление в том, что я невольно поддался обману, который учинили они сами. От этого епископа мне не приходится ждать свободы, но я жду от него хотя бы справедливости».
Все это время община находилась в состоянии лихорадочного возбуждения – речь шла о репутации обители, я был в центре внимания. Они изо всех сил старались изобразить меня бесноватым и придать мне вид бесноватого. Час испытания приближался. Из уважения к человеку, из страха сказать нечто неподобающее и такое, во что все равно не поверят, я не стану пытаться рассказывать, к каким средствам они прибегали в то утро, когда приехал епископ, для того чтобы выдать меня за одержимого, безумного и богохульника. Главными палачами (иначе я не могу их назвать) были те самые четыре монаха, о которых уже шла речь. Под предлогом того, что все мое тело безраздельно попало под власть дьявола, они…
* * *
Но им и этого было мало. На меня сразу вылили столько святой воды, что я едва не захлебнулся. Вслед за тем…
* * *
Поэтому, когда меня, полуголого, наглотавшегося воды, вызвали к епископу, который ожидал в церкви, окруженный всей общиной во главе с настоятелем, я задыхался и был сам не свой от ярости, стыда и страха. Они выбрали именно эту минуту, и я покорился им.
– Да, тащите меня теперь, голого и безумного, – сказал я, – в моем лице вы попрали не только религию, но и человеческую природу, тащите меня к вашему епископу. Если он справедлив, если у него есть совесть, то горе вам, подлые лицемеры и тираны! Вы едва не свели меня с ума, едва не убили меня своими нечеловеческими жестокостями – и вот в таком состоянии вы теперь волочите меня к епископу! Да будет так, я вынужден вам подчиниться.
Пока я произносил все эти слова, они связали мне веревками руки и ноги, снесли меня вниз и положили так у дверей церкви, не отходя от меня ни на шаг. Епископ находился в алтаре вместе с настоятелем; братия заполонила хоры. Они бросили меня на пол, как падаль, и сразу же отпрянули назад, словно боясь осквернить себя прикосновением к нечисти. Епископ был поражен моим видом.
– Встань, несчастный, – громко сказал он, – и подойди ближе.
– Велите им развязать меня, и я подойду к вам, – ответил я голосом, звук которого, как мне показалось, смягчил сердце епископа.
Холодным и негодующим взглядом посмотрел он на настоятеля, который тут же стал что-то шептать ему на ухо. Какое-то время они перешептывались между собою, но, хоть я и лежал на полу, я заметил, что после слов настоятеля епископ всякий раз качал головой. Кончилось тем, что он приказал меня развязать. Мне это, правда, не принесло большого облегчения, потому что четверо монахов продолжали находиться возле меня. Взяв меня под руки, они повели меня по ступенькам алтаря. И тут я впервые встретился взглядом с епископом. Лицо его производило такое же неизгладимое впечатление, как и все его существо. Одно действовало на ваши чувства, другое – на душу. Это был человек высокого роста, убеленный сединами и имевший величественный вид. Ни тени волнения не шелохнулось на его лице, никакая страсть не оставила следа на его застывших чертах. Это было мраморное изваяние епископата, высеченное рукою католицизма, – фигура великолепная и неподвижная. Его холодные черные глаза были обращены на вас и вместе с тем, казалось, вас не видели. Голос его обращен был не к вам, а к вашей душе. Такова была его наружность; что же касается всего другого, то надо сказать, что имя его было незапятнано, поведение – примерно; жил он жизнью анахорета, изваянного из камня. Вместе с тем его в какой-то степени подозревали в том, что называют свободомыслием, иначе говоря, в симпатии к протестантизму, и вся праведность его не могла окончательно перевесить это приписываемое ему отступничество, которое епископ вряд ли мог искупить строгостью своей в расследовании злоупотреблений во вверенной ему епархии, в состав которой входил и монастырь, где я находился. Таков был человек, перед которым я в эту минуту стоял.
Приказ развязать меня немало смутил настоятеля, но отдан он был в решительной форме, и веревки с меня сняли. Все четыре монаха, стоя по бокам, поддерживали меня, и я почувствовал, что облик мой, должно быть, подтверждает те сведения, которые епископ обо мне получил. Я был в лохмотьях, изголодавшийся, мертвенно-бледный и возбужденный ужасным обращением, которое мне только что пришлось испытать. Я, однако, надеялся, что мое безропотное повиновение всему, что надо мной учинят, может еще в какой-то степени обелить меня в глазах епископа. Чувствовалось, что ему совсем не по душе все латинские заклинания, произносившиеся, чтобы изгнать из меня бесов; монахи же меж тем непрерывно крестились, а причетники щедро кропили вокруг святой водой и кадили. Всякий раз, когда произносились слова «Diabole, te adjuro!»[41], державшие меня монахи с такой силой сжимали мне руки, что я корчился и кричал от боли. Обстоятельство это вначале, по-видимому, смутило епископа, но, как только заклинания были произнесены, он велел мне подойти к алтарю одному. Я попытался это сделать, однако обступившие меня четыре монаха всячески старались мне помешать.
– Отойдите в сторону, – приказал он им, – оставьте его в покое.
Монахи вынуждены были повиноваться. Я подошел к алтарю один, весь дрожа, и опустился перед епископом на колени. Прикрыв мне голову орарем, он спросил:
– Веришь ты в Бога и в пресвятую Католическую церковь?
Вместо ответа я вскрикнул, вскочив, сбросил орарь и, не помня себя от боли, стал топтаться на ступеньках алтаря. Епископ отшатнулся от меня, а в это время настоятель и все остальные подались вперед. Видя, что они приближаются ко мне, я собрался с духом и, не говоря ни слова, показал на осколки стекла, разбросанные на ступеньках алтаря как раз там, где мне было велено стоять; они прошли сквозь мои рваные сандалии и поранили мне ноги. Епископ тут же приказал одному из монахов смести их рукавом рясы. Приказание это было сию же минуту исполнено, а еще минуту спустя я стоял перед ним, не испытывая ни страха, ни боли.
– Почему ты не молишься в церкви? – продолжал спрашивать епископ.
– Потому что двери ее для меня заперты.
– Как? Что ты говоришь? У меня в руках донесение с жалобами на тебя, и одна из первых жалоб гласит, что ты отказываешься молиться со всеми в церкви.
– Я уже сказал вам, двери церкви заперты для меня… Увы! Я так же не мог добиться, чтобы их для меня открыли, как не мог добиться, чтобы открылись для меня сердца монастырской братии; здесь заперто для меня все.
Епископ повернулся к настоятелю.
– Двери церкви всегда заперты для врагов Господа, – ответил тот.
– Я задал простой вопрос, – сказал епископ все тем же строгим и спокойным голосом, – и требую, чтобы мне ответили прямо, без обиняков. Действительно ли вы запирали двери церкви и не пускали туда этого несчастного? Верно ли, что вы лишили его права обратить молитвы свои к Богу?
– Я поступил так, потому что думал и считал…
– Я не спрашиваю вас о том, что́ вы думали и считали. Я прошу вас дать прямой ответ на заданный вам вопрос: лишали вы его или нет доступа в храм Божий?
– У меня было основание думать, что…
– Предупреждаю вас, что, если вы будете давать подобные ответы, вам придется за одно мгновение поменяться ролями с тем, кого вы хотите обвинить. Запирали вы или нет перед ним двери церкви? Отвечайте: да или нет?
– Да, – ответил настоятель, весь дрожа от страха и ярости, – и я имел основание так поступить.
– Вопрос этот подлежит рассмотрению другого суда. Но по всей видимости, вы виновны именно в том, в чем обвиняете его.
Настоятель молчал. Тогда епископ, пробежав глазами бумагу, которая была у него в руках, снова обратился ко мне:
– Отчего это ты шумишь по ночам и из-за тебя монахи не могут спать у себя в кельях?
– Не знаю. Спросите об этом у них самих.
– Не правда разве, что дьявол приходит к тебе каждую ночь? Не правда разве, что твои богохульства, твои отвратительные кощунства тревожат даже слух тех, кто, на свое несчастье, помещается в кельях, соседних с твоей? Не правда разве, что ты ввергаешь в ужас и мучаешь всю общину?
– Я – то, чем они сами меня сделали, – ответил я. – Я не отрицаю, что в келье моей поднимается ни с того ни с сего необыкновенный шум, только им лучше меня известно, откуда он берется. Над самым ухом моим раздается какой-то шепот; этот вот шепот, должно быть, и тревожит живущих со мною рядом, потому что они врываются ко мне в келью и пользуются охватившим меня страхом, чтобы взводить на меня совершенно невероятные поклепы.
– А разве в келье у тебя по ночам не бывают слышны крики?
– Да, это крики ужаса, и испускает эти крики отнюдь не тот, кто участвует в дьявольских оргиях, а тот, кто их страшится.
– А все кощунства, проклятия, все нечестивые слова, которые ты произносишь?
– Иногда, находясь в состоянии невыносимого ужаса, мне действительно случалось повторять звуки, доносившиеся до моих ушей, но то всякий раз бывали возгласы ужаса и отвращения, и это доказывает, что слова эти я не произносил сам, а только повторял; так человек может взять в руки гада и какое-то мгновение созерцать его уродство, прежде чем отшвырнуть его прочь. Призываю всю братию в свидетели того, что сказанное мною – сущая правда. Крики, которые я испускал, нечестивые слова, которые я произносил, были, очевидно, вызваны враждебным чувством ко всем дьявольским наущениям, которые нашептывались мне на ухо. Спросите у всей общины – любой из них подтвердит, что, когда они врывались ко мне в келью, они находили меня там одного: я корчился в судорогах и дрожал. Они как будто даже жалели меня, видя, что я сделался жертвою всех этих вторжений. И хотя я никогда не мог догадаться, какими способами осуществлялось это преследование, я решительно утверждаю, что все это дело тех же рук, что покрыли стены моей кельи изображениями бесов, следы которых остались и сейчас.
– Тебя обвиняют также в том, что ты ночью ворвался в церковь, надругался над статуями святых, топтал ногами распятие и вел себя как нечестивец, оскверняющий святыню.
Услыхав это обвинение, столь несправедливое и жестокое, я потерял остатки самообладания.
– Я кинулся в церковь, охваченный ужасом, до которого меня довели все их козни! Я искал там защиты! – вскричал я. – А побежал туда ночью потому, что, как вам уже стало известно, днем ее двери были для меня заперты. Я и не думал попирать ногами распятие – я пал перед ним ниц. Я отнюдь не глумился над изображениями святых – я лобызал их! И я не знаю, слышали ли когда-нибудь эти стены столь искренние молитвы, как те, что я творил в ту ночь, беспомощный, доведенный до ужаса и гонимый!
– А разве наутро своими криками ты не напугал всю братию, не помешал ей войти в церковь?
– Оттого, что я всю ночь пролежал на каменном полу, куда они бросили меня, руки и ноги мои онемели. Когда они подошли ко мне, я пытался от них уползти и действительно вскрикивал от боли, которая при каждом движении становилась все сильнее, а ведь никто из них не шевельнулся, чтобы хоть чем-нибудь мне помочь. Словом, все это выдумано с начала и до конца. Я кинулся в церковь, чтобы просить Господа о милости, а они хотят представить меня отступником, святотатцем. Такие же произвольные и нелепые обвинения можно возвести и на все то множество скорбящих и ищущих утешения, которые каждый день оглашают стены своим плачем и стонами! Если бы я действительно пытался опрокинуть распятие, издеваться над статуями святых, то неужели бы нигде не осталось следа от всего этого варварства? Неужели бы возводившие на меня поклеп не стали бы тщательно их сохранять в качестве вещественного доказательства? Остался ли хоть какой-нибудь след от этого? Его нет и не может быть, ибо ничего этого не было и в помине.
Епископ молчал. Взывать к его чувствам было излишне, но обращение к фактам возымело свое действие. Немного погодя он сказал:
– Ты, значит, согласен прочесть в присутствии всей общины перед образом Спасителя и святых те самые молитвы, которые, как ты утверждаешь, ты читал перед ними в ту ночь?
– Да, согласен.
Было принесено распятие. Я с благоговейным почтением поцеловал его и принялся молиться; слезы лились из глаз моих ручьем, когда я думал о том, сколь безмерна воплощенная в этом изображении жертва.
– Обрати теперь к Господу слова веры, любви и надежды, – сказал епископ.
Я исполнил все, чего он потребовал, и хотя мне некогда было подготовиться, услыхав произнесенные мною молитвы, сопровождавшие епископа почтенные духовные лица переглянулись, и во взглядах их я увидел сочувствие, интерес и восхищение.
– Кто научил тебя этим молитвам? – спросил епископ.
– Единственный мой учитель – это сердце, другого у меня нет, мне не позволено держать у себя книги.
– Что ты говоришь! Повтори!
– Повторяю, никаких книг у меня нет. У меня отобрали молитвенник, распятие, из кельи вынесли все, не осталось ни стула, ни стола, ни коврика для молитвы. Я молюсь на голом полу и молитвы читаю наизусть. Если вы соизволите посетить мою келью, вы увидите, что все, что я говорю, сущая правда.
При этих словах епископ негодующе посмотрел на настоятеля. Он, однако, сразу же совладал с собой, ибо то был человек, не привыкший чем бы то ни было проявлять свои чувства; он понял, что нарушил бы этим свои правила и унизил свое достоинство. Бесстрастным голосом он приказал мне удалиться. Но когда я уже уходил, он вдруг позвал меня снова, – казалось, что он впервые обратил внимание на мой неприглядный вид. Это был человек, всецело поглощенный созерцанием тихого и как бы застывшего залива, именуемого долгом, где душа его навеки стала на якорь и где не могло быть ни бурного течения, ни движения вперед, и поэтому ему очень долго приходилось вглядываться в каждый предмет, прежде чем тот мог произвести на него какое-то впечатление: чувства его как бы окостенели. И он приехал сюда, чтобы присмотреться к одержимому, в которого, как ему было сказано, вселились бесы, но у него сложилось убеждение, что это не что иное, как несправедливость и обман, и он вел себя так, что выказал мужество, решимость и неподкупность, и это делало ему честь.
Однако мой страшный и жалкий вид, который, несомненно, прежде всего бы бросился в глаза человеку, восприимчивому ко всем проявлениям внешнего мира, обратил на себя его внимание только под конец. Он поразил его только тогда, когда я медленно и с трудом стал сползать вниз по ступенькам алтаря, и это постепенно сложившееся впечатление оказалось в нем тем более сильным. Он снова подозвал меня к себе и стал спрашивать, как будто увидел меня впервые.
– Как это ты мог дойти до такого непотребного вида? – спросил он.
Мне подумалось, что в эту минуту я мог бы нарисовать ему картину, которая еще больше бы принизила в его глазах настоятеля, но ограничился тем, что сказал:
– Это последствие дурного обращения со мною.
Мне было задано еще несколько вопросов касательно моего вида, а вид у меня действительно был довольно плачевный, и в конце концов мне пришлось рассказать все без утайки. Подробности эти привели епископа в безудержную ярость. Когда людям по натуре холодным случается поддаться волнению, оно охватывает их с неслыханной силой, ибо для них долгом является все, в том числе и страсть (когда она овладевает ими). Впрочем, может быть, чувство это привлекает их также и неожиданной для них новизной.
Все это больше, чем к кому-либо, относилось к нашему епископу, который был столь же чист душой, сколь и строг, и который, преисполняясь ужаса, отвращения и негодования, содрогался при каждой подробности, которую мне приходилось приводить; настоятеля от моих слов бросало в дрожь, а присутствовавшие при этом монахи не решались ничего возразить.
К нему вернулось его прежнее хладнокровие; всякое чувство было для него все же и известного рода усилием, а спокойная строгость – привычкой. И он снова приказал мне удалиться. Я повиновался и вернулся к себе в келью. Как я уже говорил, стены ее были по-прежнему голы, но даже и после всего великолепия и блеска, окружавшего меня в церкви, мне показалось, что они сверху донизу украшены эмблемами моего торжества. Передо мною пронеслось за миг ослепительное видение; потом все исчезло, и, один у себя в келье, я опустился на колени и стал молить Всемогущего тронуть сердце епископа и запечатлеть в нем те безыскусственные простые слова, что были сказаны мною. Я все еще молился, когда вдруг в коридоре послышались шаги. На мгновение все смолкло, не шелохнулся и я. У меня было такое чувство, что люди за дверью услыхали, как я молюсь, и притихли: произнесенные мною в одиночестве слова молитвы произвели, должно быть, на них сильное впечатление. Немного погодя епископ со своими почтенными спутниками, а следом за ними и настоятель вошли ко мне в келью. И сам епископ, и его свита пришли в ужас от всего, что увидели.
Я уже говорил вам, сэр, что в келье моей тогда ничего не было, кроме голых стен и кровати. На всем лежала печать опустошения и унижения. Я стоял на коленях посредине, прямо на каменном полу, и, Господь тому свидетель, меньше всего в эту минуту рассчитывал произвести на кого-то впечатление. Епископ некоторое время присматривался к убогой обстановке моего жилища, а сопровождавшие его лица взглядами своими и жестами открыто выражали свое возмущение учиненной надо мною расправой.
– Ну, что вы на это скажете? – спустя некоторое время спросил епископ, обращаясь к настоятелю.
Тот задумался и, помолчав, ответил:
– Я ничего этого не знал.
– Это ложь, – сказал епископ, – да если бы даже это и было правдой, то обстоятельство это послужило бы только к вашему обвинению, а никак не к оправданию. Вы обязаны ежедневно посещать кельи, так как же вы могли не знать о том, в каком непристойном виде содержится эта келья? Выходит, вы пренебрегли своими обязанностями?
Он несколько раз прошелся взад и вперед по келье вместе со своими спутниками, которые только пожимали плечами и обменивались взглядами, выражавшими отвращение и ужас перед всем, что они видят. Настоятель был удручен. Они вышли, и я услышал, как уже в коридоре епископ сказал:
– Все эти непорядки должны быть устранены до того, как я покину обитель. А что до вас, то вы недостойны положения, которое занимаете, – сказал он, обращаясь к настоятелю, – и вас следует сместить. – А затем еще более строго добавил: – И это называется католики, монахи, христиане, страшно сказать! Берегитесь, если, приехав сюда еще раз, я обнаружу у вас такое, а можете не сомневаться, я в ближайшее время еще раз наведаюсь к вам в обитель.
Потом он повернулся и, остановившись возле двери моей кельи, сказал настоятелю:
– Позаботьтесь, чтобы все учиненные в этой келье безобразия были устранены к утру.
Настоятель в ответ только молча поклонился.
В этот вечер я улегся спать на голом матрасе среди четырех голых стен. Я был до такой степени измучен и утомлен, что спал в эту ночь крепким сном. Проснулся я, когда утренняя месса давно уже отошла, и увидел, что мне предоставлены все удобства, какие только могут быть созданы в монашеской келье. Словно по мановению волшебного жезла, за то время, когда я спал, туда вернулись распятие, молитвенник, аналой, стол – все оказалось на своих прежних местах. Я соскочил с постели и восхищенно оглядел стены кельи. Однако, по мере того как приближался час монастырской трапезы, восторг мой ослабевал, а страхи, напротив, возрастали: не так-то ведь легко после безмерного унижения, после того, как вас затоптали в грязь, перейти к тому положению, которое вы некогда занимали среди людей. Как только зазвонил колокол, я сошел вниз. Некоторое время я нерешительно простоял у двери, а потом, поддавшись порыву, граничащему с отчаянием, вошел и занял свое обычное место. Никто этому не противился; никто не сказал ни слова. После обеда все разошлись по кельям. Я стал ждать, когда зазвонят к вечерне: мне казалось, что в эти часы все должно решиться. Наконец и колокол прозвонил – монахи собрались. Я беспрепятственно присоединился к ним и занял свое место в хоре – торжество мое было полным, а меня охватила дрожь. Увы! Есть ли в жизни человека минуты такого счастья, когда он может начисто позабыть о страхе? Судьба наша всякий раз выступает в роли того старого раба, обязанностью которого было каждое утро напоминать монарху, что он – человек, и чаще всего предсказания ее осуществляются еще до того, как наступит вечер. Прошло два дня – буря, которая так долго терзала нас, сменилась внезапно наступившим затишьем. Дни мои потекли как раньше: я исполнял все свои повседневные обязанности и ни от кого не слышал ни поношения, ни похвалы. Казалось, что все окружающие считают, что я начинаю свою монашескую жизнь сначала. Два дня я прожил совершенно спокойно и, Господь тому свидетель, ни в чем не злоупотребил одержанной мною победой. Я ни разу не вспомнил об учиненном надо мною насилии. Я ни разу мысленно не упрекнул никого из его участников, ни словом не обмолвился о посещении епископа, которое за несколько часов заставило поменяться ролями меня и всех остальных и позволило угнетенному (если бы он того захотел) занять место угнетателя. Я сумел проявить выдержку, ибо меня поддерживала надежда на освобождение. Но прошло немного времени, и настоятелю суждено было восторжествовать снова.
На третий день я был вызван утром в приемную, где посланный вручил мне пакет, содержащий (как мне стало ясно) ответ на мою жалобу. По существующему в монастырях обычаю я должен был сначала передать его на прочтение настоятелю и только потом имел право прочесть его сам. Взяв пакет, я медленными шагами направился в покои настоятеля. Пока он был у меня в руках, я старался как следует разглядеть его, ощупать все его углы, прикинуть на вес, догадаться о его содержимом по внешнему виду. И тут меня вдруг озарила горькая догадка: ведь если бы содержимое пакета сулило мне что-нибудь хорошее, посланный вручил бы его с торжествующей улыбкой; вопреки всем монастырским правилам я мог бы тогда сорвать печати с приказа о моем освобождении. Мы бываем очень склонны рисовать себе будущее в соответствии с нашим предназначением, а так как мне предназначено было стать монахом, то нет ничего удивительного в том, что пророчества оказывались мрачными. Они оправдались.
Я подошел с этим пакетом к дверям покоев, которые занимал настоятель. Я постучал, меня пригласили войти, и мой опущенный долу взгляд мог разглядеть только множество ряс – келья была заполнена монахами. Я почтительно протянул настоятелю пакет. Он небрежно взглянул на него, а потом швырнул его на пол. Один из монахов подошел и поднял его.
– Не трогайте, пусть он его забирает, – воскликнул настоятель.
Я воспользовался его разрешением, взял пакет и, низко поклонившись настоятелю, ушел к себе. Придя в келью, я некоторое время просидел неподвижно, продолжая держать злосчастный пакет в руках. Я собирался уже вскрыть его, как вдруг каким-то внутренним чувством понял: «Не к чему это делать, ты ведь уже знаешь, что там». Прошло несколько часов, прежде чем я решился узнать его содержание: мне сообщали, что в жалобе моей мне отказано. Приводились некоторые подробности, из которых явствовало, что адвокат сделал все от него зависящее, употребив весь свой талант, все рвение и красноречие, что были даже минуты, когда суд склонялся к тому, чтобы удовлетворить мою просьбу, однако в итоге все же вынес отрицательное решение, дабы не создавать опасный прецедент для других. «Если дело это будет выиграно, – писал адвокат, – то по всей Испании монахи начнут отрекаться от своих обетов». Можно ли было привести более веский довод в пользу моего дела? Если побуждение мое могло найти отклик в стольких сердцах, то совершенно очевидно, что оно исходило из требований природы, справедливости и правды.
Воспоминания о постигшем его страшном разочаровании до такой степени взволновали несчастного испанца, что только несколько дней спустя у него хватило сил вернуться к прерванному рассказу.
Глава VII
Pandere res alta terrâ et caligine mersas[42], 1.
– Милорд, я показать хочу вам диво.
– Черт побери, какое диво, Батс?
Генрих VIII2
– Я не могу вам рассказать, сколь тяжело было состояние, в которое поверг меня отказ удовлетворить мою просьбу, просто потому что у меня не сохранилось о нем никаких отчетливых воспоминаний. Ночью все краски стираются, а отчаяние не различает дней: однообразие есть и сущность его, и его проклятие. Долгими часами прогуливался я по саду, и единственным впечатлением от этой прогулки был звук моих собственных шагов; мысли же, чувства, страсти и все, что приводит их в действие, – все погасло для меня, все исчезло навсегда. Я был похож на жителя страны, где «все было позабыто»3. Мысли мои потеряли ясность, блуждая там, где «самый свет как мрак»4. Нависали тучи, предвещавшие наступление непроглядной тьмы, – и вдруг рассеялись, и все внезапно озарилось удивительным светом.
Сад был моим постоянным прибежищем; повинуясь какому-то слепому инстинкту, заменившему мне сознательный выбор, которого я уже не в силах был сделать, я устремлялся туда, чтобы уйти от монахов. Однажды вечером я заметил происшедшую там перемену. Чинили фонтан. Источник, снабжавший его водой, находился за пределами монастыря, и занятым починкой рабочим пришлось выкопать под оградой монастыря канаву, выходившую на городской пустырь. Место это тщательно охранялось в течение всего дня, пока шла работа, а потом на ночь проход закрывался нарочно для этого сделанной дверью, на которой были засовы, болты и цепи и которая запиралась, как только рабочие уходили. Днем дверь оставалась открытой; и это искушение бежать и стать свободным, уйти от безысходного гнета, которому я не видел конца, отзывалось во мне нестерпимой болью, доводившей до полного отупения. Я сделал несколько шагов по этому проходу и подошел вплотную к двери, которая отделяла меня от свободы. Я уселся там на одном из разбросанных вокруг камней, подперев голову рукой, и глаза мои с грустью глядели на дерево и на колодец, на то место, где якобы свершилось чудо. Не знаю, сколько времени я так просидел. Очнулся я от шороха, услышанного где-то вблизи, и заметил клочок бумаги, подсунутый под дверь, там, где небольшая неровность почвы позволяла это сделать. Я наклонился и хотел его схватить. В это время бумажка вдруг исчезла под дверью, но спустя несколько мгновений голос, который я в волнении совсем не узнал, прошептал:
– Алонсо.
– Да, да, – в волнении ответил я.
Бумажка тут же ко мне вернулась, и я услышал быстро удалявшиеся шаги. Но теряя ни минуты, я прочел содержавшиеся в ней несколько слов: «Будь здесь завтра вечером в этот же час. Мне много пришлось из-за тебя выстрадать, записку уничтожь». Это был почерк брата моего Хуана, так хорошо знакомый мне по нашей недавней и столь важной для меня переписке; всякий раз, когда я видел этот почерк, в душе моей оживали вдруг доверие и надежда; так оживают под действием тепла написанные симпатическими чернилами строки.
Не могу понять, как мне удалось не выдать окружающим то великое волнение, с которым я ждал следующего вечера. Впрочем, заметным, может быть, становится лишь волнение, вызванное каким-нибудь пустяком. То, которое обуревало меня, притаилось в душе. Могу только сказать, что весь этот день трепет ее напоминал тиканье часов, не знающих ни минуты покоя. И в этом тиканье мне попеременно слышались слова: «Надежда есть – надежды нет». Наконец этот показавшийся мне вечностью день пришел к концу. С каким нетерпением следил я за тем, как начали удлиняться тени! С какой радостью всматривался во время вечерни в золото и пурпур, что светились высоко в огромном восточном окне храма и постепенно делались все бледнее, и думал о том, что скоро краски эти засветятся и на западе и хоть и медленно, но начнут угасать. И вот минуты эти настали – вечер выдался для меня на редкость благоприятный. Было тихо и темно, сад опустел, нигде не видно было ни одной живой души, ничьи шаги не шуршали по аллеям. Вдруг я услышал какой-то звук; мне показалось, что кто-то бежит за мной. Я остановился – оказалось, что это бьется сердце; звук его отдавался в напряженной глубокой тишине. Я прижал руку к груди так, как мать прижала бы к ней расплакавшегося ребенка, пытаясь его успокоить; однако сердце не переставало стучать. Я вошел в узенький проход и приблизился к двери, у которой на часах, казалось, попеременно стояли отчаяние и надежда. Слышанные вчера слова все еще звучали у меня в ушах: «Будь здесь завтра вечером, в этот же час». Я наклонился, и мой жадный взгляд увидел под дверью сложенный лист бумаги. Я схватил его и спрятал в складках рясы. Я так дрожал от радости, что, казалось, не в состоянии буду донести его до своей кельи, не выдав себя. Все же мне это удалось; а содержание записки, которую я прочел, укрепило меня в моей радости.
К моему несказанному огорчению, однако, бо́льшую часть написанного невозможно было разобрать: так бумага была измята о камни и перепачкана сырой глиной. Прочтя первую страницу, я с трудом только мог понять, что духовник добился того, что брата держали все время за городом почти что на положении узника. Однажды, когда он охотился в сопровождении одного только слуги, его осенила мысль, что он может освободиться и, напугав слугу, потребовать от него полного подчинения. Наставив на него заряженное охотничье ружье, он пригрозил, что сейчас же его пристрелит, если тот вздумает оказать хотя бы малейшее сопротивление. Слуга не сопротивлялся и дал привязать себя к дереву. Разбирая следующую страницу, также очень измятую, я понял, что брат мой благополучно добрался до Мадрида и там только впервые узнал о том, что на мою злосчастную просьбу было отвечено отказом. Какое впечатление произвело это на горячего, порывистого и преданного мне Хуана, легко можно было представить, вглядевшись в косые прерывистые строки, в которых он тщетно пытался выразить обуревавшие его чувства. После этого в письме говорилось:
«Сейчас я нахожусь в Мадриде и твердо решил, что не уеду отсюда, пока не добьюсь твоего освобождения. Если у тебя хватит решимости, то план этот можно осуществить: серебряным ключом можно открыть любые ворота, в том числе и ворота монастыря. Первая задача, которую я себе поставил, – установить с тобой связь, – казалась мне столь же неосуществимой, как и твой побег. Тем не менее мне это удалось. Я узнал, что в саду идут какие-то работы, и каждый вечер подбирался к двери и шептал твое имя – и вот на шестой день ты наконец оказался близко».
В другом месте брат более подробно рассказывал о своих планах.
«Самое нужное для нас сейчас – это деньги и полная тайна. Насчет последнего я могу поручиться – я езжу переодетый, но что касается денег, то я не очень-то знаю, как их добыть. Бегство мое было столь поспешным, что я не успел ничего с собой захватить, и по пути в Мадрид мне пришлось продать часы и перстни, чтобы обзавестись подходящей одеждой и провиантом. Мне бы, конечно, ссудили любую сумму, стоило только сказать, кто я такой, но это могло привести к роковым для меня последствиям. Отцу моему немедленно было бы сообщено о том, что я в Мадриде. Денег я постараюсь достать у какого-нибудь еврея, а как только я их получу, я не сомневаюсь, что сумею тебя освободить. Мне уже говорили, что у вас в монастыре есть один человек, который, может быть, согласится…»
Все последующее было, по-видимому, написано уже значительно позднее; как видно, письмо это писалось в несколько приемов. В строках, которые я вслед за тем мог разобрать, выразилась вся беспечность этого до крайности пылкого, живого и великодушного юноши.
«Пожалуйста, не беспокойся обо мне, обнаружить меня невозможно. Еще когда я был в школе, у меня проявилось актерское дарование, почти невероятная способность к перевоплощению, которая сейчас оказывает мне неоценимую услугу. Иногда я вышагиваю, как какой-нибудь „махо“[43], приделав себе огромные бакенбарды. Иногда я принимаю вид бискайца и, подобно мужу доньи Родригес, выгляжу королем потому лишь, что я горец5. Однако любимое мое обличье – это нищий или гадальщик: первое позволяет мне проникнуть в стены монастыря, второе обеспечивает деньгами и нужными сведениями. Таким образом, мне еще платят, а сам я в это время стараюсь кого-нибудь подкупить. Если бы ты увидел, как после всех этих скитаний и происков наследник Монсады забирается на чердак и укладывается спать на соломе, ты не удержался бы от улыбки. Весь этот маскарад забавляет меня самого больше, нежели зрителей. Сознание собственного превосходства подчас приносит больше радости, когда держишь его в тайне, нежели тогда, когда о достоинствах твоих говорят другие. Кроме того, у меня такое чувство, как будто грязная подстилка, на которой я сплю, расшатанная табуретка, покрытые паутиной стропила, прогорклое масло и все прочие agréments[44] моего нового жилища есть некая расплата за то зло, которое я тебе причинил, Алонсо. Иногда, правда, такого рода лишения, к которым я, кстати сказать, совсем не привык, повергают меня в уныние, но тем не менее свойственная моей натуре буйная сила и необузданная веселость поддерживают во мне бодрость духа. Я содрогаюсь, когда думаю о своем положении, возвращаясь к себе на ночлег, когда мне приходится впервые в жизни своими руками ставить светильник на мой жалкий очаг. Но вот наступает утро, и мне становится весело, когда я начинаю рядиться в свои причудливые лохмотья, гримирую лицо, изменяю голос и становлюсь настолько неузнаваемым, что даже обитатели этого дома, встречая меня на лестнице, не уверены, что перед ними тот самый человек, которого они видели накануне. Внешность свою я меняю каждый день и каждый раз ночую на новой квартире. Не бойся за меня, но приходи каждый вечер к назначенному месту, к закрывающей канавку двери, потому что каждый вечер у меня будет для тебя что-нибудь новое. Помни, что силы мои неиссякаемы, жажда неутолима, что весь жар сердца моего и души отданы одному делу. Клянусь тебе еще раз душой и телом, я ни за что не уеду отсюда, до тех пор пока ты не будешь на свободе, положись на меня, Алонсо».
Я избавлю вас, сэр, от подробного описания моих чувств, и каких чувств! Господи, прости меня за то благоговение, с каким я покрывал эти строки поцелуями, с каким я готов был припасть к писавшей их руке, – за благоговение, которого достойно только изображение Божие. Но ведь он был так юн, побуждения его так благородны, в необузданном сердце его было столько тепла, и он готов был пожертвовать всем, что могли принести ему его высокое положение и молодость с ее утехами, – вместо этого он пускался на унизительные переодевания, подвергая себя неимоверным лишениям, претерпевал все самое тягостное для юноши избалованного и гордого (а я знал, что он избалован и горд), скрывая свое возмущение всем этим под личиною напускной веселости, рядом с которой было подлинное великодушие, и все это ради меня! О, как меня все это трогало!
* * *
На следующий день вечером я снова был возле двери. Никакой записки не появилось, а я просидел, дожидаясь ее, до тех пор, пока совершенно не стемнело, и я уже вряд ли бы мог различить ее, будь она в эти часы под дверью. Следующий за этим вечер оказался более счастливым: я получил новое известие от брата. Тот же самый измененный голос прошептал: «Алонсо», и имя это прозвучало для меня сладчайшей музыкой. В записке содержалось всего несколько строк (мне не стоило никакого труда проглотить ее тут же после того, как я ее прочитал). Вот они:
«Наконец-то мне удалось найти еврея, который даст мне взаймы большую сумму. Он притворяется, что не знает меня, хотя я уверен, что это не так. Ростовщические проценты, которые он берет, и противозаконность всех его действий являются для меня полной гарантией безопасности. Еще несколько дней, и в моих руках будут средства освободить тебя; мне даже посчастливилось найти способ, как ими воспользоваться. Есть один негодяй…»
На этом записка кончалась. Восстановительные работы возбудили в монастыре столько любопытства (которое, кстати сказать, возбуждается в этих стенах очень легко), что последующие четыре вечера я не решался оставаться возле двери, боясь, что могу этим вызвать подозрение. Все это время я страдал, и не только от того, что надежды мои не сбывались, но и от страха, что это неожиданно для меня начавшееся общение с братом может теперь навсегда прерваться; я ведь знал, что через несколько дней работы будут закончены. Я поделился своими опасениями с братом и воспользовался для этого тем же способом, каким сам получал от него записки. Потом я стал упрекать себя в том, что напрасно его тороплю. Я подумал о том, как трудно ему скрываться в незнакомом месте, иметь дело с ростовщиками, подкупать монастырских слуг. Я подумал обо всем, что он предпринял, и о тех опасностях, которым он себя подвергает. А вдруг все его усилия окажутся напрасными? Ни за что на свете, даже если бы меня сделали властелином всего мира, не хотел бы я еще раз пережить все муки, которые мне пришлось испытать в течение этих четырех дней. Приведу вам только один пример, из которого вы узнаете, что́ я пережил, услыхав, как рабочие говорят: «Ну вот, скоро и конец». Я обычно вставал за час до начала утрени, передвигал камни, опрокидывал бочку с известью, для того чтобы она смешалась с глиной и стала совершенно негодной к употреблению, одним словом, с таким искусством распускал ткань Пенелопы6, что рабочие были убеждены, что не кто иной, как сам дьявол, мешает им довести дело до конца, и последнее время всякий раз приносили с собой святую воду, которой с превеликим ханжеством и весьма обильно все окропляли.
На пятый вечер я подобрал под дверью записку, где говорилось:
«Все улажено – я договорился с евреем так, как у них принято. Он притворяется, что ему ничего не известно о том, кто я такой и как я буду богат. В действительности он все это отлично знает и не посмеет предать меня уже хотя бы потому, что захочет сберечь собственную шкуру. Возможность сразу же выдать его Инквизиции – лучшая гарантия того, что он исполнит свое обещание, лучшая и, надо сказать, единственная. У вас в монастыре есть один негодяй. Это отцеубийца, который решил искать убежище в стенах обители и согласился принять монашество, для того чтобы избежать возмездия за свои грехи, по крайней мере в земной жизни. Мне рассказывали, что это чудовище перерезало горло отцу в то время, как тот сидел за ужином, с единственной целью – добыть небольшую сумму, которую он проиграл в карты. Товарищ его, который тоже проигрался, дал обет, в случае если он выиграет, поставить две свечи перед статуей Пресвятой Девы, находившейся неподалеку от того злополучного дома, где шла игра. Но он проиграл и был так разъярен постигшей его неудачей, что, проходя мимо статуи, ударил ее кулаком и на нее плюнул. Поступок его был возмутителен, но можно ли его сравнивать с преступлением того, кто сейчас находится среди вас? Этот надругался над святыней7, а тот убил отца; и однако, первый умер от самых ужасных пыток, а второй после тщетных стараний скрыться от правосудия нашел убежище в святой обители и теперь вот сделался послушником у вас в монастыре. На преступные страсти этого негодяя я и возлагаю все свои надежды. Насколько я понимаю, душою его владеют жадность, чувственность и безрассудство. Стоит только обещать ему денег, и он не остановится ни перед чем; ради денег он готов помочь тебе освободиться, ради денег он может задушить тебя в твоей келье. Он завидует Иуде, который предал Спасителя рода человеческого за тридцать сребреников. Его душу можно купить и за полцены. Вот с помощью какого человека мне приходится осуществлять мои планы, – это мерзко, но иного выхода нет. Мне довелось читать, что самые действенные лекарства добываются из ядовитых растений и ядовитых змей. Я выжму сок, а потом выброшу оболочку.
Алонсо, не страшись этих слов. Не дай привычкам твоим одержать верх над мужеством. Положись на меня в деле твоего освобождения и позволь мне употребить для этого те средства, которые я вынужден сейчас избрать. И можешь не сомневаться, рука, пишущая тебе эти строки, скоро пожмет твою – уже на свободе».
Я вновь и вновь перечитывал эту записку, оставшись один у себя в келье, после того как уже улеглось то волнение, с которым я ожидал ее, прятал и читал в первый раз, и сомнения и страхи сгустились надо мной, как сумеречные тучи. По мере того как Хуан становился увереннее, моя уверенность, напротив, меня покидала. Существовал разительный контраст между бесстрашием, независимостью и предприимчивостью, которые он мог себе позволить, и тем робким одиночеством и страхом перед опасностями, которые достались на мою долю. Несмотря на то что надежда на спасение, которое он должен был обеспечить мне мужеством своим и находчивостью, все еще продолжала пламенеть в глубинах моего сердца, как некий неугасимый светильник, я, однако, не решался доверить этому самоотверженному юноше свою судьбу: притом что он был так предан мне, он был неустойчив; убежав из родительского дворца, он жил в Мадриде, скрываясь и выдавая себя за другого, а в сообщники себе избрал негодяя, человека, который всем внушал отвращение. На кого же и на что возлагал я теперь надежды? На неистовые усилия существа, хоть и любящего меня, но взбалмошного, безрассудного и лишенного опоры, вступившего в сговор с отродьем дьявола, способным забрать деньги, а потом наслаждаться их звоном, издеваясь над нашим отчаянием и обреченностью, с тем, кто забросит ключ от нашей свободы в такую пропасть, куда не проникнет ни один луч и откуда никакою силой его нельзя будет извлечь.
Подавленный всеми этими соображениями, я предавался раздумью, молился, плакал, душу мою раздирали сомнения. Кончилось тем, что я написал несколько строк Хуану, в которых откровенно высказал ему все свои сомнения и страхи. Прежде всего я усомнился в самой возможности этого побега.
«Можно ли себе представить, чтобы человек, за которым следит весь Мадрид, который на примете у всей Испании, ускользнул от иезуитов? Подумай, дорогой мой Хуан, ведь против меня сейчас вся община, все духовенство, вся нация. И вообще-то, монаху невозможно убежать, но самое невозможное – это найти потом надежное убежище. Ведь по всей Испании, во всех монастырях колокола зазвонят сами, призывая разыскивать беглеца. Военные, гражданские и духовные власти – все будут подняты на ноги. Загнанному, истерзанному, доведенному до отчаяния, мне придется кидаться из одного места в другое, и я нигде не найду себе покоя. Ярость церковных властей, жестокая и неотвратимая кара закона, отвращение и ненависть общества, подозрительность со стороны низшего сословия, среди которого я должен скрываться, стараясь обмануть их проницательность, проклиная ее в душе; подумай, с чем только мне не придется столкнуться, подумай, что на меня надвигается огненный крест Инквизиции, а следом за ним – вся эта свора, и все кричат, вопят, улюлюкают, завидев добычу!
О Хуан, если бы ты только знал, какие ужасы мне пришлось испытать! Мне легче было бы умереть, нежели переживать их снова, будь то даже во имя свободы! Свободы! Великий Боже! На какую же свободу может рассчитывать в Испании монах? Нет ни одной лачуги, где я мог бы спокойно провести ночь, ни одной пещеры, куда эхо не доносило бы весть о том, что я – отступник. Доведись мне даже скрыться во чреве земли, все равно меня непременно бы разыскали, извлекли бы из ее недр. Милый Хуан, когда я думаю о всемогуществе церкви в Испании, то не лучше ли выразить мою мысль словами, с которыми мы обращаемся к Всемогущему: „Взойду ли на небо – Ты там; сойду ли в преисподнюю – и там Ты. Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря – и там…“8 Представь себе, что освобождение мое свершилось, что весь монастырь погрузился в глубокое оцепенение и недремлющее око Инквизиции не увидело во мне отступника, куда же мне после этого деться? Как я буду добывать себе средства пропитания? Юные годы свои я провел в праздности, окруженный роскошью, и ничему не научился. Сочетание глубочайшей апатии со смертельной ненавистью к монашеской жизни делают меня непригодным для общества. Представь себе, что двери всех монастырей в Испании распахнулись бы, что́ стали бы делать их обитатели? Ничем не могли бы они ни украсить, ни возвысить свою страну. Что я стал бы делать, чтобы обеспечить себя самым необходимым? Что мог бы я делать такое, что бы не выдало меня с головой? Я буду загнанным, жалким беглецом, заклейменным Каином9. Увы, погибая в огне, я, быть может, еще увижу, что Авель не моя жертва, а жертва Инквизиции».
Едва только я написал эти строки, повинуясь порыву, объяснить который мог бы кто угодно, кроме меня самого, я разорвал все на мелкие клочки и старательно сжег их на огне находившегося у меня в келье светильника. Потом я снова пошел к заветной двери, с которой были связаны все мои надежды. Проходя по коридору, я столкнулся с каким-то отвратительным на вид человеком. Я подался от него в сторону, ибо уже решил, что не должен общаться ни с кем, кроме тех случаев, когда к этому вынуждает монастырская дисциплина. Проходя мимо меня, он коснулся моей рясы и многозначительно на меня посмотрел. Я сразу же понял, что это и есть то лицо, о котором упоминалось в письме Хуана. Спустя несколько минут, уже выйдя в сад, я обнаружил там записку, подтвердившую мои предположения. Вот что она гласила:
«Я раздобыл денег и нашел человека. Это сущий дьявол, но решимость и непоколебимость его не подлежат сомнению. Выйди завтра вечером на прогулку – к тебе кто-то подойдет и коснется края твоей рясы, обхвати запястье его левой руки – это будет знаком. Если увидишь, что он сомневается, шепни ему: „Хуан“, и он ответит тебе: „Алонсо“. Это и есть тот самый человек, обсуди все с ним. Он будет сообщать тебе о каждом шаге, который я предприму».