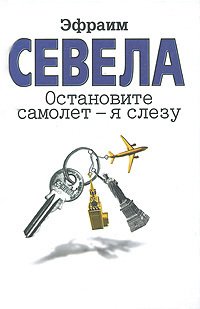
Читать онлайн Остановите самолет – я слезу (сборник) бесплатно
- Все книги автора: Эфраим Севела
Остановите самолет – я слезу!
Красивая, 23 года, тугоухая, говорит немножко на русском, грузинском и иврите ХОЧЕТ познакомиться с подходящим молодым человеком – тугоухим или глухонемым с целью замужества.
Из объявлений в израильской газете на русском языке «Наша страна».
Международный аэропорт им. Дж. Ф. Кеннеди в Нью-Йорке. Борт самолета ТУ-144 авиакомпании «Аэрофлот». Температура воздуха за бортом +28 С.
– Здравствуй, жопа, новый год!
О, простите ради Бога! Я не хотел сказать это вслух. Я только подумал так. Внутренний голос, как говорят киношники.
Но слово – не воробей, вылетело – не поймаешь. Поэтому еще раз прошу прощения, не сердитесь, не будем портить себе нервы. Так уж получилось, что рядом со мной сели вы, а не вон та блондинка. Я держал это место для нее – думал, сядет. А сели вы…
Значит, мы с вами – соседи. И лететь нам вместе в этом прекрасном самолете отечественного производства четырнадцать часов от города Нью-Йорка до столицы нашей родины Москвы. Поэтому не будем ссориться с самого начала, а лучше скоротаем время в интересной беседе и, возможно, если повезет, услышим что-нибудь новенького. Как сказал Сема Кац – пожарный при одном московском театре.
Вы не знаете эту историю? Слушайте, вы много потеряли. Эта история с бородой, ей было сто лет еще до того, как я очертя голову покинул Москву, чтобы жить на исторической родине.
Вы не знаете, что такое историческая родина? Сразу видно, не еврей. Любой советский еврей – сионист или антисионист, коммунист и беспартийный, идеалист и спекулянт, круглый дурак и почти гений – уж что-что, а что такое историческая родина, ответит вам даже в самом глубоком сне.
Но вы русский человек, это видно с первого взгляда, и зачем вам ломать голову: что такое историческая родина – когда родина у вас была, есть и будет, и это понятно и естественно, как то, что мы с вами дышим. А у евреев с этим вопросом не все гладко, и поэтому тоже понятно, почему им не нужно объяснять, что такое историческая родина.
Но не будем отвлекаться и забегать вперед. Вернемся к нашему пожарному Семе Кацу. Из московского театра. А насчет исторической родины мы успеем еще обменяться мнениями. Впереди долгий путь и много времени. Я, как видите, поговорить люблю, а вы, как я вижу, умеете слушать. Неплохая пара – гусь да гагара. Это и называется приятным обществом.
Все! Хватит трепаться, переходим к делу.
Евреи, как мы с вами знаем, народ крайностей, без золотой серединки. Если еврей умен, так это Альберт Эйнштейн или, на худой конец, Карл Маркс. Если же Бог обделил еврея мозговыми извилинами, то таких непроходимых идиотов ни в одном народе не найдешь, и Иванушка-дурачок по сравнению с ним – великий русский ученый Михаил Ломоносов.
Пожарный Сема Кац, который каждый божий вечер, когда шел спектакль в театре, дежурил за кулисами на случай пожара, чтоб без паники и желательно без смертельных ожогов эвакуировать публику из зала, если пожар все же случится, относился ко второй категории евреев, то есть, не к тем, что дали миру Альберта Эйнштейна и основоположника научного марксизма. Сема Кац, хоть удачно выдал замуж двух дочерей и был дедушкой, отличался дремучим невежеством и наивностью новорожденного. Он знал только свою профессию и был без ума от театра. До того без ума, что мог в сотый раз с интересом смотреть одну и ту же пьесу. И поскольку стоило закрыться занавесу, как все начисто улетучивалось из его головы, то назавтра он с не меньшим увлечением слушал тот же текст, стоя за кулисами и разинув рот от удовольствия.
Так вот как-то раз этот самый Сема Кац потряс всю театральную Москву. Актеры, зная преданность пожарного Каца театру, великодушно позволяли ему сопровождать их после спектакля до метро и молча слушать их треп. Сема Кац один единственный раз вмешался в разговор, и этого ему было достаточно, чтобы прославиться на всю Москву. И ее окрестности.
Актеры спорили о чем-то, шагая в сопровождении пожарного к метро, и кто-то, доказывая свою правоту, сказал:
– Это так же реально, как и то, что Земля круглая.
– Земля круглая? – не выдержал пожарный Кац и рассмеялся этому, как удачной шутке.
Оторопевшие актеры, которые никак не ожидали обнаружить в середине двадцатого столетия в столице державы, запускающей спутники, такого мамонта, стали популярно разъяснять ему все, что знает крошка-школьник. Сема Кац слушал, как волшебную сказку, и у входа в метро, когда прощался с актерами, сказал растроганно:
– Вот почему я люблю с вами гулять – от вас всегда узнаешь что-нибудь новенького.
Прелестно! Я очень доволен, что удалось вас рассмешить. Значит, конфликт исчерпан, и мы можем познакомиться поближе.
Разрешите представиться. Рубинчик. Аркадий Соломонович. Сын, как говорится, собственных родителей. По профессии – увы! – парикмахер. Дамский и мужской. Не смотрите на меня так. Да, да. Парикмахер. И если вам показалось, что я кто-нибудь другой, то не вы первый ошибаетесь. Я – парикмахер высшего разряда. Гостиницу «Интурист» в Москве знаете? Там работал ваш покорный слуга и обслуживал исключительно высший свет – дипломатов, туристов, а главное, московский мир искусств. Все головы этого мира обработаны мною, и по закону сообщающихся сосудов кое-что оттуда перешло ко мне. Неплохо?
Каждый писатель из моих постоянных клиентов считал своим долгом обязательно дарить мне экземпляр только что вышедшей книги с соответствующей надписью и потом, приходя стричься или бриться, считал не меньшим долгом спрашивать, как мне понравилось прочитанное, а чтобы я не увиливал, выпытывал конкретно, по главам.
Воленс-неволенс, мне приходилось всю эту муру не только читать, но и запоминать, чтобы не лишиться постоянных клиентов, которые как инженеры человеческих душ знают, что мастер тоже человек и ему надо оставлять на чай, иначе он протянет ноги, и некому будет работать над их талантливыми головами. Я не имею в виду идеологическую обработку. Это делали в другом месте.
Весь прочитанный мною винегрет и услышанные разговоры деятелей искусств – ведь уши не заткнешь – застряли в моей голове, и когда я открываю рот и начинаю говорить, многие ошибаются и принимают меня за писателя. Средней руки. Боже упаси! У меня есть моя профессия, и она меня пока еще кормит. И не место красит человека, а совсем наоборот: человек – место. Поэтому я, в отличие от некоторых, никогда не скрываю, кто я в действительности такой.
Парикмахер. И большой идиот. Потому как то, что я натворил, сдуру сунувшись куда не надо, мог наделать только набитый дурак.
Правда, меня утешает одно обстоятельство. То, что я не одинок в своем идиотизме. Добрая сотня тысяч советских евреев проделала то же самое, и скажу вам откровенно, с не меньшим успехом. И ходят теперь все лысыми. Потому что потом рвали волосы у себя на голове.
Но об этом после. Времени у нас – уйма.
Посмотрите, пожалуйста, вон та блондинка, на три ряда впереди, не на нас с вами оглядывается? Да. Роскошные волосы. Скажу по совести, на каждую женщину, которая чего-нибудь стоит, я сперва кладу профессиональный взгляд. Волосы, косметика. У стоящей женщины это дело всегда на высоте.
Вот и на эту блондинку я еще в аэропорту Кеннеди обратил внимание из-за ее шикарных волос. Потом оказалось, что и фигурка не подкачала. И нос на месте. И глаза без бельма. Что еще мужчине надо?
Тогда я стал смотреть на нее в упор – это у меня такой метод еще с юности, когда я жил в городе Мелитополе, – и стал мысленно ей внушать:
«Ты сядешь в самолете рядом со мной… сядешь рядом со мной… это твой шанс… не проходи мимо своего счастья…»
Я сверлил взглядом ее затылок, пока у нас принимали ручную кладь, потом, когда мы спешили по длинному туннелю к самолету, и в самом самолете. Я повторял мое заклинание до тех пор, пока… рядом со мной не плюхнулись вы.
Тут-то я и сказал про себя, а вышло вслух:
– Здравствуй, жопа, новый год!
Это относилось даже не столько к вам, сколько ко мне самому.
Но теперь я не жалею, что так вышло. Что бы я с этой женщиной делал, имея ее рядом четырнадцать часов и все это время абсолютно недосягаемую? Одно расстройство. А в вашем лице я нашел прекрасного собеседника, который вдобавок и умеет слушать. Что еще нужно еврею для полного счастья?
Пожалуй, одно. Чтобы наш самолет, не дай Бог, не упал в океан, где мы бы с вами долго мучились в ледяной воде, пока нас бы не пожалели и не съели акулы. Но это бывает по статистике только в одном полете из ста, и у нас с вами есть девяносто девять шансов благополучно приземлиться в Москве.
Лучше перейдем к более веселым темам, и пока вон та куколка-стюардессочка, с таким милым русским личиком, разносит ужин, я успею вам рассказать историю, которая произошла со мной тоже в самолете, и где мой метод прожигать взглядом женщину имел успех.
Это было в Америке, с год назад. Я еще был там зеленым и не совсем устроенным. Только-только из Израиля выкарабкался и искал, как мне зацепиться за эту страну.
В Нью-Йорке я работы подходящей не нашел, и один местный еврей, из филантропов, посоветовал мне слетать в город Вашингтон, штат Северная Каролина. Там его приятель держит салон красоты, и для такого мастера, как я, у него большого сиониста, место всегда найдется. Он даже позвонил своему приятелю в Вилмингтон, и тот даже прислал билет на самолет. Правда, в один конец. Обратный я покупал за свой счет, потому что сионист из Вашингтона посчитал меня за фраера и предложил мне плату – одну треть того, что он дает даже неграм. При этом он сказал, чуть ли не со слезой, что он всей душой с русским еврейством, и мы с ним – братья. Я ему сказал, что таких братьев я видал в гробу в белых тапочках, наскреб последние доллары на билет и укатил в Нью-Йорк – город желтого дьявола, как обозвал его великий пролетарский писатель Максим Горький.
Но не об этом речь. Я не жалею, что так неудачно слетал в город Вилмингтон, штат Северная Каролина. Кроме того, удачно я слетал или неудачно зависит, с какой стороны на это посмотреть. Должен вам признаться, что я таки очень удачно слетал и затраченные на обратный билет деньги не могу записать себе в убыток.
Еще в Нью-Йорке, в аэропорту Ла-Гуардия, я заметил ее. Вернее, волосы. Черные как смоль. С синеватым отливом. Натуральными волнами лежат на плечах и спине. И обрамляют эти волосы дивное личико волшебной восточной красоты. С чуть раскосыми глазками. Бровками вразлет. Губками, как роза. Кожа матовая. Ноздри трепещут, как у породистой лошади.
При этом миниатюрная, крошечная фигурка. Под стать моему росту. И одета со вкусом, и без претензий.
Одним словом, с ума сойти! И то мало.
Я стал жечь ее взглядом и внушать на расстоянии. Хотя, скажу откровенно, особой надежды не питал. Слишком хороша для меня.
Пассажиров в самолете было немного, неполный комплект, и свободных мест – сколько хочешь.
Сел я у окна, имея рядом свободное место, у прохода, и уставился на нее в упор, пока она продвигалась в глубь самолета с изящным чемоданчиком в руке. Смотрю на нее и внушаю. Мысленно. «Сядь со мною рядом, рассказать мне надо…»
Вы думаете, я хвастаюсь? Клянусь вам, это правда. Она остановилась возле меня, вскинула свои реснички, и я кивнул ей, взял из рук чемоданчик и помог положить в багажную сетку.
Она сняла пальто, села, достала журнал и уткнулась в него, словно меня на свете не существует. Я понял, дело плохо. Лету часа полтора, она едва успеет дочитать журнал. Надо принимать меры. Сесть со мною рядом – это я мог внушить. Но влюбить в себя – моего внушения не хватало.
И тут меня выручила газета. Еще когда я был в Израиле, и весь мир, а в особенности, американцы, еще не потеряли интереса к «мужественным советским евреям», меня сфотографировал корреспондент, и мой портрет появился в американской газете. Не потому, что я в действительности герой, а потому, что им нужен был еврей из Москвы, а не из Черновиц, и единственным москвичом среди черновицких и кишиневских евреев оказался я.
Портрет вышел что надо, а текст вокруг него расписали такой, что неловко было людям в глаза глядеть. Национальный герой… лидер… крупнейший… У американцев, если уж они берутся вас похвалить, так вы непременно и лидер, и крупнейший, и самый, самый. Так у них принято. Я это потом узнал.
Один номер той газеты я приберег и в нужных случаях, скромно потупясь, показывал, что не раз сослужило мне хорошую службу.
Газета как всегда лежала у меня в портфеле, и я достал ее, развернул портретом поближе к соседке и даже краем наехал на ее журнал. От моей невежливости она нахмурила бровки и нечаянно глянула на потрет. Потом подняла глаза на меня и снова на портрет. Клюнула!
И тогда я увидел, как возникает на этом волшебном личике интерес к моей особе. Она вежливо попросила газету: нельзя ли посмотреть? Я тоже вежливо, без суеты, протянул газету. Она впилась, а я, зная, как там расписан, затаил дыхание, ожидая результата. Ждать пришлось не долго. Она снова подняла глаза – в них светился восторг. Еще бы! Она сидит рядом с героем борьбы за выезд советских евреев в Израиль, мужественным человеком.
Мой английский оставляет желать лучшего, но и ее английский не далеко ушел. Видать, тоже недавно в Америке. Иммигранточка. Стали болтать через пень-колоду. Я – грудь колесом, пускаю пыль в глаза. Она – ах да ах, не может успокоиться, с каким, мол, человеком познакомилась. Чую, дело на мази. Остается только не поскользнуться на апельсиновой корке. Что меня настораживало, так это плутоватый огонек в ее прекрасных глазках, когда она поглядывала на меня. Будто разыграть собиралась.
Наахавшись и наохавшись, она сказала мне, играя, как бес, глазами:
– Я очень рада познакомиться с героем Израиля, но думаю, вы не очень обрадуетесь, когда узнаете, кто я. Ну, угадайте.
Я почувствовал подвох и окончательно растерял свой скудный запас английских слов. Вместо вразумительного ответа в башку лезли фразы из учебника английского языка, вроде: мистер и миссис Кларидж пошли в магазин делать покупки…
– Не напрягайтесь, – рассмеялась она, – все равно не угадаете. Я – арабка. И родилась на той же земле, куда вы теперь героически добрались из Москвы. Мы с вами оба, вроде, земляки. Только меня оттуда попросили, а вас – наоборот.
И смеется на все свои прекрасные тридцать два зуба, а я чувствую – мороз по спине ползет и брюки скоро отклеивать придется. Ничего себе, влип. Кого я приблизил к себе методом внушения? Арабскую террористку. Возможно, в чемоданчике, который я помог уложить в багажную сетку, мина с часовым механизмом? Я даже напряг слух, стараясь услышать тиканье.
Как бы угадав мои мысли, очаровательная террористка продолжала изводить меня:
– Два моих брата – бойцы «Народного фронта освобождения Палестины». Я тоже чуть не увлеклась этой романтикой, даже собиралась захватить израильский самолет, но…
– Что «но»? – спросил я пересохшими губами.
– Но, – рассмеялась она, – раздумала. Вспомнила, что я – женщина, что молодость быстро пройдет, послала к черту моих братьев и эмигрировала из Ливана сюда. У меня – американский паспорт.
Я перевел дух.
– Но это, право, очень занятно, – продолжала она, – что мы познакомились с вами. И если бы у нас завязался роман, то мы были бы современные Ромео и Джульетта из враждующих домов Монтекки и Капулетти.
Начитанная, должен сказать, была эта канашка из «Народного фронта освобождения Палестины». Я делаю вид, будто мне не впервой попадать в подобный переплет.
– Так за чем остановка? – как можно беспечней спрашиваю я. – Что может помешать нашему роману?
– Если вы не возражаете, – отвечает, – то я – за.
Поверьте мне, после этого случая я переменил свой взгляд на арабов. Вернее, на арабок.
Послушайте, что было дальше.
Мы прилетели в Вилмингтон поздно вечером и поехали вместе в гостиницу «Хилтон». Там в каждом городе есть гостиницы под этим названием. Приезжаем. Она заказывает комнату на двоих и в карточке для приезжающих пишет, что-мы – супруги, мистер и миссис Палестайн, что по-русски означает «Палестина». Вот бестия! Я чуть не начал икать.
А что было в постели – это ни пером описать, ни в сказке сказать. Тысяча и одна ночь! Шахерезада!
Через каких-нибудь пару часов я был уже пустой и звонкий, меня можно было надувать, как шарик, и я бы взлетел, потому что стал легче воздуха.
Я ей потом сказал:
– С таким темпераментом вы испепелите Израиль в два счета.
А она мне в ответ отвалила комплимент, лестный для всего еврейского народа:
– Если все евреи такие мужчины, как ты, я готова признать право Израиля на существование.
Это она сказала мне, который позорно сбежал с исторической родины в Америку. Но ведь она этого не знала. Так же, как и я не знал многого из ее, полагаю, не совсем монашеской жизни.
Уснул я как убитый, а проснулся в холодном поту.
В той комнате, где я ночевал, было окно во всю стену, и, открыв глаза, я увидел, как в кино, серый силуэт крейсера «Аврора». Исторический крейсер «Аврора» стоит на Неве в городе Ленинграде – колыбели революции.
«Значит, я в СССР, – заныло у меня в копчике, – меня усыпили и тайком переправили в Ленинград…» (Почему в Ленинград, а не в Москву? – об этом я даже не успел подумать.) «И прелестная арабка – не террористка, а агент КГБ! Сейчас пойдут допросы с пристрастием… и все из-за этого паршивого портрета в американской газете, где меня расписали черт знает кем».
Я лежал холодный, не смея шевельнуться и, как кролик с удава, не сводил глаз с серой «Авроры» за окном.
Одно меня удивляло, что подо мной не тюремная койка, а мягкая кровать. А также то, что окно почему-то без железной решетки. Больше того, у окна – дорогой торшер и кресло.
В широкой кровати я лежал один, но вторая подушка была примята, и на ней чернел длинный женский волос. Ее волос. Прелестной террористки.
И был я не в Ленинграде, а в Америке. В городе Вилминггон, штат Северная Каролина. Крейсер за окном стоял тоже на реке, но не на Неве. Это был тоже исторический крейсер, но из американской Истории, и как две капли похожий на нашу «Аврору». Его тоже под музей пустили.
Скажу вам откровенно, это большое чудо, что я не стал тогда импотентом. Но заикался я довольно продолжительное время, правда, окружающие такой дефект объясняли слабым знанием английского языка.
Кстати, обратите внимание, блондинка-то поглядывает в нашу сторону. Значит, мое внушение на расстоянии не прошло бесследно, и она что-то чувствует. Кто знает, что могло бы получиться, если бы не вы, а она села рядом со мной?
Над районом острова Ньюфаундленд. Высота – 27 тысяч футов.
Ну, кажется, и нам несут ужин. Вот это я понимаю! По-царски! Ну, как тут не закричать на весь мир: «Летайте самолетами „Аэрофлота!“ Икра! Красная и черная! Где, в каком еще самолете вам подадут такую роскошь?
Я полетал немало. Разными авиакомпаниями. И «Эл-Ал», и «Пан-Америкен», и «Эр-Франс», и «Люфтганза»… и «Юнайтед Артистс»… Нет, что я говорю? Прошу прощения. «Юнайтед Артистс» – это не авиационная, а кинокомпания, снимает фильмы. Я уже начинаю заговариваться. Видно, действует запах русской кухни.
Нигде так не кормят, как в «Аэрофлоте»! У них там все малюсенькими дозами, все отмерено в миллиграммах, как в аптеке. И безо всякого вкуса. Будто резину жуешь.
А у нас? В первом классе едят, а во втором голова кругом от запахов. Какой борщ! Какой аромат! Дымится! Клубится!
А девица-то… стюардессочка. Какие стати! Какой взгляд! Пава! Ей-богу, пава! Как поется в известной песне: «Посмотрела, как будто рублем подарила, посмотре-е-ла, как будто огнем обожгла».
Что может быть лучше русской женщины?! Заграничные стюардессы тоже, канашки, неплохи. Но с нашими… никакого сравнения. Там стюардессы как из одного инкубатора. И улыбка не своя. Положено по службе, вот и скалит зубы. Без чувства, без души. Как манекен в витрине.
А наша? Никакой улыбки. Даже бровки хмурит соболиные. Строга, мать. Знает себе цену. А уж улыбнется, так персонально тебе, и никому другому. От всей души!
Боже мой, боже! У меня сердце выпрыгнет. Я ведь не железный. Посмотрите, как она ходит! Как ногу ставит. Как бедром работает… левым… правым… Ой, глаза бы мои не глядели… можно схватить инфаркт. Естество… грация… врожденная. Такому не обучишь. Такой надо родиться… а это возможно только в России.
Ну, слава Богу, отошла. Поехала, мать, за новыми порциями. Теперь хоть остыну немножко, успокоюсь. Знаете, такая и мертвого подымет.
Уф-уф-уф. Остываем. Берем второе дыхание… Хотите верьте, хотите – нет, но у меня была такая вот, и раз у нас разговор мужской, то и грех не поделиться. Тем более, что ни имен, ни фамилий, поговорили – и забыли, все репутации в полной сохранности. А кое-что полезное осядет в памяти. И веселое тоже.
Значит, была у меня стюардессочка, и не простая, как скажем, в нашем самолете, а из правительственного отряда, что возят по заграницам руководителей советского государства. Коллективное руководство. Святую троицу. Ха-ха. Ведь в Кремле как принято? Один летает, а двое других дома сидят, чтоб власть не отняли.
Вот она и летала стюардессой в этом самолете. То с одним вождем, то с другим, то с третьим. Там отбор строжайший. Самые красивые и самые проверенные политически и морально. Непременное условие – девичья невинность. После каждого полета – проверка. Их начальница в полковничьем звании кладет стюардессу на коечку, ножки повыше и врозь, пальчиком на ощупь – девственность не нарушена?
Такой уговор был в коллективном руководстве, чтоб никто из троих не мог попользоваться, злоупотребить своей властью – все стюардессы невинные девицы. С комсомольским значком на юной груди.
Тут вы меня, по глазам вижу, поймали на слове. Как же, мол, так, уважаемый товарищ Рубинчик, заврались вы совсем. Живете с такой стюардессой из такого отряда, и ее что, не выгнали за потерю невинности? Что-то не сходятся концы с концами.
Вы абсолютно правы, дорогой. Но прав и я. Дело в том, что я с ней жил, когда она была уволена из отряда, по случаю замужества. Замужних там не держат. И все узнал, как говорится, постфактум.
Интересные, скажу я вам, подробности мадридского двора. Но это – строго между нами. Не каждому посчастливится спать бывшей правительственной стюардессой, и не каждому повезет лететь рядом с этим счастливчиком. Поэтому вам – из первых рук, но дальше – рот на замок.
Летала моя красавица по всей планете, юная, сексуальная, кровь с молоком, только тронь – брызнет. Члены коллективного руководства, – каждый из трех вождей советского народа хоть и в преклонном возрасте, но все же живой, не из бронзы отлит, – шалеют, глядя на нее, да и на ее подружек. Но… партийная дисциплина, а главное – уговор. Нарушитель сразу выплывает. Не тюрьмой, полагаю, пахнет, но потерей доверия остальных из троицы. Раз в таком деле слово не держит, значит, и в более серьезном политическом акте может заложить коллег, подвести их под монастырь.
Любуются ею в полете, облизываются. По-отечески расспрашивают, нет ли в чем нужды, не надо ли помочь. Кобели в намордниках. Око видит – зуб неймет.
Один оказался самым находчивым, но имени не скажу. Даже под пыткой. Зачем нам позорить свое родное правительство? Никакой нужды. Обойдемся без имен. А догадаетесь – на вашей совести.
Значит, один из них, когда ему предоставляют правительственный самолет для официального визита к какому-нибудь президенту или королеве, на высоте девять тысяч метров соберет в салоне своих советников для совещания: как, мол, будем решать судьбу такой-то страны, – и ее, стюардессу, к себе зовет. Приучил ее всегда стоять рядом со своим креслом. Спор идет, дым коромыслом: холодная война, десант, разрядка, посылать оружие, нотой протеста грозить – а он, главный-то, при всех держит руку у нее под юбкой, гладит дрожащей рукой по трусикам. Такой вот, греховодник. И уговор соблюдает, и свое удовольствие имеет. Она же молчит, не хочет места лишиться.
Так и летала. И с теми, кто потише, и с этим приходилось. Возбуждал он ее жутко, до мигрени доводил своей руководящей дланью. Не выдержала, уволилась, выскочила замуж.
И как с цепи сорвалась девка. За все годы, что держала себя в узде. У мужа рога пробились гроздьями, целым букетом. Не человек, а стадо маралов. Через этого мужа и я к ней в постель попал и в паузах слушал ее истории, как служила в правительственном авиаотряде и летала в разные страны с нашими вождями.
Девка – первый сорт, не поддается описанию. Наша с вами стюардесса чем-то ее напоминает. Бывало, делаю ей прическу, дома, в роскошной спальне. Муж в отъезде. Она сидит нагая у зеркала, волосы распустит. Гляну на мраморные плечи, коснусь шелка волос и – готов. Приходится опять раздеваться и нырять в постель. Пока сделаешь ей прическу, полдня ухлопаешь и еле живой ползешь до метро.
Досталась она в жены скотине, и очень справедливо поступала, награждая его ветвистыми. Этот муж, я его имени тоже не стану называть, из писателей, что пишут детективы про героизм чекистов и деньги гребут лопатой. Толстый, с животом, без зеркала свой член не видит.
Никто из соседей по дому, из писателей, ему руки не подает. Официальный стукач. Едут писатели за границу, он к группе приставлен следить за поведением и потом куда следует рапорт писать.
И со мной вел себя по-свински. Другой писатель – настоящий, почти классик, – за ручку здоровается, пострижешь его – обедом угостит, бутылочку заграничного виски с тобой раздавит. А уж заплатит не по прейскуранту, а с хорошим гаком. Этот же, чтоб от других писателей не отстать, тоже по телефону стал меня на дом вызывать. Словом не перекинется, сидит как сыч в кресле, щурится в зеркало нехорошо, не любит он нашего брата, а как платить – требует квитанцию и сдачи до единой копеечки.
Я б ему в харю плюнул, и пусть его черти стригут на том свете. Но увидал жену…
Тут я взял реванш. Работаю с ней только в его отсутствие. И платила она, должен вам сказать, не в пример супругу. И за себя, и за него, и еще лишку. Не жалела его денежек, не обижала мастера.
Я человек не мстительный. У меня мягкое отходчивое сердце. Но вот этой свинье я на большом расстоянии отвесил плюху. И, кажется, метко. Не мог простить ему антисемитский взгляд маленьких поросячьих глазок. Вспомнил я этот взгляд в Америке, когда гулял однажды по Нью-Йорку и в витрине книжного магазина увидел что-то его очередное детективное… В переводе на английский. Ах, думаю, гад, всюду тебе дороги открыты, отыграюсь на тебе твоим же оружием, надо прикончить твою карьеру литературного вертухая. А как это сделать? Лишить политического доверия.
Взял грех на душу. Пошел на почту и латинскими буквами русскими словами отправил в Москву по его адресу телеграмму такого содержания:
«ГЛАДИОЛУСЫ ЦВЕТУТ ЗАПОЗДАНИЕМ»
И подпись: Стефан. Почему не Степан? Стефан не совсем русское имя, больше подозрения.
Почта из заграницы в СССР читается где следует. Что за текст? Какой подтекст? Чистейшая шифровка. Взять получателя на карандаш, установить наблюдение.
И я представляю, как он сам на полусогнутых понес в зубах компрометирующую телеграмму по начальству и стал строчить объяснения. А ему не верят. Мол, посадить мы тебя не посадим, а из доверия у нас ты вышел.
Больше его ни к одной делегации писателей не приставляли, безвыездно сидит в Москве, волком воет. В одиночестве. Жена-стюардессочка тю-тю – поминай как звали…
Мне об этом один писатель рассказал. Туристом был в Америке. Случайно встретил. Хороший мужик. Из моих бывших клиентов. Я ему сотню долларов отвалил, у советского туриста – копейки, чтоб семье подарки привез. Приеду в Москву – и он меня не забудет. А к детективщику, той свинье, в гости обязательно загляну. Может, знает, куда жена ушла, адрес даст, да и мне удовольствие посмотреть на дело рук своих – отставного стукача, наказанного за нехороший взгляд в зеркало, когда мастер работает над его дурной головой.
Что? Курить? Не курю. Ради Бога. О-о! «Тройка»! Отличные сигареты. Отечественные. Дым? Не мешает. Наоборот, как это у наших классиков? «И дым отечества нам сладок и приятен».
Над Атлантическим океаном. Высота – 28500 футов.
Знаете, мне кажется, я вас где-то видел. Знакомая голова. У меня ведь жуткая память на головы. Профессиональное. Возможно, вы у меня стриглись? Захаживали в «Интурист»? Нет?
Ну, что ж, до конца пути, может быть, и вспомню. Лететь нам ой, как долго, и я, с вашего разрешения, поболтаю. Вы услышите кое-что интересное. О еврейской судьбе. О еврейском счастье. Об умении евреев устраиваться в этом мире.
Нам же многие завидуют. Думают, мы самые хитрые. А вы, пожалуйста, слушайте и мотайте на ус. Если у вас возникнет зависть к нашим удачам, скажите мне откровенно, и я пойму, что летел всю дорогу с идиотом.
Когда все это началось? Как это случилось? Какая бешеная собака меня укусила в ягодицу, что во мне стали проявляться все признаки болезни. Знаете какой? Той самой, когда до зуда в ногах, до спазм в желудке хочется непременно вернуться через две тысячи лет на историческую родину. Мне захотелось своей, не чужой культуры, и чтоб дети мои непременно учились на моем родном древнееврейском языке, именуемом иврит. Замечу в скобках, что детей у меня нет и быть не может, по уверению врачей, а что до культуры, то советская средняя школа плюс ускоренный выпуск офицерского пехотного училища навсегда отбили у меня вкус к плодам просвещения.
Помню, еще осенью семидесятого года я, беды не чуя, успел съездить в отпуск в Гагру, на черноморское побережье Кавказа. Без жены. На пляжах – плюнуть некуда. Сплошные куколки. С высшим образованием. Молодые специалистки. Не знаю, как они зарекомендовали себя в народном хозяйстве СССР, но в вопросах… ну, сами догадываетесь, что я хочу сказать… они были специалистки высшего класса.
- Ах, море в Гагре, ах, солнце в Гагре!
- Кто побывал там, не забудет никогда…
Эту песню поют во всех ресторанах черноморского побережья. Под дымный чад шашлыков и чебуреков. Под звон цикад. Дурея от запаха магнолий и олеандров. Млея от тепла круглой коленки в твоей ладони.
Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма – так, насколько я помню, начинается «Коммунистический манифест» Карла Маркса и Фридриха Энгельса.
По пляжам Черноморья в ту осень прогуливался совсем другой призрак. Призрак сионизма.
У евреев, обгоравших на пляже, появился нездоровый блеск в глазах. Как лунатики бродили они с транзисторами, прижатыми к уху, чтоб не подслушали православные соседи, и блаженно закатывали очи, внимая далекому «Голосу Израиля». До изнеможения, до хрипа разбирали они по косточкам всю Шестидневную войну и раздувались от гордости, словно сами первыми с крошечным автоматом «Узи» плюхнулись в воды Суэцкого канала. Они сравнивали Черное море со Средиземным, и Черное выглядело помойкой по сравнению с чистым, как слеза, бело-голубым еврейским морем.
Над пляжами Черного моря шелестел сладкий, как грезы, придушенный шепот: Петах-Тиква, Кирьят-Шмона, Ришон-Лецион, Аддис-Абеба. Нет. Аддис-Абеба – это уже из другой оперы. Хватил, как говорится, лишку.
Я, признаться, только посмеивался над всем этим и ни на йоту не сомневался, что, как и всякое модное увлечение, это умопомешательство временно, и очень скоро пройдет и забудется, не оставив следа. Если не считать архивов КГБ.
Евреи не давали мне покоя.
– Ай-ай-ай, Рубинчик, Рубинчик, – качали они головами. – Что вы прикидываетесь, будто вам все равно? Еврейская кровь в вас еще проснется. Рано или поздно. Но смотрите, чтоб это было не слишком поздно.
А я их в ответ посылал, знаете, куда? По известному русскому адресу. До мамы, с которой поступили не очень хорошо.
Почему-то мой жизненный опыт мне подсказывал:
«Аркадий, будь бдительным. Даже если еврей лезет к тебе в душу, не спеши с ответом – каждый советский человек, если к нему хорошенько присмотреться, может оказаться писателем, из тех, чье творчество всякий раз начинается со слова „Доношу“…»
Я даже покинул раньше срока Кавказ. Но в Москве мне легче не стало: эпидемия дошла до столицы и стала подряд косить евреев.
Сидит в кресле клиент, рожа – в мыле, один еврейский нос торчит из пены, но стоит мне наклониться к нему, и сразу начинает шепотом пускать мыльные пузыри:
– Вы слушали, Рубинчик, «Голос Израиля»? Наши совершили рейд в Иорданию – пальчики оближешь. Никаких потерь, а пленных – десять штук.
Я прикидываюсь идиотом:
– Какие наши? Советские войска?
Из-под простыни мне в нос лезет указательный палец:
– Рубинчик, вы не такой идиот, каким стараетесь показаться. До сих пор я считал вас порядочным человеком. Вы, что, хотите быть умнее всех?
Я не хотел быть умнее всех, я не хотел быть глупее всех. Я хотел, чтоб меня оставили в покое.
У меня был радиоприемник. Японский. «Сони». С диапазоном, каких в СССР нет, в шестнадцать и тринадцать метров на короткой волне. Туда советские глушилки не достают, и можно отчетливо слышать любую станцию мира на русском языке. Не только «Голос Израиля», но и «Свободу», «Би-Би-Си», «Немецкую волну» и «Голос Америки». Купил я его за жуткие деньги у одного спортсмена, вернувшегося с Олимпийских игр. И он еще считал, что сделал мне одолжение, потому что был моим клиентом. Купил для того, чтобы иметь ценную вещь в доме, а заодно и побаловаться, когда будет охота. Естественно, когда никого нет рядом и есть гарантия, что на тебя не стукнут.
Так вот. Я отнес этот приемник в комиссионку и загнал его по дешевке, не торгуясь, лишь бы подальше от греха. Потому что сердце – не камень, и когда все вокруг только и шепчутся про Израиль, рука может сама включить приемник, а ведь ухо ватой не заткнешь.
Я считал себя вполне застрахованным от того, чтобы не попасть впросак и клюнуть на отравленную наживку, но тут последовал удар с самой неожиданной стороны.
Вы думаете, международный сионизм подослал ко мне тайных агентов, и они большими деньгами заманили меня в лоно еврейства? Или свои доморощенные сионисты стали осаждать меня и так загнали в угол, что мне уже и деваться было некуда?
Ничего подобного. Евреем, а заодно и ненормальным, потерявшим контроль над собой, сделал меня сосед по коммунальной квартире, чистокровный русский человек, член КПСС Коля Мухин. Слесарь-водопроводчик нашего ЖЭКа, пьяница и дебошир, каких свет не видывал.
По вашим глазам я читаю, что вы уже знаете дальнейшее: сукин сын и антисемит Коля Мухин жестоко задел мое национальное достоинство, обозвал жидом, да еще в придачу по уху съездил, так что я со всех ног помчался в Израиль.
Ничего подобного. Даже наоборот.
Из всех сорока жильцов нашей квартиры Коля Мухин был моим самым близким другом и, бывало, даже под самым высоким градусом сотворит, что угодно, но никак не обидит меня. Боже упаси! Любому морду расквасит за один косой взгляд в мою сторону. Мы с ним были, что называется, водой не разольешь.
Что нас сближало? Очень многое. Хотя я щупл и ростом мал, да еще еврей в придачу, а он славянин, косая сажень в плечах и с характером, более чем невоздержанным.
Хотите верьте, хотите – нет, но сейчас я это понимаю абсолютно ясно, нас свела и накрепко связала одинаковость судьбы. Советское происхождение и советская жизнь. Со всеми ее фортелями.
Мы с Колей – ровесники, и учились оба, хоть в разных городах, но в одних и тех же советских школах. Оба воевали и оба остались инвалидами. Даже в одном звании ходили: младший лейтенант, ванька-взводный. И он, и я не пошли в гору после войны, не кончали институтов, а взяли в руки ремесло, чтоб иметь кусок хлеба: он стал ржавые трубы чинить и замки в двери вставлять, а я волосы стричь и бороды брить. Пролетарии не умственного труда.
Оба получали, благодаря заботам советского правительства о рабочем классе – хозяине страны, такое жалованье, что если не жульничать и не мухлевать, то живо ноги протянешь. Поэтому Коля слесарничает налево, не для плана, а для себя, и я стригу и брею тоже налево, в свой карман. С одной разницей, что я весь барыш волоку домой жене, а он – загадочная славянская душа – все до копейки пропивает.
И еще он отличается кое-чем. Коля – член КПСС, состоит в славных рядах коммунистической партии. Членские взносы из него клещами тащат, на собраниях клеймят как антиобщественный элемент, но из партии не выгоняют во избежание резкого сокращения рабочей прослойки. Я же – беспартийный. В войну, когда меня за волосы волокли в партию – была в ту пору мода каждому солдату и офицеру писать перед боем заявление: если погибну, прошу считать коммунистом, – я как-то умудрился увернуться. Позже, даже если бы я очень захотел, это бы мне вряд ли удалось – мешало еврейское происхождение.
В этом и состояло наше различие, хотя во всем остальном мы были более чем похожи. Потому-то Коля Мухин во мне души не чаял, и я его любил, как мог, хоть это совсем не нравилось моей жене.
Чтобы дать вам полное представление о моем друге Коле Мухине, я изображу одну сценку, и вы согласитесь со мной, что он был действительно славный парень, краса и гордость нашего старшего брата – великого русского народа.
По пьяной лавочке, а часто и натощак, с похмелья, Коля обожал съездить по уху своей жене Клаве, а при удачном попадании, засветить ей фонарь под глазом. Делал он это не таясь в своей комнатке, а в общей кухне, всенародно. Однажды соседи не стерпели, – уж очень они жалели Клаву, – и сбегали за участковым. Милиционер, увидев распростертую на полу кухни Клаву, грозно подступил к Коле. Соседи во всех дверях и углах замерли от сладкого предвкушения: ну, голубчик, не миновать тебе тюрьмы.
А Коля не только не струсил. Наоборот. Строгим стал, серьезным. Взял милиционера под локоток, подвел к газовой плите, поднял крышку над кипящей кастрюлей.
– Понюхай, – говорит, – чем она меня кормит.
Милиционер понюхал, и его перекосило.
– За такое, – говорит, – убить, и то мало. Правильно учишь, товарищ.
Вот он какой, мой лучший друг Коля Мухин. Он-то меня и наставил на путь сионизма, и все, что со мной приключилось потом – отчасти и его заслуга.
У Коли тоже имелся транзисторный приемник. Не японский, конечно. А наш, советский. «Спидола». Коля – мастер на все руки – сам вмонтировал в него короткие диапазоны в шестнадцать и тринадцать метров и на трезвую голову обожал послушать заграничные радиостанции, вещающие по-русски. Делал он это, в отличие от меня, довольно громко. Так что и соседям за тонкими стенами было неплохо слышно. Но никто на него не доносил. Во-первых, потому что знали: это не хулиганство, а политическое преступление, контрреволюция, за такое могут Колю упечь в Сибирь, и бедная Клава хоть и почувствует облегчение поначалу, но потом хватится, да будет поздно. С тоски зачахнет. Жалко женщину. Во-вторых, все знали Колин буйный нрав и его тяжелую руку – боялись мести.
Когда я продал, подальше от греха, свой транзистор, заграничные радиоволны не покинули мою комнату, и ядовитая антисоветская пропаганда продолжала бушевать по всей ее кубатуре. Стоило утихнуть соседским разговорам и скрипу пружин за стенами нашей большой коммунальной квартиры, и только сверчок в коридоре заводил свой концерт, как включалось занудное, вроде бормашины у зубного врача, зудение и скрежет советских заглушающих станций. Это значило, что Коля Мухин включил свою «Спидолу», беря разгон через глушители, чтоб нащупать и настроиться на чистую, недосягаемую для помех волну. Потом раздавались мелодично и звонко позывные «Би-Би-Си», и чистый женский голос задушевно сообщал всем сорока затаившим дыхание обитателям двенадцати комнат:
– Говорит Лондон.
Или мужской голос:
– Слушайте передачу радиостанции «Свобода».
Или без никакого еврейского акцента:
– Говорит Иерусалим. Радиостанция «Голос Израиля».
Никуда не спрячешься. Да ведь и уши, на то они и есть, чтобы слушать. И мы с женой лежим под одеялом, высунув носы, и слышим биение своих сердец и голос израильского диктора из комнаты Коли Мухина.
Коля в последнее время из всех станций мира отдавал явное предпочтение израильской. И на то были серьезные основания. Оттуда читали полные тексты до жути откровенных и отчаянных писем советских евреев, тайком, без цензуры, переправленных на Запад, с призывом помочь им уехать из СССР в Израиль. Тогда-то я и услыхал впервые выражение «историческая родина» и, прикинув в уме, согласился, что это так и есть. Действительно, все евреи, вернее, наши дальние предки, родом из тех мест на Ближнем Востоке, и это абсолютная правда, что две тысячи лет мы скитаемся по свету, и нигде нас не любят. Возразить было трудно. Да и некому. Слушали мы вдвоем с женой, лежа под одеялом, и мнениями не обменивались. Только выразительно косились друг на друга, а в некоторых патетических местах просто не дышали.
Самым захватывающим, до холодка по спине, было то, что люди, писавшие такие письма, где за каждую строчку, по советской норме, причиталось от трех до пятнадцати лет, не только не прятали своих имен, а совсем наоборот, приводили их полностью, даже с отчеством и, чтоб их легче было арестовать, добавляли домашний адрес.
Я в такое не мог поверить. Жена моя тоже. Хотя мы с ней и полсловом не обменивались.
Нарушил молчанку Коля Мухин. Мы с ним сидели как-то в скверике, глазели на баб. Так мы обычно с Колей на пару любили отдыхать без жен, если, конечно, не было левой работенки, на стороне, и отводили душу в мужских разговорах.
Коля первым заговорил про эти письма:
– Я тебе вот что скажу, Аркадий. Не верю я в них ни на грош. Чистейшая липа. Пропаганда! Ну, подумай своим еврейским умом, какой дурак, если он вырос в Советском Союзе и знает наши порядки, учудит такое? Да еще адрес добавит. Приходите, мол, и берите меня тепленьким в постельке. Чудаки там, в Израиле, насочиняют чепухи и дуют в эфир, и думают, мы, глупенькие, так им и поверим. Нет, братцы. Стрелянного воробья на мякине не проведешь. Это я тебе говорю как партийный беспартийному. Понял?
И даже рассмеялся от злости.
– Русский человек, Аркадий, страхом насквозь пропитан. И даже глубже. Его от этого еще век не излечишь. Без дозволу начальства мы шагу не ступим, отучены раз и навсегда. Тем более, евреи. Ваш брат вообще нос боится высунуть.
Ну, чем ты от меня отличаешься? Что нос подлиньше да пьешь поменьше? А в остальном, порода одна – советская. Чем нас больше пинают, тем слаще сапог лижем.
Нет, не верю я в эти письма и призывы. Это все штучки-дрючки для дурачков. Вот пойди проверь любой из адресов, что они назвали, и сразу обман откроется. Ручаюсь, и фамилии придуманы и адресов таких в помине нет.
Я с ним полностью согласился, и мы пошли в ближайшую забегаловку. Я заказал себе пива, Коля сто пятьдесят с прицепом. Сто пятьдесят грамм московской водки и бокал пива. Коля смешивал это и пил мелкими глотками. Как горячий чай. Без закуски.
Коля и не такое умеет. Однажды, пропив всю получку, он покаялся перед Клавой и дал ей слово даже в праздники не пить. Клава за ним ходила, глаз не спускала, да и все соседи тоже стерегли. Однако Коля исхитрился.
Захожу на нашу общую кухню вечером. Коля сидит, как подопытный кролик, смирный, благостный, хлебает из тарелки. Клава, довольная, вертится у плиты, даже песенки под нос мурлычет.
Гляжу, Коля крошит в тарелку хлеб и все это уплетает. Соседи заглядывают на кухню, уважительно кивают ему. Держит человек слово.
Подошел я ближе, не пахнет борщом, хоть убей. Спиртным отдает. Коля на меня хитро так глаз прищурил, и по глазу вижу: уже косой. Тут и Клава хватилась – учуяла.
Оказалось, Коля всех вокруг пальца обвел. Втихаря налил полную тарелку водки, накрошил туда хлеба и ложкой, как суп, наворачивает. Ни крякнет, ни дух переведет. Ест нормально, как куриный бульон. Это же какую глотку надо иметь?
Коля продолжал упорно не доверять вражеской пропаганде и с тем же упорством продолжал слушать, как пишут в газетах, ядовитый и лживый «Голос Израиля».
Наконец, его терпение истощилось:
– Послушай, Аркадий, – зашептал он мне, когда мы прогуливались по безлюдному скверику. – Есть шанс убить медведя. Я вчера еще одно письмо слушал. Страсти-мордасти. Подписанты – все москвичи. Я нарочно один адресок засек. Здесь рядом, на Первой Мещанской. Патлах Бенцион Самойлович. Давай сходим, завалимся в гости, проведаем голубчика. А? Что мы теряем? Зато убедимся раз и навсегда, что нет такого Патлаха Бенциона по данному адресу. И дома под этим номером на Первой Мещанской сроду не бывало. А квартиры – никто слыхом не слыхал. Чего душу напрасно бередить? Сходим – и я это радио больше к уху не подпущу.
И пошли мы. Благо, недалеко – рукой подать. Действительно, зачем нам нервничать, когда можно одним ударом все сомнения развеять.
Прем мы по Первой Мещанской, смотрим номера домов так, для блезиру, потому как на сто процентов уверены, что такого номера там нет и в помине. Вдруг видим… Вот он, этот самый номер! Трехэтажный дом. И квартира есть. На первом этаже. С табличкой на двери: Б. С. Патлах.
Мы чуть было не дали тягу. Да Коля удержал.
– Погоди, Аркаша. Очень мне необходимо этого Патлаха Бенциона Самойловича в личность увидеть. Непременно. Не могу я поверить, что такие бесстрашные чудаки живут среди нас. У меня, понимаешь, в голове полный заворот кишок. Не увижу его – совсем сопьюсь. А если обнаружится, что все это не липа, тем более надо выпить. За твой народ, Аркаша. Самый отчаянный. И великий.
Потоптавшись у двери и собравшись с духом, мы позвонили. Нам открыли сразу же, будто ждали звонка. На пороге стояла седенькая старушка с таким носом, что не приходилось сомневаться в ее национальной принадлежности.
– Беня, – слабым голосом позвала она. – Это за тобой.
В глубине квартиры послышались шаги, но старушка не стала дожидаться Бени и, как курица-наседка перед собакой, ощерилась на нас:
– Берите! Хватайте! Загоняйте иголки под ногти! Всех не передушите! Нас – миллионы.
Тихо, не очень повышая голос, кричала она эти слова в курносую Колину рожу. Меня за его спиной она даже не заметила.
– Успокойся, мама, – обнял ее сзади худющий еврей, довольно молодой, но лысый, как Ленин. – Не нужно истерик. Не доставляй им этой радости.
Он, как и его мама, ни на йоту не сомневался, что мы пришли за ним, и совершенно не оробел. Слегка побледнел, и все.
– Дай мне, мама, сумку с бельем. Я все приготовил, – сказал он и поцеловал старушку в лоб.
Мы с Колей так и приросли к полу. Потому что мы увидели то, во что ни за что не хотели верить. Мы увидели героя. Живого. Не придуманного. Советского человека, который не боится советской власти. Можно было схватить инфаркт на месте.
Первым вышел из столбняка Коля Мухин.
– Патлах! Сука! – взвыл он от избытка чувств и заключил в свои медвежьи лапы лысого, как Ленин, Патлаха. – Дай я тебя расцелую, Бенцион Самойлович, морда ты моя жидовская. Да ты же мне всю душу перевернул, да я отныне новую жизнь начинаю!
– Вы, собственно, кто такие? – растерялся хозяин.
– Аркаша, – догадался Мухин, все еще не выпуская Патлаха из объятий, – он нас за легавых принял. Чудило! Скидай, Аркадий, штаны. Покажи ему, что мы – евреи.
Все уладилось. Мамаша Патлаха нас потом чаем угощала с вареньем, а сам хозяин картины свои показывал. Он художником оказался. Из непризнанных. В СССР их формалистами зовут. Абстрактными.
Если честно признаться, я в этом ничего не смыслю. Мне приятно смотреть на картину, где все ясно и понятно. Где лошадь – лошадь, а трактор – это не аэроплан. А все эти штучки-дрючки, по-моему, на дураков рассчитаны.
Колины вкусы от моих не намного отличались. Мы из вежливости посмотрели несколько картинок, маслом писаных. Сплошная фаршированная рыба. Живая, но уже фаршированная. Плывет в воде, хвостом машет. И хвост – не хвост, а вроде пучка сельдерея. Дальше – рыбный скелет. Обглоданная рыба.
– Еврейская сюита, – с достоинством пояснил художник.
Мы это все проглотили без инцидентов. Потом допоздна слушали художника. Соловьем заливался – рассказывал нам о стране своей мечты. Таких чудес наговорил, как научная фантастика. Мы с Колей рты поразинули, как малые дети.
А художник как одержимый. Глаза сверкают, пена на губах. Настоящий сионист. Пламенный.
Вывалились на улицу в темноте. В голове гудит, сердце колотится. Вот когда меня одолела сладкая отрава сионизма. Да и Колю заодно.
По этому случаю мы завернули в забегаловку и такого дали газу – еле нашу коммунальную квартиру потом нашли. Коля озверел от уважения к евреям, которых он до этого не больно жаловал. Если не считать меня.
Главное представление разыгралось в нашей общей кухне. Коля приставил меня к стене, чтоб я не упал, и пошел по комнатам сзывать соседей. Люди уже спать легли, рабочий народ – он их из постелей выволок.
Первой притащил простоволосую, в ночной рубахе Клаву – жену свою. Ткнул ее к моим ногам.
– На колени, шкура вологодская!
Клава родом из-под Вологды.
– Стой на коленях перед ним! След его целуй!
Второй была наша дворничиха Сукильдеева.
– Становись, татарское иго! – приказал Коля. – Уважь мудрейший народ.
Пенсионера Бабченко он швырнул к моим ногам так, что косточки хрустнули:
– Кайся, хохол, за невинно пролитую кровь этой нации. За Батьку Махно, за Петлюру. Гнись, сука! Придушу!
Дальше пошли жильцы русского происхождения. Им Коля велел хором прокричать: «Слава великому еврейскому народу!»
– Раз, два, три, – скомандовал Коля. – Начинай!
И осекся. Хмель дал утечку, мозги прояснились.
– Ладно, – вяло сказал он, – отбой. А ну, кыш отсюда по своим углам! А что было – замнем для ясности.
А вы спрашиваете, как это началось? Вот так и началось. И остановиться сил не хватило.
Я потом к этому художнику стал наведываться. Манило послушать его речи. Иногда вместе с Колей заваливались. И слушали-слушали – не надоедало. Пока он визу не получил и не отбыл. Куда вы думаете? В Израиль? Малость ошиблись, дорогой. Он, голубчик, дальше Вены не сдвинулся. Остался в Австрии. Говорят, процветает. Его фаршированные рыбы нарасхват у немцев. Комплекс вины, как пишут в газетах.
«Ах, ах, ах, – скажете вы. – Как это такой пламенный сионист, который других сагитировал, сам улизнул, укрылся в теплом местечке?»
И если вы думаете, что я его сейчас начну бичевать и оплевывать, как дезертира и бесчестного человека, то глубоко заблуждаетесь.
Теперь-то, после всего, что я пережил, я глубоко уважаю этого Патлаха, Бенциона Самойловича, и понимаю, что он был самым мудрым из нас. По крайней мере, логики у него было больше, чем у всех нас вместе взятых.
Никого он не обманывал. Он действительно был без ума от Израиля и все передачи оттуда на русском языке слушал с раннего утра до поздней ночи. Он был как заведенный будильник. В разгар самого задушевного разговора он вдруг умолкнет, взглянет на часы и включает радио. Его мозг был настроен на «Голос Израиля» с точностью до одной секунды. Он включал рычажок, и без паузы раздавались позывные Иерусалима.
Я был у него в гостях и видел, как он сломался. У него сидел народ. Конечно, евреи. Стоял жуткий галдеж.
– Тихо! – крикнул он. – Слушаем Израиль.
Стало тихо, и он включил свой транзистор. Но и там тоже было тихо. Только легкое потрескивание. Художник глянул на свои часы и неуверенно спросил:
– Неужели мои часы врут?
Нет, часы не врали. Сверили с другими. Время было точное.
На израильской волне продолжались слабые шорохи.
Художник перевел рычажок на «Би-Би-Си» – там вовсю гремели позывные Лондона. Он прыгнул на «Голос Америки» – и там позывные убывали, приближаясь к концу.
Все больше меняясь в лице и бледнея, художник вернулся к Иерусалиму. Тишина.
И так две с половиной минуты по часам. Потом дали позывные, и женский голос, как обычно, сообщил:
– Говорит Иерусалим. Радиостанция «Голос Израиля».
И ни слова извинения за опоздание.
Художник выключил радио, опустил свою лысую, как у Ленина, голову и так просидел какое-то время, пока мы не зашевелились, собираясь уходить.
Он поднял на нас глаза, и это были не его глаза. Огонь в них угас.
– Все, – сказал он. – Страна, в которой государственная радиостанция, вешающая на заграницу может опоздать с передачей на две с половиной минуты и не извиниться, пусть даже по техническим причинам, – это не государство, а бардак. Мне там делать нечего.
И не поехал.
Он был самым прозорливым евреем в Москве. Он был провидцем. Недаром у него была лысина, как у Ленина.
Над Атлантическим океаном. Высота – 30600 футов.
Стригся Коля Мухин, конечно, только у меня. И, как вы сами понимаете, бесплатно. У меня бы рука отсохла, если бы я взял с такого близкого кореша хоть одну копейку, и если вы подумали на минуточку, что я на такое способен, так это только от того, что вы меня абсолютно не знаете.
То, что он стригся бесплатно, так это, как говорится, полбеды. Коля категорически воспротивился, чтоб мы это делали после работы, в моей комнате, где моя жена, а не его, будет потом выметать Колины лохмы. Ой посчитал это унизительным для себя. Это оскорбляло его пролетарскую рабочую гордость.
Коля приходил стричься ко мне в парикмахерскую. А наше заведение, должен я вам сказать, совсем не для таких личностей, как Коля Мухин. То есть, не для слесарей-водопроводчиков. Я работал в одной из самых шикарных гостиниц Москвы. Сплошной мрамор и бронза. Хрустальные люстры с тонну весом. Среди гранитных колонн в нашем холле может заблудиться взрослый человек. Церковь, храм, а не отель. Люкс, чего тут рассказывать. И, как вы сами понимаете, в таком раю проживают знатные иностранцы, советские генералы, дипломаты со всех концов света. Иногда попадаются и личности с Кавказа. Они сыпят деньгами налево и направо и получают в нашем отеле любую комнату и в любое время, потому что платят не в кассу, а администрации в лапу. Иначе бы их и на порог не пустили. Со свиным, как говорится, рылом да в калашный ряд. Как, скажете вы, с советским паспортом? Да еще непроверенный простой человек? Точно. Но простой он с виду, а на самом деле – золотой. Сунет такой кавказский человек кругленькую сумму, и иностранца моментально переведут к черту на рога, куда-нибудь в Останкино, а ему, кавказскому человеку, пожалуйста, полу-люкс с белым роялем.
Он на рояле не играет. Он увенчан другими лаврами. Он с Кавказа возит в Москву лавровый лист. Понятно? Миллионные барыши. То, что он имеет за день, я за пять лет не получу. И Святослав Рихтер, и Давид Ойстрах тоже.
Вот какой у нас клиент. Я имею в виду не кавказцев – их один процент, а иностранных туристов, генералов и дипломатов. Когда сидят, ожидая очереди, чтоб попасть ко мне в кресло, можно подумать, что это международный конгресс на самом высшем уровне. Фраки, ордена, аксельбанты. Дамы в невероятных мехах и бриллиантах. А кругом сверкает хрусталь, стены переливаются мраморными жилками, ноги тонут в мягких коврах. И все они, не взирая на чины и звания, терпеливо ждут, пока я приглашу в кресло. С французом – силь ву пле, с американцем – плиз, а с нашим иконостасом – милости просим, товарищ генерал.
Один Коля Мухин не признает очереди. Он вваливается ко мне, весь в мазуте и ржавчине, в рваном ватнике, из брезентовой сумки торчат гаечные ключи и ручная дрель, плюхается в кресло между фраками и мундирами и зычно, как в лесу, объявляет:
– Кто последний – я за вами.
Но это только так, для проформы. Стоит моему креслу освободиться, и он рвет ко мне, оттолкнув любого, кто подвернется под локоть.
Коля шокирует насмерть нашу клиентуру. И делает это нарочно и со смаком. Как же, мол, не пропустить вперед рабочего человека в рабоче-крестьянском государстве? Чья власть? Рабочих! Кому почет и уважение! Рабочему! Извольте расступиться, дать дорогу гегемону, то есть пролетариату.
Коля Мухин с виду прост, а на деле хитрее ста армян и еврея в придачу. Он знает всю правду, а прикидывается дурачком. Сами, мол, вопите про рабочую власть, ну, так вот и ешьте: любуйтесь хозяином страны, как вы меня, пролетария, называете. Душу отводит.
Я хоть про себя и радуюсь, что он им в морду наплевал, но в то же время опасаюсь, как бы меня за его проделки не выставили без выходного пособия. Коля – русский и член КПСС. Он вытрезвителем отделается. У меня же нет его преимуществ. Сунут волчий билет в зубы – и гуляй как знаешь.
Многие за границей любят рассуждать о русском человеке. Пишут книги, спорят по телевизору, жалованье за это получают. Загадочный, говорят, сфинкс, тайны славянской души. Вот уж, погодите, проснется русский народ, он свое слово скажет.
Меня от всего этого смех берет. Или, думаю, идиоты, или притворяются, чтоб без куска хлеба не остаться. Я ученых книг на этот счет не читал и читать не стану. Я прожил пятнадцать лет, как один день, в общей квартире с Колей Мухиным и распил с ним не одно ведро водки. Поэтому выбросьте все книги и послушайте меня. Я вам нарисую конный портрет, как говорил один мой клиент, самого типичного русского человека, а вы себе делайте выводы.
Начнем с советской власти, которой русский народ, наконец, разобравшись, что к чему, покажет кузькину мать. Коля Мухин на советскую власть руку не поднимет. Можете не мечтать. Он давно знает ей красную цену в базарный день. Больше того, люто он ее не любит и честит на все корки, когда пьян. И при всем при том, когда войдет в раж, будет козырять этой властью как своей и даже гордиться, что он, мол, рабочий человек – хозяин всей страны.
Он уже сто лет стоит в очереди на отдельную квартиру, а достаются они другим: за взятки или за чин высокий. Ему же, рабочему человеку, со своей женой Клавой, тоже рабочим человеком, век прокисать на двенадцати квадратных метрах. Коля прекрасно понимает, что все вопли и лозунги о рабочем человеке – это туфта, для дураков. Потому и откалывает коленца, когда вваливается в роскошный отель для иностранцев и советских тузов – настоящих хозяев этой страны, чтоб дать им понять, что не такой уж он глупенький.
Но пусть попробует какой-нибудь иностранец при нем хаять советскую власть на понятном ему, Коле, языке, и Коля тут же морду ему набьет. И даже не поленится, отведет, куда следует.
Для Коли Мухина, для его поколения русских, советская власть и Россия – понятие одно и то же. Пусть будет такая-такая-рассекая лживая, кровавая и трижды проклятая, но все же наша, и потому не вашего ума дело в нашу советскую жизнь встревать.
Коля честен. Возьмет в долг, даже будучи в стельку пьяным, не забудет, вернет в срок. Есть у него лишняя копейка – даст взаймы, только намекни. Идет с компанией выпить – норовит первым за всех уплатить.
И при этом Коля – самый, что ни на есть вор. У себя на работе тащит все, что под руку подвернется: болт – так болт, гайку – так гайку, кран, муфту, целую трубу, и продаст из-под полы за тройную цену или частным образом установит у заказчика и деньги положит себе в карман. А в магазине попробуй продавец обвесь его на сто грамм ветчинно-рубленной колбасы – такой устроит хипеш, все вверх дном перевернет: жулики, мол, советскую власть по кускам растаскиваете. И искренне так орет, книгу жалоб требует, еще немного – и зарыдает от стыда за то, что отдельные личности позорят высокое звание советского человека.
Поговори с Колей по душам – все понимает. Даже больше, чем надо. И что в стране бардак, на словах – одно, на деле – другое, что свободой и не пахнет, а вопим на весь мир, мол, самые мы демократические, самые прогрессивные, самые передовые. Смеется Коля над этим: вот шулера, вот мазурики, свернут когда-нибудь себе шею, поскользнутся на собственной лжи, как на блевотине. Но смеется беззлобно, даже с долей уважения за ловкость, с какой это все делается. Наши, мол, шулера, наши мазурики. А что обманывают-то не кого-нибудь, а его лично, Колю Мухина, не хочет принимать в расчет, а только отмахивается.
Коля – за справедливость. Прочитает в газете: в Греции террор, – кровью нальется, жалеет греческий народ. Или услышит по радио, как негров в Америке угнетают, весь побледнеет, кулаки сожмет, хоть сейчас готов в бой за освобождение своих черных братьев.
Но вот наши, советские, прихлопнули в 1968 году Чехословакию, когда этот шлимазл Дубчек хотел сделать социализм с человеческим лицом. Бросили на Прагу тысячи танков, Дубчеку коленом под зад, чехов – на колени.
В Москве, помню, кто поприличней, глаз от стыда поднять не мог. А спросил я Колю Мухина его мнение – правильно сделали, отвечает, так им, этим гадам-чехам, и надо. Ишь, чего надумали! Свободы им захотелось. А что, спрашиваю я невинно, ты против свободы? Нет, мотает головой. Зачем же ты чехов так поносишь? А за то я их, гадов, ненавижу, что против нас хвост подняли. Им, видишь ли, подавай свободу. А мы, что, лысые? Если свобода, так для всех. Понял? А нет – так и сиди в дерьме и не чирикай. Правильно с ними расправились – чтоб другим не завидно было.
Интеллигенцию Коля еле терпит. Сам он недоучка, как и я, не может спокойно видеть человека с дипломом. А если у того лицо не хамское, а тонкое, воспитанное – это для Коли, как красная тряпка для быка. Он ненавидит их руки без мозолей и белые необветренные лица без следов запоя на чистой коже.
Коля, совсем неглупый парень, свято верит, что все беды на Руси от интеллигентов. Что они, паразиты, живут за его счет, да еще норовят продать Россию загранице. Членов правительства и весь партийный аппарат он не любит с такой же силой, причисляя их, за отсутствием видимых признаков физического труда, к интеллигенции. Поэтому, когда я слышал в Америке или в Израиле, что вот, мол, скоро, недолго ждать осталось, русский народ покажет свой характер и освободится от коммунизма, мне хотелось кричать, как при пожаре:
– Идиоты! Болваны! Ни хрена вы не смыслите. Упаси Бог, чтобы русский народ показал свой характер. Тогда уж точно никто костей не соберет. На всем земном шаре.
Такой кровавой бани еще история не знала, какая начнется, если в России рухнет режим и хоть на неделю воцарится безвластие. В гражданскую войну, когда русский мужик в Бога верил, море невинной крови было пролито. А теперь? Без Бога, без святынь, да при нынешней технике. Выйдет Коля Мухин с гаечным ключом вместо кистеня и начнет крошить черепа, а другой Коля, поглупее, доберется до атомных ракет и нажмет спьяну сразу на все кнопки. Вот будет компот! Так что лучше не надо. Не толкайте Колю Мухина на баррикады, не дразните Колю химерами. Путь будет, как есть.
Я, честно говоря, люблю Колю. У него душа – нараспашку, и не надо слишком часто в эту душу плевать. Ведь Коля – дитя. Он может захлебнуться от восторга, если увидит смелый, отчаянный поступок. Так было, когда начались еврейские дела с выездом в Израиль, письма за границу, обращения в Генеральную Ассамблею Объединенных Наций за поддержкой против – кого? – советского правительства, которое не только на эту Ассамблею, а на весь мир начхать хотело. Коля ошалел и проникся глубочайшим почтением ко всем без различия евреям. Теперь они для него были первыми людьми, в каждом он видел героя.
Заваливается как-то ко мне ночью, водкой разит от него:
– Аркадий, чинил я давеча краны у одного еврея. Ох, и правильный мужик попался! Что, спрашиваю, в Израиль, небось, лыжи навострил? А он на меня: вон отсюда, провокатор! Выставил меня и денег за работу не уплатил. Вот сука! Я не стал артачиться, ушел по-доброму. Я же не глупенький. Правильно поступил человек, конспирацию соблюдает.
Потом – ленинградский процесс. Судили евреев за то, что хотели самолет захватить и улететь в Израиль. Двоих к смертной казни приговорили. Коля Мухин не отлипал от радиоприемника, ловил каждое слово из Лондона или Мюнхена, чтобы знать правду, что произошло на самом деле.
– Значит, не совсем в дерьме Россия, – заключил он, – если такие люди в ней еще водятся. Правда, они евреи. Но евреи теперь – вся надежда России, у своих-то, у славян, кишка тонка оказалась.
Окончательно был Коля добит, когда на суде в Ленинграде Сильва Залмансон, еврейская женщина, схлопотав десять лет лагерей, сказала в последнем слове русским судьям на древнееврейском языке:
– Пусть отсохнет моя правая рука, если я забуду тебя, Иерусалим!
Коля зарыдал у транзистора и не стал дальше слушать, что говорил лондонский диктор.
– Пусть отсохнет моя правая рука, – повторял он потом при каждом удобном случае, – если я забуду тебя, Иерусалим. Ах, мать твою за ногу, какой великий народ! А мы, суки, их жидами называли! – и глаза его блестели от слез.
Так воспринимал все это Коля Мухин, потому что был зрителем. Для евреев же это были черные дни. После ленинградского процесса и двух смертных приговоров активисты-сионисты хвост поджали, косы повесили. Стало немного жутко: советская власть показала коготки.
Что уж говорить о простых смертных, вроде меня. Честно признаюсь, я ждал погромов. Мне в троллейбусе одна пьяная харя плюнула в рожу, прямо на мой еврейский нос. И хоть бы кто вступился. Наоборот, очень многие вслух выразили свое одобрение. Будь там Коля Мухин, мы бы вдвоем разнесли весь троллейбус, а одному заводиться – гиблое дело при моем сложении. Да еще с ранением в голову.
Мои клиенты, из евреев, которые до Ленинградского процесса очень бурно переболели сионизмом, излечились от этой болезни вмиг и теперь, садясь в мое кресло, больше не делились последними новостями «Голоса Израиля» и не выли от восторга при каждой удачной атаке «наших» против Ливана или Иордании. Они вжимались в кресло, чтобы никому не мозолить глаза, и их еврейские носы, казалось, норовят утонуть в мыльной пене.
А радио из заграницы пугало предсказаниями, что советская власть расправится с евреями, как Бог с черепахой, и сионистскому движению в России предрекали близкий конец.
Даже Коля Мухин приуныл:
– Ах, собаки, ах, сучье племя! – сокрушался он с похмелья. – Ну, и сила же у них, если даже евреев смогли поставить на место. Все! Придушили! Поиграли, мол, и хватит. Запомни, Аркадий, цапаться с советской властью – это все равно, что плевать против ветра. Себе дороже. И твои евреи ничем не лучше других. Теперь сиди смирно, молчи в тряпочку. Пошли, найдем кого-нибудь, сообразим на троих.
Была зима. Кажется, февраль. Конечно, февраль. Конец февраля. Москву пронизывал холодный ветер, а так как снегу было мало, то казалось, что вот-вот из тебя выдует твою промерзшую душу, пока пробежишь от метро до своей работы.
В тот день я работал без особой нагрузки. По случаю холодов число иностранцев в гостинице заметно убавилось. Колю никак не ожидал в гости, потому что он у меня стригся неделю назад, накануне банного дня, когда он заваливался в Сандуны от рассвета до ночной темноты и отпаривал, как он говорил, коросту за целый месяц.
Коля Мухин ворвался с морозу в наш парикмахерский салон, как буря, как смерч, и с порога позвал меня, добривавшего случайного клиента:
– Аркаша, на два слова!
Я глазами показываю, что, мол, занят, вот добрею этого плешивого – и тогда я ваш, Николай Иваныч.
– Да брось ты его, мудака! – рявкнул Коля. – Не подохнет! Валяй за мной! Твоя судьба сегодня решается.
Тут уж и я не утерпел, спихнул клиента с недобритой щекой напарнику и вышел к Коле. И, стоя на красном мягком ковре под стопудовой хрустальной люстрой, он сказал мне такое, от чего у меня волосы моментально встали дыбом. Сообщил он мне потрясающую новость на ухо и таким громовым шепотом, что не только швейцары у входа, но, я уверен, и пассажиры в троллейбусах на улице, слышали каждое слово со всеми знаками препинания.
В двух словах могу подытожить сказанное. В этот морозный день двадцать четыре московских еврея совершили неслыханную дерзость: под носом у Кремля, на Манежной площади, захватили Приемную Президиума Верховного Совета СССР – высшего органа советской власти, и, расположившись там, предъявили правительству ультиматум: не уйдут по своей воле до тех пор, покуда не будет дано высочайшее разрешение всем евреям, кто этого пожелает, уехать в Израиль.
Это было неслыханно. Это было невероятно!
Коля все узнал из заграничной радиопередачи и уже побывал на Манежной площади – там все оцеплено милицией и КГБ в форме и в штатском, публику не подпускают. Даже иностранных корреспондентов гонят в шею. Тогда он забежал ко мне – поделиться новостью, благо я работаю рядом.
Как вы понимаете, работать в этот день я уже не мог. Не разумом, а всей утробой понимал, что в этот день решается и моя судьба. Хотя тогда еще о выезде в Израиль не помышлял. Я пошел к своему начальству и, сославшись на острые боли в животе, отпросился, будто бы для визита к врачу, а сам вместе с Колей сыпанул на Манежную площадь.
Вы думаете, только мы с Колей оказались такими умными? Слушать заграничное радио на русском языке категорически воспрещается под угрозой административного и даже судебного преследования. Это в СССР знает каждый. И тем не менее, вся Россия, у кого мозги хоть немножко работают, укрываясь от чужих глаз и ушей, липнет к своим транзисторам и портит себе нервную систему в неравной борьбе с советскими заглушающими станциями.
Сотни москвичей и, кстати сказать, в основном, неевреев, прогуливались с одинаковым безразличным видом вокруг Манежной площади, и их сгорающие от любопытства глаза выдавали своим мерцанием аккуратных слушателей «Би-Би-Си» и «Голоса Израиля». Мы с Колей присоединились к ним, потому что ближе подойти было невозможно. Типы в штатском, не церемонясь, выпроваживали каждого, кто делал лишний шаг, и еще проверяли документы и делали какие-то выписки себе в книжечку.
Мы с Колей не лезли на рожон, а наблюдали издали, стараясь угадать, что творится за зеркальными окнами Приемной Президиума, хотя там были наглухо опущены шторы и морозный иней покрыл все стекло. Эти двадцать четыре еврея, обложенные сейчас, как волки охотниками, рисовались нам сказочными богатырями.
– Аркаша, вдумайся, – хрипел мне на ухо вконец очумевший Коля Мухин, – такого сроду не бывало за всю историю советской власти. Такое присниться не могло! Пойти в открытую против такой махины, которую весь мир боится. И кто? Двадцать четыре человека! И каких? Одни евреи! Нет, в голове не укладывается.
Он переводил дух и снова заводил:
– Их, конечно, сотрут в порошок. Скоро поволокут вон в те фургоны. Гляди, сколько «воронов» пригнали. Но дело, Аркаша, не в этом! Сам факт! Понял? Эти двадцать четыре всей России мозги прочистят. Мол, не так страшен черт, как его малюют. Ох, и дадут они пример советскому народу, ох, и пустят трещину по фасаду – век не залепить никаким цементом. Это, Аркаша, исторический день. Помяни мое слово, слово члена КПСС с 1947 года. Пойдем сообразим погреться.
Было холодно и ветрено. По Красной площади мело сухим снегом, и стук сапог часовых, сменявших почетный караул у черного Мавзолея Ленина, отдавался в сердце и даже в желудке. Становилось зябко и тошновато, словно голый стоишь и беззащитный. А уж что должны были чувствовать те двадцать четыре шальных, у меня в голове не укладывалось.
Мы бегали с Колей за угол и для согреву принимали по сто грамм. И не хмелели. И снова возвращались на свой наблюдательный пункт, откуда видна вся Манежная площадь с кучами милиционеров и кагэбистов и страшными крытыми автомобилями с большими радиоантеннами.
Чего долго рассказывать? Это был сумасшедший день. Мы мерзли час за часом, и водка уже не помогала, а никаких перемен не наступало. Власти ничего не предпринимали, должно быть, совещались весь день, как поступить.
Коля Мухин расценил это как победу забастовщиков, как начало никем не предвиденной капитуляции властей.
– Знаешь, Аркаша, – глубокомысленно заключил Коля Мухин. – Тут одно из двух. Как говорят в народе, или хрен дубовый, или дуб хреновый. Пошли, чего-нибудь примем.
К вечеру Коля все-таки хорошо набрался. Я слегка обморозил ноги. Но зато мы дождались. Дождались результата и своими глазами видели тех самых героев, перед которыми отступило советское правительство.
В девять вечера забастовка кончилась. Сам президент Подгорный дал слово, что евреев начнут выпускать в Израиль и даже создадут специальную государственную комиссию, – которая будет рассматривать каждую просьбу. А забастовщиков не только не тронули, но бережно, чуть не под белы рученьки, проводили домой. Почти сотня одинаково одетых в штатское «мальчиков» окружила эти две дюжины евреев, и никого не подпускала к ним, пока не довела до станции метро.
Нам с Колей удалось поверх казенных шапок разглядеть кое-кого из этих ребят. Я был разочарован. Обычные еврейские лица. Даже несколько женщин. Средняя интеллигенция. Живущая на сухую зарплату. Неважно одетая. Таких в толпе не выделишь.
– Братцы! – крикнул им Коля через оцепление. – Так держать!
Я не успел оглянуться, как его скрутили «мальчики» в штатском и сунули в «черный ворон». Коля вернулся лишь на следующий день из вытрезвителя, схлопотав денежный штраф и уведомление в партийную организацию – обсудить недостойное поведение коммуниста Мухина Н. И.
Поэтому, когда в Колпачном переулке через денек-другой действительно заработала комиссия по выезду в Израиль, Коля не пошел со мной посмотреть, что там творится, а замаливал грехи перед Клавой, взяв на себя уборку комнаты и мест общего пользования. Я пошел один.
То, что я там увидел, превзошло все мои ожидания. Я то полагал, что в этот день явятся лишь те двадцать четыре, и их примет комиссия, и даже, чем черт не шутит, отпустит с Богом в Израиль. Мне ведь хотелось, собственно говоря, их поближе рассмотреть, только и всего. Ради этого я и пошел.
В Колпачном переулке бушевала толпа евреев, осатанелая как перед ответственным футбольным матчем у ворот стадиона имени Ленина в Лужниках. Дамы в каракулевых шубах, мужчины с бобровыми воротниками. Бриллианты в ушах, дорогие перстни на пальцах. Откуда их столько набралось? Узнав по заграничному радио, что советская власть уступила, эти евреи выскребли из тайников пожелтевшие вызовы от израильской родни, которые прежде от детей своих хоронили, и, расхрабрившись, бросились на штурм ОВИРа, чтобы первыми предстать перед комиссией и без всяких страхов и усилий вырвать визу, пока наверху не передумали. Они бурлили и клокотали у подъезда, толкаясь локтями, потные и взъерошенные, словно в очереди за сахаром в голодные годы, и как ни старался я разглядеть в этом водовороте хоть одно лицо из тех двадцати четырех, что я запомнил на Манежной площади, это мне не удавалось.
А сверху, с лестничной площадки, милиционеры выкликали в комиссию по фамилиям именно их, забастовщиков, но каракулевые дамы с воплями «Куда лезешь?», «Ты кто такой?» никого не пропускали вперед. Те, кто проложил дорогу евреям, чуть не были затоптаны своими соплеменниками, учуявшими, что отныне нечего бояться и путь открыт. Я сам видел одного из них, узнал его по бородке, измятого, с вырванными на пальто пуговицами. Толпа выдавила его в сторону, и он стоял, растерянный и, ей-богу, испуганный, привалившись спиной к стене, и никак не мог взять дыхания.
Смех и грех. Не зря говорится, от великого до смешного – один шаг. Немного погодя я там же наблюдал сцену, которую ни один писатель-юморист не сочинит, сколько бы ни напрягал мозги.
Маленького роста еврей, пониже меня, привел за руку свою высокую, на две головы выше жену, которая вдобавок ко всему была еще и беременна на последнем месяце, так что была втрое шире его. Держа ее за руку, как поводырь слона, маленький еврей, как и все вокруг, не в меру расхрабрившись, остановил проходившего с папкой документов начальника и громко, совершенно не желая сказать смешное, провозгласил на всю толпу:
– Если я сейчас же не получу визу в Израиль, то устрою на Красной площади самосожжение моей жены.
Так и сказал. Я запомнил дословно: «Устрою самосожжение моей жены».
Даже начальник ОВИРа, высокого звания офицер КГБ, не очень склонный к юмору, сумел оценить сказанное. Он не рассмеялся, а заржал, схватившись за живот и уронив папку с документами, отчего бумаги рассеялись по полу. Евреи же, которым в этот бурный день чувство юмора напрочь отказало, дружно бросились подбирать бумаги и услужливо, с заискивающими улыбками, подносили их начальнику, а он все еще хохотал и, как конь, мотал головой.
Кроме начальника, во всей толпе смеялся еще один человек. Это был я. Я смеялся не так громко, как он, но тоже от души. Потому что я обожаю смешные вещи, лаже если случаются они в самом неподходящем месте.
Над Атлантическим океаном. Высота 30600 футов.
Дальше все покатилось, как – ну, видали в кино? – снежная лавина. Будто всем евреям поголовно воткнули шило в задницу.
Подумать только, то в одном, то в другом городе потерявшие всякий страх евреи, заявляются в здания, которые раньше стороной обегали – в Президиум Верховного Совета, в МВД, в Обком партии – рассаживаются по скамьям, а если нет скамей, так прямо на полу, и объявляют сбитым с толку милиционерам, что не уйдут, пока не получат положительный ответ на свои требования. Не просьбы, а требования! Учтите. Это в Советском-то Союзе, где еще совсем недавно любой бы лучше язык откусил, чем выговорить такое.
А особо ретивые рвались в Москву. Чтобы не где-нибудь, а только в столице, на виду у иностранцев, а значит, – и у всей мировой прессы, сунуть кукиш советской власти под нос.
Поездами, самолетами, в автобусах сотни евреев, побросав работу и свои семьи, перлись в Москву из Риги и Вильно, из Львова и Черновиц, из Киева и Одессы, из Кутаиси и Тбилиси. Забастовка за забастовкой. Голодные, полуголодные и совсем уж не голодные забастовки – с обильным приемом привезенной из дому снеди.
Советская власть растерялась. Приемную Президиума Верховного Совета СССР на Манежной площади, возле Кремля, которую в особенности облюбовали евреи для забастовок, с перепугу закрыли на ремонт. И тогда возмутители спокойствия перекочевали на Центральный Телеграф, по соседству.
Власти отступали, как говорят военные, без заранее подготовленных позиций. Иногда огрызаясь. Но беззубо, вяло. Выхватят из толпы двоих-троих, упрячут за решетку, а сотням выдают визы и даже с облегчением выпроваживают за станцию Чоп.
Иногда, словно на нервной почве, милиция совершит налет на поезда, идущие в Москву, ворвется в самолеты, готовые подняться в воздух, и каждого пассажира, чей профиль вызвал бы понос у Геббельса, хватанет за шкирку и вышвырнет наружу. А вслед летят чемоданы и узлы. Часто хватали невинных евреев, ехавших в Москву по служебным делам, выталкивали армян за подозрительное сходство с евреями.
А сотни и сотни обалдевших евреев с визами в зубах и детьми под мышкой покидали СССР. И другие сотни, увидев, что от смелости не умирают, рвались в Москву, выпучив глаза, чтоб занять на Центральном Телеграфе место уехавших и тоже объявить забастовку. Пока советская власть не опомнилась, не натянула поводья, не вонзила шпоры в бока. А как эти шпоры вонзаются и как при этом трещат косточки, было памятно каждому, если только он окончательно не лишился ума на радостях.
На Центральном Телеграфе толпилось больше забастовщиков, чем нормальной публики, что нарушало работу этого учреждения, и милиция время от времени совершала профилактические облавы, очищая помещение от лиц с еврейской наружностью. Под жуткие вопли и стенания евреев всего мира, а также прогрессивной общественности, как это называется в газетах. На бедную советскую власть сыпалось не меньше проклятий, чем в 1917 году. Погромщики! Наследники Гитлера! Геноцид! Где права человека? Улю-лю-лю! Ату его!
Становилось смешно. А если народ смеется, то, как известно, для властей это уже совсем не смешно. Послушайте, и вы сами посмеетесь.
Это история об одном грузине, не грузинском еврее, а чистокровном грузине, кавказском человеке, чуть-чуть не угодившем по ошибке в Израиль. Для удобства рассказа назовем его, скажем, Вахтанг. Договорились? Значит, поехали.
Жил Вахтанг, горя не знал. Возил зимой с Кавказа в Москву цветы. Обыкновенные цветы. Продавал на Центральном рынке. Барыши получал такие, что даже Рокфеллеру не снились. На Кавказе, где и зимой лето, цена одному цветку от силы – копейка, в Москве самое меньшее – рубль. Прибыль – стократная. Рейс самолетом Тбилиси-Москва и обратно – шестьдесят рублей. Вахтанг упакует, спрессует в два чемодана сорок тысяч единиц цветов. Это сорок тысяч рублей. Состояние. Расходы – билет в два конца, да сотня-другая на девиц и рестораны. Ну, еще пару сот милиции да инспектору, чтобы не лезли не в свое дело. Все остальное – прибыль. Можно, скажу я вам, с ума сойти. Академику, лауреату Ленинской премии, который годами сушит свои мозги, пытаясь что-нибудь изобрести, не хватит фантазии вообразить такие деньги, сделанные в один день.
Для такого Вахтанга советская власть – малина, сущий клад. Его никакими калачами за границу не выманишь. Тем более, в Израиль. Хотя, как утверждают знатоки, могила крупнейшего поэта Грузии, гордости грузинского народа – Шота Руставели, находится в одном из монастырей Иерусалима, и даже спекулянту цветами, должно быть, не грех поклониться праху своего национального гения.
Привез Вахтанг в Москву два чемодана с прессованными цветами, на Центральном рынке оживил их, распушил, водичкой сбрызнул и продал по рубчику штука. Набил один чемодан деньгами доверху – тоже спрессовать пришлось, чтоб влезли. Второй – пустой. Сдал чемодан в камеру хранения и сам по традиции в ресторан, а потом к девицам. Сразу три блондинки – натуральные, без краски. Комсомольского возраста. Поистощился на них Вахтанг. Не денежно, а сексуально. Видно, годы уже не те. Ослаб. Пока отсыпался да приходил в себя, прозевал свой рейс. Пришлось билет менять. А чтоб жена не умерла от страха, решив, что его, наконец, зацапала милиция, пошел на Центральный телеграф дать ей успокоительную депешу.
Входит, смотрит вокруг и глазам не верит. Одни грузины сидят на скамейках. Вернее, грузинские евреи. А чем такие евреи отличаются от грузин, только они сами и понимают. На мой взгляд, ничем. Те же лица, те же усики, тот же кавказский акцент. И даже шапки, знаменитые тбилисские кепки-блины, размером с аэродром, потому что, если не самолет, то вертолет уж точно может совершить на них посадку, не боясь промахнуться, – и те у них на головах одни и те же.
Вахтанг, конечно, сразу отличил, что перед ним евреи. Дома, в Грузии, он их не очень жаловал, но здесь, в холодной, морозной Москве, грузинский еврей был для него земляком, а следовательно, самым желанным собеседником и собутыльником.
Был ранний час, и грузинские евреи на всех скамьях Центрального телеграфа приступили к завтраку. К солидной кавказской трапезе. Развязали узлы с пахучей снедью, заготовленной заботливыми женами в Кутаиси, откупорили бутылки с домашним вином. Запахи по телеграфу пошли такие, что белобрысые телеграфистки за стеклянными окошечками дружно пустили обильную слюну, перепортив немалое количество телеграфных бланков.
Ни с одним из этих евреев Вахтанг не был лично знаком, но опознанный по шапке и усикам был радушно приглашен разделить скромное угощение. Вахтанг пил и ел, наслаждался беседой на родном языке и забыл даже, зачем сюда пришел. Забыл он также спросить грузинских евреев, по какому случаю они в таком большом числе расположились на Центральном телеграфе.
Острые запахи кавказских специй довели до обморока одну московскую телеграфистку, которая на свою жалкую получку завтракала лишь стаканом кефира. Это дало милиции официальный повод вмешаться и очистить помещение от грузинских евреев. Подъехали автобусы фургоны без окошек, всю кавказскую братию до единого, включая и Вахтанга, погрузили и увезли в участок.
Бедный Вахтанг никак не мог понять, за что задержан. Неужели за цветы? Ему и в голову не могло прийти, что он, сам того не ведая, оказался участником забастовки грузинских евреев, именно таким путем добивавшихся визы в Израиль. Об этой забастовке потом много писали в заграничной прессе. В отдельных газетах ее называли даже голодной забастовкой.
А писали о ней много потому, что оказалась она наиболее успешной. Разгневанное московское начальство всем задержанным в тот день на телеграфе предложило уматывать в Израиль без лишних формальностей, дав три дня на сборы.
Не еврей, а чистокровный грузин, Вахтанг тоже попал в этот список, и как ему удалось из этого дела выпутаться, я, честно говоря, не знаю. Может быть, за большую взятку он смог сохранить советское гражданство и право жительства, то есть прописку на родном Кавказе. А может быть, кукует в Израиле и как о чудном сне вспоминает свой цветочный рай в Советском Союзе и проклинает русское начальство и грузинских евреев, что подвели под монастырь его, безобидного, аполитичного человека, торговавшего всего-навсего цветами.
Но вся история рассказывается не для того, чтобы оплакивать бедного Вахтанга. Как-нибудь выкрутится. Я хочу вам снова поведать о Коле Мухине. Как он чуть не влип. И причиной был я. Как всегда, без всякого умысла, сунувший свой нос, куда не надо. Должен вам честно сказать, что кто свяжется с таким шлимазлом, как я, удовольствия получит очень мало, а неприятностей – вагон.
Начнем с Коли. Как вы знаете, он не дурак выпить. А выпив, любит руками волю давать. Это он называет: погулять. Кончается это гулянье чаще всего в вытрезвителе. Там Колю знают. Он там свой человек, завсегдатай. Усмирят, окатят холодным душем, уложат в чистую постельку, и назавтра он, уже свежий как огурчик, дома. Пьет огуречный рассол и молча сносит нотации своей Клавы. До поры до времени. До очередного гулянья. И тогда отливаются кошке мышкины слезки. Коля так изукрасит ей физиономию, столько навесит фонарей – больше, чем при иллюминации на улице Горького в День Победы.
Что касается вытрезвителя, то с ним расчет всегда один и тот же. Двадцать пять рубчиков за обслуживание – присылают исполнительный лист по месту работы в бухгалтерию. Копию – в партийную организацию для обсуждения недостойного поведения члена КПСС Николая Ивановича Мухина.
Колю обсуждают на партийном собрании работников жилищно-жилищно-эксплуатационной конторы, то есть, ЖЭКа. Журят, взывают к партийной совести, ссылаются на наши успехи в космосе и на происки врагов за рубежом. Коля слушает внимательно и каждый раз клянется, что это в последний раз. Ему ставят на вид с занесением в личное дело. А когда в личном деле не осталось свободного места в графе «взыскания», стали ставить на вид без занесения в личное дело. И обсуждали его поведение не по каждой повестке из вытрезвителя, а когда соберется штук шесть-семь, тогда и скликали собрание, чтобы пропесочить Колю по совокупности проступков. Нянчатся с Колей по нескольким причинам. Первое, он русский, следовательно, национальный кадр. Второе, рабочий, а рабочих в партии и так мала, нужно беречь каждую единицу. К тому же, он в прошлом заслуженный боевой офицер и инвалид Отечественной войны. Он-то и в партию вступал перед боем и в заявлении писал: хочу умереть коммунистом. Коля не умер, остался жив, хотя и инвалидом. И соответственно до конца своих дней коммунистом. Разве можно такого исключать из партии? Бред.
Чтобы начать эту историю, я должен сразу сообщить: Коля Мухин по пьяному делу в очередной раз попал в вытрезвитель. А причем тут я, Аркадий Рубинчик, ни разу не выпивший больше своей нормы?
Тут-то и начинаются происшествия, одно другого нелепее. Как вы догадываетесь, меня нельзя причислить к мужественным евреям, и ни к каким забастовщикам и демонстрантам я и на версту не приближался. Хоть уже хотел ехать в Израиль и подал документы в ОВИР. Есть авангард и есть обоз. Так я был в обозе. Авангард бился и нес потери, а я ждал своей очереди тише воды, ниже травы.
Ждал уже довольно долго, а результата никакого. Люди пачками летят в Израиль, обо мне же будто забыли. Стал я нервничать. Это и подвело меня.
Встречает меня у ОВИРа, где я обычно околачивался, ожидая, что вот-вот вызовут получать визу, один чудак из тех, что все знают, и шепчет на ухо: мол, не там торчишь, жми скорее к Генеральному Прокурору, он сейчас принимает по этому вопросу, и туда очень много народу пошло. Я сдуру и подался.
Тут я должен сделать отступление. У каждого нормального советского человека, куда бы он ни шел, в кармане всегда лежит авоська. Сетка. Плетеная из суровых ниток хозяйственная сумка, которая в пустом виде ничего не весит и никакого места не занимает. Поэтому ее очень удобно таскать в кармане. Авоська – советское изобретение, и изобретение гениальное. Я даже не знаю, как бы мы жили без авоськи. По какому бы делу ни шел, на работу, или с работы, глядь – выбросили колбасу, ты – в очередь, и с полной авоськой – домой. Или на другом углу – болгарские помидоры, ты со своей авоськой тут как тут. Или на французских цыплят наткнулся, авоська при тебе, значит, не явишься домой пустым.
Если прикинуться дурачком и специально пойти по Москве охотиться за каким-нибудь продуктом, то останешься без ног и чаще всего ничего не принесешь. В СССР всегда дефицит с продуктами. Это, как говорят остряки, временные трудности, ставшие постоянным фактором. Если что и появится на прилавке, то поди угадай заранее, в каком магазине, а пока угадаешь, товар и кончился.
Авоська – палочка-выручалочка, лучший друг и помощник советского человека. Всегда имей ее при себе, как солдат винтовку, и что-нибудь непременно домой притащишь.
В тот раз, когда я послушал этого болвана и поперся к прокуратуре, в кармане у меня, натурально, лежала комочком авоська. И, должен вам сказать, это очень потом отразилось на моей судьбе. Казалось бы, мелочь, авоська, а какой поворот фортуны!
По улице Горького, из Елисеевского магазина, народ тащит огурцы. Свежие огурцы в Москве зимой – это явление. Длинные такие, импортные, как оказалось, из Египта. Ближний Восток – как бы привет с исторической родины! Авоська в кармане, я, конечно, в магазин. Кто последний – я за вами.
Очередь была смешная, человек полста, не больше. Набрал я полную авоську этих здоровенных, как поленья, огурцов. Не только для себя. Для соседей тоже. Скажем, для Клавы, Колиной. Я же приличный человек, у меня есть чувство локтя. И Клава, если где что дают, про меня тоже не забывает.
Несу авоську, ее аж распирает от египетских огурцов. Встречный народ меня задерживает:
– Где дают?
Я только рукой показываю, некогда мне. И так задержался, могу опоздать в прокуратуру.
Подхожу, и сразу что-то мне показалось подозрительным. Много милиционеров ходит за оградой. На то и прокуратура, думаю, чтоб милиция вокруг паслась. Но вот почему так много во дворе автобусов без окошек? Черные вороны. Для перевозки арестантов.
Я уж хотел было от ворот – поворот, а милиционер меня за руку:
– Вы по какому делу, гражданин?
Я затрепыхался: да ничего, мол, просто так, товарищей своих разыскиваю.
А он в мою еврейскую физиономию глядит и очень ласково отвечает:
– Пройдемте, уважаемый. Я вас к вашим товарищам провожу.
И поволок за ограду к автобусам. Одну мою руку он держит, в другой у меня авоська с огурцами.
– Пахомов! – кричит другому милиционеру. – Принимай еще одного сиониста. Кажись, последний. Можно ехать.
Впихнули меня в автобус, а там – одни евреи, друг на дружке как сельди. Захлопнули железную дверь, и мы поехали. Через всю матушку-Москву. До Волоколамского шоссе. В знаменитый вытрезвитель.
Вытряхнули нас во внутреннем дворике, построили по двое и повели в помещение. В дверях – заминка. Столкнулись с другими, с настоящими алкоголиками, православными, которых выводили. Там-то меня и увидел Коля Мухин.
– Аркаша! Какими судьбами? – кричит.
И ко мне, в нашу колонну.
Тут нас стали торопить, чтоб не задерживались, и Коля Мухин со всеми евреями попал в большой зал, где нас рассадили по скамьям.
А за столом, крытым зеленым сукном, сидит не милиция, а КГБ. От капитана и выше. Все – влипли! Сухими из воды не уйти. Будут шить политическое дело.
Положил я авоську с огурцами на колени и совсем поник. Даже не видел, что Коля Мухин вытащил один огурец, откусил и захрустел на весь зал.
За него первого и взялись.
– Эй, ты! – крикнули из-за стола с зеленым сукном. – Который огурец жрет! Встать! Подойти к столу!
Коля Мухин огрызок огурца положил на скамью возле меня и пошел к столу, слегка покачиваясь.
– Фамилия?
– Мухин, – отвечает Коля, – Николай Иванович.
– Николай Иванович Мухин? Довольно редкая фамилия для еврея, – усомнились за столом.
Коля обиделся.
– А это уж не вашего ума дело. Как назвали при рождении, так и с гордостью нашу.
– Молчать! – призвали его к порядку. – Год рождения? Социальное положение? Конечно, беспартийный?
– Почему же? Член КПСС с 1942 года.
– Засорили партийные ряды еврейской нечистью, – вздохнули мундиры за столом.
– Причем тут нация? – удивился Коля. – Мы коммунисты-интернационалисты. Между прочим, Карл Маркс, под портретом которого вы сидите, тоже был из евреев.
– Молчать! Не вступать в пререкания. Не видать тебе нашей партии, как своих ушей. Вычистим, чтоб духу не осталось.
– Это меня? – взревел Коля. – Фронтовика? Вы по каким тылам ошивались, когда я перед боем партийный билет получал?
– Осквернил ты, Мухин, опозорил свое прошлое. За чечевичную похлебку продался, за тридцать серебренников.
– Кому это я продался? – не понял Коля.
– Будто сам не знаешь? Сионистам! Международному капиталу. Хочешь советскую Россию на фашистский Израиль променять!
– Я? – ахнул Коля. – Ды ты охренел!
За столом небольшое замешательство. Сразу тон сбавили.
– Погоди, погоди, Мухин, может, ты раздумал ехать в Израиль?
– А я и не думал.
– Значит, осознал, опомнился и раздумал?
– А на хрена он мне сдался, этот Израиль? – возмутился Коля. – Вы меня что, за дурака принимаете?
– Стой, Мухин, не горячись, – один майор выскочил к нему из-за стола и даже обнял. – Вот что, товарищ Мухин, ты – настоящий советский человек, и тебя международному сионизму не удалось поймать на крючок. Сорвалось у них, не вышло! – закричал он всем евреям в зале.
– Берите пример с товарища Мухина, отрекитесь, пока не поздно, мы вас всех освободим и забудем, что было прежде. Скажи им, товарищ Мухин, пару слов.
Офицер дружески, совсем по-отечески, подтолкнул его к недоумевавшим евреям на скамьях.
– А что я им могу сказать? – не понял Коля. – У них есть цель… На свою родину… В Израиль. Отчаянные ребята… Я их за это уважаю…
– Не то говоришь, – тронул его за плечо офицер. Коля стряхнул его руку.
– А ты меня не учи, что говорить. Это при Сталине нам рот зажимали. Прошли ваши времена! Понял? Теперь коллективное руководство… без нарушений социалистической законности… И как русский человек… от всей души…
– Мухин! – оборвал его офицер. – Замолчи, сукин сын! А ну, покажи свой паспорт.
Коля лениво вытащил из-за пазухи мятую книжечку. Офицер заглянул туда и швырнул на зеленое сукно остальным офицерам.
– Так ты же не еврей! – завопил он. – Чего сюда полез?
– Я и не говорил, что я еврей. Я – русский. Я тут ради дружка моего, ради Аркаши. Вот он, с огурцами.
– Вон отсюда, пьяная рожа! – закричал офицер, и я подумал, что его удар хватит. – Вон! Чтоб духу не было!
– Я – что? – пожал плечами Коля. – Я могу уйти. А как с Аркашей? Он ведь если пьет, то только норму…
– Оба – вон! – затопал ногами майор. – И тот карлик с огурцами – вон! Я вам покажу, как устраивать комедию из серьезного политического дела.
Хоть я и был обижен «карликом», но не стал ждать напоминания и, подхватив авоську с огурцами, бросился вслед за Колей к выходу.
За нашими спинами офицер орал на притихших евреев:
– Всех под суд! По всей строгости закона! Руки, ноги обломаем подлым предателям, сионистским выкормышам!
И тогда, уже в самых дверях, Коля повернулся на сто восемьдесят градусов и, сделав проникновенное лицо, как подобает герою, отчетливо и громко, чуть не со слезой произнес:
– Пусть отсохнет моя правая рука, если я забуду тебя, Иерусалим!
За зеленым сукном онемели, вопивший майор умолк и застыл на одной ноге. Я вытолкал Колю в коридор и захлопнул дверь.
Только на улице, пробежав метров пятьсот, мы остановились. И в очень неплохом месте. Прямо у входа в закусочную Моспищеторга.
В честь счастливого избавления мы приняли по сто пятьдесят грамм с прицепом и закусили египетскими огурцами. Хорошие, должен вам сказать, огурцы. Можно свободно обойтись без другой закуски.
А те чудаки, что остались в вытрезвителе, получили по пятнадцать суток тюремного заключения. Они потом устроили в тюрьме голодовку протеста. И им в поддержку евреи Нью-Йорка и Лондона провели бурные демонстрации и даже побили окна в советском посольстве, что и было, по-моему, единственным фактом хулиганства во всей этой истории, которая началась с простой авоськи и египетских огурцов.
Над Атлантическим океаном. Высота – 30600 футов.
Вот сейчас кругом все галдят: сионисты, сионисты. А что это такое, я вас спрашиваю? С чем это едят?
В последние годы в России каждый еврей переболел этой болезнью. Это вроде кори. Никуда не спасешься. Надо переболеть, если ты еврей, или наполовину еврей, или хоть на четвертушку.
Сионисты в Москве были разные, любого калибра. На выбор. Начиная с совершенно чумных, что перли на рожон, чуть не на штыки, и потом прохлаждались в Потьме, до тихих, краснеющих, которые скромно проползали в щель, пробитую первыми, и без особых хлопот приземлились в Израиле.
Но я знал одного, у которого симптомы этой болезни были ни с чем несравнимы и такие, что не рассказать об этом, прямо грех.
Представьте себе семейную пару. Молодую, симпатичную. И вполне успевающую. Оба – критики. Нет, нет. Они не советскую власть критиковали и не бегали с кукишем в кармане. Наоборот. Даже члены партии.
Критик – это профессия. Они были музыкальные критики. Все советское они, когда критикуют, обязательно хвалят, а все заграничное, даже если хвалят, обязательно немножко покритикуют. Ничего не поделаешь. Такая профессия. Бывает и похуже. Например, санитар в психушке. Б-ррр!
Так они оба жили, беды не зная, занимались критикой и потихонечку критиковали кооперативную квартиру в Доме композиторов на проспекте Мира, автомобиль «Жигули» и даже небольшую дачку на Московском водохранилище.
Как и у всех нормальных людей, у них была теща, которая, слава Богу, жила отдельно, но так любила свою единственную дочь, что навещала их ежедневно. Зять, конечно, не падал в обморок от счастья и однажды поставил тещу на место.
Я это к тому рассказываю, вы сами скоро убедитесь, что отношения зятя и тещи потом оригинально проявились в сионизме, который рано или поздно должен был добраться и до этого гнездышка.
Зять был человек ассимилированный, и о еврействе вспоминал лишь, когда видел тешу у себя в гостях. И шерсть у него при этом становилась дыбом. Как полностью ассимилированный, он утратил еврейскую мягкость и в гневе допускал рукоприкладство, что сближало его с великим русским народом.
Теща дождалась своего часа.
Приходит как-то к ним в гости днем и застает такую картину. Зять лежит на диване, задрав ноги, и книгу читает, а ее единственная дочь ползает по паркету, натирая его шваброй. Теща взвыла с порога:
– Этого ли я ожидала на старости лет увидеть? Моя дочь, талантливейшая критикесса, как последняя рабыня, обслуживает это чудовище, хотя она кончила институт с отличием, а его еле вытянули за уши. Это он должен натирать паркет и целовать следы твои на нем.
Зять отложил книгу, спустил ноги с дивана и так спокойно-спокойно сказал:
– Правильно, мамаша.
И руку тянет к своей жене, а рука у него большая, тяжелая.
– Дай-ка швабру.
Жена не верит своим глазам – как пришибли мужа слова тещи, устыдился ведь и готов сам взяться за уборку.
Отдала она ему швабру. Он подкинул ее в своей руке, вроде бы взвесил, взял поудобней за конец палки и как огреет тещу! Та вывалилась на лестничную площадку, и, соседи потом божились, лбом, без рук открыла лифт и – испарилась.
В этой семье наступили мир да лад. На зависть всем соседям. Теща стала шелковой, заходить норовила пореже и всегда на цыпочках, на зятя смотрит, как еврей на царя, а он не часто, но позволяет ей себя обожать.
Эту идиллию погубил сионизм. Добрался и до них вирус. Зять заболел бурно, в тяжелой форме. Сутки делились на время до передачи «Голоса Израиля» и после. Этот «Голос» он слушал столько, сколько его передавали, и каждый раз со свирепым лицом требовал абсолютной тишины от окружающих. Он потерял аппетит, убавил в весе, глаза стали нехорошие, как у малахольного. Жена не знала, что делать, и с ужасом ждала, чем это кончится.
Теща же, всей душой возненавидев сионизм и Израиль, сломавшие жизнь такой прекрасной советской семьи, у себя дома, на другом конце Москвы, каждое утро чуть свет включала транзисторный приемник, специально для этого купленный, и слушала все тот же «Голос Израиля». Прежде политика ей была до лампочки, а слушать запрещенные заграничные передачи и вовсе не смела. А тут прилипала к приемнику, морщилась от радиопомех и ловила каждое слово из далекого Иерусалима.
И знаете почему? От утренней сводки у нее весь день зависел. Если передадут, что в ночной перестрелке на ливанской или иорданской границе, не дай Бог, убит или хотя бы ранен израильский солдат, она чернела с лица и погружалась в траур. Потому что в этот день она уже к дочери зайти не могла. Зять так бурно переживал каждую смерть в Израиле, что предстать пред его очами, означало для тещи почти верную гибель. Он бы все свое горе выместил на ней.
И она отсиживалась сутки, лишь по телефону робко общалась с дочерью, и обе разговаривали почти шепотом, как при покойнике в доме.
Зато если в следующей передаче Израиль не понес никаких потерь, да еще в придачу уничтожил с дюжину арабов, захватив большое количество оружия советского производства, теща расцветала и мчалась в гости к дочери. Зять встречал ее ласковый и умиротворенный, и она сидела там как на иголках, ожидая следующей передачи, в которой вдруг да опять что-нибудь стрясется на одной из израильских границ. И тогда надо будет уносить ноги от впавшего в тяжелую меланхолию зятя.
Этот сионист потерял половину своего веса, пока получил визу в Израиль. Вы думаете, он в Израиль поехал? В Нью-Йорке живет, в неплохой квартирке, со своей женой, и оба неплохо освоили английский. Она лучше. Все же кончила институт с отличием. Как говорила теща. Кстати, теща скоро приедет к ним.
Об Израиле в этом доме не говорят. Как о веревке в доме повешенного. «Голос Израиля» ни по-английски, ни по-русски не слушают. У музыкального критика теперь новое увлечение. Изоляционизм. Как стопроцентный янки он считает, что нам – американцам – нечего вмешиваться в европейские дела. Пусть они там положат головы. И в Европе, и на своем вонючем Ближнем Востоке.
Я уже, кажется, говорил вам, что в Нью-Йорке мне привелось повстречать многих из своих бывших клиентов по Дворянскому гнезду в Москве. Сразу вижу удивление на вашем лице и готов спорить на любую сумму, что знаю, по какому случаю вы удивлены. Что это за Дворянское гнездо в советской Москве? Точно, угадал? Ну, вот видите. И где такое гнездо находится? И как это его большевики не разорили?
Чтобы вы не блуждали в потемках и напрасно не морочили себе голову, сразу открою секрет: большевикам совсем незачем было разорять это гнездо, потому что они сами его создали.
Вот вам его координаты. Ленинградский проспект в Москве знаете? Так это почти в конце его, между станциями метро «Динамо» и «Сокол», а еще точнее – сразу же за метро «Аэропорт». Кооперативные дома работников искусств. Привилегированная каста. Почти как генералы или ученые-атомщики. Их кирпичные дома первой категории, с лифтами и швейцарами в подъездах, как павлины среди облезлых кур, сбились в кучу, заняли круговую оборону в море сборно-панельных типовых домов хрущевской эры, где обитают рядовые москвичи, как, скажем, мы с вами. Улицы Черняховского, Усиевича, Красноармейская, Часовая и называются Дворянским гнездом.
Здесь живет элита, здесь денег куры не клюют, здесь прислуге платят больше, чем инженеру на заводе.
Как вы помните, а мне тоже память не изменяет, революцию большевики в семнадцатом году сделали, посулив народу уравнять бедных с богатыми. Народ, конечно, обрадовался – думал всех бедных сделают богатыми, то есть, как поется в партийном гимне: «Кто был никем, тот станет всем». Вышло же наоборот – все стали бедными, на этом и уравнялись.
И только очень немногие, может быть, меньше одного процента, при советской власти сказочно разбогатели. Но так, что и американскому бизнесмену не снилось. Ведь в СССР, если ты не под конем, а на коне, то тебе все в руки – и деньги, и власть. А власть в России дороже денег. Тут уж вообще все бесплатно. И государственные дачи, и закрытые санатории, и спец-поликлиники, и пайки, и пакеты. И если раньше можно было капризно сказать: все есть, только птичьего молока не хватает, то теперь и эта жалоба отпала – кондитерская фабрика «Красный Октябрь» освоила выпуск конфет под названием «Птичье молоко».
Моя основная кормилица – левая клиентура – живет в Дворянском гнезде. Им – писателям, художникам, режиссерам, артистам, а также их женам – я делаю модные прически на дому и знаю каждый бугорок и впадину на их черепах не хуже, чем московский таксист знает все переулки на Арбате.
Поэтому слушайте меня внимательно, и все, что вас интересует насчет Дворянского гнезда, вы из первых рук узнаете. Для начала я должен сказать, что публика там живет смешанная, неоднородная в национальном смысле: муж – еврей, жена – русская, или наоборот. Дети, естественно, полукровки и, если верить народным приметам, талантливые и красивые. Насчет талантов мы убедимся, когда они подрастут, а насчет красоты – так в нашей коммунальной квартире, где крови не мешались, а если мешались, то лишь с алкоголем, дети выглядели не хуже.
Но зато богатыми они были всерьез. Где вы видели в России два легковых автомобиля в одной семье? Там и такое встречалось. Деньги, машины, дачи, туристские поездки. Одевались во все парижское, купленное у спекулянтов или в ансамбле «Березка».
Эти люди занимались искусством, а искусство в СССР партийное, художественная пропаганда. Поэтому они, если разобраться, были не режиссерами, не танцорами, не поэтами, не певцами. Они были гримерами. Я их так называл. Каждый на свой лад, они накладывали грим на лицо советской власти, делали из нее куколку, аппетитную и съедобную. И делали это хорошо. Даже такие пройдохи, как я, иногда покупались и верили. За такую работу советская власть денег не жалела.
В Дворянском гнезде жили великие гримеры. Богатые, избалованные люди. Щеголяли соболями, духами «Шанель» и «Мицуки». Я же был при них придворным брадобреем. Обслуживал их на дому, работая сверхурочно, налево.
Там же я познакомился с одним малым, у которого папашка был величайшим гримером – не в переносном смысле, а в прямом. Он бальзамировал трупы вождей коммунизма, делал их лучше, чем при жизни, и сохранял в таком виде для будущих поколений, которым повезет дожить до самой последней, завершающей фазы строительства коммунизма.
Этот папашка Ленина в мавзолее делал. Сталин одарил его всеми почестями, сделал профессором, академиком, пух с него сдувал, чтобы он, не дай Бог, не умер раньше него. Кто же тогда самого Сталина будет бальзамировать? И этот академик, хоть и был евреем, пережил Сталина и хорошенько его набальзамировал в гробу и щечки нарумянил. И лежал великий вождь, благодаря таланту академика, совсем, как живой, рядом с не менее великим Лениным в одном Мавзолее, и Ленин по сравнению с ним выглядел не совсем, как совсем живой, потому что у него был большой стаж лежания в гробу, а бальзам, как известно, тоже не вечен.
Очень, смешная история у него вышла, когда он накладывал грим, приводя в божеский вид усопшего великого вождя болгарского народа Георгия Димитрова. Я вам эту историю рассказываю не только потому, что она смешная, а еще и затем, чтобы показать, какая важная персона гример при советской власти.
Значит, командировали академика в Софию, и он там, пока вся Болгария в черном трауре на пустой мавзолей глазеет, ковыряется не спеша в потрохах покойного вождя и готовит его в наилучшем виде для всенародного обозрения.
А сынок гримера, с которым я познакомился в Дворянском гнезде, в ту пору поступал в институт и, как еврей, был по всем статьям провален на экзаменах. Приемная комиссия дала промашку, не учла, кому приходится сынком этот еврейский мальчик. Мальчик, не будь дурак, позвонил из Москвы в Софию и сказал своему еврейскому папе, что провалился на экзаменах по пятому пункту.
Папе, избалованному, прославленному гримеру, уникальному незаменимому специалисту, от негодования кровь ударила в голову. Он оттолкнул от себя еще только наполовину сделанный и слегка пованивавший труп вождя болгарского народа, вытер с пальцев следы его потрохов и сказал толпе его скорбящих соратников:
– Пальцем больше не коснусь трупа, пока мой сын не будет принят в институт!
– Какой сын? Какой институт? – всполошились вожди поменьше, и когда узнали, в чем дело, тут же с Москвой связались.
Так и так, мол, есть опасность, что болгарский народ лишится возможности лицезреть образ любимого вождя, если в Москве не примут в институт еврейского мальчика.
Еврейского мальчика приняли через час и без экзаменов. Благоухающий труп вождя установили в мавзолее, и до сих пор болгарский народ в лицо видит, кого ему проклинать за подвалившее счастье.
Академик-гример отдал душу Богу не в тюрьме, а в своей собственной постели, и его похоронили как рядового смертного, не набальзамировав, потому что некому было выполнить этот труд. Покойник унес в могилу секреты своего ремесла.
Больше в России никого не бальзамируют. После Сталина очередных вождей выбрасывают на помойку еще до того, как они умирают физически, и поэтому нет надобности в гримерах и мавзолеях.
И еще, если хотите знать, сын тоже покинул Россию. Я его встретил в Израиле. Ходил без работы и абсолютно лысым. С горя вырвал на себе волосы. С какого горя? Да что сдуру, за компанию, ринулся на историческую родину, где никто не помнит заслуг его отца, нету папиной персональной пенсии, шикарной квартиры в Дворянском гнезде и правительственной дачи в Барвихе.
Я его встретил, этого сынка, потом в Нью-Йорке. Не одинокого как перст, а в своей прежней компании, среди бывших обитателей Дворянского гнезда, рассеявшихся в дешевых квартирках еврейских кварталов Бронкса, Бруклина и Квинса.
Как будто ничего не произошло. Те же лица, даже одеты так же. Только не в Москве, а в Нью-Йорке. Снова подобрался тот самый букет. Но, правда, цветы поувяли и листочки пожухли. А запах не изменился. «Шанель» и «Мицуки». Слабоватый запах, чуть-чуть – видать, экономят духи. И палантины из соболей, и вечерние туалеты из золотистой парчи, прибывшие багажом из Москвы вместе с густым настоем нафталина.
Мне даже показалось, что все это во сне. И все кошмары улетучатся, как только я открою глаза. Я снова буду дома, в Москве. И как доказательство, те же лица, что примелькались мне в Дворянском гнезде. А я снова за тем же занятием: стригу, прихорашиваю моих милых дамочек, и они так же хлопочут и волнуются, словно боятся опоздать на премьеру модного фильма в Доме кино на Васильевской.
В бедном квартале Бруклина на пятом этаже без лифта одна из московских дамочек справляла свой день рождения. Грустный день. Когда о возрасте уже не упоминают и никакая косметическая штукатурка не в силах прикрыть дряблость шеи и мешочки под некогда красивыми глазами.
Гости съезжались на старых, третьего срока, вышедших из моды «Бьюиках» и «Паккардах», купленных по дешевке у негров. В Москве бы, конечно, недруги подавились от зависти, а здесь такой автомобиль – клеймо непроходимой бедности.
Собиралось Дворянское гнездо, как в добрые старые времена. И для пущего правдоподобия Аркадий Рубинчик приглашен был пройтись ручкой мастера по прическам. Хоть я и не из их компании, а из окружения, из обслуги. Там меня на дни рождения не приглашали. Я делал свое дело до начала и покидал дом, как только появлялись гости. Как и положено услужающему. Правда, с приличным гонораром в кошельке. Из которого не начисляются налоги и который неведом стукачам из ОБХСС.
Здесь я был наравне со всеми гостями. Потому что мы уравнялись в доходах и в общественном положении. Я стал своим. И даже принес подарок. Но в то же время остался парикмахером и пришел заранее, чтобы подготовить хозяйку, а затем, по мере появления гостей, уводил дамочек в спальню и быстро и привычно приводил их в божеский вид.
Гонорара мне никто не уплатил. Нет, вру. Одна дала пять долларов. Остальные попросили в кредит. До лучших времен.
Я не стал спорить. Ведь мы породнились на общем несчастье. И стали вроде одной семьи. Жалкой, чахнущей. Донашивающей свои норковые манто и собольи накидки.
Один из гостей, многолетний мой клиент, некогда прославивший меня на всю Москву песенкой о чудо-парикмахере, так как я умудрялся из десяти волос на его голом черепе создавать видимость прически, и притом еще модной, также попросил его обработать до начала пития.
На голове у него всего пять волос осталось, и пока я мудрил над ним, он жирным эстрадным голосом жаловался, тоскливо глядя в зеркало:
– Скажи мне, друг Аркадий, какая муха нас укусила? Каким надо быть ослом, чтоб уйти от такой кормушки, оставить теплое комфортабельное стойло?
В Москве он ходил в поэтах-песенниках, заколачивал страшенные деньги и был кум королю. Напишет текст, вроде «Вышла Дуня на крыльцо, хлопнула в ладоши…» – и тысячи, тысячи годами капают за каждое исполнение этой песни хоть на концерте, хоть в ресторане. Сказочно был богат.
– От такой кормушки… Из такого стойла… – хрипел он в зеркало.
Выехал он пустым. Власти, зная о его доходах, проследили, чтоб ничего не вывез. Поэт-песенник шмякнулся голыми ягодицами на нью-йоркскую мостовую. Тут его песни не ко двору. Языка не знает. Да и по-русски, в основном, матерится в рифму. Дошел до ручки. Стал пробавляться статейками в эмигрантских газетах. Кое-что я читал. Даже смешно. Например, как на празднике песни в каком-то провинциальном городе актер, загримированный как Ленин, под сильным газом, то есть, вдрабадан пьяный, забрался на броневик, в котором его должны были провезти перед публикой с вытянутой вперед рукой, и, когда броневик с вождем поравнялся с трибуной начальства, вождь мирового пролетариата качнулся и рухнул с башни в весеннюю грязь.
Что? Смешно? Я думаю, не очень. Все же Ленин – это Ленин, и устраивать из него смешочки не совсем благородно. Всю жизнь с пеленок мы на него молились, себя юными ленинцами называли, что же теперь-то кукиш показывать? Несолидно.
Благо бы хоть платили за это прилично! Всего-навсего десять долларов. Товар неходкий. Кому тут дело до Ленина? Это у нас в России, привези он подобный материальчик про президента Форда или еще лучше – Голду Меир, ему бы не меньше тысячи отвалили. А тут? Десять долларов.
Да я бы, хоть и не поэт, а парикмахер, за такую сумму даже про свою тещу худого слова не сказал бы.
На этой самой вечеринке, после нескольких рюмок виски я вдруг обнаружил, что я, Аркадий Рубинчик, простой, самый простецкий человечек, при моем маленьком росте стою на голову выше всей этой бывшей элиты, дамочек и господинчиков из Дворянского гнезда. У меня одного осталась гордость, называйте это как хотите, советского человека. Или вообще человека.
Все в этом доме были москвичи, мы орали, не стесняясь, по-русски, пели песни и чувствовали себя в своей тарелке. Пока не пришел новый гость. Не наш брат-эмигрант. Американец. Американский еврей. Филантроп. Благодетель. Из тех, у кого бывает несварение желудка, если он публично не подаст милостыню на бедность.
Ввалился тип под шестьдесят, рожа тупая, самодовольная, сигара торчит толстая, большая, как бревно. Разговаривает, не вынимая ее изо рта. По всему видно, тянет на пару миллионов. Сел в кресло, нога на ногу, сигара-бревно торчит, как дымоходная труба. Знакомится, не вставая, протягивает для пожатия не руку, а палец. Указательный.
Наши москвичи вокруг него запрыгали, заблеяли. Да все по-английски, с жутким акцентом. Мистер, мистер. Русский язык испарился, все внимание на мистера.
Представили меня. Он не встал, протянул указательный палец. А я его как стукну по пальцу, да по-русски:
– Переведите ему. С хамами не знакомлюсь, с сидячей свиньей не здороваюсь.
Наши ошалели, зашикали на меня, оттащили в сторону, конечно, переводить не стали.
А он рокочет по-английски, будто камни во рту ворочает, очень доволен собой. Пуп земли, центр мироздания. Вся вечеринка вокруг него пляшет.
Я всю эту публику и в Москве высоко не ставил. Хоть и держали нос кверху, а внутри было пусто. Но уж чего-чего, а чувства собственного достоинства им было не занимать. На мир глядели, прищурясь, себя в обиду не давали. Имели свою гордость, унижаться не любили. И от щедрот своих кидали окружающим широко, не скупясь.
Тут их как наизнанку вывернуло. Холуйские позы, льстивые голоса. А сами щеголяют в московских соболях и золототканной парче. Похлеще здешней миллионерши.
Американский благодетель, видя всеобщее раболепие, захлопал в ладоши и велел спуститься вниз и притащить из багажника подарки – для всех!
Дамы завизжали, мужчины загоготали, как жеребцы, почуяв овес, и все повалили гурьбой вниз по лестнице.
Я остался один. И благодетель в кресле, с бревном в зубах. Он меня спросил, очевидно, чего это я не бегу со всеми хватать подарки, я ему ответил по-русски, послав по популярному в России адресу. Руки у меня чесались закатать ему промеж совиных глаз, чтоб выплюнул сигару на ковер, а заодно и зубы. Вставные.
Но с воплями и задыхаясь от бега по лестнице, ввалилась гоп-компания в соболях и парче, волоча картонные ящики из-под пива, набитые каким-то тряпьем. Столпились, толкаясь, выставили зады и давай рыться в этом дерьме, хватая, что попадет под руку.
Благодетель наскреб эту рухлядь у своих соседей, все, что люди собирались выбросить да поленились дойти до помойки.
Сразу оговорюсь. Я далеко не кристальный человек. И не всегда умел за себя постоять, когда меня обижали. Но до такого унижения я никогда не доходил.
Они рвали друг у друга старые застиранные рубашки с номерами из прачечной и с выцветшей фамилией владельца на воротниках, допотопные пиджаки с лоснящимися локтями, съеженные туфли на немодных каблуках.
Поэт-песенник, которому я умудрился из пяти волос сделать зачес на лысине, напялил на себя черный фрак с фалдами, отороченными по краям атласной лентой, и подскочил ко мне, ища поддержки:
– Ну, что, Аркадий, неплохо? Как на меня шит.
– Зачем это тебе? Куда ты в нем сунешься?
– А на прием! Вдруг пригласят на великосветский прием?
– Тогда у тебя не хватает до полного комплекта…
– Чего?
– Полотенца. Перекинуть через руку. Потому что на приемах тебе бывать только лакеем. Не больше!
И я закричал, затопал ногами, отогнав кудахтающих дам от ящиков с барахлом:
– Стыдитесь, суки! Я же вас за людей держал. Зачем вы этому гаду доставляете удовольствие? Зачем унижаетесь, как черви? Что, вам жрать нечего? Ходите раздетыми? На дармовщинку потянуло, хапаете, что попало? Завтра дерьмо будете с земли поднимать и в рот совать, не отряхнув пыли. Потому что бесплатно.
Дамы стояли, вылупив глаза и прижимая к грудям куски тряпья из ящиков. Ни одна не отважилась мне ответить. Видать, угар проходил и становилось стыдно.
Молчал в своем кресле и благодетель. Сопел и жевал свое бревно. Тоже почуял что-то: могут по шее накостылять.
А я заплакал. Как баба. В голос, со всхлипами. Со мной бывает, когда я перепью. И выскочил на лестницу, скатился вниз и долго бежал по пустой, без единого прохожего улице. Потому что в Нью-Йорке только ненормальный может отважиться в ночной час прогуляться на свежем воздухе. Или придурок. Или иммигрант из Москвы.
Над Атлантическим океаном. Высота – 30600 футов.
Доброе утро! Ну, как спали? Уже светло за иллюминатором. Интересно, мы еще над океаном, или внизу уже Европа? Кстати, я не храпел? Со мной это бывает. Поэтому на всякий случай прошу прощения. Все же, вы меня простите, я абсолютно уверен, что мы с вами где-то встречались. До Москвы есть время, еще вспомню. А пока нам несут завтрак, снова проветрим пасть. Если не возражаете, кое-что из моей жизни в Израиле. Лады?
Доводилось ли вам, уважаемый, слышать такое красивое, благозвучное и пахучее словечко: абсорбция. А-б-с-о-р-б-ц-и-я! Не доводилось? Тогда вам очень крупно повезло, и вы, без всякого сомнения, родились в сорочке.
Я с этой абсорбцией познакомился в Израиле и могу вам авторитетно сказать: ее придумали злейшие враги еврейского народа, те, кто написал и «Протокол сионских мудрецов» или даже хуже – кто собирался в Нюрнберге окончательно решить еврейский вопрос. Это слово ласкает мое ухо так же, как, скажем, «геноцид» или «каннибализм».
В Израиле есть целое Министерство абсорбции. Оно только тем и занимается, что превращает евреев в израильтян. Вольных, необъезженных евреев вылавливают из диаспоры, как диких мустангов из прерий, и пропускают через машину абсорбции, чтобы довести их до местной кондиции. Можете себе представить, какой стоит стон и гвалт, когда несчастного еврея растягивают, если он короче стандарта, и обрубают все лишнее, если он не укладывается в израильскую мерку.
Я никогда не бывал на металлургическом заводе, но в кино видал, как прокатывают железо, и делают из бесформенной болванки рельс или балку. Знаете, как это делается?
Кусок железа доводят до белого каления и втискивают между вертящихся валков. Таких валков множество. И этот несчастный кусок железа летает от валка к валку. Его мнут, давят, сжимают, вытягивают, пинают в хвост и гриву, и когда уже видно, что скоро от него ничего не останется, машина выплевывает его, и он падает на землю совсем посиневший и бездыханный.
Так поступают с железом. И получают рельс или балку. Абсорбция – это кое-что похлеще, чем прокатный стан. Из вас не только все кишки выпустят, обломают руки и ноги, но еще хорошенько плюнут в рожу и скажут, что так и было.
Для несчастного еврея, угодившего в зубья этой машины, все, что я говорил про железо – цветочки. Только половина абсорбции. Вытянув из него с божьей помощью рельс, его выплевывают, голубчика, к чертовой матери. Когда он совсем заржавеет, спохватываются и снова пропускают через прокатный стан, но уже без нагрева, в холодном виде, чтобы возиться поменьше. Ржавый рельс не выдерживает и рассыпается в крошки. И тогда умельцы из Министерства абсорбции разводят руками:
– Вот видите, какой негодный человеческий материал к нам поступает из диаспоры? Мусор! Отбросы! Недостойны они своей исторической родины!
Что такое бюрократия, вы, конечно, знаете. В России, слава Богу, этого добра навалом. Есть и немецкая бюрократия, есть американская. Везде свои бюрократы. И должно быть, не обойтись без них, как не обойтись без полиции. Людям от этого не совсем удобно, но порядку все же больше. Это, знаете ли, как большая машина, в которой, скажем, сто колес, больших и маленьких, сцеплены друг с другом и вертятся в указанном раз и навсегда направлении. Ваше дело попадает сначала на первое колесо, повертится вместе с ним и передается на второе, потом на третье – и так до сотого. После сотого колеса – считайте, дело сделано. И пусть у вас больше голова не болит.
Конечно, иное дело можно решить, пропустив его через два-три колеса. Но тут этот номер не проходит. Только все сто колес. И ни одним меньше. Это и есть бюрократия. Налаженная машина. Ничего в ней менять нельзя. Работает медленно, но верно.
Сказать по совести, после того, как я побывал на исторической родине, я готов стать на колени перед этой бюрократической машиной, которую раньше мы ругали на чем свет стоит, и целовать каждое из ее колес.
Почему? Потому что я увидел, что такое израильская бюрократия. Все познается в сравнении.
В Израиле достигнут потолок бюрократии. Хотя по сути – та же самая машина, что и во всем мире. И столько же колес, ни больше, ни меньше.
Но с одной разницей. Колеса эти не сцеплены друг с другом, и каждое вертится само по себе. Запустили дело в первое колесо, и будет твое дело мотаться до скончания века, если не стоять рядом и с проклятиями и воплями не проталкивать его от колеса к колесу, до последнего, сотого.
Я, грешным делом, в прежней жизни думал, что только большевики умеют любое дело довести до полного абсурда. Теперь я вам могу сказать, что по сравнению с моими соплеменниками на исторической родине они просто дети. Их хочется гладить по головке и трепать по румяным щечкам, как невинных крошек.
Израильская бюрократия – это вроде сифилиса, от которого нет ни лечения, ни спасения. И народ этой страны, всеми признанный, как мудрейший из мудрых, даже не ищет лечения, а наоборот – не без гордости сообщает встречному и поперечному: у нас, мол, есть своя бюрократия. Своя собственная. И это звучит так же дико, как если хвастать на всех перекрестках семейным сифилисом в последней стадии.
У меня до сих пор перед глазами торчит рожа израильского пакида. Пакид, извините за выражение, это на иврите – чиновник. Но, по-моему, я в иврите не силен, пакид – нечто похуже.
Сидит за письменным столом этакий дамб с мутным сонным взором и сладко-сладко ковыряет указательным пальцем в недрах своего еврейского носа, а ты сидишь перед ним на краешке стула, ерзаешь от нетерпения, сучишь ножками и тоже впадаешь в сонную одурь, заражаешься от него и уже следишь, как и он, за его пальцем, вынутым, наконец, из носа. Оба смотрите на кончик его пальца, на то, что извлечено оттуда, из недр. Потом палец вновь углубляется в ноздрю.
И если ты ненароком нарушишь это мирное занятие, отвлечешь, не дай Бог, тогда он разинет пасть, и на тебя будет вылито ведро помоев на прекрасном, сладкозвучном языке «Песни песней». И язык этот покажется крепче русского, а как известно, крепче русского нет на земле языков.
Чтобы вам было все ясно, я приведу один пример, ничем особенно не примечательный, но он лучше всяких цифр и кошмарных историй осветит вам суть дела. Ведь то, что океан соленый, можно определить по одному глотку океанской воды, и для этого совсем не обязательно выпить весь океан.
Жил в Москве один писатель. Естественно, мой клиент. Он проживал в том же Дворянском гнезде, где и остальные деятели искусств, но к нему у меня было отношение почтительное, потому что он был талант. А талант, общеизвестно, как деньги. Если есть, так есть, а если нет, то хоть «караул!» кричи – нету. У него было и то, и другое: и талант, и деньги. А также слава. И прекрасное положение. И в довершение ко всему, красивая, и что не так уж часто встречается, умная и благородная жена. И дети, не в пример нынешним – серьезные, послушные, не курят, не пьют, денег у родителей не вымогают.
Спрашивается, что еще нужно человеку для полного счастья?
Этому человеку взбрело в голову, что ему не достает одного: быть еврейским национальным писателем. Зачем? Почему? И, наконец, где? В Советском Союзе?
От добра добра не ищут. Так, кажется, гласит народная мудрость?
И к тому же он считался одним из лучших русских писателей. Я имею в виду не Пушкина и Гоголя, а современных. О нем писали в газетах, что у него кристальный русский язык, что он глубоко проник в психологию русского человека. А главное, он был честным писателем, в отличие от других из Дворянского гнезда. Запретных тем не трогал, чтоб не кривить душой и не врать, но уж если писал о чем-нибудь, то, как говорится, пальчики оближешь. В библиотеках его книги зачитывали буквально до дыр. А начальство его по праздникам представляло к наградам, так что орденов у него было не меньше, чем у иного генерала.
И вот, в таком человеке в период всеобщего сумасшествия проснулся еврей. Не хочу, мол, больше быть русским писателем. Хочу воспевать мой собственный народ. Чем я хуже чукчи или, скажем, киргиза? И стал писать еврейские рассказы.
Вы же понимаете… Вы свои уши без зеркала можете увидеть? Так он увидел свои рассказы напечатанными. Во всех издательствах – от ворот поворот. И пошли его рассказы гулять по Москве в рукописях. То, что называется «Самиздат». Люди ими зачитывались. Друг у дружки вырывали страницы.
Должен признаться, мне посчастливилось подержать в руках два рассказа, и потом всю ночь не мог спать – так колотилось сердце от волнения. Первый класс! Прима! В приличных государствах таким писателям при жизни ставят памятник.
А вот в Москве за такое творчество ставят клизму. Большую! По самые гланды. Его вообще перестали печатать, даже то, что он раньше, в свой «русский» период писал. Из Союза писателей – ногой под зад. Имя велели не упоминать, вычеркнули даже из справочников. Как говорится, предали забвению, похоронили заживо.
Стал он тогда требовать выезда в Израиль. То есть, на историческую родину. Человек он был с размахом и такую поднял вокруг себя волну, что власти покоя лишились. Его письма У Тану – был тогда такой чудак. Генеральный Секретарь ООН в городе Нью-Йорке, сам родом из Бирмы, и все евреи России писали ему, умоляя помочь уехать в Израиль, пока он не умер от рака, – письма нашего писателя У Тану были самыми потрясающими и душераздирающими. Их цитировали в газетах, читали на митингах, давясь слезами, они доводили до истерики мировую общественность… и КГБ.
Ох, и дали же ему прикурить в Москве! Сажали в тюрьму, запугивали анонимными письмами, штатские хулиганы в одинаковых кепках, полученных со склада КГБ, ловили его в подъезде собственного дома и били смертным боем.
Он был человеком не робкого десятка – в войну летал пилотом на истребителе. Немцы его сбили в воздушном бою над Одессой, он раненый выпрыгнул с парашютом. Из уважения к его храбрости они его не расстреляли, а наоборот, оказали почести, положили в военный госпиталь и вставили стеклянный глаз вместо того, который остался в кабине самолета. Этот глаз он не вынимал потом всю жизнь и носил поверх него черную бархатную ленту, которая наискось лежала на лице, делая его похожим на лорда Байрона, как уверяли ламы из Дворянского гнезда. Я с Байроном лично не был знаком и делать сравнения не решаюсь.
Не сумев сломить его, власти вышвырнули писателя из СССР, и он оставил по себе хорошую память в Москве, раздав всем евреям свое имущество и деньги, которые у него водились в немалых количествах. Уехал в желанный Израиль гол, как сокол, почти в чем мать родила. В аэропорту ему устроили проверку, даже в задний проход заглянули, не пытается ли он вывезти хоть страничку из своих ненапечатанных рукописей.
Дальше история короткая и печальная. В Израиле он мужественно нищенствовал, не смея опуститься до просьб о вспомоществовании. И денно и нощно писал. Взахлеб. Обретя свободу, старался излить на бумагу все, что бурлило годами в его еврейской душе.
Известно, когда пишешь, денег не зарабатываешь. Только изводишь. На бумагу и чернила. Да на пищу. Самую скудную, чтоб не помереть с голоду до завершения своего труда.
Он был писатель хороший и требовательный к себе. Писал и перечеркивал, снова писал и правил.
Наконец, его первый рассказ – замечательный рассказ, скажу я вам, кто-то по доброте душевной перевел на иврит, и писателя напечатали в журнале.
Это был праздник для писателя. Первый и последний на долгожданной исторической родине.
Потом наступили чудеса. Оказалось, что журнал гонорар не платит. И вообще в Израиле с этим делом туго. Писательством занимаются после работы для развлечения, а средства на жизнь и пропитание зарабатывают, просиживая штаны в канцеляриях или вкалывая рабочим. А чтоб напечататься, автор должен порой сам заплатить издателю.
Свобода! Нет цензуры, зато нет и гонорара. А заодно и хорошей литературы. После тяжелого рабочего дня, в промежутке между ужином и сном, шедевры редко кому удавались. Нашему писателю, чтоб довести до блеска свое детище, требовалось сидеть, не разгибаясь, за письменным столом с утра до ночи. Неделями и месяцами.
Его карта была бита. Мечты создать еврейское национальное искусство, ради чего он отказался от всех благ прежней жизни, лопнули, как мыльный пузырь. Еврейскому государству не понадобились собственные барды. Бардам предложили переквалифицироваться в счетоводы. Он бы снес этот удар – сказывалась российская закалка. И стал бы со временем мрачным бухгалтером, и жил бы как еврей среди евреев, немножко одичал бы и даже потихоньку стал бы ковырять в носу, как все остальные, и кто знает? – может быть, нашел бы в этом свое счастье.
Но… Кто-то проявил еврейскую чуткость и заботу, и ему прислали на еще незнакомом языке иврит официальное письмо, где извещали, что поскольку журнал не может выплатить гонорар, то ему, как новичку в стране, Министерство абсорбции возместит эту сумму в виде безвозмездного пособия, как неимущему. То есть, милостыню предложили. Унизительную для любого нормального человека. Тем более для знаменитости.
Он взревел от обиды и порвал это оскорбительное письмо на клочки. Но машина абсорбции заработала. Последовало новое письмо, затем еще. В доме – ни гроша. Голод, как известно, не тетка. Жена и дети смотрят на него с мольбой. И он заколебался. Даже стал находить оправдание. Хоть и дают ему деньги как милостыню, но ведь он их честно заработал, написав и опубликовав свое произведение. К чему формальности? Надо смотреть в корень.
Он поехал в Министерство абсорбции. Через пыльный и знойный Иерусалим, в душном переполненном автобусе. За последние двадцать лет он даже забыл, что существуют автобусы: во-первых, в Москве у него был свой автомобиль, а во-вторых, такси при его доходах было вполне доступно и писателю, и всем его домочадцам.
Тут его ждал первый удар. Долго и унизительно продержали его в очереди, потом долго и лениво рылись в пухлых папках с бумагами, наконец, вписали жалкую сумму прописью в его удостоверение, а денег не дали, сказав, чтобы ждал их через месяц, не раньше.
Он вернулся пристукнутый.
Через два месяца его вызвали за деньгами. В том же автобусе, потея и шалея от духоты, он добрался до министерства и, высунув, как пес от жары, язык, дополз до нужного этажа и постучал в указанную в письме дверь.
Денег ему и на сей раз не дали, и даже не извинились за то, что зря побеспокоили немолодого человека. Он ушел в холодном бешенстве, и прохожие слышали, как он вслух матерился, хотя до того ни разу не был уличен в подобном занятии.
Через месяц его снова вызвали письмом, и меланхоличный пакид снова сказал, что денег нет, и снова не извинился. Наш писатель удалился в состоянии полной прострации, и прохожие слышали, как он тихо скулил, совсем по-щенячьи, не замечая устремленных на него недоуменных взглядов.
Когда в третий раз пришло письмо с просьбой явиться за деньгами, он наотрез отказался, но жена и дети умолили его сходить в последний раз. И этот раз был действительно последним.
Денег ему, как вы догадываетесь, опять же не дали. И когда он взвился и закричал, почему его гоняют взад и вперед без толку и даже не находят нужным извиниться, удивленный пакид вынул палец из носа и философски спросил:
– А вы кто, граф Толстой?
– Да! – закричал писатель. – Я – граф Толстой!
Вырвал из-под бархатной ленточки свой стеклянный глаз и запустил в пакида.
Пакид взвыл. Прибежала полиция. Писатель брыкался, ему ломали руки. Повязка сползла на шею, и он таращил на толпу зияющую, как открытая рана, глазницу.
– Вей жидов, спасай Россию! – визжал знаменитый писатель, гордость еврейской литературы, а дюжие еврейские полисмены волокли его по ступеням вниз и пинали под ребра носками казенных ботинок.
Теперь он прочно засел в сумасшедшем доме. Врачи не ручаются, что когда-нибудь его удастся оттуда выписать. Глубокое умопомешательство.
Я его дважды навестил. По старой памяти. Все же бывший клиент. И неплохой писатель. А такие на улице не валяются.
В первый раз он меня узнал и показал написанное им здесь письмо У Тану, в котором просит разрешить ему выехать с исторической родины на доисторическую. Правда, где находится таковая, не указано.
Он собирал по всему сумасшедшему дому, как в былые дни в Москве, подписи под этим письмом-обращением. Идиоты охотно расписывались на иврите и на десятке других языков. А он оглядывался, проявлял бдительность, опасаясь происков советского КГБ и израильского Шинбета.
Я, как мог, старался успокоить его, объяснил, что У Тан давно умер от рака, не выдержав потока еврейских писем из СССР, и что теперь на его месте Курт Вальдхайм, австриец, воевавший в свое время в немецкой армии против СССР, и к евреям, на мой взгляд, особой симпатии не питающий.
Он ничего не понял и в ответ гаркнул, как на митинге перед тысячной толпой:
– Отпусти народ мой! Кахол ве лаван![1]
И бодро затянул:
- Утро красит нежным цветом
- Стены древнего Кремля…
Во второй раз меня к нему не пустили: он был переведен к буйным, и, увидев меня во дворе, просунул через решетку руку с нечистым носовым платком, замахал им и визгливо крикнул:
– Свободу узникам Сиона!
Над Атлантическим океаном. Высота – 30600 футов.
Иногда мне приходят в голову забавные мысли. Вам тоже? Каждого человека, даже самого никчемного, иногда посещают такие мысли.
Обратили ли вы внимание, что в Советском Союзе, где больше ста народов и народностей живут дружной социалистической семьей и готовы друг друга с кашей съесть, произошло любопытное явление. За последние полвека любой самой маленькой народности создали по указанию сверху свою культуру. Как говорится, национальную по форме и социалистическую по содержанию.
Живет себе племя где-нибудь в тайге, еще с деревьев не спустилось. Только-только научилось огонь высекать. Человек триста, считая ездовых собак. Культуры никакой, естественно. Непорядок, говорят большевики. Это проклятый царизм держал их в невежестве и темноте. Для того мы и совершили революцию, чтобы в каждый медвежий угол принести свет культуры. Создать культуру! Письменность, алфавит, песни и былины, стихи и первый роман. И непременно чтоб был ансамбль песни и пляски.
Посылают к этому племени парочку ученых евреев. Почему евреев, я потом объясню. Добираются туда евреи по суше, по воде и по воздуху, поселяются вместе с племенем, предварительно сделав уколы во все места против сифилиса, туберкулеза, трахомы и чего только ни хотите.
Живут евреи среди этого племени, едят сырую рыбу, мясо рвут вставными зубами, пьют теплую кровь убитых зверей и, чтоб не обидеть хозяев, не нарушают вековых обычаев и спят с их женами и дочерьми. Прислушиваются, принюхиваются и начинают создавать культуру. Алфавит составляют, как правило, на базе русского. Бедный немногословный язык туземцев обогащают такими словечками, как колхоз, совхоз, кооператив, коллектив, социализм, капитализм, оппортунизм.
Потом сотворят песни. Сначала рифмуют по-русски, и этот текст станет со временем известен всей стране как жемчужина национального фольклора, а затем переводят на язык племени – тяп-ляп, на скорую руку. Кто это будет слушать в оригинале? Ведь все племя занято охотой и рыбной ловлей. И еще много поколений пройдет, пока таежные жители допрут, что где-то в России случилась революция, и лучшие друзья порабощенных народов – коммунисты – не жалеют сил и денег, чтоб дать им, окаянным, культуру. А пока что сидит у огня ослепший от трахомы старик с проваленным носом, дергает корявым пальцем бычью жилу, натянутую на палку, и звуки испускает такие, что ездовые собаки не выдерживают и начинают выть на луну. Этим культурные запросы племени вполне удовлетворяются.
У малых, забитых при царизме народов такие исполнители называются, я точно не помню, как – что-то вроде ашуг-акын или шаман-шайтан. Нет, вру. Шаман шайтан – это из другой оперы.
Одного такого ашуга я сам лицезрел. В Москве. Средь бела дня. И не в зверинце, а в Дворянском гнезде. В шубе до пят, мехом наружу, в лисьем малахае на маленькой безносой голове. В руках палка с бычьей жилой. Ну, точь-в-точь «идолище поганое»…
Его переводчик пригласил меня на дом – постричь гостя перед тем, как его в Кремле показывать станут. Легко сказать – постричь. В племени знаменитого акына был железный порядок: мыться дважды в жизни – при рождении и смерти. Наш гость, следовательно, использовал свое право лишь наполовину. Поэтому его сначала пришлось хорошенько отмыть и отпарить. Чтоб ножницы не калечить, на волосы гостя извели ведро шампуня и два бруска хозяйственного мыла.
Нарумянили, насурьмили, одеколоном густо смочили, чтоб убавить таежного духу, и повезли в Кремль – петь правительству и высокую награду получать. Усадили в автомобиль, а он с перепугу стал плевать и все – в ветровое стекло, потому что до того со стеклом дела не имел и полагал, что перед ним пусто, воздух, открытое пространство.
Его переводчик, мой клиент, выдумал этого ашуга, сотворил из ничего, писал все сам, выдавая за перевод с оригинала. И огребал за это денег несметное количество. А ашугу – слава на весь СССР. Ему ордена и медали. Его – в пример советской национальной политики. На севере ему юрту пожаловали. Из синтетического волокна. И он чуть не умер, схватив воспаление легких. Его имя треплют в газетах, прожужжали уши по радио, школьники учат его поэмы наизусть и получают двойки, заблудившись в этих стихах, как в дремучей тайге. Артисты читают его стихи с эстрады, выискивают даже особые интонации того племени и удостаиваются высоких званий. Кандидаты наук уже докторские диссертации пишут.
Машина работает на полный ход. Мой знакомый переводчик-еврей клепает за него стихи, поэмы, былины. День и ночь. Дым столбом. Мозоли на пальцах. И все анонимно. Но соответственно – за солидный гонорар.
А сам виновник торжества сидит у себя в тайге, у костра греется, отгоняет комаров газетами со своим портретом, глушит спирт, сколько влезет, а когда очухается, потренькает слегка на бычьей жиле. Ездовые собаки завоют. Тайга ответит эхом. Чего ему, болезному, еще надо?
И знать не знает, и ведать не ведает он, какой шум по всей стране советской вокруг его чудного имени, какой он великий, славный человек. Этот акын дал дуба у себя в юрте с перепою, то есть умер, загнулся, но пока дошла горькая вестушка до Москвы, мой знакомый переводчик еще лет пять строчил за покойничка все новые и новые сказания и поэмы, и газеты славили акына, не ведая, что его шайтан забрал. Союз писателей каждый год слал ему телеграммы ко дню рождения с пожеланием долгих лет плодотворной жизни и новых творческих успехов.
Когда же все всплыло, обнаружилась невосполнимая потеря в многонациональной советской литературе, кончилась золотая жила переводчика, иссяк ручеек денежный. Осиротел наш сокол. Шибко опечалился. И пробудилось тогда в нем национальное самосознание, потянуло вдруг на историческую родину. И скоро ветры буйные, как писал он, бывалыча, в своих переводах с туземного, понесли добра молодца на крыльях железной птицы на родимую сторонушку – в тридевятое царство, тридесятое государство – в государство Израиль.
А теперь я отвечу на вопрос, почему именно евреи бросились по всем окраинам бывшей царской империи создавать письменность и культуру малым народам и народностям.
Получилось почему-то так, что советская власть из кожи вон лезла, лишь бы создать культуру для самой последней, самой маленькой национальной группы. Которая, сказать по правде, не очень-то тяготилась отсутствием культуры, и уж никак нельзя было сказать, чтоб мечтала о ее сотворении. Но, кровь из носу, чтоб у всех была культура – таков был лозунг революции. У всех! У всех? Вот именно! За одним исключением. Вы, кажется, догадались. Конечно. Кроме евреев. Нет такой нации и нет такой культуры. Это обнаружил Сталин, когда проник в глубины марксистской философии. Сделав свое гениальное открытие, он во избежание всяческих кривотолков уничтожил чуть ли не всех еврейских писателей, поэтов, артистов, певцов – как будто их никогда и не было. И школы закрыл, и театры прихлопнул, а сам язык объявил запрещенным, не нашим – и чтоб духу его не было.
Евреи, у которых была культура, и, по слухам, довольна богатая, остались без всего, как мать родила. Будто их не было и нет в стране победившего социализма.
Но ведь они есть. Всех не перебили. Миллиона три наскрести можно. И публика настырная, не усидит на месте, все норовит чего-то, куда-то рвется. Таланты прут, народ распирает от энергии.
И нашли выход. Ограбленные мудрым вождем народов, евреи поохали, поахали и, утерев слезы, бросились по зову партии создавать культуру другим народам, кто никогда ее прежде не имел. Вывернули свою душу наизнанку, скрутили свой язык в бараний рог и запели чужими голосами. Во всех концах огромной страны. В горах Кавказа, в тундре Чукотки, в тайге Сибири. Начался расцвет многонациональной культуры.
В Дворянском гнезде появились десятки и, пожалуй, сотни так называемых переводчиков с языков братских народов СССР. И все с еврейскими носами. Фамилии свои они поменяли на псевдонимы, а носы поправить было делом посложней – расцвет культуры в те годы заметно опережал прогресс косметической хирургии.
Но недолго тосковали они по своему национальному прошлому. Применились к обстановке, как говорят военные. И не прогадали. За создание новых братских культур власть платила, не скупясь, и у переводчиков округлились животики, их жены засверкали бриллиантами в ушах и везде, где только можно и не можно. Новенькие дачки, как грибы, выросли под Москвой, и в Крыму, и в Прибалтике. Авторы-тени, авторы-призраки стали богатейшими людьми на Руси. Акыны и ашуги национальных окраин в них души не чаяли, и ублажали своих благодетелей, как могли. Везли дань в Москву: барашков, и семгу, песца или соболя. И чтоб совсем угодить, даже еврейские анекдоты пересказывали, почти всегда забывая, отчего это должно быть смешно.
Но, как видно, одними малыми народами евреи не могли удовлетворить свой творческий аппетит. Потянулись они к великой русской культуре и стали очень даже расторопно обогащать ее.
Как известно, улучшать хорошее – только портить. Вы читали что-нибудь из русской литературы советского периода? Тогда вы должны были заметить, что от многих книжек отдает еврейским акцентом. Иногда я даже думал, что современный русский создавался не в Москве, не в Ленинграде, а только в Одессе. И не где-нибудь, а поблизости от Привоза.
Откровенно говоря, хоть я и не верю в Бога, но это Бог наказал тех, кто запретил евреям иметь собственную культуру. Вот они и кинулись в соседние и погуляли там на славу.
Возьмем, к примеру, русские песни. Советского периода. От гражданской войны до наших дней. Хорошие песни. Лирические. Народные. Русский человек с удовольствием, не замечая подвоха, поет их и в городах, и в деревнях. И я долго пел и ничего не замечал. Но один музыкальный критик – он, как вы догадываетесь, со мной не музыкой занимался, а стригся у меня – этот критик как-то надоумил меня посмотреть в корень. И я, знаете, ахнул. Что ни русская песня, то почти всегда еврейская мелодия в основе. Гвалт! Откуда? Почему?
Очень просто. Большинство композиторов-песенников в Советском Союзе, по крайней мере, до последнего времени, были наш брат – евреи. Я обслуживал четыре кооперативных дома композиторов и, поверьте мне, знаю, что говорю.
А на какие мотивы опирается композитор в своем творчестве? Ответ ясен – на народные. Которые он впитал с молоком матери или бабушки. Они ему пели над колыбелькой.
А теперь скажите мне, что мог услышать будущий композитор в своей колыбельке от своей еврейской бабушки в Бобруйске или Житомире? Не русские частушки, поверьте мне, и не «Боже, царя храни». Засыпая, он слышал печальные песни черты оседлости, и их как губка впитывал его восприимчивый мозг. Через много лет эти грустные, слегка на восточный лад, напевы дружно грянул русский народ.
Возьмем, к примеру, Северный народный хор. Из Архангельска. Это же поморы. Такие закоренелые славяне, что дальше некуда. В русских рубахах с петухами, в холщовых портках и смазных сапогах. Бороды – лопатой. Бабы в сарафанах и кокошниках. Все – блондинки, головки как лен. Глазки – небо голубое. Одним словом, Русь чистейшей воды. Даже не тронутая татарским нашествием. Татары, говорят, так далеко на север не зашли. И слава Богу. Иначе бы мы многих радостей лишились в жизни. На нашу долю только крашенные блондинки бы и остались.
Но я отвлекся. Значит, Северный хор. Песня поморов «Ой, ты, Северное море». Господи, Боже мой! Как затянут, заведут, так у меня сразу глаза на мокром месте, будто в Судный день в синагоге.
Или песня «Казачья-богатырская». Это же не секрет: если в России были антисемиты, то самые выдающиеся из них – казаки. Между евреем и казаком, как говорят ученые, полная несовместимость. Одним словом, собака с кошкой, лед и пламень.
И вот, представьте себе на минуточку, вываливается на сцену казачья ватага: чубы из-под фуражек, рожи разбойничьи, галифе с лампасами, и у каждого – шашка на боку. Как пустятся вприсядку, как загорланят. Вы знаете, чего мне захотелось после первых тактов? Мне захотелось ухватиться пальцами за жилетку и запрыгать, как в известном танце «Фрейлехс». Слушайте, вы не поверите, казаки отплясывали еврейский свадебный танец по всем правилам, и если было что-нибудь отличное, так это, возможно, хулиганский свист и гиканье, без чего для русского человека танец – не танец. И жизнь – не жизнь.
Вот так, мой дорогой, время мстит. Если даже и выведутся на Руси евреи все до последнего, еврейский дух там еще долго не выветрится. И русские люди из поколения в поколение будут петь и плясать на еврейский манер. А уж о малых народах и говорить не приходится.
Вот такие пироги. Но вы не думайте, что я кончил свой рассказ.
Говорят. Дворянское гнездо в Москве сильно поредело, и множество моих клиентов снялось с насиженных мест и перелетело в Израиль. Кое-кого я там повстречал. Печальное зрелище, как пишут в старинных романах. Не приживаются на новом месте. То ли почва не та, то ли мозги не те. А ведь новые не вправишь. Да еще под старость. Эти еврейские акыны и ашуги в СССР приучились дуть в одну дуду, их уже не переучишь.
Один малый стал толкать статейки в местные газеты, так там только за головы хватались. Советские штампы старался на израильский лад приспособить. Если меня память не подводит, писал он, примерно, так:
«Наше родное Мертвое море».
Или:
«Весело провели субботу у Стены Плача жители Иерусалима».
Сейчас он переквалифицировался и зарабатывает бритмилой, то есть обрезанием новорожденных мальчиков. И живет не плохо.
А вот с другим моим клиентом – тяжелый случай. В Москве он писал былины и народные плачи для старушек-сказительниц, которых привозили в Москву выступать перед правительством и радовать его душеньку, что народное творчество не иссякло. И был мастером экстра-класс.
В Израиле он огляделся, вздохнул полной грудью и порадовал еврейский народ своим первым произведением на исторической родине. Это была былина, и называлась она хорошо и просто: «Плач русской тещи по еврейскому зятю, абсорбированному в Израиле».
Начинается этот плач такими словами:
- «Ой, ты гой еси, добрый молодец,
- Зять любезный наш, Аарон Моисеевич»…
Слово «гой» в первой строке кой-кого насторожило в Израиле.
- «Ты, касатушко, мой пейсатушко», —
поется где-то в середине.
Тут уж запахло оскорблением верующих. Евреи с пейсами, которых евреи из России называют «пейсатыми», могли крепко обидеться.
А когда он использовал народный оборот «чудо-юдо, рыба-кит», за это самое «юдо» на него посмотрели уж совсем косо.
Не прошла былина, не состоялся плач. Автор скис и стал терять в весе. Но, видать, он еще не совсем отчаялся.
Один мой знакомый рассказывал, что после долгих поисков израильские вертолеты обнаружили его в Синайской пустыне. Обгорелый от солнца, усохший от зноя, он отирался возле бедуинских стоянок, не теряя надежды, что удастся обнаружить в песках какое-нибудь племя, обойденное Богом и культурой, и тогда вновь понадобятся его услуги.
Над Атлантическим океаном. Высота – 30600 футов.
А теперь приготовьтесь выслушать печальную историю, хотя поначалу она вам и покажется смешной. Как говорят литературные критики, – а я их в Москве почти всех знал даже не в лицо, а в макушку, потому что, как вы сами догадались, они были моими клиентами, – это будет смех сквозь слезы.
Жил-был в Москве один журналист по имени Матвей. Фамилию не будем трогать, кое-кто может обидеться. Был этот Матвей журналистом довольно известным, не без искры таланта, как говорят в литературных кругах. Но что касается принципов, то он об этом деле понятия не имел. Писал о чем угодно, врал как сивый мерин, а так как метод социалистического реализма подобного не воспрещает, а наоборот, даже поощряет, то наш Матвей всегда попадал в точку. Отхватывал солидные гонорары, толкался в Доме журналиста, в ресторане был свой со всеми, даже с поварами. Поэтому и со мной был в самых приятельских отношениях: как же – модный парикмахер, стрижет всю элиту, нельзя выпасть из обоймы – хотя волос у него на голове было меньше, чем под мышками.
Одним словом, пустой человек. Нуль. Врет в газетах, врет в жизни. Берет взаймы, забывает вернуть. Со всеми знаком, но никто с ним не дружит. Он вам зла не сделает, но и на добро не способен. Как мотылек. Порхает, порхает по жизни и не оставляет после себя ничего. Может быть, немножко испражнений. Чуть-чуть. Самую малость. Потому что и испражняться тоже надо иметь чем.
Конечно, когда евреи в Москве посходили с ума, и эпидемия сионизма стала набирать силу, такие, как Матвей, поначалу даже ничего не заметили, а когда и до них дошло, стали показывать властям свою преданность. Как клоуны в цирке. К своим прежним приятелям, помеченным знаком сионизма, они не только перестали ходить, звонить по телефону боялись.
Даже меня, парикмахера, с которым знакомство самое шапочное, стали избегать как огня. Я еще работал, но Матвей у меня больше не стригся. А однажды, завидев на улице, перебежал на другую сторону, да с такой поспешностью, что чуть под троллейбус не угодил.
Трусливое существо. Из тех, кого в детстве мальчишки бьют просто так, на всякий случай, в армии им по ночам мочатся под одеяло солдаты, а в тюрьме уголовники загоняют их под нары.
Я уже уехал из Москвы, отмучился в Израиле, сижу в Риме, дожидаюсь американской визы. Читаю газету – глазам не верю. Этот самый Матвей расписан как крупный сионист, борец за право выезда евреев в Израиль. Его в Москве преследуют власти. Уже в Америке и Англии созданы группы по борьбе за освобождение нашего Матвея из лап Кремля.
Сначала подумал – газетная брехня, напутал чего-то иностранный корреспондент в Москве. Они ведь там тоже дрожат от страха. Но нет. В других газетах печатают интервью с ним. Наш Матвей выступает от имени советских евреев, разоблачает советские власти, призывает мировую общественность. Короче говоря, крупный борец, пламенный сионист.
Ну, думаю, или я – сумасшедший, или весь мир сошел с ума. А тут подваливает из Москвы новая партия евреев, среди них немало моих бывших клиентов, и я между делом навожу справки: мол, что за чудо произошло с Матвеем, почему это мы, его современники, проглядели такого национального героя и сионистского пророка. И все, знаете ли, посмеиваются, и из их ядовитых реплик я воссоздаю примерно такую картину.
Матвей, как человек легкомысленный, долго не мог понять, почему все евреи сошли с ума, что их тянет от обеспеченной жизни в неведомый Израиль. Почему даже такие, на кого Матвей всегда смотрел снизу вверх: известные писатели, артисты, режиссеры, то есть люди, у которых было все, кроме птичьего молока, и те бегут, мчатся в Израиль. Значит, сообразил Матвей, там, в Израиле, их ждет положение, получше прежнего. Струхнул он, что опоздает – все разберут, расхватают, пока он соберется ехать. И, умирая от страха, подал заявление в ОВИР. Матвея, конечно, турнули из всех редакций. Но у него деньжата водились, и он не тужил. Ждет разрешения на выезд. Стал толкаться среди евреев, ездить в аэропорт провожать счастливчиков.
ОВИР отказал Матвею в визе. Почему? А разве кто-нибудь знает, какая логика у ОВИРа? Отказали – и все. Как говорится, без комментариев. Бедный Матвей ушел из ОВИРа с полными штанами. Идет, мажет сопли по щекам. Навстречу – иностранный корреспондент, знакомый по Дому журналистов. Расспросил он Матвея и тиснул про него статью на Западе. С того и началось.
Матвей стал знаменит. Ему звонили из Нью-Йорка и Лондона видные евреи, депутаты парламента, самые знаменитые журналисты. Подбадривали его, говорили, что гордятся им, что луч свободы проникнет и в его темницу. И все в таком же роде.
У Матвея голова закружилась. Он поверил.
А тут еще советские власти у него телефон отключили. В мире начались протесты. Портреты Матвея на страницах газет.
Короче, когда ему, наконец, дали визу, Матвей окончательно потерял остатки разума и решил, что весь мир только и думает, как бы заключить его в свои объятья.
В Израиль он не поехал. Не тот масштаб. Подавай ему Америку, всю планету.
В Нью-Йорке не было ни оркестров, ни толп репортеров. Никто не пришел встречать Матвея. Запихнули его с другими эмигрантами во вшивую гостиницу с тучами тараканов, сунули в зубы сотню долларов на пропитание и забыли.
Матвей обалдел. Он – туда, он – сюда. К сенаторам, к журналистам, к миллионерам. Как же так? В чем дело? Вы что, меня не узнаете? Это я – великий сионист Матвей!
Они от него – врассыпную. А когда он особенно надоедал, объясняли, что сионисту самое подходящее место в Сионе, а не в Бруклине, и что он никого не осчастливил, приехав в Америку.
Я его встретил однажды, зачумленного, как будто он дубиной по голове схлопотал. Разговаривать со мной не стал. С такими, говорит, не общаемся. Только на уровне Сената Соединенных Штатов Америки. А вы все – мелкая сошка.
У меня – глаз наметанный: сходит с ума, абсолютный вывих, и добром не кончит. Стало жаль мне его, хочу помочь, все же человек, живое существо. А он на меня посмотрел с презрением и ушел, руки не подав.
Дальше стало совсем плохо. Куда бы он ни лез – от него шарахались, как от больного. Он впал в нищету. Американскую. Когда на витринах густо, в карманах пусто. Тут он вспомнил, что есть у него в Америке дядя, держит лавочку в штате Нью-Джерси. Сунулся Матвей к нему. Просить помощи гордость не позволяет, как-никак – национальный герой. А дядя сам не из догадливых, цента не дал. Только подарил фотокарточку покойного дедушки, и Матвей в сердцах выбросил ее из окна автобуса, когда ехал с пустым кошельком обратно в Нью-Йорк. Он содрогался, встречая еврейские лица на улицах. Все это были отныне его личные враги, ничтожества, предавшие своего героя и, конечно, недостойные его.
В Москве Матвей не отличался большим умом, но здоровья был отменного. Дуб, не человек. В Нью-Йорке он рухнул, как подкошенный. Свалился на улице и мгновенно скончался от разрыва сердца.
В жизни все перемешано: и комедия, и трагедия.
Я был на его похоронах.
Хоронили Матвея в маленьком городке штата Нью-Джерси, где держал лавочку его дядя. Вся местная община из уважения к дяде собралась в похоронном доме, чтобы почтить память несчастного еврейского эмигранта из России.
Матвей лежал в дорогом дубовом гробу с шестиконечной звездой, вырезанной на крышке. Дядя не поскупился. Похороны, если верить его словам, обошлись ему в пять тысяч долларов. И местный раввин закатил речь, от которой у меня защемило сердце. Ведь я был единственным в этой толпе скучных американских евреев, кто знал покойного при жизни, кто держал его живую глупую голову в своих руках, стараясь придать ей с помощью ножниц приемлемый вид.
Раввин, называя его не Матвеем, а на английский манер Мэтью, воздал ему все почести, которых он ждал, но так и не дождался от мирового еврейства при жизни. Раввин пропел ему оду, гимн, панегирик. Назвал его величайшим сионистом, крупнейшим борцом за человеческие права, талантливейшим журналистом, героическим сыном нашего народа, выдающейся личностью, бесстрашным героем.
И толпа американских евреев плакала. Не очень бурно, чуть-чуть, чтоб не поплыла краска на ресницах и не нарушить пищеварения. Время было предобеденное. Раввин вошел в раж и все больше распалялся, и мне казалось, что Матвей сейчас выскочит из гроба и благодарно повиснет на его шее.
Бог, ты мой, думал я. Услышь Матвей при жизни эти слова, он бы никогда не умер. И подари ему дядя из Нью-Джерси эти 5 тысяч долларов, во что обошлись его похороны, он бы не впал в отчаяние, приведшее его к разрыву сердца.
Его похоронили на маленьком еврейском кладбище, на участке, который дядя заблаговременно купил для себя, но по-родственному потеснился, уступив племяннику место в ногах своей будущей могилы. Негры-служители на ремнях спустили гроб в чужую яму и потом засыпали его чужой землей.
Когда я возвращался с похорон, меня чуть не стошнило в автобусе.
Над Атлантическим океаном. Высота – 30600 футов.
Скажите, вам не показалось, слушая меня, что Аркадий Рубинчик – самый обыкновенный коммунальный склочник, желчный человек с плохим пищеварением? Иначе он бы не совал свой нос куда его не просят и не задавал бы миру столько проклятых вопросов, на которые нет ответа.
Спрашивается, зачем я все так близко принимаю к сердцу? Кто мне за это спасибо скажет? А если не спасибо, то кто меня посчитает нормальным человеком?
У меня, слава Богу, есть в руках профессия. Стой себе за креслом, брей прыщавые щеки, стриги немытые патлы и каждый раз аккуратно мой руки, чтоб не зацепить заразы.
Но получается-то как? Стрижешь человека, а он – рта не закрывает. И, действительно, интересные вещи рассказывает. Я же – не железный. Начинаю волноваться, лезу со своими советами. У того свой взгляд на вещи, у меня – немножко другой. Одним словом, побрил человека и нажил себе врага.
Вот, к примеру, я не могу успокоиться при мысли, что из нашей братии, выехавшей из России, кто там был подонком, без совести и чести, тот и здесь отлично преуспевает. Как говорится, пришелся ко двору. А те, кто страдали, боролись, в тюрьмах сидели за свои, что называется, прогрессивные идеи, те вырвались в свободный мир и стукнулись рожей об стенку. Свободный мир от них шарахается как от чумных.
Возьмите тот же Израиль. Кого там пригрели? Кто там из наших ходит в патриотах, стучит кулаком в грудь, гневно бичует тех, у кого не достает такого патриотизма? Не знаете? Да это те же, что и в СССР до последнего дня, пока им не дали пинка под зад, ходили в советских патриотах, властям зад лизали, причмокивая от наслаждения, и дружно голосовали на казенных митингах против происков мирового сионизма вообще и израильских агрессоров, в частности.
Господи, им даже не пришлось перестраиваться. Они нашли новый зад, да так и впились в него губами.
В особенности, журналистская братия. В СССР они на радио и в газетах такие коленца откалывали! По части коммунизма были святее римского папы. Выехали из СССР под общий шумок, без особого риска, но с полными штанами от страха. И как расправили перья, как налились до бровей антикоммунизмом, так что даже Франц Йозеф Штраус из Баварии выглядит на их фоне розовым голубем мира. Они снова дорвались до микрофонов, строчат в газетах. Разоблачают, клеймят…
И скажу вам, на такую, извините, падаль в этом мире большой спрос. Дерьмо нынче в цене. По обе стороны железного занавеса.
Даже американцы… Уж они-то могли бы себе позволить роскошь быть немножечко брезгливыми? Что вы!
Брился у меня один клиент. Славный, интеллигентный человек, отсидел в Сибири за свои мысли, высказанные вслух. Он не уехал, его выставили из СССР. Тогда он решил тут продолжать борьбу, на всю Россию те же мысли, за которые сидел, высказать. Сунулся на радиостанцию, а там ему от ворот поворот. Нам, мол, люди с принципами не требуются, с такими хлопот не оберешься. Да и штат у нас укомплектован.
Глянул мой клиент на этот штат и глазам не поверил. Бывшие платные агенты КГБ. И бесплатные, те, что доносили на людей из любви к искусству, на общественных началах. Их берут без разговору. Апробированный товар. У таких не бывает своих идей. И угрызений совести тоже. Они делают то, что им приказывают. Беспрекословно. И там, и здесь. Правда, здесь это лучше оплачивается. Конвертируемая валюта.
Порой мне кажется, что вся жизнь наша – сплошной цирк. Вот послушайте. С одним малым наши жизненные пути пересекались несколько раз, и, как говорится, под различными широтами. Вы, конечно, догадываетесь, что точкой пересечения всегда было мое парикмахерское кресло.
В Москве он сделал большую карьеру, карабкался вверх, как альпинист-скалолаз. Есть люди, которые разговаривают во сне. Так вот он из тех, что и во сне кричали: «Слава КПСС!»
Как он разоблачал по радио злейших врагов советского народа – израильских агрессоров и американских империалистов! Как он таскал за ноги бедную бабушку Голду Меир, называя ее бабой-ягой, чудовищем, гиеной…
В Иерусалиме – плюхнулся в мое кресло и с ходу:
– Голда Меир – величайшая женщина на земле. Библейского масштаба. Я готов целовать следы ее ног.
И, знаете, искренне так, даже слеза сверкнула.
В Нью-Йорке он снова попал в мое кресло. Заехал по делам в Америку. А сам проживает в Лондоне. Английская валюта попрочней израильской. Как всегда – вещает на радио.
Я, шутя, как старому знакомому, говорю:
– Как поживает государыня-королева? В телевизоре она выглядит смазливой бабенкой.
Как он вспылит! Как вскочит с кресла!
Вы, мол, Рубинчик, бросьте эти фамильярные штучки. Я не позволю в моем присутствии так отзываться о моем монархе!
Еврей-монархист…
Знаете, я смотрел на него и ждал, что он вот-вот загорланит английский гимн: «Боже, храни королеву!..»
С еврейским акцентом, британской надменностью и коммунистическим металлом в голосе.
Зачем я об этом рассказываю? И почему меня это волнует? Вы не можете мне объяснить? Я, конечно, неисправимый кретин. А кретинов и горбатых только могила исправляет.
Над Атлантическим океаном. Высота – 30600 футов.
Кто такие дети лейтенанта Шмидта, я надеюсь, вы знаете? Потому что книга о них, написанная двумя одесситами, стала в России куда популярнее, чем, скажем, гениальный ленинский труд «Шаг вперед, два шага назад». Следовательно, не читать Ильфа и Петрова мог только босяк или полоумный, ибо неграмотность в СССР поголовно ликвидирована.
Если же вы уникум и действительно не читали про дел лейтенанта Шмидта по какой-нибудь очень уважительной причине, то, извольте, я с большим удовольствием объясню вам, что – к чему.
Уже задолго до революции жил в России лейтенант императорского флота некто Шмидт. Не еврей, но вполне приличный человек из обрусевших немцев. Этот лейтенант устроил на своем корабле восстание, и так как случилось это задолго до большевистской революции, то царь Николай Второй легко это восстание подавил, а лейтенанта Шмидта велел казнить.
Люди очень жалели бедного лейтенанта. После революции его именем стали называть улицы, заводы, и каждый школьник знал это имя наизусть. Вот тогда-то и появились на свет дети лейтенанта Шмидта, воспетые в бессмертном творении Ильфа и Петрова.
Известно, что лейтенант Шмидт был холост и отличался безупречным моральным обликом, так что детей – законных или побочных – у него быть не могло. Но этот факт был известен историкам и архивариусам, а не широким народным массам, которые свою любовь и жалость к несчастному лейтенанту легко переносили и на его невесть откуда взявшееся потомство. И причем довольно многочисленное.
Жулики всех мастей, молодые и старые, объявляли себя сыновьями лейтенанта Шмидта, разделили всю Россию на зоны, и каждый пасся в своей, собирая богатую дань с частных лиц и общественных организаций. Кто откажет в помощи сыну лейтенанта Шмидта, временно попавшему в затруднительное положение?
Сейчас, после того, как начали выпускать евреев из СССР, по всему миру замелькали те же фигуры, но уже не дети, а скорее, внуки лейтенанта Шмидта.
По Европе и Америке, по еврейским организациям, синагогам и просто частным богатым домам с мезузой у входа, снуют, пожиная обильные плоды в виде даров и воздаяний, мужественные советские евреи. Не те, что действительно воевали с советскими властями и, рискуя головой, открывали щель в железном занавесе. А те самые, что в относительной безопасности выскочили из России в общей толпе, привлеченные звоном денег в преуспевающих еврейских общинах Европы и Америки. Эти внуки несчастного лейтенанта наделали много бед поначалу, пока их не раскусили, и благодаря их стараниям о русском еврействе уже не говорят с прежним благоговением и гордостью.
Об одном таком внуке я и хочу вам рассказать, тем более, что он родом из того самого города на Черном море, где когда-то преждевременно, и потому неудачно, поднял восстание холостой бездетный лейтенант. Он – мой тезка. Тоже Аркадий. Только фамилия другая. Грач. Аркадий Грач.
Этот шустрый малый прибыл в Израиль с первыми ручейками эмиграции. Приехал один, с двумя потрепанными чемоданами в руках. В них был весь его капитал, и ценность его равнялась нулю. Он повертелся недельку-другую, прикидывая, чем бы тут можно было подзаняться. Изучать древний язык – иврит показалось ему делом трудоемким и не совсем результативным. Да и сама родина историческая не приглянулась, а люди показались провинциальными и неинтересными. Демагогией попахивало на каждом шагу, что до непристойности напоминало покинутую прежнюю родину.
Он сделал первый ход е2 – е4. Громко завопил на всех углах о своей любви к Израилю, о готовности отдать за него кровь. И даже жизнь.
Его заметили. Вокруг него стали увиваться дамы благотворительницы из женских сионистских организаций, его стали представлять американским гостям. Как подлинного сиониста из России, а тем эмигрантам, что морщили нос и не от всего приходили в восторг, приводили его в пример.
Кое-что перепало ему. Какие-то ссуды. Безвозвратные. Какие-то частные пожертвования. Деньгами. И одежонкой, подогнанной под рост у портного.
Долго это длиться не могло. Он понимал. И мучительно искал лазейку для очередного хода.
Случай подвернулся скоро. Прекрасный случай. Надо было лишь умело взять его за рога и доить, доить, пока руки не устанут.
Далеко в России, в городе, откуда он приехал, посадили в тюрьму еврейскую девицу. За сионизм. То есть за то, что захотела в Израиль. Власти искали повод припугнуть остальных евреев, и выбор пал на нее. Девицу на год упрятали за решетку. Чтоб другим неповадно было мечтать об Израиле.
Мировое еврейство забурлило. Имя девицы, звали ее Аня Злотник, а заодно и ее портреты стали мелькать в газетах и журналах.
Ей, конечно, от этого легче не стало. Наоборот, тюремный режим ей усилили и натравили уголовников, чтоб они ей показали, почем фунт лиха.
Одним словом, как в той сказке. Господа дерутся, а у мужика чуб трещит. Девица Злотник в политике слабо разбиралась, к тому же была в перезрелом возрасте, и, как я понимаю, влекло ее в Израиль по очень прозаической причине – в еврейском государстве, верилось ей, удастся, наконец, устроить личную жизнь, подыскав себе еврейского мужа. А вместо этого она нашла себе тюрьму.
Аркадий Грач, напрягши память, вспомнил девицу Злотник и даже кое-кого из ее родни, и понял, что в руках у него козырная карта.
Он громогласно объявил, что он муж Ани Злотник, советская власть их разлучила, и теперь с помощью мировой общественности он начинает борьбу за освобождение любимой жены и воссоединение семьи.
За него ухватились, как за дар божий, и он начал триумфальное турне по планете, вернее, по тем ее не худшим частям, где обитают евреи. Париж, Брюссель, Лондон, Торонто, Нью-Йорк, Майами-бич. Он пил на банкетах с сенаторами, спал в самых дорогих отелях, летал в самолетах только первым классом. И брал. Все, что сами давали и что догадывались дать после его намеков. Деньгами и натурой. Завел счет в банке. Прикупил чемоданов побольше.
Месяц за месяцем гулял Аркадий по планете. Фотографировался со скорбящими, соболезнующими еврейскими женщинами, с бизнесменами-миллионерами, чуть ли не с президентами и королями. Ел и пил сверх меры. По русской привычке: набивать брюхо про запас. Располнел и даже одышкой обзавелся.
Он стал представительным светским человеком. Одевался по последней моде, и многие знаменитые фирмы еще и приплачивали ему, чтоб он, выступая по телевидению, надел их костюм.
Голос Аркадия через переводчиков гремел в парламентах разных стран, в международных комиссиях. Он даже как лицо известное стал подписывать петиции в пользу страдающего от наводнения народа Бангладеш и племен Центральной Африки, не менее страдающих от засухи.
Сам неоднократно принимал участие в голодовках протеста возле здания ООН и с пользой для здоровья терял в весе до трех кило. Правда, он ни разу не упустил случая после голодовки потребовать денежную компенсацию за всю несъеденную пищу. Потому что политика политикой, а деньги счет любят.
Отдельные американские, английские и французские еврейки, обычно жены богатых людей, прекрасно сохранившиеся на вольных хлебах, так горячо и неистово окунались в борьбу за освобождение его жены, что взяли безутешного Аркадия под свое женское покровительство. Чтобы скрасить его затянувшееся одиночество, они темпераментно и с толком разделяли с ним ложе в отелях и в загородных домах, демонстрируя подлинно еврейскую солидарность.
Он настолько привык быть мужем девицы Злотник, что даже искренне плакал в синагогах, когда там молились за ее скорейшее освобождение. В угаре свалившейся на него светской жизни он не заметил, как прошел год, и по еврейским общинам мира, потратившим столько энергии на борьбу за Аню и на сочувствие ее мужу Аркадию, прокатилась радостная новость: Аня Злотник вышла из тюрьмы и получила визу в Израиль.
У Аркадия Грача даже тик открылся. Его целовали, его поздравляли, и он не мог сдержать слез. Но совсем по иной причине: кончилась красивая жизнь. Надо уносить ноги.
Как жениха, снаряжали его американские евреи в Вену, где состоится историческая встреча разлученных супругов. Его засыпали подарками для жены. И это был последний клок шерсти, который он урвал с доверчивого и сентиментального еврейства.
Накануне отлета в Вену Аркадий Грач бесследно исчез. Со всеми подарками и с солидной чековой книжкой. Сначала его искали. Потом, когда Аня Злотник объявилась в Израиле, стало ясно, что он был аферист, и чтоб не позориться перед всем миром, евреи поспешили забыть о ловком внуке лейтенанта Шмидта – фиктивном муже узницы Сиона Ани Злотник.
А он остался в Штатах. Даже не заехал в Израиль забрать свои два рваных чемодана, с которыми прибыл из России. Он неплохо устроился, купив небольшую гостиницу на деньги еврейских благодетелей.
Правда, стал заливать за воротник. По русской привычке. Один мой приятель останавливался в этой гостинице и там столкнулся с ним.
Вы думаете, он смутился или, там, стал оправдываться? Ничего подобного. Наоборот. Устроил ему очень сердечный прием.
Аркадий крепко угостил его за свой счет, и они просидели в ресторане допоздна. Негры-официанты уже снимали со столов скатерти. Пьяный Аркадий и их угостил за свой счет и на скверном английском языке стал рассказывать им, каким он был недавно великим человеком, с какими сенаторами и, королями пил за одним столом и даже на брудершафт, и какая у него была знаменитая и красивая жена по имени Аня Злотник.
При этом он хлюпал носом, и настоящие мутные слезы текли по его рыхлым щекам. Негры пили за счет Аркадия и не верили ни одному слову. Но на всякий случай жалели его.
Теперь я вас спрашиваю: что такое дети лейтенанта Шмидта по сравнению с этим внуком? Жалкие ничтожества и мелкие аферисты. Внук лейтенанта Аркадий Грач – фигура международного масштаба, и какой-нибудь другой народ, победнее талантами, чем мы, евреи, не стал бы стыдиться его, а, наоборот, сделал бы своим героем и гордился бы им, выставив его портреты в День независимости и освобождения от колониального рабства.
Я ведь тоже не могу сказать, что осуждаю таких, как Аркадий. Какое я имею право? И чем я лучше его? Господи, все мы живые люди. И, если человек не делает откровенных подлостей, то в наше время его уже считают приличным и даже уважаемым.
Тем более сейчас, когда сто тысяч русских евреев, выпучив глаза, сорвались с насиженных мест, разорились дотла, очумели и выброшены в Израиль, как после кораблекрушения на какой-нибудь скалистый островок. Будешь откалывать коленца! Конечно, исключения есть. Но они, как известно, подчеркивают правило.
Такова се ля ви. Как говорят французы. И один мой бывший клиент в Москве. Писатель-юморист.
Над Атлантическим океаном. Высота 30600 футов.
Когда меня спрашивают: вы женились по любви или по расчету, то я отвечаю, не задумываясь, если, конечно, рядом нет жены: по расчету.