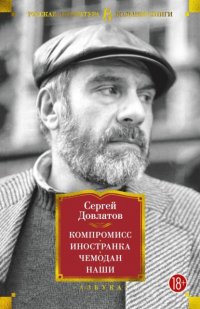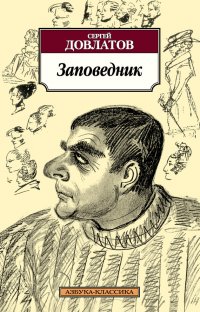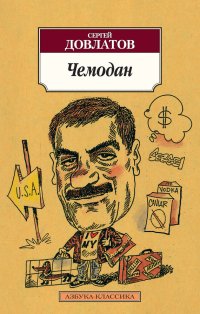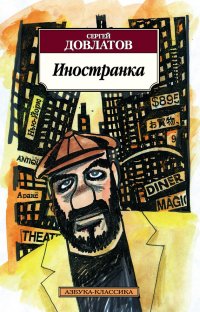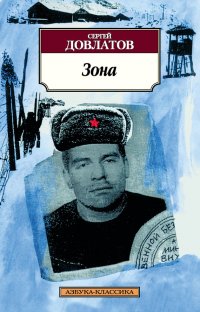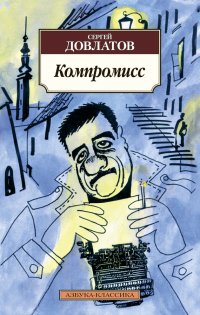Читать онлайн Соло на ундервуде. Соло на IBM бесплатно
- Все книги автора: Сергей Довлатов
Соло на ундервуде
Вышла как-то мать на улицу. Льет дождь. Зонтик остался дома. Бредет она по лужам. Вдруг навстречу ей алкаш, тоже без зонтика. Кричит:
– Мамаша! Мамаша! Чего это они все под зонтиками, как дикари?!
Соседский мальчик ездил летом отдыхать на Украину. Вернулся. Мы его спросили:
– Выучил украинский язык?
– Выучил.
– Скажи что-нибудь по-украински.
– Например, мерси.
Соседский мальчик:
«Из овощей я больше всего люблю пельмени…»
Выносил я как-то мусорный бак. Замерз. Опрокинул его метра за три до помойки. Минут через пятнадцать к нам явился дворник. Устроил скандал. Выяснилось, что он по мусору легко устанавливает жильца и номер квартиры.
В любой работе есть место творчеству.
– Напечатали рассказ?
– Напечатали.
– Деньги получил?
– Получил.
– Хорошие?
– Хорошие. Но мало.
Гимн и позывные КГБ:
«Родина слышит, родина знает…»
Когда мой брат решил жениться, его отец сказал невесте:
– Кира! Хочешь, чтобы я тебя любил и уважал? В дом меня не приглашай. И сама ко мне в гости не приходи.
Отец моего двоюродного брата говорил:
– За Борю я относительно спокоен, лишь когда его держат в тюрьме!
Брат спросил меня:
– Ты пишешь роман?
– Пишу, – ответил я.
– И я пишу, – сказал мой брат, – махнем не глядя?
Проснулись мы с братом у его знакомой. Накануне очень много выпили. Состояние ужасающее.
Вижу, мой брат поднялся, умылся. Стоит у зеркала, причесывается.
Я говорю:
– Неужели ты хорошо себя чувствуешь?
– Я себя ужасно чувствую.
– Но ты прихорашиваешься!
– Я не прихорашиваюсь, – ответил мой брат. – Я совсем не прихорашиваюсь. Я себя… мумифицирую.
Жена моего брата говорила:
– Боря в ужасном положении. Оба вы пьяницы. Но твое положение лучше. Ты можешь пить день. Три дня. Неделю. Затем ты месяц не пьешь. Занимаешься делами, пишешь. У Бори все по-другому. Он пьет ежедневно, и, кроме того, у него бывают запои.
Диссидентский указ:
«В целях усиления нашей диссидентской бдительности именовать журнал «Континент» – журналом «Контингент»!»
Хорошо бы начать свою пьесу так. Ведущий произносит:
– Был ясный, теплый, солнечный…
Пауза.
– Предпоследний день…
И, наконец, отчетливо:
– Помпеи!
Атмосфера, как в приемной у дантиста.
Я болел три дня, и это прекрасно отразилось на моем здоровье.
Убийца пожелал остаться неизвестным.
– Как вас постричь?
– Молча.
«Можно ли носом стирать карандашные записи?»
Выпил накануне. Ощущение – как будто проглотил заячью шапку с ушами.
В советских газетах только опечатки правдивы.
«Гавнокомандующий». «Большевистская каторга» (вместо – «когорта»). «Коммунисты осуждают решения партии» (вместо – «обсуждают»). И так далее.
У Ахматовой когда-то вышел сборник. Миша Юпп повстречал ее и говорит:
– Недавно прочел вашу книгу.
Затем добавил:
– Многое понравилось.
Это «многое понравилось» Ахматова, говорят, вспоминала до смерти.
Моя жена говорила:
– Комплексы есть у всех. Ты не исключение. У тебя комплекс моей неполноценности.
Когда шахтер Стаханов отличился, его привезли в Москву. Наградили орденом. Решили показать ему Большой театр. Сопровождал его знаменитый режиссер Немирович-Данченко. В этот день шел балет «Пламя Парижа». Началось представление.
Через три минуты Стаханов задал вопрос Немировичу-Данченко:
– Батя, почему молчат?
Немирович-Данченко ответил:
– Это же балет.
– Ну и что?
– Это такой жанр искусства, где мысли выражаются средствами пластики.
Стаханов огорчился:
– Так и будут всю дорогу молчать?
– Да, – ответил режиссер.
– Стало быть, ни единого звука?
– Ни единого.
А надо вам сказать, что «Пламя Парижа» – балет уникальный. Там в одном месте поют. Если не ошибаюсь, «Марсельезу». И вот Стаханов в очередной раз спросил:
– Значит, ни слова?
Немирович-Данченко в очередной раз кивнул:
– Ни слова.
И тут артисты запели.
Стаханов усмехнулся, поглядел на режиссера и говорит:
– Значит, оба мы, батя, в театре первый раз?!
Как известно, Лаврентию Берии поставляли на дом миловидных старшеклассниц. Затем его шофер вручал очередной жертве букет цветов. И отвозил ее домой. Такова была установленная церемония. Вдруг одна из девиц проявила строптивость. Она стала вырываться, царапаться. Короче, устояла и не поддалась обаянию министра внутренних дел. Берия сказал ей:
– Можешь уходить.
Барышня спустилась вниз по лестнице. Шофер, не ожидая такого поворота событий, вручил ей заготовленный букет. Девица, чуть успокоившись, обратилась к стоящему на балконе министру:
– Ну вот, Лаврентий Павлович! Ваш шофер оказался любезнее вас. Он подарил мне букет цветов.
Берия усмехнулся и вяло произнес:
– Ты ошибаешься. Это не букет. Это – венок.
Хармс говорил:
– Телефон у меня простой – 32–08. Запоминается легко. Тридцать два зуба и восемь пальцев.
Плохие стихи все-таки лучше хорошей газетной заметки.
Дело было на лекции профессора Макогоненко. Саша Фомушкин увидел, что Макогоненко принимает таблетку. Он взглянул на профессора с жалостью и говорит:
– Георгий Пантелеймонович, а вдруг они не тают? Вдруг они так и лежат на дне желудка? Год, два, три, а кучка все растет, растет…
Профессору стало дурно.
Расположились мы с Фомушкиным на площади Искусств. Около бронзового Пушкина толпилась группа азиатов. Они были в халатах, тюбетейках. Что-то обсуждали, жестикулировали. Фомушкин взглянул и говорит:
– Приедут к себе на юг, знакомым будут хвастать: «Ильича видали!»
Сдавал как-то раз Фомушкин экзамен в университете.
– Безобразно отвечаете, – сказала преподавательница, – два!
Фомушкин шагнул к ней и тихо говорит:
– Поставьте тройку.
Прибыл к нам в охрану сержант из Москвы. Культурный человек, и даже сын писателя. И было ему в нашей хамской среде довольно неуютно. А ему как раз хотелось выглядеть «своим». И вот он постоянно матерился, чтобы заслужить доверие. И как-то раз прикрикнул на ефрейтора Гаенко:
– Ты что, ебну́лся?!
Именно так поставив ударение – «ебну́лся».
Гаенко сказал в ответ:
– Товарищ сержант, вы не правы. По-русски можно сказать – ёбнулся, ебану́лся или наебну́лся. А «ебнулся» – такого слова в русском литературном языке, уж извините, нет!
Приехал к нам строевой офицер из штаба части. Выгнал нас из казармы. Заставил построиться. И начали мы выполнять ружейные приемы.
Происходило это в Коми. День был морозный, градусов сорок.
Подошла моя очередь. «К ноге!» «На плечо!» «Смирно, вольно…» И так далее.
И вот офицер говорит, шепелявя:
– Не визу теткости, Довлатов! Не визу молодцеватости! Не визу! Не осусяю!
А холод страшный. Шинели не греют. Солдаты мерзнут, топчутся.
А офицер свое:
– Не визу теткости! Не визу молодцеватости!..
И тогда выходит хулиган Петров. Делает шаг вперед из строя. И звонко произносит в морозной тишине:
– Товарищ майор! Выплюнь сначала хрен изо рта!
Петрову дали восемь суток гауптвахты.
На Иоссере судили рядового Бабичева. Судили его за пьяную драку. В роте было назначено комсомольское собрание. От его решения в какой-то мере зависела дальнейшая судьба подсудимого. Если собрание осудит Бабичева, дело передается в трибунал. Если же хулигана возьмут на поруки, тем дело может и кончиться.
В ночь перед собранием Бабичев разбудил меня и зашептал:
– Все, погибаю, испекся. Придумай что-нибудь.
– Что?
– Что угодно. Ты мужик культурный, образованный.
– Ладно, попытаюсь.
– С меня ящик водки…
Толкаю его в бок через полчаса:
– Вот слушай. Начнется собрание. Я тебя спрошу: «Есть у вас, Бабичев, гражданская профессия?» Ты ответишь: «Нет». Я скажу: «Так что ему после армии – воровать?» А дальше все зашумят, поскольку это больная тема. Может, в этом шуме тебя и оправдают…
– Слушай, – просит Бабичев, – ты напиши мне, что говорить. А то я собьюсь.
Достаю лист бумаги. Пишу ему крупными буквами: «Нет».
– И это все?
– Все. Я задаю вопрос, ты отвечаешь – «нет».
– Напиши мне, что ты сам будешь говорить. А то я все перепутаю.
Короче, просидели мы всю ночь. К утру сценарий был закончен.
Начинается комсомольское собрание. Встает подполковник Яковенко и говорит:
– Ну, Бабичев, объясните, что там у вас произошло?
Смотрю, Бабичев ищет эту фразу в шпаргалке. Лихорадочно читает сценарий. А подполковник свое:
– Объясните же, что там случилось? Ну?
Бабичев еще раз заглянул в сценарий. Затем растерянно посмотрел на меня и обратился к Яковенко:
– А хули тебе, козлу, объяснять?!.
В результате он получил три года дисциплинарного батальона.
В присутствии Алешковского какой-то старый большевик рассказывал:
– Шла гражданская война на Украине. Отбросили мы белых к Днепру. Распрягли коней. Решили отдохнуть. Сижу я у костра с ординарцем Васей. Говорю ему: «Эх, Вася! Вот разобьем беляков, построим социализм – хорошая жизнь лет через двадцать наступит! Дожить бы!..»
Алешковский за него докончил:
– И наступил через двадцать лет – тридцать восьмой год!
Алешковский говорил:
– А как еще может пахнуть в стране?! Ведь главный труп еще не захоронен!
Шли мы откуда-то с Бродским. Был поздний вечер. Спустились в метро – закрыто. Кованая решетка от земли до потолка. А за решеткой прогуливается милиционер.
Иосиф подошел ближе. Затем довольно громко крикнул:
– Э!
Милиционер насторожился, обернулся.
– Чудесная картина, – сказал ему Иосиф, – впервые наблюдаю мента за решеткой!
Пришел я однажды к Бродскому с фокстерьершей Глашей. Он назначил мне свидание в 10.00. На пороге Иосиф сказал:
– Вы явились ровно к десяти, что нормально. А вот как умудрилась собачка не опоздать?!
Сидели мы как-то втроем – Рейн, Бродский и я. Рейн, между прочим, сказал:
– Точность – это великая сила. Педантической точностью славились Зощенко, Блок, Заболоцкий. При нашей единственной встрече Заболоцкий сказал мне: «Женя, знаете, чем я победил советскую власть? Я победил ее своей точностью!»
Бродский перебил его:
– Это в том смысле, что просидел шестнадцать лет от звонка до звонка?!
Сидел у меня Веселов, бывший летчик. Темпераментно рассказывал об авиации. В частности, он говорил:
– Самолеты преодолевают верхнюю облачность… Ласточки попадают в сопла… Самолеты падают… Гибнут люди… Ласточки попадают в сопла… Глохнут моторы… Самолеты разбиваются… Гибнут люди…
А напротив сидел поэт Евгений Рейн.
– Самолеты разбиваются, – продолжал Веселов, – гибнут люди…
– А ласточки что – выживают?! – обиженно крикнул Рейн.
Как-то пили мы с Иваном Федоровичем. Было много водки и портвейна. Иван Федорович благодарно возбудился. И ласково спросил поэта Рейна:
– Вы какой, извиняюсь, будете нации?
– Еврейской, – ответил Рейн, – а вы, пардон, какой нации будете?
Иван Федорович дружелюбно ответил:
– А я буду русской… еврейской нации.
Женя Рейн оказался в Москве. Поселился в чьей-то отдельной квартире. Пригласил молодую женщину в гости. Сказал:
– У меня есть бутылка водки и четыреста граммов сервелата.
Женщина обещала зайти. Спросила адрес. Рейн продиктовал и добавил:
– Я тебя увижу из окна.
Стал взволнованно ждать. Молодая женщина направилась к нему. Повстречала Сергея Вольфа. «Пойдем, – говорит ему, – со мной. У Рейна есть бутылка водки и четыреста граммов сервелата». Пошли.
Рейн увидел их в окно. Страшно рассердился. Бросился к столу. Выпил бутылку спиртного. Съел четыреста граммов твердокопченой колбасы. Это он успел сделать, пока гости ехали в лифте.
У Игоря Ефимова была вечеринка. Собралось пятнадцать человек гостей. Неожиданно в комнату вошла дочь Ефимовых – семилетняя Лена. Рейн сказал:
– Вот кого мне жаль, так это Леночку. Ей когда-то нужно будет ухаживать за пятнадцатью могилами.
В детскую редакцию зашел поэт Семен Ботвинник. Рассказал, как он познакомился с нетребовательной дамой. Досадовал, что не воспользовался противозачаточным средством.
Оставил первомайские стихи. Финал их был такой:
- «… Адмиралтейская игла
- Сегодня, дети, без чехла!..»
Как вы думаете, это – подсознание?
Хрущев принимал литераторов в Кремле. Он выпил и стал многословным. В частности, он сказал:
– Недавно была свадьба в доме товарища Полянского. Молодым подарили абстрактную картину. Я такого искусства не понимаю…
Затем он сказал:
– Как уже говорилось, в доме товарища Полянского была недавно свадьба. И все танцевали этот… как его?.. Шейк. По-моему, это ужас…
Наконец он сказал:
– Как вы знаете, товарищ Полянский недавно сына женил. И на свадьбу явились эти… как их там?.. Барды. Пели что-то совершенно невозможное…
Тут поднялась Ольга Берггольц и громко сказала:
– Никита Сергеевич! Нам уже ясно, что эта свадьба – крупнейший источник познания жизни для вас!
Критик Самуил Лурье и я попали в энциклопедию. В литературную, естественно, энциклопедию. Лурье на букву Ш – библиография, если не ошибаюсь, к Шефнеру. А я, еще того позорнее, на букву Р – библиография к Розену. Какое убожество.
Позвонили мне как-то из отдела критики «Звезды». Причем сама заведующая – Дудко:
– Сережа! Что вы не звоните?! Что вы не заходите?! Срочно пишите для нас рецензию. С вашей остротой. С вашей наблюдательностью. С вашим блеском!
Захожу на следующий день в редакцию. Красивая немолодая женщина довольно мрачно спрашивает:
– Что вам, собственно, надо?
– Да вот рецензию бы написать…
– Вы что, критик?
– Нет.
– Вы думаете, рецензию может написать каждый?..
Я удивился и пошел домой.
Через три дня опять звонит:
– Сережа! Что же вы не появляетесь?
Захожу в редакцию. Мрачный вопрос:
– Что вам угодно?
Все это повторялось раз семь. Наконец я почувствовал, что теряю рассудок. Зашел в отдел прозы к Титову. Спрашиваю его, что все это значит?
– Когда ты заходишь? – спрашивает он. – В какие часы?
– Утром. Часов в одиннадцать.
– Ясно. А когда Дудко сама тебе звонит?
– Часа в два. А что?
– Все понятно. Ты являешься, когда она с похмелья – мрачная. А звонит тебе Дудко после обеда. То есть уже будучи в форме. Ты попробуй зайди часа в два.
Я зашел в два.
– А! – закричала Дудко. – Кого я вижу! Сейчас же пишите рецензию. С вашей наблюдательностью! С вашей остротой…
После этого я лет десять сотрудничал в «Звезде». Однако раньше двух не появлялся.
- У поэта Шестинского была такая строчка:
- Она нахмурила свой узенький лобок…
В Союзе писателей обсуждали роман Ефимова «Зрелища». Все было очень серьезно. Затем неожиданно появился Ляленков и стал всем мешать. Он был пьян. Наконец встал председатель Бахтин и говорит:
– Ляленков, перестаньте хулиганить! Если не перестанете, я должен буду вас удалить.
Ляленков в ответ промычал:
– Если я не перестану, то и сам уйду!
Встретил я как-то поэта Шкляринского в импортной зимней куртке на меху.
– Шикарная, – говорю, – куртка.
– Да, – говорит Шкляринский, – это мне Виктор Соснора подарил. А я ему – шестьдесят рублей.
Шкляринский работал в отделе пропаганды Лениздата. И довелось ему как-то организовывать выставку книжной продукции. Выставка открылась. Является представитель райкома и говорит:
– Что это за безобразие?! Почему Ахматова на видном месте? Почему Кукушкин и Заводчиков в тени?! Убрать! Переменить!..
– Я так был возмущен, – рассказывал Шкляринский, – до предела! Зашел, понимаешь, в уборную. И не выходил оттуда до закрытия.
Прогуливались как-то раз Шкляринский с Дворкиным. Беседовали на всевозможные темы. В том числе и о женщинах. Шкляринский в романтическом духе. А Дворкин – с характерной прямотой. Шкляринский не выдержал:
– Что это ты? Все – трахал да трахал! Разве нельзя выразиться более прилично?!
– Как?
– Допустим: «Он с ней был». Или: «Они сошлись»…
Прогуливаются дальше. Беседуют. Шкляринский спрашивает:
– Кстати, что за отношения у тебя с Ларисой М.?
– Я с ней был, – ответил Дворкин.
– В смысле – трахал?! – переспросил Шкляринский.
Была такая поэтесса – Грудинина. Написала как-то раз стихи. Среди прочего там говорилось:
- …И Сталин мечтает при жизни
- Увидеть огни коммунизма…
Грудинину вызвали на партсобрание. Спрашивают:
– Что это значит – при жизни? Вы, таким образом, намекаете, что Сталин может умереть?
Грудинина отвечала:
– Разумеется, Сталин как теоретик марксизма, вождь и учитель народов – бессмертен. Но как живой человек и материалист – он смертен. Физически он может умереть, духовно – никогда!
Грудинину тотчас же выгнали из партии.
Это произошло в Ленинградском театральном институте. Перед студентами выступал знаменитый французский шансонье Жильбер Беко. Наконец выступление закончилось. Ведущий обратился к студентам:
– Задавайте вопросы.
Все молчат.
– Задавайте вопросы артисту.
Молчание.
И тогда находившийся в зале поэт Еремин громко крикнул:
– Келе ре тиль? (Который час?)
Жильбер Беко посмотрел на часы и вежливо ответил:
– Половина шестого.
И не обиделся.
Генрих Сапгир, человек очень талантливый, называл себя «поэтом будущего». Лев Халиф подарил ему свою книгу. Сделал такую надпись:
«Поэту будущего от поэта настоящего!»
Роман Симонова: «Мертвыми не рождаются».
Подходит ко мне в Доме творчества Александр Бек:
– Я слышал, вы приобрели роман «Иосиф и его братья» Томаса Манна?
– Да, – говорю, – однако сам еще не прочел.
– Дайте сначала мне. Я скоро уезжаю.
Я дал. Затем подходит Горышин:
– Дайте Томаса Манна почитать. Я возьму у Бека, ладно?
– Ладно.
Затем подходит Раевский. Затем Бартен. И так далее. Роман вернулся месяца через три.
Я стал его читать. Страницы (после 9-й) были не разрезаны.
Трудная книга. Но хорошая. Говорят.
Валерий Попов сочинил автошарж. Звучал он так:
«Жил-был Валера Попов. И была у Валеры невеста – юная зеленая гусеница. И они каждый день гуляли по бульвару. А прохожие кричали им вслед:
– Какая чудесная пара! Ах, Валера Попов и его невеста – юная зеленая гусеница!
Прошло много лет. Однажды Попов вышел на улицу без своей невесты – юной зеленой гусеницы. Прохожие спросили его:
– Где же твоя невеста – юная зеленая гусеница?
И тогда Валера Попов ответил:
– Опротивела!»
Губарев поспорил с Арьевым:
– Антисоветское произведение, – говорил он, – может быть талантливым. Но может оказаться и бездарным. Бездарное произведение, если даже оно и антисоветское, все равно бездарное.
– Бездарное, но родное, – заметил Арьев.
Пришел к нам Арьев. Выпил лишнего. Курил, роняя пепел на брюки.
Мама сказала:
– Андрей, у тебя на ширинке пепел.
Арьев не растерялся:
– Где пепел, там и алмаз!
Арьев говорил:
– В нашу эпоху капитан Лебядкин стал бы майором.
Моя жена спросила Арьева:
– Андрей, я не пойму, ты куришь?
– Понимаешь, – сказал Андрей, – я закуриваю, только когда выпью. А выпиваю я беспрерывно. Поэтому многие ошибочно думают, что я курю.
Чирсков принес в издательство рукопись.
– Вот, – сказал он редактору, – моя новая повесть. Пожалуйста, ознакомьтесь. Хотелось бы узнать ваше мнение. Может, надо что-то исправить, переделать?
– Да, да, – задумчиво ответил редактор, – конечно. Переделайте, молодой человек, переделайте.
И протянул Чирскову рукопись обратно.
Беломлинский говорил об Илье Дворкине:
– Илья разговаривает так, будто одновременно какает: «Зд'оорово! Ст'аарик! К'аак дела? К'аак поживаешь?..»
Слышу от Инги Петкевич:
– Раньше я подозревала, что ты – агент КГБ.
– Но почему?
– Да как тебе сказать. Явишься, займешь пятерку – вовремя несешь обратно. Странно, думаю, не иначе как подослали.
Однажды меня приняли за Куприна. Дело было так.
Выпил я лишнего. Сел тем не менее в автобус. Еду по делам.
Рядом сидела девушка. И вот я заговорил с ней. Просто чтобы уберечься от распада. И тут автобус наш минует ресторан «Приморский», бывший «Чванова».
Я сказал:
– Любимый ресторан Куприна!
Девушка отодвинулась и говорит:
– Оно и видно, молодой человек. Оно и видно.
Лениздат напечатал книгу о войне. Под одной из фотоиллюстраций значилось:
«Личные вещи партизана Боснюка. Пуля из его черепа, а также гвоздь, которым он ранил фашиста…»
Широко жил партизан Боснюк!
Встретил я однажды поэта Горбовского. Слышу:
– Со мной произошло несчастье. Оставил в такси рукавицы, шарф и пальто. Ну пальто мне дал Ося Бродский, шарф – Кушнер. А вот рукавиц до сих пор нет.
Тут я вынул свои перчатки и говорю:
– Глеб, возьми.
Лестно оказаться в такой системе – Бродский, Кушнер, Горбовский и я.
На следующий день Горбовский пришел к Битову. Рассказал про утраченную одежду. Кончил так:
– Ничего. Пальто мне дал Ося Бродский. Шарф – Кушнер. А перчатки – Миша Барышников.
Горбовский, многодетный отец, рассказывал:
– Иду вечером домой. Смотрю – в грязи играют дети. Присмотрелся – мои.
Поэт Охапкин надумал жениться. Затем невесту выгнал. Мотивы:
– Она, понимаешь, медленно ходит, а главное – ежедневно жрет!
Битов и Цыбин поссорились в одной компании. Битов говорит:
– Я тебе, сволочь, морду набью!
Цыбин отвечает:
– Это исключено. Потому что я – толстовец. Если ты меня ударишь, я подставлю другую щеку.
Гости слегка успокоились. Видят, что драка едва ли состоится. Вышли курить на балкон.
Вдруг слышат грохот. Забегают в комнату. Видят – на полу лежит окровавленный Битов. А толстовец Цыбин, сидя на Битове верхом, молотит его пудовыми кулаками.
В молодости Битов держался агрессивно. Особенно в нетрезвом состоянии. И как-то раз он ударил поэта Вознесенского.
Это был уже не первый случай такого рода. Битова привлекли к товарищескому суду. Плохи были его дела.
И тогда Битов произнес речь. Он сказал:
– Выслушайте меня и примите объективное решение. Только сначала выслушайте, как было дело. Я расскажу, как это случилось, и тогда вы поймете меня. А следовательно – простите. Потому что я не виноват. И сейчас это всем будет ясно. Главное, выслушайте, как было дело.
– Ну, и как было дело? – поинтересовались судьи.
– Дело было так. Захожу в «Континенталь». Стоит Андрей Вознесенский. А теперь ответьте, – воскликнул Битов, – мог ли я не дать ему по физиономии?!
Явился раз Битов к Голявкину. Тот говорит:
– А, здравствуй, рад тебя видеть.
Затем вынимает из тайника «маленькую».
Битов раскрывает портфель и тоже достает «маленькую».
Голявкин молча прячет свою обратно в тайник.
Михаила Светлова я видел единственный раз. А именно – в буфете Союза писателей на улице Воинова. Его окружала почтительная свита.
Светлов заказывал. Он достал из кармана сотню. То есть дореформенную, внушительных размеров банкноту с изображением Кремля. Он разгладил ее, подмигнул кому-то и говорит:
– Ну, что, друзья, пропьем этот ландшафт?
К Пановой зашел ее лечащий врач – Савелий Дембо. Она сказала мужу:
– Надо, чтобы Дембо выслушал заодно и тебя.
– Зачем, – отмахнулся Давид Яковлевич, – чего ради? С таким же успехом и я могу его выслушать.
Вера Федоровна миролюбиво предложила:
– Ну, так и выслушайте друг друга.
Беседовали мы с Пановой.
– Конечно, – говорю, – я против антисемитизма. Но ключевые должности в российском государстве имеют право занимать русские люди.
– Это и есть антисемитизм, – сказала Панова.
– ?
– То, что вы говорите, – это и есть антисемитизм. Ключевые должности в российском государстве имеют право занимать ДОСТОЙНЫЕ люди.
Явились к Пановой гости на день рождения. Крупные чиновники Союза писателей. Начальство.
Панова, обращаясь к мужу, сказала:
– Мне кажется, у нас душно.
– Обыкновенный советский воздух, дорогая.
Вечером, навязывая жене кислородную подушку, он твердил:
– Дыши, моя рыбка! Скоро у большевиков весь кислород иссякнет. Будет кругом один углерод.
Был день рождения Веры Пановой. Гостей не приглашали. Собрались близкие родственники и несколько человек обслуги. И я в том числе.
Происходило это за городом, в Доме творчества. Сидим, пьем чай. Атмосфера мрачноватая. Панова болеет.
Вдруг открывается дверь, заходит Федор Абрамов.
– Ой, – говорит, – как неудобно. У вас тут сборище, а я без приглашения…
Панова говорит:
– Ну что вы, Федя! Все мы очень рады. Сегодня день моего рождения. Присаживайтесь, гостем будете.
– Ой! – еще больше всполошился Абрамов. – День рождения! А я и не знал! И вот без подарка явился…
Панова:
– Какое это имеет значение?! Садитесь. Я очень рада.
Абрамов сел, немного выпил, закусил, разгорячился. Снова выпил. Но водка быстро кончилась.
А мы, значит, пьем чай с тортом. Абрамов начинает томиться. Потом вдруг говорит:
– Шел час назад мимо гастронома. Возьму, думаю, бутылку «Столичной». Как-никак у Веры Федоровны день рождения…
И Абрамов достает из кармана бутылку водки.
- Романс Сергея Вольфа:
- Я ехала в Детгиз,
- я думала – аванс…
Вольф говорил:
– Нормально идти в гости, когда зовут. Ужасно идти в гости, когда не зовут. Однако самое лучшее – это когда зовут, а ты не идешь.
Наутро после большой гулянки я заявил Сергею Вольфу:
– Ты ужасно себя вел. Ты матюгался, как сапожник. И к тому же стащил зажигалку у моей приятельницы…
Вольф ответил:
– Матюгаться не буду. Зажигалку верну.
Длуголенский сказал Вольфу:
– Еду в Крым на семинар драматургов.
– Разве ты драматург?
– Конечно драматург.
– Какой же ты драматург?!
– Я не драматург?!
– Да уж какой там драматург!
– Если я не драматург, кто тогда драматург?
Вольф подумал и тихо говорит:
– Если так, расскажите нам о себе.
Вольф говорит:
– Недавно прочел «Технологию секса». Плохая книга. Без юмора.
– Что значит – без юмора? При чем тут юмор?
– Сам посуди. Открываю первую страницу, написано – «Введение». Разве так можно?
Пивная на улице Маяковского. Подходит Вольф, спрашивает рубль. Я говорю, что и так мало денег. Вольф не отстает. Наконец я с бранью этот рубль ему протягиваю.
– Не за что! – роняет Вольф и удаляется.
Как-то мы сидели в бане. Вольф и я. Беседовали о литературе.
Я все хвалил американскую прозу. В частности – Апдайка. Вольф долго слушал. Затем встал. Протянул мне таз с водой. Повернулся задницей и говорит:
– Обдай-ка!
Писатели Вольф с Длуголенским отправились на рыбалку. Сняли комнату. Пошли на озеро. Вольф поймал большого судака. Отдал его хозяйке и говорит:
– Зажарьте нам этого судака. Поужинаем вместе.
Так и сделали. Поужинали, выпили. Ушли в свой чулан.
Хмурый Вольф говорит Длуголенскому:
– У тебя есть карандаш и бумага?
– Есть.
– Дай.
Вольф порисовал немного и говорит:
– Вот сволочи! Они подали не всего судака. Смотри. Этот фрагмент был. И этот был. А этого не было. Пойду выяснять.
Спрашиваю поэта Наймана:
– Вы с Юрой Каценеленбогеном знакомы?
– С Юрой Каценеленбогеном? Что-то знакомое. Имя Юра мне где-то встречалось. Определенно встречалось. Фамилию Каценеленбоген слышу впервые.
Найман и Губин долго спорили, кто из них более одинок.
Рейн с Вольфом чуть не подрались из-за того, кто опаснее болен.
Ну, а Шигашов и Горбовский вообще перестали здороваться. Поспорили о том, кто из них менее вменяемый. То есть менее нормальный.
– Толя, – зову я Наймана, – пойдемте в гости к Леве Друскину.
– Не пойду, – говорит, – какой-то он советский.
– То есть как это советский? Вы ошибаетесь!
– Ну антисоветский. Какая разница.
Звонит Найману приятельница:
– Толечка, приходите обедать. Возьмите по дороге сардин, таких импортных, марокканских… И еще варенья какого-нибудь… Если вас, конечно, не обеспокоят эти расходы.
– Совершенно не обеспокоят. Потому что я не куплю ни того ни другого.
Толя и Эра Найман – изящные маленькие брюнеты. И вот они развелись. Идем мы однажды с приятелем по улице. А навстречу женщина с двумя крошечными тойтерьерами.
– Смотрите, – говорит приятель, – Толя и Эра опять вместе.
Найман и один его знакомый смотрели телевизор. Показывали фигурное катание.
– Любопытно, – говорит знакомый, – станут Белоусова и Протопопов в этот раз чемпионами мира?
Найман вдруг рассердился:
– Вы за Протопопова не беспокойтесь! Вы за себя беспокойтесь!
Однажды были мы с женой в гостях. Заговорили о нашей дочери. О том, кого она больше напоминает. Кто-то сказал:
– Глаза Ленины.
А Найман вдруг говорит:
– Глаза Ленина, нос – Сталина.
Оказались мы в районе новостроек. Стекло, бетон, однообразные дома. Я говорю Найману:
– Уверен, что Пушкин не согласился бы жить в этом мерзком районе.
Найман отвечает:
– Пушкин не согласился бы жить… в этом году!
Найман и Бродский шли по Ленинграду. Дело было ночью.
– Интересно, где здесь Южный Крест? – спросил вдруг Бродский.
(Как известно, Южный Крест находится в соответствующем полушарии.)
Найман сказал:
– Иосиф! Откройте словарь Брокгауза и Ефрона. Найдите там букву А. И поищите там слово «Астрономия».
Бродский ответил:
– Вы тоже откройте словарь на букву А. И поищите там слово «Астроумие».
Писателя Воскобойникова обидели американские туристы. Непунктуально вроде бы себя повели. Не явились в гости. Что-то в этом роде.
Воскобойников надулся.
– Я, – говорит, – напишу Джону Кеннеди письмо. Мол, что это за люди, даже не позвонили.
А Бродский ему и говорит:
– Ты напиши «до востребования». А то Кеннеди ежедневно бегает на почту и все жалуется: «Снова от Воскобойникова ни звука!..»
Беседовали мы как-то с Воскобойниковым по телефону.
– Еду, – говорит, – в Разлив. Я там жилье снял на лето.
Тогда я спросил:
– Комнату или шалаш?
Воскобойников от испуга трубку повесил.
Воскобойникову дали мастерскую. Без уборной. Находилась мастерская рядом с Балтийским вокзалом. Так что Воскобойников мог использовать железнодорожный сортир. Но после двенадцати заходить туда разрешалось лишь обладателям билетов. То есть пассажирам. Тогда Воскобойников приобрел месячную карточку до ближайшей остановки. Если не ошибаюсь, до Боровой. Карточка стоила два рубля. Безобидная функция организма стоила Воскобойникову – шесть копеек в день. То есть полторы-две копейки за мероприятие. Он стал, пожалуй, единственным жителем города, который мочился за деньги. Характерная для Воскобойникова история.
Воскобойников:
– Разве не все мы – из литобъединения Бакинского?
– Мы, например, из гоголевской «Шинели».
Шли выборы руководства Союза писателей в Ленинграде. В кулуарах Минчковский заметил Ефимова. Обдав его винными парами, сказал:
– Идем голосовать?
Пунктуальный Ефимов уточнил:
– Идем вычеркивать друг друга.
Володя Губин был человеком не светским.
Он говорил:
– До чего красивые жены у моих приятелей! У Вахтина – красавица! У Марамзина – красавица! А у Довлатова жена – это вообще что-то необыкновенное! Я таких, признаться, даже в метро не встречал!
Художника Копеляна судили за неуплату алиментов. Дали ему последнее слово.
Свое выступление он начал так:
– Граждане судьи, защитники… полузащитники и нападающие!..
У Эдика Копеляна случился тяжелый многодневный запой. Сережа Вольф начал его лечить. Вывез Копеляна за город.
Копелян неуверенно вышел из электрички. Огляделся с тревогой. И вдруг, указывая пальцем, дико закричал:
– Смотри, смотри – птица!
У Валерия Грубина, аспиранта-философа, был научный руководитель. Он был недоволен тем, что Грубин употребляет в диссертации много иностранных слов. Свои научные претензии к Грубину он выразил так:
– Да хули ты выебываешься?!
Встретились мы как-то с Грубиным. Купили «маленькую». Зашли к одному старому приятелю. Того не оказалось дома.
Мы выпили прямо на лестнице. Бутылку поставили в угол. Грубин, уходя, произнес:
– Мы воздвигаем здесь этот крошечный обелиск!
Грубин с похмелья декламировал:
- Пока свободою горим,
- Пока сердца для чести живы,
- Мой друг, очнись и поддадим!..
У Иосифа Бродского есть такие строчки:
- Ни страны, ни погоста
- Не хочу выбирать,
- На Васильевский остров
- Я приду умирать…
Так вот, знакомый спросил у Грубина:
– Не знаешь, где живет Иосиф Бродский?
Грубин ответил:
– Где живет, не знаю. Умирать ходит на Васильевский остров.
Валерий Грубин – Тане Юдиной:
– Как ни позвоню, вечно ты сердишься. Вечно говоришь, что уже половина третьего ночи.
Повстречали мы как-то с Грубиным жуткого забулдыгу. Угостили его шампанским. Забулдыга сказал:
– Третий раз в жизни ИХ пью!
Он был с шампанским на «вы».
Оказались мы как-то в ресторане Союза журналистов. Подружились с официанткой. Угостили ее коньяком. Даже вроде бы мило ухаживали за ней. А она нас потом обсчитала. Если мне не изменяет память, рублей на семь. Я возмутился. Но мой приятель Грубин сказал:
– Официант как жаворонок. Жаворонок поет не оттого, что ему весело. Пение – функция его организма. Так устроена его гортань. Официант ворует не потому, что хочет тебе зла. Официант ворует даже не из корысти. Воровство для него – это функция. Физиологическая потребность организма.
Грубин предложил мне отметить вместе ноябрьские торжества. Кажется, это было 60-летие Октябрьской революции.
Я сказал, что пить в этот день не буду. Слишком много чести. А он и говорит:
– Не пить – это и будет слишком много чести. Почему же это именно сегодня вдруг не пить!
Оказались мы с Грубиным в Подпорожском районе. Блуждали ночью по заброшенной деревне. И неожиданно он провалился в колодец. Я подбежал. С ужасом заглянул вниз. Стоит мой друг по колено в грязи и закуривает.