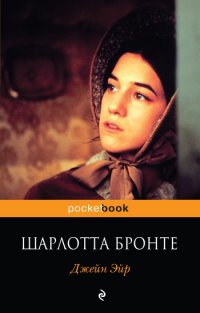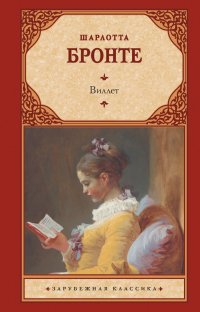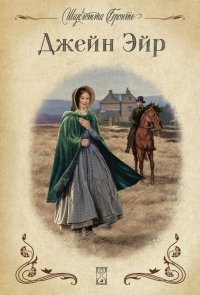Читать онлайн Учитель бесплатно
- Все книги автора: Шарлотта Бронте
Серия «Зарубежная классика»
Перевод с английского У.В. Сапциной
Серийное оформление А.А. Кудрявцева
Компьютерный дизайн Г.В. Смирновой
Предисловие
Эта небольшая книга была написана раньше «Джейн Эйр» и «Шерли», но это не значит, что она, как первая попытка, заслуживает снисходительного отношения. Дебютом она определенно не была, так как перо, написавшее ее, к тому времени уже поистерлось от многолетних упражнений. Да, я действительно ничего не публиковала до «Учителя», но благодаря тому, что не раз решительно уничтожала едва написанное, мне удалось преодолеть свое былое пристрастие к избыточности и украшательству и предпочесть им безыскусную простоту. В то же время я взяла на вооружение ряд принципов, касающихся сюжета и прочего, которые обычно одобряют на словах, но результат применения которых на деле зачастую приносит автору больше удивления, нежели удовольствия.
Я сказала себе, что мой герой должен жить своим трудом, поскольку видела, что своим трудом живут настоящие мужчины, что у него не должно быть ни единого шиллинга, не заработанного им самим, что никакой поворот событий не должен вмиг принести ему богатство и положение, что даже самый скромный опыт должен доставаться потом и кровью, что прежде чем он найдет хотя бы беседку, чтобы присесть, он обязан одолеть не меньше половины подъема на «холм Трудностей», что он ни в коем случае не должен жениться на красавице или аристократке. Будучи сыном Адама, он должен разделить его участь и за свою жизнь испить чашу, в которой отнюдь не преобладают радости.
Однако в дальнейшем я поняла, что издатели в массе своей не одобряют подобного подхода, предпочитая ему более художественный и поэтичный, созвучный прихотливой фантазии с ее пристрастием к пафосу, к более нежным, возвышенным, неземным чувствам. В сущности, пока автор не откажется предоставлять рукописи такого рода, ему никогда не узнать, какие запасы романтичности и сентиментальности скрыты в груди, в которой он ни за что не заподозрил бы наличия подобных богатств. Принято считать, что деловые люди предпочитают действительность; на поверку это убеждение зачастую оказывается ошибочным: явное преобладание неистового, чудесного и воодушевляющего, а также ошеломляющего, душераздирающего и необычного будоражит души тех, кто хранит внешнее спокойствие и здравомыслие.
Читателю следует понимать: чтобы дойти до него в виде книги, это краткое повествование должно было выдержать некоторую борьбу, и действительно, оно немало претерпело. Между тем труднейшие испытания еще впереди, однако оно утешает, приглушает страх, опирается на посох скромных надежд и, обращаясь к читателю, негромко шепчет: «Тому, кто стоит невысоко, незачем опасаться падений».
Каррер Белл
* * *
Приведенное выше предисловие было написано моей женой для публикации романа «Учитель» вскоре после выхода в свет «Шерли». Поскольку ее отговаривали от издания первого из них, писательница воспользовалась материалами романа в последующем произведении – «Городок». Но поскольку эти два повествования разнятся во многих отношениях, мне представляется неправомерным утаивать «Учителя» от читателей. Поэтому я и согласился на публикацию.
Артур Белл Николлс
Приход Хауорт
22 сентября 1856 года
Глава 1
Вступление
Недавно, перебирая бумаги в письменном столе, я нашел черновик письма, которое год назад отправил давнему школьному приятелю:
«Любезный Чарлз, во времена учебы в Итоне ни ты, ни я, что называется, успехом не пользовались: ты был насмешливым и наблюдательным, проницательным и хладнокровным; рисовать собственный портрет я не стану и пытаться, но не припомню, чтобы он отличался особой притягательностью, ведь так? Не знаю, какой животный магнетизм сблизил нас, но я определенно никогда не испытывал к тебе ничего, подобного чувствам Пилада и Ореста, и у меня есть основания полагать, что и ты был в равной степени избавлен от какой бы то ни было романтической привязанности ко мне. Тем не менее в свободное от уроков время мы предавались совместным прогулкам и беседам: когда их темой были наши товарищи или наставники, между нами царило взаимопонимание, когда же я рассуждал о чувствах, неких туманных пристрастиях к чему-либо возвышенному или прекрасному, независимо от того, был этот предмет одушевленным или нет, твое сардоническое безразличие меня не задевало. Уже тогда я ощущал то же превосходство, что и теперь.
С тех пор как я отправил тебе предыдущее письмо, прошло немало времени, а с нашей последней встречи – еще больше. По воле случая мне в руки недавно попала газета вашего графства, и мой взгляд упал на твою фамилию. Я припомнил давние времена, перебрал в памяти события, произошедшие после нашего расставания, и наконец сел и принялся за это письмо. Не знаю, чем ты сейчас занимаешься, но если ты решишь выслушать меня, то узнаешь, как потрепала меня жизнь.
Окончив Итон, я первым делом встретился с моими дядюшками с материнской стороны, лордом Тайндейлом и достопочтенным Джоном Сикомом. Меня спросили, не хочу ли я стать священником, и мой высокородный дядя предложил приход в Сикоме, попечителем которого он был; затем другой дядя, мистер Сиком, намекнул, что, когда я стану ректором Сикома и Скайфа, мне будет позволено сделать хозяйкой своего дома и первой дамой среди прихожанок одну из шести моих кузин, его дочерей, к которым я питал лишь острую неприязнь.
Я отказался и от прихода, и от супружества. Хороший священник – это замечательно, но из меня священник получился бы сквернее некуда. А что касается женитьбы… О, каким кошмаром явилась для меня мысль о том, что я буду навеки связан с одной из моих кузин! Безусловно, они благовоспитанны и миловидны, но ни воспитание, ни обаяние этих особ не рождает отклика в моей душе. Представить не могу, как буду проводить зимние вечера у камина в гостиной дома при церкви в Сикоме, наедине с кем-нибудь из них – к примеру, с этим огромным искусным изваянием Сарой… Нет, в таком случае я буду не только плохим священником, но и никудышным мужем.
После того как я отклонил их предложения, мои дядюшки осведомились, чем же я намерен заняться. Я ответил, что должен еще подумать. Мне напомнили, что у меня нет ни состояния, ни надежды получить наследство, и лорд Тайндейл после продолжительной паузы строго спросил, уж не надумал ли я последовать примеру отца и заняться торговлей. Раньше такое мне и в голову не приходило. Вряд ли с моим складом ума можно стать толковым торговцем, у меня нет вкуса к этому делу, не лежит к нему душа, но лицо лорда Тайндейла, когда он выговорил слово «торговля», отразило столько презрения, он вложил в голос столько пренебрежения и сарказма, что я немедля принял решение. Родной отец для меня – только имя, но я не желаю слушать, как это имя произносят, усмехаясь мне в лицо. Я ответил поспешно и пылко, что лучшим для себя почитаю пойти по стопам отца, и – да, я буду торговцем. Дядюшки не стали возражать; мы с ними расстались, до отвращения недовольные друг другом. Теперь же, вспоминая эту беседу, я убеждаюсь, что правильно поступил, избавившись от бремени опеки Тайндейла, но совершил ошибку, сразу же взвалив на себя новый груз, который, будучи неизвестным, мог оказаться гораздо обременительнее.
Не мешкая, я написал Эдварду – ты знаешь Эдварда, моего единственного брата десятью годами старше меня, женатого на дочери богатого фабриканта и ныне владеющего фабрикой и делом, которое прежде принадлежало моему отцу, пока тот не разорился. Как тебе известно, мой отец, некогда богатый настолько, что его называли Крезом, разорился незадолго до смерти, а матушка пережила его на полгода, вынужденная существовать в нищете, без какой-либо помощи своих высокородных братьев, смертельно оскорбленных ее браком с энширским фабрикантом Кримсуортом. Когда эти шесть месяцев истекли, матушка произвела меня на свет и сама его покинула – думаю, без сожалений, так как уже ни на что не надеялась и ни в чем не находила утешения.
Как и я, до девяти лет Эдвард воспитывался у родственников моего отца. Так вышло, что в то время место представителя важного округа нашего графства пустовало, мистер Сиком претендовал на него. Мой торгашески расчетливый дядя Кримсуорт не упустил случая отправить кандидату резкое письмо, заявив, что, если тот и лорд Тайндейл и впредь не станут оказывать никакой помощи осиротевшим детям своей сестры, он, Кримсуорт, разоблачит эту злонамеренную жестокость и постарается, чтобы обстоятельства на выборах сложились против избрания мистера Сикома. И кандидату, и лорду Тайндейлу были доподлинно известны неразборчивость в средствах и решительность Кримсуортов, а также их влиятельность в округе; добродетельные поневоле, они согласились оплатить мое образование. В Итоне, куда меня отослали, я пробыл десять лет, за все это время ни разу не встретившись с Эдвардом. Став взрослым, он избрал стезю торговли и стремился исполнить свое призвание с таким усердием, искусством и успехом, что теперь, на тридцатом году, обладал солидным состоянием. Об этом он извещал меня редкими и краткими письмами раза три-четыре в год, неизменно заканчивая их свидетельствами непреклонной враждебности к Сикомам и упрекая меня в том, что я, как он выражался, кормлюсь от щедрот их дома. В детстве я поначалу не понимал, почему я, круглый сирота, не должен быть благодарен дядюшкам Тайндейлу и Сикому за свое обучение, но с возрастом, постепенно наслушавшись рассказов об их стойкой неприязни, о том, какую ненависть к моему отцу они проявляли до самой его смерти, о страданиях моей матушки, короче, обо всех злоключениях нашей семьи, я устыдился своего иждивения и решил, что больше ничего не приму из рук тех, кто отказал в куске хлеба моей умирающей матери. Во власти этих чувств я и находился, когда отверг приход в Сикоме и союз с одной из высокородных кузин.
Таким образом, воздвигнув непреодолимую преграду между мной и дядюшками, я написал Эдварду, сообщил ему о случившемся и о своих намерениях последовать по его стопам и заняться торговлей. Мало того, я спросил, не найдется ли у него для меня работы. В ответном письме Эдварда я не увидел похвал моему поступку, но если бы я выразил желание приехать в Эншир, мой брат мог бы «посмотреть, нельзя ли как-нибудь подыскать мне место». Я запретил себе давать оценку его письму даже мысленно, уложил дорожный сундук и саквояж и направился прямиком на север.
Проведя в пути два дня (в то время железных дорог еще не было), дождливым октябрьским полднем я прибыл в город N. Я думал, что там и живет Эдвард, но при расспросах выяснилось, что в дымном Бигбен-Клоузе находятся только фабрика и склады мистера Кримсуорта, а живет он в четырех милях от города.
Был уже поздний вечер, когда я очутился у ворот дома, принадлежащего, как мне указали, моему брату. Шагая по аллее, я разглядывал дом сквозь сумеречные тени и сырой мрачный туман, от которого эти тени становились гуще, и видел, что он огромен, а участок земли, на котором он стоит, достаточно обширен. На лужайке перед домом я помедлил и, прислонившись спиной к дереву, возвышающемуся в самом центре, с любопытством принялся изучать Кримсуорт-Холл снаружи.
«А Эдвард, оказывается, богат», – думал я. Я знал, что дела у него идут неплохо, но и представить себе не мог его хозяином такого особняка.
Пропущу свое восхищение, догадки, домыслы и прочее. Я направился к парадной двери и позвонил. Слуга открыл мне, я назвал свое имя и был избавлен от мокрого плаща и саквояжа. Меня препроводили в комнату, которая была обставлена как библиотека, в ней жарко пылал камин и горели свечи на столе; слуга известил меня, что его хозяин еще не вернулся с N-ской биржи, но будет дома через полчаса.
Предоставленный самому себе, я занял мягкое покойное кресло, обитое красным сафьяном и придвинутое к камину, и, пока мои глаза следили за пляской огня по раскаленным углям и за тем, как время от времени сыплется зола сквозь решетку, разум строил предположения о том, какой будет встреча. В этих предположениях было немало сомнительного, но одно я знал наверняка: умеренность моих надежд избавит меня от жестокого разочарования. Я не ждал избытка проявлений братской любви; письма Эдварда не дали подобным заблуждениям зародиться или окрепнуть. И все-таки в ожидании брата я был взбудоражен, причем не на шутку, сам не знаю почему; моя рука, доныне не знавшая пожатия родственных рук, сжималась сама, усмиряя дрожь, вызванную нетерпением.
Я вспоминал своих дядюшек и гадал, будет ли равнодушие Эдварда под стать холодности и надменности, всегда исходивших от них, когда послышался скрип распахнутых ворот, потом – стук колес экипажа мистера Кримсуорта, подъезжающего к дому, а через несколько минут – краткий разговор между хозяином и слугой в холле и шаги, приближающиеся к дверям библиотеки, – шаги, возвещавшие о появлении владельца этого дома.
У меня еще сохранились воспоминания десятилетней давности об Эдварде – рослом, жилистом, еще зеленом юнце, но теперь, поднявшись и обернувшись к двери библиотеки, я увидел привлекательного мужчину со свежим цветом лица, ладно скроенного и атлетически сложенного; с первого же взгляда я заметил в его глазах, общем выражении лица быстроту и проницательность ума. После лаконичного приветствия, пока мы обменивались рукопожатием, Эдвард окинул меня внимательным взглядом с головы до пят, потом устроился в сафьяновом кресле и жестом предложил мне занять второе.
– Я ждал вас в конторе в Бигбен-Клоуза, – заметил он, и я обратил внимание на его отрывистый выговор, вероятно, ему самому привычный, а также на гортанность, которая после мелодичных голосов южан резала мне слух.
– Хозяин постоялого двора, у которого остановился дилижанс, направил меня сюда, – объяснил я. – Поначалу я не знал, стоит ли ему верить, ведь я даже не подозревал, что вы живете в таком особняке…
– Ну ладно! – прервал он. – Вот только я прождал вас лишних полчаса. Думал, вы прибудете восьмичасовым дилижансом.
Я извинился за то, что заставил его ждать, он не ответил, лишь разворошил угли в камине, словно пытаясь скрыть досаду, а потом снова оглядел меня.
Я был доволен тем, что в первую минуту встречи не выказал ни теплоты, ни воодушевления, а приветствовал этого человека спокойно и бесстрастно.
– Вы окончательно порвали с Тайндейлом и Сикомом? – порывисто спросил он.
– Не думаю, что еще когда-нибудь стану поддерживать с ними связь; видимо, отвергнутые мной предложения послужат непреодолимым препятствием к любому дальнейшему общению.
– Ну а я напомню вам с самого начала наших отношений, что «никто не может служить двум господам»[1]. Общение с лордом Тайндейлом и помощь с моей стороны несовместимы. – Закончив это предостережение, Эдвард взглянул на меня, и в его глазах показалась беспричинная угроза.
Не расположенный отвечать, я довольствовался размышлениями о различиях в складе человеческого ума. Какие выводы сделал из моего молчания мистер Кримсуорт – неизвестно: то ли счел его признаком упрямства, то ли решил, что я напуган его безапелляционностью. Задержав на мне долгий и пристальный взгляд, он вдруг поднялся со своего места.
– Об остальном поговорим завтра, – заявил он, – а теперь пора ужинать, миссис Кримсуорт ждет. Вы идете?
Он вышел из комнаты, я последовал за ними. Пересекая холл, я размышлял, какой окажется миссис Кримсуорт. «Далека ли она от всего, что мне нравится, настолько же, как Тайндейл, Сиком, барышни Сиком, как любящий родственник, за которым я сейчас иду? Или она гораздо лучше их всех? Смогу ли я в разговоре с ней дать себе волю, выказать свою истинную натуру и…» Дальнейшие домыслы закончились нашим приходом в столовую.
Лампа с абажуром из матового стекла освещала красивую комнату с дубовыми панелями; стол был накрыт к ужину, у камина, по-видимому, ожидая нас, стояла дама – молодая, высокая ростом и хорошо сложенная, в нарядном и модном платье. Все это я заметил сразу же.
Дама и мистер Кримсуорт весело поприветствовали друг друга; обиженно и вместе с тем игриво она попеняла ему за опоздание, ее голос (я всегда обращаю внимание на голос, когда сужу о характере) был звонким и, как я решил, указывал на изрядное жизнелюбие. Мистер Кримсуорт вскоре прервал бурный поток ее упреков поцелуем – поцелуем молодожена (они были женаты меньше года), и его жена в прекрасном расположении духа заняла свое место за столом. Спохватившись, она извинилась за то, что не сразу заметила меня, и пожала мне руку, как это делают дамы, когда хорошее настроение располагает их к общению даже с теми, кто им совершенно безразличен. Теперь я уже видел, что цвет лица у нее свежий, черты отчетливые, приятные, а волосы ярко-рыжие.
Супруги возобновили оживленный разговор; миссис Кримсуорт сердилась или делала вид, что сердится, на то, что в тот день Эдвард велел запрячь в свою двуколку норовистого коня, а Эдвард уверял, что ее опасения напрасны.
Иногда миссис Кримсуорт обращалась ко мне:
– Мистер Уильям, вы только послушайте, что говорит Эдвард! Он твердит, что не станет править никаким другим конем, кроме Джека, а этот негодник уже дважды опрокидывал его экипаж.
Она слегка шепелявила, но не противно, а по-детски. Вскоре я заметил, что это не просто женское кокетство: что-то инфантильное проглядывало в ее отнюдь не младенческих чертах. Несомненно, со своей шепелявостью и ужимками она казалась очаровательной Эдварду, и, вероятно, ее сочло бы таковой большинство других мужчин, но только не я. Глядя в ее глаза, я стремился увидеть ум, которого не заметил на лице и не услышал в разговоре; глаза были довольно малы и веселы, в них поочередно отражались живость, тщеславие, кокетство, но не было заметно ни проблеска души. Красавицы в восточном духе меня не прельщают: белой шейки, кармина губ и щек, каскадов атласных кудрей мне мало без прометеевой искры, которая уцелеет, когда увянут розы и лилии и пламя волос подернется пеплом седины. Цветение уместно в лучах солнца и преуспевания, но в жизни немало и дождливых, тягостных ноябрьских дней, когда домашний очаг холоден без чистого, радостного блеска ума.
Я изучил чистую страницу лица миссис Кримсуорт и невольно выдал разочарование глубоким вздохом, который она, однако, приняла за знак восхищения ее красотой, а Эдвард, явно гордый богатой и прелестной молодой женой, взглянул на меня отчасти насмешливо и отчасти раздраженно.
Я начал устало разглядывать комнату и заметил две картины в дубовых рамах – по одной с каждой стороны от каминной полки. Не принимая более участия в шутливой болтовне мистера и миссис Кримсуорт, я направил свои мысли на новый предмет. Это были портреты дамы и джентльмена, одетых по моде двадцатилетней давности. На изображение джентльмена падала тень, разглядеть его не удавалось. Зато даму озарял мягкий свет лампы под абажуром. Я сразу же узнал в этой даме мою матушку: картину я видел и раньше, в детстве, и вместе с парной ей она составляла все наследство, уцелевшее от распродажи отцовского имущества.
Помню, мне и в детстве нравилось матушкино лицо, но тогда я не понимал всей его прелести. Теперь же, зная, насколько редко встречаются подобные лица в мире, я сумел оценить его задумчивое и вместе с тем ласковое выражение. Взгляд серьезных серых глаз завораживал меня, черты лица свидетельствовали о глубине и нежности чувств. Жаль, что это была всего лишь картина.
Вскоре я оставил мистера и миссис Кримсуорт наедине, слуга проводил меня в спальню. Закрыв дверь отведенной мне комнаты, я отгородился от всего мира, в том числе и от тебя, Чарлз.
На этом прощаюсь,
Уильям Кримсуорт».
Это письмо так и осталось без ответа: не успев получить его, мой друг был назначен на правительственный пост в одну из колоний и уже направлялся к будущему месту службы. Дальнейшая судьба Чарлза мне неизвестна.
Досуг, которым я располагаю и который намеревался потратить ради пользы одного только друга, теперь я посвящу широкой публике. В моем повествовании нет ничего захватывающего, а тем более удивительного, однако оно может вызвать интерес у тех, кто, избрав ту же стезю, что и я, найдет в моем опыте неоднократные отражения собственного. Приведенное выше письмо служит к нему вступлением. Итак, я продолжаю.
Глава 2
За туманным вечером моего знакомства с Кримсуорт-Холлом последовало ясное октябрьское утро. Я поднялся рано и отправился прогуляться по широкой, как в парке, лужайке, окружающей дом. Под осенним солнцем, вставшим над энширскими полями, взгляду открылась живописная местность: приглушенно-темные тона лесов чередовались с пятнами убранных полей; мелькающая между деревьями река несла на поверхности холодный отсвет октябрьского солнца и неба; высокие трубы по берегам, похожие на стройные башни, указывали, что за деревьями скрыты фабрики; особняки, подобные Кримсуорт-Холлу, занимали лучшие участки на склонах холмов, и в целом местность производила впечатление активной деятельности и плодовитости. Паровые машины и торговля давно изгнали отсюда романтизм и уединенность. В пяти милях от дома, в чаше долины между холмами, находился большой город N. Плотный дым нависал, не поднимаясь, над этим местом – там располагалось предприятие Эдварда.
Я принуждал себя изучать эту перспективу, принуждал свой разум задуматься о ней, а когда убедился, что не радуюсь и не чувствую пробуждения надежд, каким полагалось бы возникнуть в сердце при виде места, где мне предстояло сделать карьеру, то сказал себе: «Уильям, ты идешь наперекор своей судьбе, ты глуп и сам не знаешь, чего хочешь; ты выбрал торговлю – значит, будешь торговцем. Смотри! – продолжал я. – Смотри на дым и копоть вон в той низине и знай, что там твое место! И там надо не витать в облаках, не размышлять и строить догадки, а работать!»
Отчитав сам себя, я вернулся в дом. Брат уже был в утренней столовой. Я поздоровался с ним сдержанно, проявить радость я просто не смог. Брат стоял на ковре спиной к камину – и как же много я прочел в его глазах, когда подошел пожелать ему доброго утра, как же это все противоречило моей натуре! «Доброе утро» он сказал отрывисто, кивнул, а потом не взял, а сгреб со стола газету и начал читать ее с начальственным видом человека, под любым предлогом стремящегося избежать скучного разговора с низшим по положению. Если бы я не дал себе наказ набраться терпения, его манеры сделали бы невыносимой неприязнь, которую я старался подавить в себе. Я смотрел на него, оценивал его крепкое и мощное телосложение, потом переводил взгляд на собственное отражение в зеркале над каминной полкой и ради развлечения сравнивал увиденное. В сущности, я был похож на брата, хотя и не так хорош собой: мои черты были не столь правильными, глаза темнее, лоб шире, а сложением я, слабый, худой, ниже ростом, значительно уступал ему. Внешне Эдвард значительно превосходил меня, и я понимал: если он выкажет не только физическое, но и умственное превосходство, мне придется довольствоваться положением раба, ибо не следовало ждать от него львиного великодушия к тем, кто слабее; холодный, алчный взгляд, строгость и неприступность свидетельствовали о неумении щадить. Хватило бы мне в то время силы разума, чтобы противостоять ему? Не знаю, я и не пытался.
На время мои мысли прервало появление миссис Кримсуорт. Она выглядела превосходно, была в белом, ее лицо и наряд блистали утренней и молодой свежестью. Я обратился к ней с той степенью легкости, на которую, казалось бы, давала право ее вчерашняя беспечность и веселость, но она ответила сдержанно и прохладно: супруг наставил ее, предостерег от фамильярностей с его подчиненным.
Сразу после завтрака мистер Кримсуорт сказал, что экипаж скоро будет у дверей и что через пять минут я должен быть готов отправиться с ним в N.
Я не задержал его, и вскоре мы уже мчались по дороге. Мистер Кримсуорт правил тем самым норовистым конем, опасения насчет которого его жена высказывала накануне вечером. Раза два Джек попытался было заупрямиться, но хозяин быстро подчинил его себе хлесткими и решительными ударами кнута в безжалостной руке. Раздувающиеся ноздри Эдварда говорили о том, что он доволен победой; за все время поездки он ни разу не обратился ко мне, а если и открывал рот, то лишь для того, чтобы побранить коня.
N. уже кипел и бурлил, когда мы въехали в него; мы миновали чистые улицы с жилыми домами, церквями, лавками и прочими заведениями, оставили их позади и свернули к фабрикам и складам, где вкатились через массивные ворота на огромный мощеный двор. Мы приехали в Бигбен-Клоуз. Фабрика перед нами изрыгала копоть из высокой трубы и тряслась толстыми кирпичными стенами от движения ее железного чрева. Рабочие сновали туда-сюда, на какую-то тележку складывая свернутые куски ткани. Мистер Кримсуорт обвел двор взглядом и, похоже, вмиг понял, что происходит; он спешился, поручил экипаж и коня заботам какого-то человека, поспешно принявшего у него поводья, и жестом велел мне следовать за ним в контору.
Мы вошли в разительно отличавшееся от комнат Кримсуорт-Холла помещение, предназначенное для дел, с голым дощатым полом, несгораемым шкафом, двумя высокими столами-конторками, табуретами и несколькими стульями. Человек, сидящий за одним из столов, при появлении мистера Кримсуорта снял шапку и уже через минуту вернулся к своему занятию – не знаю, чем он был занят, письмом или подсчетами.
Мистер Кримсуорт снял макинтош и присел к огню. Я стоял возле камина, пока он не произнес:
– Стейтон, выйдите, мне надо обсудить дела с этим джентльменом. Вернетесь, когда услышите звонок.
Человек, которого он назвал Стейтоном, оставил свою работу и вышел, притворив за собой дверь. Мистер Кримсуорт разворошил угли в камине, скрестил руки на груди и некоторое время сидел, задумавшись, сжав губы и нахмурив брови. Мне не оставалось ничего другого, кроме как разглядывать его: как отчетливы и точны его черты! Как он хорош собой! Откуда же тогда эти признаки ограниченности – в узком и тяжелом лбе, во всем его лице?
Обернувшись ко мне, он начал без предисловий:
– Вы прибыли в Эншир, чтобы научиться торговому делу?
– Да.
– Это решение вы приняли окончательно? Прошу сказать мне об этом сразу.
– Да.
– Так вот, помогать вам я не обязан, но вакантное место у меня есть – конечно, если вы годитесь для такой работы. Я беру вас на пробу. Что вы умеете? Что знаете, кроме бесполезной чепухи, которой вас напичкали за годы учебы, – латыни, греческого и тому подобного?
– Я изучал математику…
– Чушь! Именно что «изучал».
– Умею читать и писать по-французски и по-немецки.
– Хм… – Подумав, он открыл ящик ближайшего к нему стола, вынул какое-то письмо и протянул мне. – Можете прочесть?
Письмо оказалось коммерческим, написанным по-немецки. Я перевел его, но так и не понял, остался доволен брат или нет – его лицо было непроницаемо.
– Хорошо, что вас научили хоть чему-то полезному, – помолчав, сказал он, – тому, что поможет вам заработать себе на жилье и стол. Поскольку вы знаете французский и немецкий, я возьму вас вторым клерком и поручу вести переписку с заграницей. Вам будет назначено недурное жалованье – девяносто фунтов в год. И вот еще что… – продолжал он, повысив голос, – выслушайте и запомните раз и навсегда насчет нашего родства и прочей ерунды. До нее мне никогда не было дела, она не в моих правилах. Я ничего не спущу вам только потому, что вы мой брат, и если окажется, что вы глупы, небрежны, рассеянны, ленивы, если вам свойственны другие недостатки, способные причинить ущерб предприятию, я выставлю вас вон так же, как любого другого клерка. Свои девяносто фунтов вам предстоит усердно отрабатывать; помните, что здесь уместно лишь то, что имеет практическую ценность, – привычки, чувства, мысли, способствующие делу. Понятно?
– Отчасти, – подтвердил я. – Полагаю, вы имеете в виду, что жалованье я буду получать только за работу и что мне лучше не рассчитывать ни на ваши милости, ни на какую-либо помощь, помимо заработанного. Все это меня устраивает, на таких условиях я согласен быть вашим клерком.
Я повернулся и отошел к окну; на этот раз я не стал изучать выражение лица моего собеседника, да и не имел такого желания.
Помолчав несколько минут, он продолжал:
– Видимо, вы рассчитываете жить в Кримсуорт-Холле и ездить в контору вместе со мной. Однако я считаю необходимым известить вас, что это доставит мне немало неудобств. На случай если мне понадобится привезти к себе в гости кого-нибудь из деловых партнеров, второе место в моей двуколке должно оставаться свободным. Так что подыщите себе жилье в N…
Я вернулся от окна к камину.
– Разумеется, подыщу, – ответил я. – Мне самому было бы неудобно жить в Кримсуорт-Холле.
Мой голос, как всегда, звучал спокойно. Но голубые глаза мистера Кримсуорта вспыхнули, и он попытался взять реванш странным образом. Глядя на меня, он без обиняков заявил:
– Вы наверняка бедны. Как же вы рассчитываете жить, пока не получите жалованье за три месяца?
– Как-нибудь.
– Как вы намерены жить? – еще раз спросил он, повысив голос.
– Как получится, мистер Кримсуорт.
– Влезете в долги – выпутывайтесь сами, и точка, – заключил он. – Вы, должно быть, привыкли жить на широкую ногу; если так, отвыкайте. Такого я не потерплю, и как бы вы ни погрязли в долгах, я не дам ни шиллинга сверх того, что вам причитается, имейте в виду.
– Да, мистер Кримсуорт, вы увидите, что у меня хорошая память.
Больше я ничего не добавил, считая, что время для затяжных разговоров еще не пришло. У меня создалось отчетливое впечатление, что часто выводить из себя такого человека, как Эдвард, было бы глупо. И я сказал себе: «Я подставлю чашу моего терпения под эту неустанную капель, и пусть стоит она на этом месте неизменно, пока не переполнится, а там будет видно. Две вещи несомненны: я способен выполнять работу, порученную мне мистером Кримсуортом, и могу честным трудом заработать столько, что мне хватит на жизнь. А в том, что моему брату вздумалось держаться со мной, как подобает надменному и суровому хозяину, нет моей вины. Но заставит ли меня это несправедливое, дурное обращение свернуть с избранного пути? Нет, а если я и сойду с него, то прежде успею пройти столько, чтобы увидеть, как складывается моя карьера. А пока я жмусь к вратам – довольно тесным вратам, – стало быть, цель стоит того, чтобы в них войти».
Пока я предавался этим рассуждениям, мистер Кримсуорт позвонил, призывая вернуться первого конторщика, высланного из комнаты перед началом нашего разговора.
– Мистер Стейтон, – обратился к нему мой брат, – покажите мистеру Уильяму письма от «Братьев Восс» и дайте ему копии ответов на английском, он их переведет.
Мистер Стейтон, человек лет тридцати пяти, с лицом лисьим и в то же время одутловатым, поспешно подчинился, выложил письма на конторку, за которую я сел, сразу же взявшись переводить ответы с английского на немецкий. Ни с чем не сравнимое удовольствие, которое доставила мне эта первая попытка заработать себе на хлеб, не было отравлено даже присутствием моего работодателя и не ослабело от того, что он пристально следил, как я пишу. Похоже, он пытался раскусить меня, но для его испытующего взгляда я был неуязвим, словно в шлеме с опущенным забралом; или, скорее, разглядывать меня я давал ему с тем же непоколебимым спокойствием, с каким показывал бы неграмотному письмо, написанное на греческом языке: тот видел бы линии, мог бы скопировать буквы, но ничего в этом письме не понял бы; так и натура моя ничуть не была похожа на натуру наблюдателя, и ее знаки были для него письмом на незнакомом языке. Вскоре Стейтон резко отвернулся, словно озадачившись, и покинул контору, но в тот день еще дважды возвращался, оба раза смешивал в стакане бренди с водой, доставая все необходимое для этого из буфета сбоку от камина, выпивал приготовленный напиток, заглядывал в мои переводы – он читал по-французски и по-немецки – и молча уходил.
Глава 3
Вторым клерком у Эдварда я служил верой и правдой, проявляя усердие и методичность. Мне хватало и сил, и решимости справляться с порученным делом. Мистер Кримсуорт не спускал с меня глаз в ожидании хоть какого-нибудь промаха, но тщетно; он велел также приглядывать за мной Тимоти Стейтону, своему любимцу и моему начальнику. Тим недоумевал: в точности я не уступал ему, а проворством превосходил. Мистер Кримсуорт расспрашивал о том, как я живу, не наделал ли долгов – но нет, с домовладелицей, у которой я снял жилье, мы всегда были в расчете. Я подыскал себе скромное жилье, оплачивать которое умудрялся благодаря остаткам сэкономленных еще во время учебы в Итоне карманных денег; клянчить денежную помощь мне настолько претило, что я рано приобрел привычку экономить, ограничивая себя во всем. Месячное содержание я расходовал скупо, чтобы в дальнейшем даже в случае острой нужды не пришлось молить о помощи. В то время многие упрекали меня в жадности, а я в ответ утешался мыслью: лучше быть превратно понятым, чем отвергнутым. Награду за свою предусмотрительность я получал не только теперь, но и прежде, когда расставался с моими рассерженными дядюшками: я мог позволить себе не взять банкноту в пять фунтов, которую один из них бросил на стол передо мной, и заявить, что уже позаботился об оплате дорожных расходов. Мистер Кримсуорт через Тима пытался выяснить, не жалуется ли квартирная хозяйка на мой нравственный облик. Она ответила, что я произвел на нее впечатление в высшей степени набожного человека, и, в свою очередь, спросила Тима, не знает ли он, случайно, нет ли у меня намерений когда-нибудь стать священником, пояснив, что помощники приходских священников, ранее квартировавшие у нее, не могли сравниться со мной спокойствием и уравновешенностью. Тиму, также «набожному» приверженцу методистской церкви, это обстоятельство, как и следовало ожидать, ничуть не мешало быть прожженным негодяем, потому уверения в моем благочестии весьма озадачили его. Он поделился услышанным с мистером Кримсуортом, и тот, будучи в храме редким гостем, поклонявшимся разве что маммоне, обратил полученные сведения в оружие, решив вывести меня из равновесия. Мистер Кримсуорт начал с издевательских намеков, а я не понимал, к чему он клонит, пока моя хозяйка не обмолвилась случайно о беседе, которая состоялась у нее с мистером Стейтоном, и положение сразу прояснилось. Впредь я приходил в контору подготовленным, а когда в меня были направлены очередные кощунственные издевки моего работодателя, умел отразить их щитом непроницаемого равнодушия. Тратить стрелы на истукана ему вскоре наскучило, однако он не выбросил их, а приберег в колчане.
Однажды меня пригласили в Кримсуорт-Холл, где по случаю дня рождения хозяина устроили пышный прием. Мистер Кримсуорт давно завел обычай приглашать своих клерков на подобные празднования, поэтому не позвать меня не мог, но бдительно следил, чтобы я поменьше попадался на глаза гостям. Разодетая в атлас и кружево, блистающая молодостью и красотой, миссис Кримсуорт удостоила меня неопределенного жеста издалека; мистер Кримсуорт, конечно, ни разу не обратился ко мне; меня не представили ни одной из юных леди, которые, окутанные серебристыми облачками белой кисеи и муслина, сидели рядком у противоположной стены просторной длинной комнаты. Отделенный, по сути дела, от всех, я мог лишь наблюдать за небожителями издали, а когда устал от этого блеска, принялся для разнообразия изучать рисунок ковра.
Стоя на этом ковре и опираясь локтем на мраморную каминную полку, мистер Кримсуорт собрал вокруг себя самых хорошеньких девушек, весело беседовал с ними и с высоты своего положения поглядывал на меня – я выглядел усталым, одиноким, пришибленным, как какой-нибудь незадачливый репетитор или гувернантка, и он остался доволен.
Начались танцы; я был бы не прочь познакомиться с какой-нибудь привлекательной и умной девушкой и, воспользовавшись шансом, доказать, что и мне не чужда радость общения, словом, что я не чурбан, не предмет мебели, а деятельный, мыслящий и чувствующий человек. Мимо меня проплывали в танце улыбающиеся лица и грациозные фигурки, но эти улыбки предназначались другим, и не мои, а чужие руки обнимали эти талии. Не выдержав танталовых мук, я отвернулся от танцующих и побрел в обшитую дубом столовую. Ни одна живая душа в этом доме не вызывала у меня ни толики симпатии; осмотревшись, я остановил взгляд на портрете моей матери, вынул из шандала восковую свечу и поднес ближе к картине. Я всматривался долго и внимательно, прикипая к этому изображению всем сердцем, и убедился, что унаследовал от матушки выразительность лица и его цвет, мне достались также ее лоб и ее глаза. Признанная красота никогда не льстит эгоистичной человеческой натуре так, как ее собственное смягченное и усовершенствованное подобие, потому отцы и вглядываются с таким самодовольством в лица дочерей, замечая, как выигрывает их внешность благодаря нежности оттенков и мягкости очертаний. Я как раз пытался представить себе, какое впечатление эта картина, столь примечательная для меня, производит на беспристрастного зрителя, когда за моей спиной кто-то произнес:
– Хм, на этом лице виден ум.
Я обернулся: рядом со мной стоял рослый мужчина, пятью-шестью годами старше меня, обладатель далеко не заурядной внешности, но поскольку сейчас я не расположен подробно описывать его, читателю придется удовлетвориться теми сведениями, которые я только что сообщил. В тот момент я сам больше не успел ничего заметить – ни к его бровям, ни к глазам я не присматривался, увидел лишь осанку, очертания фигуры, да еще приметный retrousse[2] нос. Этого оказалось достаточно, чтобы я узнал подошедшего.
– Добрый вечер, мистер Хансден, – с поклоном пробормотал я и со свойственной мне робостью начал отступать – и почему? Потому что мистер Хансден – промышленник, фабрикант, а я всего-навсего клерк, которому чутье предписывало держаться в стороне от тех, кто выше по положению. Хансдена я часто видел в Бигбен-Клоузе, куда он чуть ли не каждую неделю приезжал по делам к мистеру Кримсуорту, но я ни разу не обращался к нему, как и он ко мне. Невольно я даже затаил на него обиду, так как мистер Хансден не раз становился молчаливым свидетелем оскорблений, которые наносил мне Эдвард. Я не сомневался в том, что мистер Хансден считает меня трусливым рабом, и потому спешил удалиться, чтобы избежать разговора с ним.
– Вы куда? – спросил он, заметив, что я намереваюсь уйти.
Я уже знал за ним привычку к резким выражениям и строптиво сказал себе: «Он считает, что с бедным клерком можно не церемониться, но что бы он ни думал, я не настолько уступчив, и его грубые вольности мне совсем не по душе».
Я что-то ответил, скорее безразлично, чем учтиво, но не остановился.
Мистер Хансден преспокойно встал на моем пути.
– Побудьте здесь, – велел он. – В зале жарко, и потом, вы не танцуете – у вас же нет пары.
Он был прав, вдобавок не вызвал у меня неприязни ни своим видом, ни тоном, ни обхождением; мое уязвленное amour-propre[3] смягчилось, ведь он не снизошел до меня, а просто, выйдя освежиться в прохладную столовую, захотел развлечься разговором хоть с кем-нибудь. Чужой снисходительности я не терпел, но был не прочь сделать одолжение, потому и остался.
– А картина хороша, – продолжал он, возвращаясь к портрету.
– Это лицо вам кажется приятным? – спросил я.
– Приятным? С этими запавшими глазами и худыми щеками? Нет, какое там, но в нем есть исключительность, видна мысль. Будь эта женщина жива, побеседовать с ней можно было бы не только о нарядах, визитах и комплиментах.
Я согласился с ним, но мысленно, а он продолжал:
– Это не значит, что я восхищаюсь подобными лицами: в них мало силы и характера и слишком уж много де-ли-кат-ности (он произнес это слово с расстановкой, округляя губы) в очертаниях этого рта; и потом, здесь на лбу написано «аристократка», а этих ваших аристократов я не выношу.
– Стало быть, вы полагаете, мистер Хансден, что благородство происхождения можно распознать по характерным особенностям лица и фигуры?
– К чертям благородство происхождения! Разве кто-то сомневается, что у отпрысков знатных семейств есть свои «характерные особенности лица и фигуры», как у нас, энширских коммерсантов, есть свои? Вот только чьи лучше? Ясно, что не их. А что до их женщин, разница невелика: они с детства лелеют свою красоту и могут благодаря уходу и воспитанию достичь известных успехов, совсем как восточные одалиски. Но даже это преимущество сомнительно. Сравните даму, изображенную на этом портрете, с миссис Эдвард Кримсуорт – какое животное породистее?
Я невозмутимо ответил:
– Сравните себя и мистера Эдварда Кримсуорта, мистер Хансден.
– О, я знаю, что Кримсуорт крепче сложен, вдобавок его украшают прямой нос, выгнутые дугой брови и так далее, но все эти достоинства, если считать их таковыми, достались ему не от матери-аристократки, а от отца, старого Кримсуорта, который, по словам моего отца, был искуснейшим энширским красильщиком из всех, кто когда-либо закладывал в чан индиго, и к тому же славился красотой на три ближайших округа. В вашем семействе аристократ вы, Уильям, а вам далеко до своего брата-плебея.
Как ни странно, прямота мистера Хансдена пришлась мне по душе, поскольку успокаивала меня и ободряла. Разговор принимал любопытный оборот.
– Как же вышло, что вам известно о том, что я брат мистера Кримсуорта? Я думал, все вокруг считают меня бедным клерком.
– Верно, так мы и считаем, а кто же вы, если не бедный клерк? Вы работаете на Кримсуорта, а он вам платит, причем жалкие гроши.
Я молчал. Хансден дошел до грани дерзости, но я нисколько не чувствовал себя оскорбленным – скорее во мне разыгралось любопытство, мне хотелось, чтобы он продолжал, что он и сделал немного погодя.
– Бессмысленно устроен мир, – сказал он.
– Отчего же, мистер Хансден?
– Странно, что об этом спрашиваете вы – наглядное свидетельство той самой бессмыслицы, о которой я говорю.
Я считал, что объясниться он должен по своему почину, без моих расспросов, и продолжал молчать.
– Так вы намерены стать торговцем? – наконец спросил он.
– Да, я твердо принял это решение три месяца назад.
– Ха, вот глупость с вашей стороны… Какой из вас торговец? Разве это лицо прирожденного торговца?
– Мое лицо выглядит таким, каким его сотворил Господь, мистер Хансден.
– Господь сотворил ваше лицо и голову вовсе не для N. Что проку здесь в ваших достоинствах и совестливости? Но если в Бигбен-Клоузе вам нравится, – оставайтесь, это ваше дело, а не мое.
– А если у меня нет выбора?
– Ну а мне-то что? Занимайтесь чем вздумаете, живите где хотите, – мне все равно. А я уже отдышался, хочу еще потанцевать. Вон там, в углу дивана, рядом с мамашей сидит одна милашка – сейчас возьму да и приглашу ее на танец! Уже и Уэдди, Сэм Уэдди, на нее нацелился. Неужто я да не отобью?
И мистер Хансден удалился. В распахнутые двери я видел, как он опередил Уэдди, подал девушке руку и с видом триумфатора повел ее танцевать.
Его избранница была рослой, хорошо сложенной, статной и пышно разодетой, во многом похожей на миссис Кримсуорт; воодушевленный Хансден закружил ее в вальсе, потом весь вечер не отходил от нее, и, судя по оживленному и довольному лицу его собеседницы, он сумел произвести на нее выгодное впечатление. Ее мамашу, полнотелую даму в тюрбане, носившую фамилию Лаптон, происходящее вполне устраивало; вероятно, ей уже представлялись самые заманчивые картины. Хансдены – старинный род, и, несмотря на все пренебрежение Йорка (так звали моего недавнего собеседника) к преимуществам, достающимся по праву рождения, в глубине души он наверняка знал и ценил выгоду, которую принадлежность к древнему, хоть и незнатному роду обеспечивала ему в быстро растущем N., где, как говорится, разве что один из тысячи знал своего деда. Более того, некогда богатые Хансдены по-прежнему считались состоятельными, и Йорк, которому сопутствовала удача в делах, по слухам, намеревался возвратить прежнее процветание своему отчасти обедневшему дому. Потому на широком лице миссис Лаптон и застыла довольная улыбка при созерцании наследника Хансден-Вуда, несомненно, имеющего виды на ее душечку Сару Марту. Но мои наблюдения, менее беспокойные и потому более точные, вскоре указали на то, что матери рановато поздравлять себя с победой: на мой взгляд, кавалер ее дочери был не столько под впечатлением, сколько сам стремился произвести таковое. Почему-то мистер Хансден, за которым я наблюдал за неимением других занятий, время от времени казался мне иностранцем. С виду он был англичанином, хоть и с примесью чего-то галльского, но английской скромностью не обладал: каким-то образом он усвоил искусство непринужденности и не позволял нерешительности становиться препятствием между ним и его удобством или удовольствием. Далеко не изысканный, он не был и вульгарным, чудаком или оригиналом. Людей, подобных ему, я прежде не встречал; в целом его манеры выдавали полное, безграничное самодовольство. Однако временами неопределенная тень набегала, как при затмении, на его лицо и казалась мне знаком внезапного и острого сомнения в себе, своих словах и поступках, сильной неудовлетворенностью своей жизнью или положением в обществе, своими перспективами или знаниями – не знаю, чем именно; возможно, виной всему были просто его прихоти и непостоянство.
Глава 4
Никто не любит признаваться в том, что ошибся в выборе своего дела; каждый уважающий себя человек будет долго бороться с ветром и течением, прежде чем позволит себе воскликнуть «Сдаюсь!» – и подчиниться волнам, уносящим его обратно к берегу. Моя работа стала досаждать мне с первой недели жизни в N. Само по себе снятие копий и перевод деловых писем дело достаточно утомительное и однообразное, но если бы этим и ограничивалось, я давным-давно примирился бы с подобным неудобством. К беспокойным натурам я не принадлежу, и под влиянием двойного стремления заработать на хлеб и доказать себе и окружающим, что я способен заниматься коммерцией, я молча терпел бы, теряя от бездействия свои лучшие способности, не признаваясь даже самому себе, как меня манит свобода; сдерживал бы каждый вздох, свидетельствующий о том, как томится моя душа в тесной, дымной, однообразной и безрадостной суете Бигбен-Клоуза, как недостает ей вольности и свежести. В маленькой спальне, снятой у миссис Кинг, я воздвиг бы алтарь Долга и кумирню Упорства, которые стали бы хранителями моего очага, и мое драгоценное, лелеемое в тайне, хрупкое и могущественное Воображение никогда не отвратило бы меня от них ни мягкостью, ни силой. Но это было не все: неприязнь, вспыхнувшая между мной и моим работодателем, пускала корни все глубже, ее тень с каждым днем сгущалась, надежно закрывая от меня солнечный проблеск жизни, и я начал чувствовать себя растением в сырой темноте, в окружении скользких стенок колодца.
Неприязнь – единственное слово, способное выразить чувство Эдварда Кримсуорта ко мне, чувство безотчетное, возбуждаемое каждым моим движением, взглядом и словом, какими бы ничтожными они ни были. Его раздражали мой южный акцент, моя образованность, проявляющаяся в речи, а моя пунктуальность, усердие и точность подкрепляли неприязнь и придавали ей сильный и едкий привкус зависти; он боялся, что и я когда-нибудь преуспею на коммерческом поприще. Если бы я уступал ему хоть в чем-то, его ненависть ко мне не была бы такой полной, однако мне было известно то же, что и ему, мало того: он догадывался, что на замок молчания я запираю богатства разума, которых он сам лишен. Сумев однажды поставить меня в смешное или унизительное положение, он многое простил бы мне, но меня хранили три дара: Осторожность, Тактичность и Наблюдательность, – и какую бы изворотливость ни проявляла злоба Эдварда, ей не удавалось ускользнуть от зорких глаз трех от природы присущих мне стражников. Эта злоба день за днем подстерегала мою тактичность, надеясь коварно напасть на нее, как только та задремлет, но если тактичность истинна, она никогда не спит.
Получив жалованье за три первых проработанных месяца, я возвращался к себе домой с отрадным чувством, что хозяин, расплатившийся со мной, теперь сожалеет о каждом отданном мне пенни. Я давно перестал считать мистера Кримсуорта своим братом – суровый и требовательный, он стремился быть безжалостным тираном, и больше никем. Меня посещали не слишком разнообразные, но настойчивые мысли, два голоса вели во мне разговор, повторяя одни и те же фразы. Один твердил: «Уильям, твоя жизнь невыносима». Другой: «Чем ты можешь изменить ее?» Я шагал быстро, так как был морозный январский вечер; приближаясь к дому, я отвлекся от размышлений о своем положении и задумался о том, разведен ли у меня огонь, но в окне гостиной не заметил приветливого красного отблеска.
«Как всегда, негодница-служанка пренебрегла своими обязанностями, – решил я. – Меня ждет лишь остывшая зола. А вечер чудесный и звездный – лучше я еще пройдусь».
Действительно, вечер был чудесным, улицы сухими и даже чистыми для N., над приходской церковью висел месяц, и сотни звезд ярко сияли повсюду на небе.
Незаметно для себя я повернул к окраине, вышел на Гроув-стрит и уже обрадовался, завидев неясные очертания деревьев в конце улицы, возле какого-то дома, когда некий человек, перегнувшись через чугунную калитку небольшого сада перед опрятным жилым домом на этой улице, обратился ко мне, пока я быстро проходил мимо:
– Какого дьявола так спешить? Прямо Лот, покидающий Содом, на который с небес вот-вот прольются дождем сера и огонь!
Я застыл как вкопанный и повернул голову к неизвестному. Запахло дымом, вспыхнула алая искра на конце сигары, темный мужской силуэт наклонился ко мне через калитку.
– Я, видите ли, люблю вечером выйти в поле поразмыслить, – продолжал мой собеседник. – Бог свидетель, славное занятие! Особенно если вместо Ревекки верхом на верблюде, с браслетами на руках и кольцом в носу Судьба посылает мне конторского клерка в сером твиде.
Этот голос был мне знаком; когда он зазвучал во второй раз, я понял, кто ко мне обратился.
– Мистер Хансден! Добрый вечер.
– И верно, добрый! Но если бы я не проявил воспитанность и не заговорил первым, вы прошли бы мимо как ни в чем не бывало.
– Я вас не узнал.
– Извечная отговорка! Должны были узнать, ведь я же узнал вас, хоть вы и неслись, как паровая машина. За вами гонится полиция?
– Ей это ни к чему: для нее я мелкая сошка.
– Увы, бедный пастырь! Увы и ах! Обстоятельство, достойное сожалений, и судя по вашему голосу, как же вы пали духом! Но если не от полиции, тогда от кого же вы бежите? От сатаны?
– Наоборот, спешу к нему.
– Тем лучше, стало быть, вам повезло: сегодня вторник, вечером с базара в Диннефорд возвращаются вереницы телег и повозок, и в какой-нибудь из них наверняка занял место либо он сам, либо кто-нибудь из его свиты, так что если вы зайдете на полчаса в мою холостяцкую гостиную, то вскоре дождетесь, когда он будет проезжать мимо. Но думаю, вам будет лучше оставить его сегодня в покое – ему и без вас хватает забот: по вторникам он страшно занят в N. и Диннефорде… Словом, заходите.
С этими словами он открыл калитку.
– Вы вправду хотите, чтобы я зашел? – спросил я.
– Как вам будет угодно – я одинок, не откажусь провести в вашем обществе час-другой, а не хотите сделать мне одолжение, настаивать не стану. Докучать кому-нибудь – это не по мне.
Принять приглашение я был так же не прочь, как Хансден – высказать его. Я вошел в калитку и последовал за ним к дверям дома, которые он открыл передо мной, далее мы пересекли коридор и ступили в гостиную. Закрыв дверь, Хансден указал мне на кресло возле камина, я сел и осмотрелся.
Комната была уютная, одновременно удобная и красивая, за каминной решеткой пылал настоящий энширский огонь – алый, чистый, жаркий, а не скупая южноанглийская кучка углей в углу. Лампа под абажуром на столе давала мягкий, приятный, ровный свет; мебель казалась почти роскошной для молодого холостяка и состояла из дивана и двух удобнейших кресел; книжные полки заполняли ниши по обе стороны от камина; мебель содержалась в полном порядке. Опрятность гостиной пришлась мне по вкусу, беспорядка и небрежности я не терплю. То, что я видел, свидетельствовало, что в этом вопросе наши с Хансденом взгляды совпадают.
Пока Хансден убирал со стола на буфет несколько брошюр и журналов, я оглядел ближайшие ко мне книжные полки. На них преобладали французские и немецкие книги: старые французские драматурги и разнообразные современные авторы – Тьер, Вильмен, Поль де Кок, Жорж Санд, Эжен Сю, из немецких – Гете, Шиллер, Цшокке, Жан Поль, из английских – сочинения по политэкономии. На этом мое беглое знакомство с библиотекой прервалось: меня отвлек мистер Хансден.
– Непременно выпейте что-нибудь, – заговорил он, – это вам не повредит после неизвестно насколько долгой прогулки в столь холодную ночь. Только не разбавленного коньяка, не портвейна и не хереса – такой отравы у меня нет. Сам я пью рейнвейн, а вы можете выбрать между ним и кофе.
И в этом Хансден сумел угодить мне: если и существует общепринятый обычай, который ненавистен мне более всех прочих, так это употребление крепкого спиртного и вина. Кислый немецкий напиток меня не прельщал, а кофе я любил, поэтому ответил:
– Позвольте мне кофе, мистер Хансден.
Я заметил, что он остался доволен моим ответом: несомненно, он рассчитывал вызвать у меня досаду, объявив, что не даст мне ни крепкого спиртного, ни вина, и на всякий случай испытующе взглянул мне в лицо, выясняя, искренне я говорю или только притворяюсь учтивым. Я улыбнулся, потому что понял его, и если его непреклонность вызвала у меня прилив уважения, то недоверчивость позабавила. Удовлетворившись, Хансден позвонил и велел принести кофе мне, а ему – гроздь винограда и полпинты напитка покислей. Кофе оказался превосходным, о чем я заявил и признался, что скромный стол хозяина вызвал у меня прилив сочувствия. Хансден не ответил и, похоже, не услышал меня. Как раз в тот момент по его лицу прошла тень, погасила улыбку, а обычно проницательный и насмешливый взгляд стал отрешенным и рассеянным. Я воспользовался молчанием, чтобы наскоро рассмотреть лицо Хансдена. Вблизи я еще ни разу не видел его, и поскольку я близорук, то имел лишь общее смутное представление о том, как он выглядит. Теперь же, присмотревшись, я поразился его мелким и даже женственным чертам, его рост, длинные темные волосы, голос, манера держаться, казалось бы, внушали мысли о властности и силе, но нет – даже мои собственные черты лица были отлиты в форме с более резкими и угловатыми очертаниями. Я рассудил, что в нем сосуществуют два разных человека, и не просто сосуществуют, но и спорят, причем силы воли и честолюбия в нем больше, чем мускулов и жил в его теле. Возможно, причиной его приступов мрачности и была несочетаемость «физического» и «нравственного»; он и хотел бы, да не мог, и его развитый ум презирал своего слабосильного соседа. Чтобы судить о привлекательности, мне следовало обратиться к мнению женщины: по-видимому, на дам его лицо должно было производить такое же впечатление, как пикантное, необычное, хотя едва ли миловидное женское лицо – на мужчин. Его темные волосы я уже упоминал – разделенные на косой пробор, они открывали белый, весьма широкий лоб; румянец на щеках казался несколько лихорадочным; его черты лица неплохо смотрелись бы на полотне, посредственно – в мраморе: они были податливы, характер наложил отпечаток на каждую, выражение лица меняло их по своему желанию, и эти странные метаморфозы придавали ему вид то угрюмого быка, то лукавой и проказливой девчонки, но чаще они сливались, образуя причудливое, неопределенное среднее.
Очнувшись от задумчивости, он заявил:
– Уильям, глупо это с вашей стороны – ютиться в конуре у миссис Кинг, когда можно снять комнаты здесь, на Гроув-стрит, и жить в доме с садом, как у меня!
– Отсюда слишком далеко до фабрики.
– И что с того? Вам полезно прогуляться туда-сюда два-три раза в день. Или вы уже ископаемое и вам не в радость смотреть на цветы и листву?
– Я не ископаемое.
– А кто же еще? Вы просиживаете в конторе у Кримсуорта день за днем, неделю за неделей, скребете пером по бумаге, как механизм, не вставая с места, никогда не жалуетесь на усталость и не просите отпуска, не меняете занятий и не отдыхаете, даже по вечерам не даете себе воли, вас не увидишь в веселой компании, вы не пьете спиртного.
– В отличие от вас, мистер Хансден?
– Не надейтесь отделаться встречными вопросами, наши с вами случаи прямо противоположны, сравнивать их попросту нелепо. И действительно: когда человек покорно терпит то, что вытерпеть нельзя, он окаменел, как ископаемое.
– Откуда такие познания о моем терпении?
– А вы что же, возомнили себя загадкой? В гостях удивились, что я знаю, из какой вы семьи, теперь удивляетесь, что я назвал вас терпеливым. Думаете, у меня нет ни глаз, ни ушей? Я не раз видел у вас в конторе, как Кримсуорт помыкает вами: просит, к примеру, подать книгу, а если вы ошиблись или если ему угодно считать, что вы ошиблись, швыряет книгу вам в лицо, гоняет открывать или закрывать двери, словно прислугу; не говоря уже о том, в какое положение поставил вас на званом вечере месяц назад, где вам не нашлось ни места, ни пары и где вы маялись, как незваный гость. А вы ни разу не потеряли терпения!
– Что же дальше, мистер Хансден?
– Этого я вам не скажу; выводы о вашем характере можно сделать, зная, чем вы руководствуетесь в своем поведении. Если вы терпите потому, что надеетесь в конце концов извлечь пользу из работы на Кримсуорта, несмотря на его деспотизм, а может, и благодаря ему, – весь мир назовет вас корыстным и меркантильным, но, возможно, на редкость умным человеком; если вы терпите потому, что считаете своим долгом покорно сносить оскорбления, – вы безнадежный болван и никчемный человечишка; если же вы терпите потому, что по натуре флегматичны, вялы, равнодушны и вообще не способны сопротивляться, значит, Бог сотворил вас, чтобы уничтожить, так что лежите себе, лежите и ждите, когда вас раздавит слепая сила!
Нетрудно заметить, что ни гладким, ни угодливым красноречие мистера Хансдена не было. Чем дольше он рассуждал, тем меньше мне это нравилось. Пожалуй, он принадлежал к тем натурам, которые, будучи достаточно ранимыми, в своем эгоизме безжалостно ранят чужие чувства. Более того, ни на Кримсуорта, ни на лорда Тайндейла он не походил, тем не менее был язвителен и, как мне казалось, высокомерен: деспотизм чувствовался даже в настойчивости упреков, с помощью которых он побуждал угнетенного взбунтоваться против угнетателя. Впервые за все время присмотревшись к нему как следует, я разглядел в его глазах и выражении лица решимость посягать на свободу без границ, вплоть до ущемления свободы ближнего. Все эти мысли, промелькнувшие в голове, и сделанный благодаря им вывод о людской непоследовательности невольно вызвали у меня негромкий смех. Дальше все вышло так, как я и предвидел: Хансден, который ожидал, что я безропотно снесу его несправедливые и оскорбительные предположения, его резкие и высокомерные попреки, сам был уязвлен этим смешком не громче шепота.
Он помрачнел, раздувая тонкие ноздри.
– Да, – продолжал он, – я уже говорил вам, что вы аристократ – кто, как не аристократ, способен на такой смех и такой взгляд? Смех холодный и язвительный, взгляд томно-своевольный – ирония джентльмена, негодование патриция. Какой сановник вышел бы из вас, Уильям Кримсуорт! Для того вы и созданы; жаль, что Фортуна воспрепятствовала Природе! Взгляните только на эти черты, фигуру, даже на руки – отличие во всем, неприглядное отличие! О, будь у вас только поместье и особняк, и парк при нем, и титул, как бы вы кичились своей исключительностью и отстаивали права своего сословия, как прививали бы своим арендаторам почтение к знати и препятствовали на каждом шагу стремлению народа к власти, как поддерживали бы свой прогнивший порядок и были готовы ради него по колено утопать в крови простолюдинов! Но власти у вас нет, вы ни на что не способны, вы – обломок кораблекрушения, прибитый к берегам коммерции и вынужденный иметь дело с практичными людьми, с которыми вам не совладать, ибо коммерсантом вы не станете никогда.
Поначалу речь Хансдена нисколько не задела меня, а если и задела, то лишь удивив прихотливым поворотом, который придала предвзятость его суждениям о моем характере, но заключительная фраза меня потрясла. Она нанесла сокрушительный удар, поскольку стала оружием в руках Истины. Если я и улыбался в тот момент, то лишь от презрения к себе.
Хансден заметил свое преимущество и не преминул ухватиться за него.
– Этим ремеслом вы ничего не наживете, – продолжал он, – ничего, кроме сухой корки хлеба и воды, которыми довольствуетесь теперь; ваш единственный шанс обрести достаток – жениться на богатой вдове или сбежать с наследницей.
– Пусть этими уловками пользуются те, кто их выдумывает, – ответил я и поднялся.
– Но и на такой исход надежды мало, – невозмутимо продолжал он. – Какая вдова на вас польстится? А тем более наследница? Для одной вы недостаточно смелы и предприимчивы, для второй – не настолько обаятельны и хороши собой. А если вы рассчитываете на свой лощеный и ученый вид, отнесите свою утонченность и образованность на рынок, только не забудьте сообщить мне потом, сколько за них дали.
Мистер Хансден задал тон вечеру; струна, которую он дергал, звучала фальшиво, но к другим он не прикасался. Испытывая отвращение к разладу, с которым и без того приходилось мириться изо дня в день, я наконец решил, что молчание и одиночество предпочтительнее режущих слух речей, и пожелал хозяину дома спокойной ночи.
– А, уходите, юноша? Ну что ж, спокойной ночи: дверь ищите сами.
Он остался у камина, а я покинул комнату и дом. Я уже преодолел часть обратного пути, прежде чем заметил, что иду слишком быстро, дышу с трудом, сжимаю кулаки, впиваясь ногтями в ладони, и стискиваю зубы; обнаружив все это, я замедлил шаг, расслабил кулаки и челюсти, но так же быстро остановить нарастающий прилив сожалений не удалось. Зачем я занялся коммерцией? Почему зашел к Хансдену сегодня вечером? Ради чего завтра рано утром мне опять идти на фабрику к Кримсуорту? Всю ночь я задавался этими вопросами, всю ночь настойчиво требовал от себя ответа. Я так и не уснул, голова горела, ноги стыли; едва зазвонил фабричный колокол, я вскочил, подобно другим рабам.
Глава 5
Во всем есть своя наивысшая точка, во всяком состоянии, чувстве и жизненных обстоятельствах. Об этой прописной истине я задумался, пока ранним морозным январским утром спешил по заледеневшей улице, круто спускавшейся от дома миссис Кинг к Бигбен-Клоузу. Фабричный люд опередил меня почти на час, и к тому времени, как я достиг конторы, фабрика уже была ярко освещена, работа шла полным ходом. Как обычно, я занял свое место в конторе; огонь там был разожжен, но еще не разгорелся, а только дымил; Стейтон пока не появлялся. Я закрыл дверь и сел за конторку; руки, недавно вымытые ледяной водой, еще не согрелись, писать я пока был не в силах, поэтому продолжал думать о все той же наивысшей точке. Острое недовольство собой нарушало течение моих мыслей.
«Итак, Уильям Кримсуорт, – сказала мне совесть – или иной голос, который звучит в нас, призывая к ответу, – итак, разберись наконец, чего тебе хотелось бы и чего не хочется. Кстати, о наивысшей точке: скажи на милость, неужели твоя стойкость ее уже достигла? А ведь не прошло и четырех месяцев. Как ты гордился собой, когда объявил Тайндейлу, что намерен пойти по стопам отца, каким славным представлялся тебе этот путь! Как нравится тебе в N.! Сколько приятных воспоминаний уже связано у тебя с его улицами, лавками, складами и фабриками! Как радует тебя предстоящий день! Копии писем до обеда, обед в пустой комнате, копии писем до вечера, одиночество, ибо общество Брауна, Смита, Николла и Экклса не доставляет тебе удовольствия, а что касается Хансдена, тебе уже представился случай лишиться его общества – хе-хе! И каким он показался тебе на вкус вчера вечером? Сладким? Даже этому одаренному, незаурядно мыслящему человеку ты неприятен, а тебе мешает испытывать к нему симпатию твое самолюбие; он всегда замечал твои недостатки и будет замечать их впредь; вы в неравном положении, и даже если бы вы стояли на одной ступени, вам никогда не стать единомышленниками – следовательно, не надейся собрать мед дружбы с этого колючего кустарника. Э-э, Кримсуорт, куда это тебя занесло? От воспоминаний о Хансдене ты полетишь, как пчела от камня, как птица из пустыни, твои стремления радостно расправят крылья, обратившись к стране мечтаний, где в разгорающемся – здесь, в N., – свете дня ты смеешь грезить о душевном родстве, покое, единении. Как и ангелов, в этом мире их не увидишь. Возможно, духи праведников, достигших совершенства[4], и обретут их на небесах, но твоему духу совершенства никогда не достичь. Восемь часов! Руки согрелись, приступай к работе!»
«К работе? Но зачем? – угрюмо возразил я. – Я никого не обрадую даже каторжным трудом».
«Работай, работай!» – подгонял внутренний голос.
«Можно и поработать, только толку от этого не будет», – проворчал я, но все-таки достал кипу писем и занялся своим делом, столь же неблагодарным и горьким, как труд сынов Израилевых, ползавших по выжженным солнцем полям Египта в поисках соломы и жнива, дабы сделать урочное число кирпичей[5].
Часов в десять я услышал, как во двор въехала двуколка мистера Кримсуорта, через минуту он вошел в контору. Обычно он, взглянув на Стейтона и на меня, вешал свой макинтош, некоторое время грелся у огня, повернувшись к нему спиной, а потом уходил. Этим привычкам он не изменил и сегодня, только взгляд, направленный на меня, был другим, не холодным, а яростным, брови не просто сведены, а мрачно насуплены. На меня он смотрел дольше, чем обычно, но ушел, не сказав ни слова.
Пробило двенадцать, колокол возвестил перерыв, рабочие разошлись обедать. Ушел и Стейтон, поручив мне запереть контору и забрать ключи с собой. Я перевязывал пачку бумаг и убирал их на место, готовясь запереть конторку, когда в дверях вновь появился Кримсуорт. Он вошел и прикрыл дверь за собой.
– Задержитесь на минуту! – грубо бросил он мне, раздувая ноздри. В его глазах горел зловещий огонек.
Наедине с Эдвардом я вспомнил, что мы родственники, а вспомнив, предпочел забыть о разнице в положении, о почтительности и вежливой речи и ответил просто и коротко:
– Пора домой, – и повернул ключ, запирая конторку.
– Останьтесь! – снова велел он. – Не троньте ключ! Оставьте его в замке!
– Почему? – спросил я. – Зачем мне менять планы?
– Делайте что велено, – был ответ, – и без вопросов! Вы мой слуга, повинуйтесь мне! Что это вы затеяли?.. – на одном дыхании продолжал он, как вдруг пауза возвестила, что гнев лишил его дара речи.
– Посмотрите, если хотите, – ответил я. – Конторка не заперта, бумаги в ней.
– Чертов наглец! Что вы тут устроили?
– Выполнял вашу работу, притом добросовестно.
– Болтун и лицемер! Слюнтяй, льстец, масляный рожок!
(Последнее выражение, подразумевающее «подхалим», – полагаю, исключительно энширского происхождения, – означает рожок с черной прогорклой ворванью, который привязывали к колесам телег для их смазки.)
– Довольно, Эдвард Кримсуорт! Пора нам с вами подвести итоги. Я отслужил вам уже три месяца и понял, что более омерзительного рабства не видел свет. Ищите себе другого клерка, а я здесь не задержусь.
– Что?! И вы посмели открыто заявить об этом? Ну что, сейчас получите то, что заработали! – И он сдернул со стены прочный хлыст, висевший рядом с макинтошем.
Я позволил себе рассмеяться с презрением, которое не удосужился умерить или скрыть. В нем вскипела ярость, он выпалил полдюжины вульгарных, нечестивых ругательств, но, так и не пустив хлыст в ход, продолжал:
– Я раскусил вас, теперь я знаю, какой вы плаксивый льстец! Как вы меня ославили на весь N.? Отвечайте!
– Ославил? Вас? У меня нет ни причин, ни желания говорить о вас.
– Лжете! Вы только и болтаете, что обо мне, только и жалуетесь на то, что якобы терпите от меня. Вы повсюду раззвонили о том, как мало я вам плачу и шпыняю вас, как собаку. Да будь вы собакой, я с места бы не сошел, пока сию минуту не спустил бы с вас шкуру вот этим хлыстом!
Он потряс своим оружием, кончик хлыста задел мне лоб. Горячий трепет возбуждения пробежал по моим жилам, кровь словно отхлынула, а потом устремилась по прежнему руслу. Я легко вскочил и подступил к брату.
– Брось хлыст! – потребовал я. – И сейчас же объясни, в чем дело.
– Э, ты с кем это разговариваешь?
– С тобой. По-моему, больше здесь никого нет. Говоришь, я клевещу на тебя, жалуюсь на ничтожную плату и плохое обращение? Чем ты это докажешь?
Достоинство Кримсуорт уже утратил, а когда я строго потребовал объяснений, его голос стал громким и визгливым:
– Сейчас узнаешь! Только выйди на свет, чтобы я видел, как краска стыда зальет наглую физиономию, когда я докажу, что ты вправду лжец и лицемер. Вчера на собрании городского совета мой оппонент по вопросу, который там обсуждался, оскорбил меня намеками на мои личные дела, во всеуслышание порицая бездушных чудовищ и домашних тиранов, продолжая нести подобную чушь. Когда же я поднялся, чтобы ответить, меня заглушили крики какого-то грязного сброда, и, случайно услышав твое имя, я наконец понял, откуда ветер дует. Я осмотрелся и заметил, что роль зачинщика играет этот предатель и негодяй Хансден. Я видел, как месяц назад в моем доме ты увлеченно беседовал с Хансденом, мне известно, что вчера вечером ты был у него в гостях. Только попробуй заявить, что это не так!
– И не подумаю. А если Хансден и подзуживал людей освистать тебя, то правильно делал. Ты заслуживаешь публичного осуждения, ибо трудно представить себе человека менее достойного, хозяина более сурового и брата более жестокого, чем ты.
– Э-э! – снова возмутился Кримсуорт и в подкрепление своего возгласа щелкнул хлыстом прямо над моей головой.
Минуты не понадобилось, чтобы вырвать у него хлыст, сломать пополам и швырнуть в огонь. Очертя голову Эдвард ринулся на меня, но я уклонился и заявил:
– Попробуй только тронь, и я подам на тебя в ближайший суд!
Когда людям вроде Кримсуорта противостоят решительно и невозмутимо, они неизменно растрачивают свое непомерное чванство: суд не входил в намерения Эдварда, однако он понял, что я шутить не намерен. Смерив меня диким и долгим взглядом, одновременно мрачным и удивленным, он, видимо, наконец сообразил, что деньги обеспечивают ему достаточное преимущество над нищим вроде меня и дают более надежный и достойный способ отомстить, нежели собственноручное, но опасное наказание.
– Забери свою шляпу, – велел он. – Забирай все, что тут есть твоего, и вон отсюда – ступай к таким, как ты, нищим, проси милостыню, воруй, голодай, попадай в тюрьму и на каторгу, живи как знаешь, но если снова попадешься мне на глаза – пеняй на себя! Если услышу, что твоя нога побывала хоть на дюйме моей земли, найму человека, чтобы отходил тебя палкой.
– Об этом можешь даже не мечтать: если уж я вырвусь отсюда, думаешь, хоть чем-нибудь можно будет заманить меня обратно? Я покидаю тюрьму и тирана, оставляю то, хуже чего уже не будет и не может быть, так что не бойся, я не вернусь.
– Вон, или я выкину тебя! – взорвался Кримсуорт.
Намеренно неторопливо я прошел к своей конторке, вынул из нее все, что мне принадлежало, положил в карман, запер конторку и ключ положил на нее.
– Что ты взял из ящика? – потребовал ответа хозяин конторы. – Оставь все на месте, или я позову полисмена, чтобы он тебя обыскал.
– Беги, зови, – отозвался я, взял шляпу, надел перчатки и неторопливо покинул контору, чтобы больше туда никогда не возвращаться.
Помню, когда фабричный колокол прозвонил обед – еще до появления мистера Кримсуорта и до скандала, – меня мучил острый аппетит, и я с нетерпением ждал, когда смогу уйти обедать. Но теперь про обед я даже не вспоминал: душевные волнения, вызванные событиями последнего получаса, вытеснили видения жареной баранины с картофелем. Мне хотелось только прогуляться, привести мышцы в состояние гармонии с нервами, и я быстро уходил все дальше. А разве могло быть иначе? Камень упал с моей души, мне стало легко и свободно. Я покидал Бигбен-Клоуз, не утратив решимости; моему достоинству не было нанесено ни малейшего урона. Не я пересилил обстоятельства – обстоятельства освободили меня. Мне вновь открылась жизнь, ее горизонты больше не заслоняла высокая черная стена, окружающая фабрику Кримсуорта.
Прошло два часа, прежде чем мое волнение наконец улеглось, я успокоился и заметил, насколько обширнее и светлее мир, ради которого я отказался от закопченного ошейника. Подняв голову, я вдруг узрел прямо перед собой Гроувтаун – скопление загородных домов милях в пяти от N. Судя по низкому солнцу, короткий зимний день уже близился к концу; морозный туман поднимался над рекой, на которой стоит N. и вдоль берега которой проложена дорога, выбранная мной; этот туман укрывал землю, но не мог замутнить льдистую голубизну январского неба. Повсюду вблизи и поодаль царило безмолвие; час дня был благоприятен для спокойствия – людей на улицах не было, рабочий день на фабриках еще не закончился; в воздухе разносился лишь шум свободно текущей реки, глубокой и полноводной после недавних снегопадов. Некоторое время я постоял, прислонившись к церковной ограде и глядя на воду, на стремительно набегающие волны. Мне хотелось, чтобы эта сцена отчетливо и надолго запечатлелась в памяти, чтобы в будущем я мог дорожить ею. В гроувтаунской церкви пробило четыре; подняв голову, я увидел, как просвечивает красным сквозь голые ветки древних дубов вокруг церкви заходящее солнце, и эти лучи расцветили пейзаж, сделали его именно таким, как я и мечтал. Я помедлил еще минуту, пока не затих в воздухе благозвучный и размеренный звон колокола, а потом, насытив зрение, слух и чувства, повернулся от ограды в сторону N.
Глава 6
В город я вернулся голодным; забытый обед соблазнительно всплывал в памяти, и острый аппетит гнал меня вверх по узкой улочке к дому. Было уже темно, когда я шагнул через порог, гадая, разведен ли у меня огонь; ночь выдалась холодной, и я передергивался при мысли об очаге, полном холодной золы. К своему радостному удивлению, в гостиной я обнаружил жаркий огонь в вычищенном очаге. Но отметить эту неожиданность я едва успел, потому что нашел причину удивиться еще раз: кресло, в котором я обычно сидел перед камином, было уже занято, человек в нем скрестил руки на груди и вытянул ноги на ковре. Каким бы близоруким я ни был, каким бы обманчивым ни казался отблеск огня, мне не понадобилось долго всматриваться, чтобы узнать в этом человеке мистера Хансдена. Разумеется, его появление не доставило мне удовольствия, особенно после нашего расставания накануне, поэтому я, пройдя к камину и разворошив угли, произнес «добрый вечер» так негостеприимно, как только мог; однако про себя я гадал, что привело его сюда, а еще – чем вызвано его столь живое вмешательство в мои отношения с Эдвардом. Видимо, именно Хансдену я был обязан своим желанным увольнением, тем не менее я не мог заставить себя расспросить его, выказывая любопытство: пусть объяснится, только если захочет сам, ведь первый шаг тоже сделал он.
– Вы мой должник: вам следовало бы поблагодарить меня, – такими были его первые слова.
– Вот как? – отозвался я. – Надеюсь, мой долг не очень велик. Для тяжких обязательств такого рода я слишком беден.
– Тогда можете сразу же объявить себя банкротом, потому что это обязательство окажется для вас неподъемным. Когда я пришел, то увидел, что огонь погас, поэтому снова развел его и заставил эту надутую растяпу, здешнюю служанку, раздувать его, пока он не разгорелся как следует. Ну а теперь можете меня благодарить.
– Только после того, как что-нибудь съем. Я не в состоянии выражать благодарность, пока умираю с голоду.
Я позвонил и велел принести чаю и какого-нибудь холодного мяса.
– Холодного мяса! – повторил Хансден, когда за служанкой закрылась дверь. – Да вы чревоугодник! Мясо с чаем! Этак вы умрете от обжорства.
– Вряд ли, мистер Хансден. – Не противоречить ему я не мог: меня раздражали и голод, и неожиданный визит Хансдена, и грубость манер, которую он продолжал проявлять.
– Характер у вас сварливый от переедания, – сказал он.
– Откуда вам знать? – возразил я. – Вы, похоже, привыкли судить, ни в чем не разобравшись толком. А я сегодня не обедал.
Я высказался резко, почти грубо, но Хансден в ответ только заглянул мне в лицо и рассмеялся.
– Бедняга! – запричитал он. – Не обедали сегодня, да? С чего бы это? Хозяин, видно, не отпустил вас домой. Уильям, неужели Кримсуорт морил вас голодом в наказание?
– Нет, мистер Хансден.
К счастью, в этот неловкий момент принесли чай, и я сразу набросился на хлеб, масло и холодную говядину. Немного утолив голод, я так раздобрился, что посоветовал мистеру Хансдену «подсаживаться к столу и последовать моему примеру, если есть охота, вместо того чтобы сидеть и глазеть».
– Нет, что-то не хочется, – отозвался он, дернул шнур звонка, вновь вызвав служанку, и потребовал стакан «воды из-под тоста»[6]. – И угля, – добавил он, – пусть у мистера Кримсуорта огонь горит пожарче, пока я здесь.
Пока исполнялись его приказы, он придвинул кресло к столу и устроился напротив меня.
– Итак, вы, похоже, остались без работы, – продолжал он.
– Да, – подтвердил я и, поскольку был не расположен выдавать свое удовольствие, а также подчиняясь прихоти момента, сделал вид, будто случившееся принесло мне больше вреда, чем пользы. – Да, по вашей милости Кримсуорт выставил меня, едва дав время собраться, и насколько я понимаю, все дело в каком-то вашем поступке в городском собрании.
– Да? Он и об этом упомянул? Заметил, значит, как я подавал знаки ребятам? И как же он отозвался о своем приятеле Хансдене – по обыкновению, одобрительно?
– Он назвал вас предателем и негодяем.
– Как плохо он меня еще знает! Я осторожен, сразу не показываю, каков я на самом деле, а наше с ним знакомство только начинается, но он увидит, какими ценными качествами я наделен, притом превосходными! Хансденам нет равных, когда надо изобличить мошенника; отъявленный, бесчестный мерзавец – добыча, прямо-таки созданная для них, заметив такого, они его уже не отпустят. Давеча вы говорили, что я «привык судить» – так и есть, это свойство нашей семьи, передающееся из поколения в поколение: у нас чутье на жестокость, за милю распознаем подлеца; мы прирожденные реформаторы, причем радикального толка, и я не смог бы жить с Кримсуортом в одном городе, каждую неделю встречаться с ним, наблюдать его поступки по отношению к вам (в сущности, дело не в вас, а в вопиющей несправедливости, с которой он ущемляет ваше естественное право на равенство), – так вот, я не смог бы видеть все это и не чувствовать, как во мне начинает действовать ангел или демон нашего рода. И я подчинился инстинкту, выступил против тирана и разорвал цепи.
Этот монолог заинтересовал меня потому, что не только содержал указания на особенности характера Хансдена, но и объяснял причины его поступков, и заинтересовал настолько, что я позабыл ответить на него – так и сидел молча, захваченный потоком мыслей, которые он вызвал.
– Вы благодарны мне? – наконец спросил Хансден.
Я и вправду был благодарен – или почти благодарен, и в тот момент он мне даже нравился, хоть и признался, что совершил свой поступок не ради меня. Но человеческая природа причудлива. Утвердительно ответить на прямой вопрос было невозможно, и я заявил, что не чувствую и тени благодарности, а Хансдену посоветовал поискать награды для себя, как для заступника, в ином мире, поскольку в этом он вряд ли ее найдет. В ответ он назвал меня бессердечным аристократишкой, а я напомнил, что по его милости лишился последнего куска хлеба.
– Грязный это был хлеб, приятель! – воскликнул Хансден. – Грязный и опасный, и получали вы его из рук тирана; я же говорил, этот ваш Кримсуорт – тиран. Он тиранит своих рабочих, конторских клерков и когда-нибудь, глядишь, начнет тиранить и жену.
– Чушь! Хлеб есть хлеб, а любое жалованье все-таки жалованье. Я своего лишился, и не без вашей помощи.
– В ваших словах есть смысл, – наконец согласился Хансден. – Признаться, ваша практичность меня приятно удивила. А я, уже получив шанс понаблюдать за вами, думал, что вновь обретенная свобода вызовет у вас прилив сентиментального ликования, заставив хоть на время забыть о предусмотрительности и благоразумии. Но вас не собьешь с мыслей о насущном, так что вы теперь выросли в моих глазах.
– «Не собьешь с мыслей о насущном» – а как же иначе? Жить-то мне надо, а без того, что вы назвали «насущным», не проживешь, но получить его мне неоткуда, разве что заработать. Но вы, повторяю, отняли у меня эту возможность.
– И что же вы намерены делать дальше? – преспокойно спросил Хансден. – У вас ведь есть влиятельные родственники – полагаю, скоро вам подыщут другое место.
– Влиятельные родственники? Кто? Я бы хотел услышать их имена.
– Сикомы.
– Вот еще! Я с ними порвал.
Хансден недоверчиво уставился на меня.
– Порвал, – подтвердил я, – притом окончательно.
– Вы, Уильям, должно быть, имеете в виду, что это они с вами порвали.
– Считайте, как вам угодно. Мне предлагали покровительство – при условии, что я стану священником; я отклонил и это условие, и предложенное вознаграждение. Покинув своих недружелюбных дядюшек, я решил отправиться к старшему брату, из любящих объятий которого меня безжалостно вырвал посторонний человек – короче говоря, вы.
Излагая все это, я невольно улыбнулся, и подобное малозаметное проявление чувств возникло в тот же момент на лице Хансдена.
– А-а, ясно! – отозвался он и заглянул мне в глаза так, что можно было даже не сомневаться: он смотрит мне прямо в душу. Просидев минуты две, опираясь подбородком на руку и продолжая старательно изучать мое лицо, он наконец продолжал: – Значит, вы и вправду не рассчитываете на Сикомов?
– Ни на что, кроме неприятия и отторжения. Но вы ведь уже спрашивали – зачем повторяться? Разве позволительно рукам, испачканным конторскими чернилами и жиром от шерсти с фабричного склада, когда-нибудь вновь соприкоснуться с руками аристократии?
– Да, этого непросто добиться. Судя по внешности, чертам, речи, почти по манерам, вы истинный Сиком; странно, что от вас отреклись.
– И тем не менее. Так что не будем больше об этом.
– Жалеете?
– Нет.
– Отчего, юноша?
– Эти люди не из тех, к кому я мог бы испытывать хоть какую-то симпатию.
– Однако вы один из них.
– И это всего лишь доказывает, что вы судите о том, о чем понятия не имеете: я сын своей матери, но не племянник своих дядюшек.
– Тем не менее один ваш дядюшка – лорд, хоть и не знаменитый и не особенно богатый, другой – почтенная особа; житейской выгодой не следует пренебрегать.
– Вздор, мистер Хансден. Вам следовало бы уже понять: даже будь у меня желание подчиниться дядюшкам, я не сумел бы раболепствовать перед ними настолько искусно, чтобы снискать их благосклонность. Я пожертвовал бы своим комфортом и взамен все равно не получил бы их покровительства.
– Вполне вероятно. И вы рассудили, что разумнее всего для вас полагаться исключительно на себя?
– Именно. Мне придется полагаться на себя до самой смерти, ибо я не могу ни понять, ни принять, ни изобрести решений, которыми пользуются другие люди.
Хансден зевнул.
– Ну что ж, одно мне совершенно ясно: все это меня не касается. – Он потянулся и снова зевнул. – Хотел бы я знать, который теперь час? На семь у меня назначена встреча.
– Мои часы показывают без четверти семь.
– Пойду, пожалуй. – Хансден поднялся. – Так вы больше не ввяжетесь в коммерцию? – спросил он, облокотившись о каминную полку.
– Думаю, нет.
– Ввяжетесь – сделаете глупость. Вам бы лучше обдумать предложение дядюшек и согласиться служить церкви.
– Не раньше, чем я сумею полностью преобразиться внешне и внутренне. Хорошими священниками способны быть лишь лучшие из людей…
– Да ну? Вы думаете? – саркастически перебил Хансден.
– Да, и убежден в своей правоте. Но поскольку качествами, необходимыми хорошему священнику, я не обладаю, то предпочту скорее нищету с ее лишениями, чем дело, для которого не создан.
– На вас не угодишь. Коммерсантом или священником быть не желаете, юристом или врачом – не можете, а жизнь джентльмена вам не по карману. Могу лишь посоветовать вам пуститься в путешествие.
– Что?.. Без денег?..
– Ради денег, юноша. Вы же говорите по-французски, наверняка со скверным английским акцентом, но говорите. Отправляйтесь на континент, авось подыщете себе там занятие.
– Бог свидетель, я бы с радостью! – с невольным пылом воскликнул я.
– Так поезжайте, что вам мешает, черт возьми? Если не сорить деньгами, то до Брюсселя, к примеру, доберетесь за пять-шесть фунтов.
– Нужда научит, если сам не справлюсь.
– Вот и отправляйтесь, а когда будете на месте, призовите на помощь разум. Брюссель я знаю почти как N., и, по-моему, такому человеку, как вы, он подходит больше, чем Лондон.
– А работа, мистер Хансден? Мне надо туда, где я смогу получить работу, а как же я раздобуду рекомендации и заведу полезные знакомства в Брюсселе?
– Слышу голос осторожности! Не в ваших правилах делать шаг, не прощупав прежде каждый дюйм пути. У вас найдутся бумага, перо и чернила?
– Надеюсь. – Я поспешно положил перед ним письменные принадлежности, уже догадываясь, как он намерен поступить.
Он сел, написал несколько строк, свернул лист, запечатал, надписал адрес и протянул мне.
– Ваше благоразумие – вот проводник, который сокрушит первые трудности на вашем пути. Юноша, мне уже известно: вы не из тех, кто спешит сунуть голову в петлю, не узнав, сможет ли выбраться из нее, и в этом вы правы. К опрометчивым людям я не питаю ничего, кроме отвращения, ничто не заставит меня протянуть им руку помощи. Если человек не думает о себе, то в делах друзей он в десять раз безрассуднее.
– Это, видимо, рекомендательное письмо? – спросил я, взяв запечатанный листок.
– Да. Оно избавит вас от риска полной нищеты, которую, как мне известно, вы считаете позором, – если уж на то пошло, как и я сам. У человека, которому адресовано это письмо, найдется два-три приличных места и рекомендации для них.
– Это меня устраивает, – ответил я.
– И где же слова благодарности? – осведомился мистер Хансден. – Или вы не умеете выговаривать «спасибо»?
– У меня есть пятнадцать фунтов и часы. Восемнадцать лет назад их подарила мне крестная, которой я никогда не видел, – невпопад ответил я, мысленно называя себя счастливейшим из смертных и обещая не завидовать никому во всем христианском мире.
– А благодарность?
– Мистер Хансден, я уеду в самое ближайшее время, если повезет – завтра: я не останусь в N. ни единого лишнего дня.
– Замечательно, только следовало бы отдать должное и помощи, которую вы получили, и поживее! Вот-вот пробьет семь, я жду благодарности.
– Разрешите пройти, мистер Хансден… Мне нужен ключ, лежащий вон там, на каминной полке. Надо бы уложить вещи перед сном.
Часы в доме пробили семь.
– Дикарь, – сказал Хансден, взял свою шляпу с буфета и вышел посмеиваясь.
Я бросился было за ним, в самом деле намереваясь покинуть N. на следующее утро и зная, что другого случая попрощаться с ним уже не представится. Хлопнула входная дверь.
«Пусть идет, – решил я, – мы еще встретимся когда-нибудь».
Глава 7
Вам, вероятно, не случалось бывать в Бельгии, читатель? И вы, видимо, незнакомы с обликом этой страны? И ее черты не врезались в вашу память так, как в мою?
Три – нет, уже четыре картины развешаны по четырем стенам клетушки, где хранятся мои воспоминания. На первой из них Итон. Здесь все в перспективе, вдалеке, в уменьшенном виде, но краски ярки, зелень сочна и росиста, облака хоть и озарены солнцем, но предвещают дождь, ибо детство мое далеко не всегда было безоблачным – случались и ненастье, и холода, и грозы. Вторая картина, N., – огромная и неряшливая, на потрескавшемся грязном холсте желтое небо, тучи копоти, ни солнца, ни лазури, зелень, пыльная и чахлая даже на окраинах, – удручающее зрелище.
На третьей – Бельгия, и перед этим пейзажем я помедлю. Четвертую же картину скрывает занавес, который я могу со временем убрать, а могу и не сделать этого, смотря по моему удобству и возможности. Так или иначе, в настоящее время он останется на месте.
Бельгия – название, в котором нет ни романтики, ни поэзии, но где бы я ни услышал его, эти звуки отзываются в моем сердце, как ни одно другое сочетание слогов, каким бы нежным или образцовым оно ни было. «Бельгия!» – повторяю я сейчас, сидя один в ночи. Это слово будоражит мое прошлое, как призывы восстать и воскреснуть: разверзаются могилы, выходят из них мертвецы, я вижу, как возрождаются из пепла еще недавно спящие мысли, чувства, воспоминания, в большинстве своем окруженные сияющим ореолом, но, пока я всматриваюсь в эти туманные сгустки и пытаюсь различить силуэты, пробудивший их звук умолкает, и они рассеиваются легким облачком дыма, их поглощает почва, зовут обратно урны, сверху воздвигаются памятники. Прощайте, отрадные видения!
Такова Бельгия, читатель. Смотри! И не называй эту картину невзрачной и унылой, ибо ни невзрачной, ни унылой она не была для меня, когда я впервые ее увидел.
В меру прохладным февральским утром на пути из Остенде в Брюссель меня занимало решительно все. Мое чувство радости живо откликалось на утонченное, нетронутое, прекрасное и изысканное. Я был молод, здоров и незнаком с развлечениями; избалованность ими не лишила мою натуру сил и не сделала ее пресыщенной. Впервые в жизни я схватил в объятия свободу и словно ожил от ее улыбки и прикосновений, как от солнца и попутного ветра. Да, в ту пору я чувствовал себя как путник, взбирающийся на холм поутру и уверенный, что с вершины он увидит живописный восход. Его путь труден, крут и кремнист? Он не видит его, не сводя глаз с вершины, уже озаренной румянцем и позолотой, и знает, что откроется его взгляду, когда он взойдет на эту вершину. Ему известно, что его встретит солнце, колесница которого уже выезжает из-за горизонта на востоке, и что щек коснется ветер, глашатаем открывающий божеству чистую, необозримую лазурную дорогу среди туч, сияющих перламутром и согревающим огнем. Моим уделом были невзгоды и труд, но подкрепленный энергией, влекомый надеждами столь же радужными, сколь и смутными, я не роптал. Сейчас я взбирался по теневому склону холма, мне попадались лишь галечные осыпи да шиповник, но я не отрывал глаз от наливающейся малиновым светом вершины, устремляясь в мечтах к лучезарному небосводу, и думать не думал о подворачивающихся под ноги камнях или о шипах, царапающих мне лицо и руки.
Я часто и с неизменным удовольствием смотрел в окно дилижанса (напомню, что в те времена еще не было ни железных дорог, ни паровозов). Так что же я там видел? Я расскажу вам, ничего не упуская: зеленые болотистые низины с берегами, заросшими камышом; плодородные, но однообразные поля, возделанные лоскутами и потому похожие на увеличенные огороды; окаймляющие горизонт ряды подстриженных деревьев, строгих, как безвершинные ивы; узкие канавы с медленным течением, поблескивающие вдоль дорог; крашеные фламандские фермы; иногда – отчаянно грязные хибары; мертвенно-серое небо; мокрую дорогу, мокрые поля, мокрые крыши. Ни одного примечательного, а тем более живописного вида не попалось мне за весь путь, но все, что я видел, было для меня более чем красивым, более чем живописным. Ясная погода сохранялась до вечера, хотя все вокруг пропиталось сыростью предшествующих ненастных дней; но с наступлением темноты начался дождь, и сквозь его струи и беззвездный мрак я различил первые проблески огней Брюсселя. Кроме этих огней, той ночью я мало что увидел. Фиакр доставил меня, высадившегося из дилижанса, к отелю, который порекомендовал мне какой-то попутчик; съев ужин путешественника, я улегся в постель и уснул сном путешественника.
После продолжительного и крепкого сна на следующий день я пробудился, уверенный, что по-прежнему нахожусь в N., и поскольку рассвело уже давно, вообразил, будто я проспал и опоздал в контору. Мимолетное и болезненное чувство стесненности отступило перед ожившим и оживляющим осознанием свободы, едва я, раздвинув белые занавески кровати, выглянул в просторную иностранную комнату с высоким потолком: как непохожа она была на тесный и мрачный, хоть и удобный номер, который я пару ночей занимал на приличном лондонском постоялом дворе, ожидая отплытия пакетбота! Но мне и в голову не приходит пятнать память о той неопрятной комнатушке. Мне дорога и она, ибо там, лежа в тишине и темноте, я впервые услышал, как огромный колокол собора Святого Павла объявляет на весь Лондон о наступившей полночи, и как же отчетливо запомнились мне эти гулкие, размеренные удары, исполненные непоколебимого спокойствия и силы! В узкое окно своей комнатки я сначала увидел тот самый купол, смутный в лондонском тумане. Видно, испытать такие ощущения, как от первых звуков, первых видов нового места, можно лишь однажды – дорожи ими, Память, запечатай их в урны, храни в укромных уголках!..
Итак, я встал. Путешественникам в чужих странах жилища зачастую кажутся убогими и неуютными, моя же комната предстала мне внушительной и отрадной. Огромные «французские» окна распахивались, как двери, и состояли из больших чистых стекол; на моем туалетном столике стояло такое великолепное зеркало, а второе, еще лучше, висело над каминной полкой, крашеный пол выглядел таким чистым и блестящим! Когда я, одевшись, спускался по лестнице, широкие мраморные ступени едва не повергли меня в трепет, как и высокие своды холла, куда они вели. На первой площадке я разминулся с горничной-фламандкой в деревянных башмаках, короткой красной юбке и блузе из набивного ситца; ее лицо было широким, выражение на нем – чрезвычайно глупым; на мое обращение по-французски она ответила по-фламандски, без тени почтительности, но я счел ее очаровательной – пусть не миловидной и не вежливой, зато, на мой взгляд, на редкость живописной. Она напоминала женщин с голландских картин, которые мне довелось видеть в Сиком-Холле.
Я направился в общую комнату, тоже очень просторную и с высоким потолком, обогреваемую печью; и пол, и печь, и почти вся мебель здесь были черного цвета, но никогда прежде я не ощущал такой легкости и ликования, как в ту минуту, когда уселся за длинный черный стол, отчасти накрытый белой скатертью, и, заказав завтрак, налил себе кофе из маленького черного кофейника. Может, черная печь и произвела бы гнетущее впечатление на кого-нибудь, но только не на меня, вдобавок она жарко пылала, двое джентльменов устроились возле нее, беседуя по-французски. Уследить за их стремительной речью, уловить весь смысл их слов было невозможно, однако французский в устах французов или бельгийцев (в то время ужасный бельгийский акцент еще не резал мне слух) звучал музыкой в моих ушах. Один из джентльменов вскоре угадал во мне англичанина – несомненно, когда я обратился к официанту, ибо я, несмотря на свой отвратительный южноанглийский акцент, упорно объяснялся по-французски, хотя мой собеседник и понимал по-английски. Взглянув на меня раз-другой, этот джентльмен заговорил со мной на отличном английском – помню, я еще попросил у Бога умения так же хорошо говорить по-французски, – беглость и правильный выговор собеседника впервые указали мне на космополитизм столицы, в которой я очутился. Так я впервые убедился в том, что владение живыми языками в этой стране не редкость, а в Брюсселе – обычное явление.
За столом я старался засидеться подольше: завтракая и беседуя с незнакомым человеком, я оставался свободным и независимым путешественником, но приборы наконец убрали, оба джентльмена покинули комнату, чары вдруг рассеялись, действительность и дела напомнили о себе. Мне, рабу, который только что избавился от ярма, всего на одну неделю обрел свободу от принуждения, обязательств, нищеты, предстояло вновь надеть кандалы подчинения. Едва успев вкусить радости жизни без хозяина, я услышал строгий приказ долга: «Ступай искать новую работу». Мучительные, но необходимые дела я никогда не откладываю, удовольствиям не отдаю предпочтение перед обязанностями – это не в моем характере; каким бы славным ни выдалось утро, я положительно не мог наслаждаться праздной прогулкой по городу, не представив прежде рекомендательное письмо мистера Хансдена и не разобравшись в своем новом положении. С усилием я отвлекся от мыслей о свободе и удовольствиях, схватил шляпу и буквально вытащил свое упирающееся тело из отеля на иностранную улицу.
Был чудесный день, но я не смотрел ни на голубое небо, ни на особняки вокруг меня, сосредоточившись на единственной цели – отыскать «мистера Брауна, дом номер… на Рю-Рояль», ибо ему было адресовано мое письмо. Расспросы помогли мне, и вскоре я уже остановился перед вожделенной дверью, постучал, спросил мистера Брауна и был приглашен в дом.
Препровожденный в маленькую утреннюю столовую, я очутился перед пожилым джентльменом – чрезвычайно солидным, деловитым и почтенным. Я вручил ему письмо мистера Хансдена, он принял меня весьма учтиво. После краткого обмена бессодержательными замечаниями джентльмен осведомился, может ли помочь мне советом или опытом. Я ответил утвердительно и объяснил, что я отнюдь не состоятельный человек, путешествующий ради развлечения, а бывший служащий конторы, желающий подыскать новое место, причем как можно скорее. Мой собеседник ответил, что он, будучи другом мистера Хансдена, охотно поможет мне, чем сумеет, и после некоторых раздумий назвал два места – одно в Льежской торговой компании, второе – в книжном магазине в Лувене.
– Конторщик и приказчик! – пробормотал я, добавил «нет» и покачал головой. К высокому табурету конторщика я уже примерился и возненавидел его, продолжал считать, что на свете найдется немало других дел, подходящих для меня, и, кроме того, не желал покидать Брюссель.
– В Брюсселе мне нечего вам предложить, – ответил мистер Браун, – если, конечно, вы не расположены заняться преподаванием. Один мой знакомый, директор большого учебного заведения, как раз ищет профессора английского и латыни.
За это предложение я ухватился с жаром, не раздумывая.
– Вот то, что надо, сэр! – объявил я.
– Но хорошо ли вы знаете французский, чтобы учить маленьких бельгийцев английскому?
К счастью, на этот вопрос я мог ответить утвердительно, поскольку учился французскому языку у француза, мог вразумительно, хотя и не очень бегло, объясниться на этом языке, прилично читал и писал на нем.
– В таком случае я, пожалуй, могу обещать вам это место, – продолжал мистер Браун, – так как месье Пеле вряд ли откажет профессору, которого рекомендовал я. Приходите сюда вновь в пять часов пополудни, и я представлю вас ему.
– Но я же не профессор, – смутившись, возразил я.
– Здесь, в Бельгии, так называют учителей, – объяснил мистер Браун.
Моя совесть была успокоена, я поблагодарил мистера Брауна и временно покинул его. На этот раз я вышел на улицу, чувствуя легкость на сердце: задача, которую я поставил перед собой на сегодня, была выполнена, я мог позволить себе несколько часов отдыха. Уже не колеблясь, я поднял голову и впервые заметил искристую чистоту воздуха, насыщенную синеву неба, радостную опрятность побеленных или покрашенных домов, увидел, как хороша Рю-Рояль, и, неспешно шагая по широкому тротуару, продолжал изучать ее внушительные отели, пока ограда, ворота и деревья парка, показавшиеся вдалеке, не отвлекли меня. Помню, перед тем как войти в парк, я осмотрел статую генерала Бельяра, потом поднялся по лестнице за ней и увидел узкую улочку – как потом выяснилось, это была улица Изабель. Отчетливо помню, что мой взгляд остановился на зеленой двери довольно большого дома напротив, где на медной табличке значилось «Pensionnat de Demoiselles»[7]. Пансион! Это слово, отдающее строгостью, вызвало у меня смутное беспокойство. В этот момент из двери как раз вышли несколько девиц, видимо, приходящих воспитанниц; я присмотрелся, надеясь увидеть хорошенькое личико, но маленькие облегающие французские капоры мешали мне, пансионерки вскоре разошлись, момент был упущен.
Я успел пройти чуть ли не через весь Брюссель, но едва часы пробили пять, уже вновь стоял перед дверью дома на Рю-Рояль. Меня вновь провели в утреннюю столовую мистера Брауна, где я опять застал его сидящим за столом, но уже не в одиночестве: возле камина стоял незнакомый джентльмен. При краткой церемонии знакомства стало ясно, что это мой будущий работодатель: «Месье Пеле – мистер Кримсуорт. Мистер Кримсуорт – месье Пеле». Мы оба поклонились, завершив тем самым церемонию. Как поклонился я, не знаю, – видимо, самым заурядным образом, потому что пребывал в обычнейшем безмятежном настроении; волнение, омрачившее мою первую беседу с Эдвардом Кримсуортом, ничем не напоминало о себе. Поклон месье Пеле был чрезвычайно учтивым, но ничуть не напыщенным и едва ли французским; наконец мы сели напротив друг друга. Приятным голосом, негромко, из уважения к моему слуху – слуху иностранца, – членораздельно и размеренно месье Пеле объяснил, что он только что услышал от «le respectable M. Brown» о моих познаниях и нраве, а потому уверен, что не совершит ошибки, предложив мне место «профессора» английского языка и латыни в его заведении, тем не менее для проформы он не прочь задать мне несколько вопросов в качестве испытания. И он задал их, а затем, удовлетворенный моими ответами, лестно отозвался о них. Далее всплыл вопрос жалованья, определенного в размере тысячи франков в год, помимо стола и крова.
– И вдобавок, – продолжал месье Пеле, – поскольку в моем заведении ваши услуги потребуются далеко не на весь день, в свободные часы вы сможете давать уроки в других школах, обращая время себе на пользу.
Все эти предложения я счел чрезвычайно любезными и впоследствии действительно убедился в том, что месье Пеле нанял меня на весьма щедрых для Брюсселя условиях: ввиду многочисленности учителей труд их ценился здесь очень дешево. Условившись, что завтра же я начну исполнять свои обязанности, мы с месье Пеле расстались.
Так каков же был этот человек? Какое впечатление он на меня произвел? Лет сорока, среднего роста, чуть ли не истощенный, с бледным лицом, ввалившимися щеками и запавшими глазами; в его лице с приятными правильными чертами чувствовалось нечто французское (ибо месье Пеле был не фламандцем, а французом по рождению и происхождению), но галльскую резкость черт смягчали светло-голубые глаза, а также меланхолическое, почти страдальческое выражение – это было лицо «fine et spirituelle»[8]. К этим двум французским словам я обратился потому, что они лучше любых английских передают тот род интеллекта, которым были пронизаны его черты. Месье Пеле был незаурядным, располагающим к себе человеком. Меня озадачило лишь полное отсутствие типичных признаков его профессии, и я уже начал опасаться, что для директора учебного заведения он недостаточно строг и решителен. По крайней мере внешне месье Пеле был полной противоположностью моему прежнему хозяину, Эдварду Кримсуорту.
Впечатленный добротой и мягкостью месье Пеле, я весьма удивился, когда на следующий день прибыл на новое место службы и увидел, где мне предстоит отныне трудиться, – просторные, хорошо освещенные классные комнаты с высокими потолками, – а затем и целую толпу учеников, разумеется, мальчиков, вид которых свидетельствовал о том, что школа процветает и в ней царит строгая дисциплина. В обществе месье Пеле я проходил по классам в глубокой тишине, где если и слышался негромкий голос или шепот, то он тут же умолкал под задумчивым взглядом моего спутника, самого кроткого из педагогов. Поразительный эффект для столь мягкой воспитательной меры, думал я. После того как мы прошлись по классам, месье Пеле обратился ко мне:
– Не возражаете, если я оставлю мальчиков на ваше попечение прямо сейчас и попрошу проверить, каков их английский?
Вопрос оказался неожиданным. Я думал, мне дадут хотя бы день на подготовку к занятиям, но поскольку начинать новое дело с колебаний – плохая примета, я просто шагнул к преподавательской кафедре, возле которой мы стояли, и обвел взглядом учеников. Мне понадобилось мгновение, чтобы собраться с мыслями, а заодно и составить на французском первое в моей новой роли предложение. Я предпочел, чтобы оно прозвучало как можно короче:
– Messieurs, prenez vos livres de lecture[9].
– Anglaise ou Français, monsieur?[10]– спросил крепкий, коренастый и круглолицый юный фламандец в блузе.
К счастью, ответ дался мне легко:
– Anglaisе[11].
Я решил как можно меньше утруждать себя на этом уроке: моему языку явно недоставало практики, не стоило выносить свой выговор на скорый суд сидящих передо мной юных джентльменов. Превосходство над ними следовало сразу же закрепить, и я продолжал урок в соответствии со своим решением.
– Commencez![12] – объявил я, дождавшись, когда все достанут книги.
Круглолицый мальчуган, которого, как я потом узнал, звали Жюль Вандеркелков, принялся читать первое предложение. Книгой для чтения оказался «Векфильдский священник»[13], бывший в то время в большом ходу в иностранных школах, где считали, будто бы он содержит простейшие и лучшие образцы разговорного английского. Но с таким же успехом книга для чтения могла быть руническим свитком, ибо звуки, произносимые Жюлем, не имели никакого сходства с языком, на котором обычно говорят друг с другом уроженцы Великобритании. Боже, как же он шепелявил, хрипел и пыхтел! Он словно изъяснялся горлом и носом, потому что так и говорят фламандцы, но я дослушал в его исполнении весь абзац, не поправив ни единого слова, от чего Жюль безмерно возгордился, довольный собой и, видимо, убежденный, что он показал себя истинным «Anglaise» по рождению и воспитанию. В том же бесстрастном молчании я выслушал еще двенадцать учеников, а когда последний наконец закончил лепетать, заикаться и мямлить, я мрачно отложил книгу.
– Arrêtez![14] – произнес я и в наступившей тишине устремил на учеников неподвижный и строгий взгляд: если смотреть на собаку пристально и довольно долго, она словно бы смутится; то же самое в конце концов произошло с моим бельгийским классом. Заметив, как на лицах учеников проступает у кого мрачность, а у кого стыд, я медленно сцепил пальцы и рявкнул voix de poitrine[15]:
– Comme c’est affreux![16]
Ученики переглянулись, надулись, вспыхнули и присмирели; я видел, что они недовольны, но вместе с тем потрясены, а этого я и добивался. Спесь с них была сбита, теперь мне самому предстояло возвыситься в их глазах – непростая задача, ведь я едва смел говорить, опасаясь выдать собственные недостатки.
– Ecoutez, messieurs![17] – велел я, вложив в свои слова всю жалость высшего существа, тронутого предельной беспомощностью, которая поначалу вызвала у него лишь презрение, а потом побудила снизойти до содействия.
И я стал читать «Векфильдского священника» с самого начала и прочитал страниц двадцать медленно и внятно, под пристальными взглядами притихших учеников. Я закончил чтение почти через час, поднялся и объявил:
– C’est assez pour aujourd’hui, messieurs; demain nous recomencerons, et j’espère que tout ira bien[18].
С этим предсказанием я откланялся и вместе с месье Пеле покинул класс.
– C’est bien! C’est très bien! – воскликнул директор школы, когда мы вошли к нему в кабинет. – Je vois que monsieur a de l’adresse; cela me plaît, car, dans l’instruction, l’adresse fait tout autant que le savoir[19].
Из кабинета месье Пеле проводил меня в «cham-bre»[20], как он сказал с важным видом, имея в виду мое будущее жилище. Комната была тесной, кровать – чрезвычайно узкой, но месье Пеле напомнил, что все это в моем полном распоряжении, что, разумеется, очень удобно. Несмотря на ограниченные размеры комнаты, в ней имелось два окна. Окна в Бельгии не облагаются налогом, люди здесь не препятствуют проникновению света в дома, однако последнее наблюдение в данном случае неуместно, так как одно из окон оказалось заколоченным, а открытое выходило на школьную площадку для игр. Я бросил взгляд на второе, гадая, какой вид открылся бы мне, если бы не доски. Видимо, месье Пеле догадался, о чем я думаю. Он объяснил:
– La fenêtre fermèe donne sur un jardin appartenant а un pensionnat de demoiselles, et les convenances exigent – enfin, vous comprenez – n’est-ce pas, monsieur?[21]
– Oui, oui, – поспешил ответить я, делая вид, что объяснение меня полностью удовлетворило, но едва месье Пеле удалился, прикрыв за собой дверь, я первым делом принялся изучать сколоченные доски, надеясь, что отыщу какую-нибудь щель или трещину, расширю ее и хоть одним глазком увижу запретную святыню. Мои старания оказались тщетными: доски были плотно сбиты и крепко приколочены. Я испытал неожиданное разочарование, думая о том, как приятно было бы смотреть на цветы и деревья в саду, как увлекательно наблюдать за играми пансионерок, изучать женский характер на разных этапах становления и при этом скрываться за скромной кисейной занавеской, но теперь – несомненно, из-за нелепой щепетильности директрисы, взявшей на себя роль дуэньи, – мне оставалось лишь одно: смотреть на усыпанную галькой площадку с «гигантскими шагами» посередине, в окружении серых стен и окон пристройки, где жили ученики школы для мальчиков. Не только тогда, но и много раз потом, особенно в минуты усталости и уныния, в досаде я смотрел на самую заманчивую из досок, мечтая оторвать ее и хоть одним глазком увидеть кущи, которые, как мне представлялось, зеленели по ту сторону преграды. Я знал, что одно дерево растет под самым окном: хотя листья еще не появились и шелестеть было нечему, по ночам ветки часто стучали в оконное стекло. Напрягая слух, днем я даже через доски слышал голоса резвящихся пансионерок, и, сказать по правде, в мои сентиментальные размышления порой вторгались не мелодичные, а, напротив, довольно резкие звуки, раздающиеся в незримом раю и настойчиво нарушающие мое уединение. Скажу без обиняков: я никак не мог решить, чьи легкие мощнее – девочек мадемуазель Ретер или мальчиков месье Пеле, а что касается визга, пальма первенства, бесспорно, доставалась девочкам. Забыл добавить, что фамилию Ретер носила та самая старуха, по милости которой заколотили мое окно. Здесь я называю ее старухой, потому что в то время считал таковой, зная ее склонность к чрезмерным, достойным дуэньи мерам предосторожности, а кроме того, никто в моем присутствии не говорил, что она молода. Помню, я весьма позабавился, узнав ее имя – Зораида, мадемуазель Зораида Ретер. На континенте позволительно выбирать причудливые имена, чего не допускаем мы, благоразумные англичане. На мой взгляд, мы, пожалуй, чересчур ограничены в выборе.
Между тем путь, который я избрал, становился все более гладким. За несколько недель я справился с досадными затруднениями, без которых не начинается ни одна карьера. Вскоре я говорил по-французски настолько бегло и легко, что не чувствовал ни малейшей неловкости в присутствии своих учеников, и поскольку я с самого начала поставил их на место и продолжал удерживать завоеванное преимущество, попыток бунта они не предпринимали – каждый, кто имеет представление о жизни бельгийских школ и знает, как часто восстают против друг друга учителя и ученики, наверняка сочтет это обстоятельство важным и примечательным. Прежде чем завершить эту главу, коротко расскажу о методе, которой я придерживался в отношении моих учеников: возможно, мой опыт кому-нибудь пригодится.
Незачем было обладать незаурядной наблюдательностью, чтобы изучить характер брабантской молодежи, однако чтобы приспособиться к ней, требовался известный такт. Умственные способности большинства этих юнцов слабы, а животные наклонности сильны, в них уживаются беспомощность и некая косная сила; бестолковые, но необычайно упорные, они свинцово тяжеловесны и, подобно свинцу, с трудом поддаются попыткам сдвинуть их с места. Так что нелепо было ждать от них больших мыслительных усилий; эти тугодумы с короткой памятью и неразвитым мышлением с отвращением шарахались от любых занятий, требующих тщательного изучения и вдумчивого подхода. Если бы учитель, действуя неблагоразумно и деспотично, пытался добиваться от них ненавистных усилий, они сопротивлялись бы так же упорно и яростно, как свинья, которую ведут на убой, и хотя по одиночке храбростью они не отличались, вместе были беспощадными.
Я догадался, что до моего прибытия в школу месье Пеле несколько учителей английского были уволены из-за массовых вспышек неподчинения учеников. Стало быть, не стоило требовать ничего, кроме умеренного прилежания, от натур, не созданных для него, надлежало всеми мыслимыми практическими средствами развивать столь темные и ограниченные умы, а вдобавок быть неизменно добрым, внимательным, даже уступчивым – до известного предела, – имея дело с неразумно-порочным характером, но, достигнув вершины этого потворства, предстояло найти надежную опору, утвердиться, стать недвижимым, как башни собора Святой Гудулы, ибо один шаг или даже полшага – и рухнешь вниз головой в бездну глупости и беспомощности, где сразу испытаешь на себе полную меру фламандской благодарности и великодушия, облитый брабантской слюной и забросанный комьями бельгийской грязи. Тому, кто разровнял путь к учению и убрал с дороги все камешки до последнего, придется вдобавок проявить решительность и настоять, чтобы ученики взяли его за руки и позволили повести их по проложенной дороге. Когда я подстроил свои уроки под способности самого тупого из учеников, когда доказал, что могу быть самым кротким и терпимым из наставников, одного дерзкого слова, одной попытки проявить непослушание хватало, чтобы превратить меня в тирана. У моих подопечных не было выбора: либо они подчинялись и признавали свои ошибки, либо их выгоняли с позором. Это средство подействовало, и мое влияние постепенно утвердилось на прочном фундаменте. Говорят, мальчик – отец мужчины; я часто вспоминал эти слова, глядя на моих учеников и вспоминая политическую историю их предков. Школа Пеле была всего лишь олицетворением бельгийского народа.
Глава 8
А сам Пеле? Нравился ли он мне, как прежде? Да, очень! Ничто не могло быть приятнее, учтивее и даже дружелюбнее его обхождения со мной. От него мне не приходилось сносить ни холодного пренебрежения, ни раздражающей назойливости, ни напыщенного превосходства. Но младшие учителя той же школы, два несчастных, изнуренных работой бельгийца, вряд ли подтвердили бы мои слова: с ними директор был неизменно сух, строг и холоден. Раз-другой заметив, как неприятно меня поразила граница, которую он решительно проводил между младшими учителями и мной, директор в качестве объяснения изрек с легкой саркастической усмешкой: «Ce ne sont que des Flamands – allez!»[22] И, бережно отведя от губ сигару, он сплюнул на крашеный пол в комнате, где мы сидели.
Да, оба учителя были фламандцами с истинно фламандскими лицами и очевидным для всякого отпечатком умственной ограниченности на них, тем не менее это были люди, люди в общем-то честные, и я не понимал, почему принадлежность к числу уроженцев этой унылой равнины оправдывает суровое и презрительное отношение к ним. Мысли о несправедливости отравляли удовольствие, которое могла бы доставить мне обходительность Пеле. Безусловно, приятно вечером, отдыхая от трудов, обретать в лице работодателя умного и жизнерадостного компаньона, а если порой он злоупотреблял сарказмом и вкрадчивостью, если выяснялось, что его доброта скорее напускная, чем подлинная, если я иной раз догадывался о существовании кремня и стали, спрятанных под бархатом, – так никто из нас не совершенен, и поскольку меня утомила атмосфера грубости и хамства, которыми сопровождалось мое пребывание в N., у меня не было ни малейшего желания теперь, когда я бросил якорь в заводи поспокойнее, присматриваться к изъянам, о которых умалчивали, которые старательно от меня прятали. Я был готов принимать Пеле таким, каким он казался, и верить в его благожелательность и дружелюбие, пока какое-нибудь злополучное событие не докажет обратное.