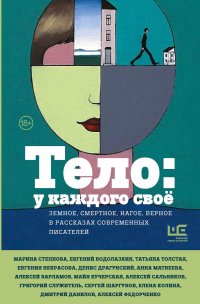Читать онлайн Сага о бедных Гольдманах бесплатно
- Все книги автора: Елена Колина
2000 год
– А мне такой любви не надо! – враждебно выплюнула Лиза. – У меня уже чужое было! Я всю жизнь Аниного хотела. Мы бедно жили, даже не то чтобы бедно, а так… тускло, безрадостно. А у нее все было! Я ее платья до сих пор помню. Туфельки… тоже помню. Ее все любили, а меня не очень, я некрасивая была, мрачная, а она добрая, уютная, как подушка…
Олег пожал плечами. Подумаешь, какая-то детская дребедень!
– Я ее в детстве обижала. Она тебе не рассказывала? – подозрительно спросила Лиза. – У нас с ней такое было, я не могу тебе рассказать. Я… издевалась над ней, хотела больно сделать…
Лиза начала одеваться, быстро хватая вещи. Брюки, блузка, пиджак…
– Черт, в рукав не попала!
– Лиза! При чем тут мы с тобой? – Олег непонимающе улыбнулся…
1975 год
ЛИЗАНЯ
Трехкомнатная квартира семьи Бедных выглядела бесхитростно маргинальной, как женщина, застигнутая чужим недоброжелательно-насмешливым взглядом в миг, когда она с трудом натягивает тесное платье непривычного фасона на старое простенькое белье. Платье ползет все дальше, закрывая неприглядное бельишко, делая женщину нарядной и модной, но еще торчит краешек дешевой рубашки, а вслед за рубашкой и вовсе обнаруживаются резиновые боты. Было очевидно, что в квартире живут два поколения, совершенно по-разному обживающие пространство. Крошечную двухметровую прихожую украшали новенькие полированные оленьи рога, прикрепленные над довоенным сундуком таким образом, что гость в любом ракурсе оказывался увенчанным рогами. В отместку рогам, сопротивляясь новым веяниям, отжившая эстетика задержавшегося довоенного быта как последний бастион выложила на пол старенький, когда-то цветастый, а теперь почти полностью вытертый полотняный коврик. Сотканный в подарок молодоженам коврик Маня привезла из деревни, в коммуналке на Троицкой он занимал самое почетное место, и только здесь, в отдельной квартире, постепенно обесценивался, перебираясь со стены спальни на пол и, наконец, в прихожую. Эпическому коврику было столько лет, сколько Маниной семейной жизни, а именно – тридцать шесть.
Новая жизнь беззастенчиво вытеснила старую в самую маленькую семиметровую комнатку по правую сторону от прихожей. Маня и Моня, как положено пожилым супругам, спали отдельно. Напротив высокой кровати с металлическими шарами, покрытой белым кружевным покрывалом, располагалось хрупкое сооружение на уродливо тонких ножках под названием оттоманка. Кровать с нарядными шарами принадлежала Мане, а узкая коричневая оттоманка – Моне.
У Лизы, внучки Мани и Мони, в детстве был секрет. Повторив несколько раз подряд «оттоманка», она переставала понимать, что слово это обозначает нечто вроде дивана. Вместе со значением слова улетучивалась и остальная реальность, и теперь не только все предметы существовали необозначенными, но и сама она не имела больше привязки к окружающему миру, а все докучливые неприятности оставались там, где каждой вещи строго полагалось название. Лиза чувствовала, что злоупотреблять этим знанием другого мира нельзя, потому что существует опасность задержаться там надолго и даже навсегда, но иногда она вдвигалась в тесноту Маниной комнаты, закрывала глаза и улетала…
Для Лизы комнатка была как истончившийся от частой стирки носовой платок – и вытащить перед посторонними неловко, и нос сунуть приятно, вдохнуть теплый домашний запах старательно отутюженного чугунным утюгом белья.
В ее памяти сохранилось одно смутное воспоминание: она уютно угнездилась между двумя большими подушками в Маниной кровати, а Моня с Маней говорят о какой-то… кажется, о какой-то брошке. Нет, они не делили брошку, никакой брошки у них не было, Лиза даже приподнялась и заглянула на всякий случай им в руки. Кажется, Моня сказал Мане, что раз брошка досталась Науму, то старший брат мог бы и поделиться чем-то, чем именно, Лиза не поняла, но, наверное, чем-то хорошим и ей, Лизе, нужным.
Маня тогда на деда фыркнула, сказав, что хватит уже и еще одной ссоры в семье из-за этой стекляшки она ни за что не допустит. «Тебе, Манечка, все стекляшка! Скажешь тоже, стекляшка… Глупышка ты…» – печально протянул Моня, безнадежно махнув на жену рукой. А маленькая Лиза поняла, как ему жалко эту, конечно же, невероятно ценную вещь – сказочную драгоценность, брошку. Брошка блестит, наверное… Она, Лиза, была бы с этой брошкой как королевна!
Вечерами в гостиной на диване под портретом Хемингуэя, такого мужественного в своей бороде и с трубкой, располагался далеко не такой мужественный Лизин отец Костя, сын Мани и Мони. Входя в комнату, Костя всегда с опаской бросал быстрый взгляд на обеденный стол и, не обнаружив белеющих на скатерти аккуратно сложенных треугольниками клетчатых листков, облегченно вздыхал и укладывался на диван. Если же записки имелись, Костя обреченно плелся к столу, стоя прочитывал и только после этого падал на диван.
Маня всегда бдительно следила за сыном и невесткой и почти ежедневно письменно сообщала им, насколько удачно, по ее мнению, протекает их семейная жизнь. Привычку эту она приобрела много лет назад, когда двадцатилетний Костя привел к родителям, в коммуналку на Троицкой, однокурсницу Веточку. Веточка была сиротой, и Маня резво взялась быть девочке-невестке родной матерью.
В двенадцатиметровой комнате больше года друг против друга спали две супружеские пары – еще полные сил сорокалетние Маня с Моней и двадцатилетние молодожены Костя с Веточкой. Через год к ним прибавился младенец – Лиза, появившаяся на свет исключительно благодаря Мониному такту, то и дело вечерами уводившему недоумевающую Маню погулять. Маня рвалась жить семейной жизнью, не отвлекаясь от совместного существования ни на минуту. Проживая не просто в теснейшей близости с сыном, а, можно сказать, находясь непосредственно в его постели, Маня не могла при невестке быть откровенной с сыном, поэтому ежедневно писала ему записки. В записках Маня объясняла, что утром он пихнул Веточку локтем, а она, кажется, обиделась, не оставил жене последний кусок сыра и небрежно прошел мимо Лизиной кроватки, даже не улыбнувшись дочери.
Для Мани, совершенно не склонной к эпистолярному жанру, эти записки были материнским подвигом во имя семьи сына. Такая извращенная форма участия в его жизни привела к желаемому Маней результату. Опасаясь очередной аналитической записки, Костя с Веточкой тщательнейшим образом скрывали свои нелады и научились ссориться даже не шепотом, а исключительно глазами. Ссоры, и без того нечастые, вскоре прекратились совсем, а Костя с Веточкой сблизились необыкновенно, в точности как два двоечника, тоскующие на последней парте под строгим взглядом учительницы.
За тридцать пять прожитых с Маней лет Костя привык ежечасно показывать матери дневник, поэтому записки не раздражали и не обижали его. Он воспринимал мать как сильный, но неопасный ураган – и восхищает, и укрыться хочется, а можно и не укрываться, так тоже хорошо.
Теперь, после шестнадцати лет брака, Костя любил жену положенной среднестатистической любовью, больше похожей на дружеское чувство. Хорошие друзья не ссорятся, и они с Веточкой никогда не ссорились, хотя, если бы им дали возможность ссориться и мириться, их полудетская студенческая любовь смогла бы развиться во взрослую страсть.
Другим нежданным следствием Маниных стараний на семейной ниве оказалось почти полное Костино равнодушие к дочери. Если к маленькой Лизе он все же проявлял определенный интерес, то по мере Лизиного взросления его безразличие усиливалось. Обожающий Лизу Моня, преданная Маня – Лизу и без него было кому любить. Именно так думал Костя, полностью делегировав свои отцовские чувства отцу с матерью.
Костя упоенно собирал спичечные этикетки. Они были хороши тем, что не требовали ни малейших отщипываний от семейного бюджета, а просили всего лишь Костину душу. Душа и удалилась почти без остатка, помахав на прощание близким. Не любить ласково-ворчливого Моню было просто невозможно, а Костина нежная преданность матери была совсем уж не среднестатистической, ее можно было сравнить лишь с преданностью, какую пожизненно заключенный вынужден питать к своему тюремщику.
Желая спрятаться от избыточной материнской любви, Костя ушел со своими этикетками куда-то далеко, из этого далека он умудрялся держать за руку жену, но прихватить с собой взрослеющую дочь уже не смог.
Все остальные Лизу любили – и дед, и бабушка, и мать. Обычная, в меру счастливая семья жила в окружении положенных предметов, в обычной квартире, но пятнадцатилетняя Лиза была убеждена, что дома у нее не особенно красиво и уютно, грустно, а главное, так отчаянно обыденно и скучно. Ненарядная жизнь была у ее семьи! Лизе немного стыдно было так думать, вернее, неловко, что она ни капельки не стыдится этих мыслей, что ей не совестно осуждать их способ жить так бездарно, неинтересно, вдали от настоящей жизни, входящей в большую комнату только с экрана телевизора.
* * *
Сегодня суббота и Манин день рождения – наиглавнейший семейный праздник. Утро началось со скандала. Все субботние семейные завтраки были тоскливыми, а этот и вовсе вышел ужасным.
За столом уверенно держала речь Маня, вещала, не давая никому вставить ни слова. Костя и Веточка ничем не отличались от своих ровесников-инженеров, дожидались каждый в своем отделе НИИ очереди на толстые журналы, нечасто, но все же ходили в театры, ну а уж в кино бегали почти каждую субботу. Как у всех, у них были друзья, с которыми они обсуждали книги и спектакли. С друзьями – да, но не дома. Там хозяйничала Маня, и темы для семейной беседы за столом выбирала она, а сын с невесткой помалкивали.
Семейные трапезы всегда проходили одинаково, и сегодня утром Маня, как обычно, настаивала на внимании, ежеминутно одергивая родных. «Вы меня слушаете?» – призывала она. Моня чавкал, непонимающе встречая лучезарной улыбкой неприязненный Лизин взгляд, а Костя с Веточкой почтительно внимали. Веточка изредка ловила Лизины брезгливые гримасы и укоризненно на нее поглядывала.
Маня волновалась, на что они будут снимать дачу будущим летом. Жили в этом году тяжело, долго болел Моня, а его зарплата была главной в семейном бюджете.
– Ребенка без воздуха не оставлю! – провозгласила Маня, окинув сидящих за столом воинственным взглядом.
Костя с Веточкой и Лизой, как невзрослые еще члены семьи, молчали.
– Манечка, так где же, ты считаешь, мы возьмем деньги? – вежливо откликнулся Моня, уверенный, что задает риторический вопрос. Денег не было.
– А я кольцо продам! – решительно заявила Маня, сжав губы в ниточку.
Манино колечко не представляло особой ценности – просто тонкий золотой ободок с крошечным рубином, единственная в семье память о матери. О Мониной, конечно же, матери. От Маниных родных не осталось ничего, кроме старого дома в деревне, доставшегося ее дальним родственникам. Маня тогда заявила, что родственники эти бедные и им дом нужнее. В город приезжала только Манина племянница Люся, привозила осенью в подарок мешок картошки. Не толстая, но крепко сбитая, она и сама была похожа на картошку – нос картошкой, щеки картошками. Маня нежно гладила картофелины, подолгу смотрела на гладиолусы, которые Люся вынимала из того же картофельного мешка. Маня Люсиной семье была готова отдать последнее, деньги посылала, собирала для них посылки, любовно складывая вещичку к вещичке.
По Маниному мнению, все на свете было всем нужнее, чем ей самой. Ладно бы она просто все свое личное отдавала, а то ведь получалось, вместе с ней страдала и Лиза. «Отдала им домик, теперь вот колечко пропадет», – думала Лиза, но смысла обнародовать свои мысли не видела. Маня бы ее просто не поняла, а мнения остальных никакого значения не имели.
– Манечка, кошечка! – Мягкое «кошечка» подразумевало нежно-кокетливую женщину и, обращенное к такой крупной, неповоротливой, совершенно непоэтической Мане, звучало странно и трогательно. – Зачем же колечко продавать, оставим Лизе на память о прабабушке, – робко предложил Моня.
– Да, мама, подумайте, может быть, папа прав? Это же память… – Веточка так нежно относилась к свекру, что жалость пересилила привычку подчиняться.
Лиза понимающе переглянулась с матерью и, наклонившись, прошептала ей на ухо:
– Скажи ей, я не хочу на дачу, пусть лучше останется колечко.
– Мама, Лиза не хочет на дачу, – озвучила Веточка Лизин шепот.
– Ах, вы так! Ну ладно! – фыркнув и резко развернувшись, Маня с неожиданной для ее полного тела резвостью выскочила из-за стола. – Шепчешься, значит, с дочкой против меня! А ты, Лиза! Значит, больше маму свою любишь, чем меня!
Маня со страшным лицом стояла над уже плачущей невесткой. Костя бессмысленно суетился между матерью и женой. Веточка рыдала и приговаривала сквозь слезы: «Она и так никогда… и за что… почему в выходной день… никогда нельзя мирно… просто позавтракать… она и так никогда…» Чтобы быстрее всех успокоить и помирить, Моня громко, с подвизгиванием кричал. Лиза, плача, поочередно хваталась руками за мать и бабушку. Как хорошо, что подобные выплески эмоций случались в семье Бедных нечасто…
Слава богу, что всю неделю взрослые жили своей отдельной жизнью. Маня работала медсестрой в приемном покое Куйбышевской больницы, раскинувшейся полуразвалившимися корпусами девятнадцатого века в огромном парке в двух шагах от Невского проспекта. Необходимость больницы в городе так же органично совпадала с монументальностью ее зданий, как важность Мани для ее небольшого семейства совпадала с ее внешней внушительностью. Дома Маня часто забывала сменить значительное больничное выражение лица на что-нибудь попроще и использовала тот же командный голос, которым она сутками распоряжалась у себя в приемном покое – больного туда, больного сюда, и сердито кричала по телефону: «Куда везете?! Сказано вам русским языком – мест нет!» Моня чаще всего слушал приемник, растянувшись на своей оттоманке. Маня и Вета из прихожей сразу бросались на кухню и у телевизора появлялись только к программе «Время».
Перед чужими Лиза немного стыдилась крупной громкоголосой Мани с ее простонародными интонациями и словечками. Маня могла запросто, расслабившись, выдать что-нибудь вроде «я ентого соседа знаю, у его жена в зеленом пальте». Сын не замечал или не разрешал себе замечать, невестка Веточка страдальчески морщилась, и только Лизе, одной из всей семьи, позволено было сказать: «Ну что ты, бабуля, ты же всю жизнь живешь в Ленинграде, а говоришь, как будто вчера из деревни приехала!»
Моня – не полный, но одышливый, с крупным носом, утопающим в мясистом лице, – часто бывал дома днем, но Лиза не раздражалась его шуточкам, правда, если он шутил наедине с ней. Его речь была правильной, городской, но проскальзывала в ней странная неуловимая интонация, и от этого тоже становилось неловко.
Вот вчера, например, Лиза с подругой делали уроки, а дед подкрался сзади и как грохнет им прямо в уши:
– Хватит вам задачки решать! Учитесь, девки, петь и плясать, работать и так придется!
Девочки оглянулись с потусторонними глазами, все в своих формулах, а довольный дед, похожий в отвисших домашних брюках на резинке на Карлсона, стоит позади и ухмыляется.
* * *
Лиза деда любила и старалась его как могла от Мани защитить. В обычной жизни дед никогда не пил, только после редких встреч с фронтовыми дружками возвращался немного веселый, но случалось, находило на него желание пошалить. Тогда дед укладывался на диван с бутылкой пива и противным голосом завывал:
– Напилася я пьяна… не сойду я с дивана…
– Дед, тебя Маня убьет, – переживала Лиза.
– Твоя бабуля на меня в ссоре, – жаловался Моня, кося хитрым глазом.
– Дед, проси скорей прощения, – советовала Лиза.
Страшно все-таки быть с Маней в ссоре.
– Не буду! – упрямился Моня, играя лицом. – Ни за что! Для девушки честь дороже!
Дед был чудный, смешной, но годился исключительно для домашнего употребления. Для себя самой Лиза хотела иметь только деда, лишь с ним она чувствовала себя в уютном коконе нежности и всепрощения, но перед чужими Лиза стыдилась Мониной неряшливости, нездешности его шуток и даже растекающейся по его лицу непомерной доброты.
Лизе и за родителей тоже бывало стыдно. Мало того, что простые инженеры, даже диссертации не защитили, так еще и гордились этой своей бессмысленной профессией. Веточка и Костя скучно и бедно прозябали в НИИ, Лиза только презрительно кривила губы, когда они начинали обсуждать свои проблемы. Чем болтать о всякой ерунде, лучше бы посмотрели, как другие люди живут, как некоторые девочки в ее школе одеваются, как ребят на машинах по субботам забирают…
Лиза была уверена, что в семье Бедных ее родители – последние «бедные», она сама будет жить совсем иначе. Но знала, что надеяться ей придется только на себя: ни родители, ни дед с бабкой ничем ей не помогут.
У Бедных много родственников. Чтобы усадить всех, кто придет вечером поздравить Маню, Косте с утра пришлось спускаться к дружественным соседям с третьего этажа одолжить кухонный стол – его, как обычно, подставят к полированному столу специально для детей. Разделение на детский и взрослый столы происходило не только согласно возрасту, но и семейной иерархии: за детским столом, например, регулярно оказывался недостаточно любимый Маней Алик, муж племянницы Танечки.
Сказать, что Маня кого-то из своих не любила, было бы несправедливо. Солнце равно светит всем, и Манина материнская рука простиралась надо всеми, и око Манино бдительно следило за всем ее хозяйством, но все-таки при всем своем величии и она была человеком, поэтому были в семье отдельные личности, пользовавшиеся меньшим ее благоволением. Меньшим – лишь в сравнении с большим, она и для нелюбимых была готова на все.
…Семья Бедных – одна из ветвей большого клана Гольдманов. Старшее поколение – четверо родных братьев и сестер: Михаил Бедный и Наум, Лиля и Циля Гольдманы. Дети время от времени удивлялись, почему все члены семьи – Гольдманы и только Моня носит фамилию Бедный. Взрослые неопределенно пожимали плечами и переводили разговор на другие темы. «А почему у всех дедов и теток разные отчества? – интересовались дети. – Наум Давидович, Михаил Данилович, Цецилия Семеновна и Лилия Львовна? Родные братья и сестры! Как же так?» – «Вырастешь – узнаешь!» – отвечали взрослые, а дети, вырастая, забывали узнать, собственная их жизнь заслоняла интерес к каким-то пыльным семейным историям.
Центром огромной семьи Гольдманов была Маня – Марья Петровна Бедная, всего лишь жена младшего брата – Мони, даже не носившая фамилию Гольдман. Она лечила в своей больнице их многочисленные болезни, разбиралась в семейных ссорах молодых пар, строго пресекала пробегающее между стариками взаимное недовольство, не давая обидам разрастаться и пускать корни.
Именно Маня следила, чтобы ручеек каждодневного семейного общения не пересыхал, ежевечерне обзванивала всех, усаживаясь у телефона часа на два. Она сообщала племяннице Дине, дочери Наума, как сегодня чувствуют себя тетки, а теткам, что у Дины с утра болит голова и та забыла надеть дочке Ане рейтузы, что Моне купили голубую рубашку, а Лиза получила три пятерки. Если нет ежедневного обмена новостями, какая же это семья? Откуда русской Мане, давно потерявшей связь со своими деревенскими родственниками, был известен этот характерный для больших еврейских семей способ существования? «Если бы не ты, мама Маня, то у нас давно не было бы никакой семьи, а были бы… так себе родственники, причем дальние», – говорил Динин муж Додик, обнимая Маню.
Ждут гостей. Маня с напряженным генеральским лицом, затянув веревкой продранный под мышками ситцевый халат, с утра гоняет Моню, Костю и Лизу то в магазин, то просто из комнаты в комнату. Веточка молча выполняет ее распоряжения на кухне – моет, режет, размешивает.
На звонок выбегают все, толпятся в маленькой прихожей, торопятся расцеловаться с родственниками, Додиком и Диной. Вместе с Додиком в дом входят веселье, суета, громкий смех. Он одновременно обнимает Веточку и Лизу и, наклоняя рукой Динину голову, важно произносит:
– Познакомьтесь, это моя троюродная жена! – Додик годами говорит эту фразу сразу же после «здравствуйте», и она неизменно вызывает улыбки.
Родственные отношения в семье запутанные. Чтобы долго не разбираться, можно, как самое последнее поколение, считать, что все приходятся родственниками всем. На самом деле старшая дочь Наума Дина Гольдман вышла замуж за своего троюродного брата Додика Гольдмана, так что ей даже не пришлось менять отцовскую фамилию.
Динина мать, первая жена Наума, Мурочка, умерла во время блокады, но для всех у Наума только одна жена – Рая. Дина называет Раю «мама», и Наум никогда не вспоминает о Мурочке, как будто ее и не было. О ней не говорят, из бедной нежной Мурочки сделали семейную тайну, а может быть, искренне забыли о ней, чтобы не делать Рае больно. Когда-то давно молоденькая Рая при упоминании о первой жене своего мужа щурилась беспомощно и злобно, потом потихоньку куда-то исчезли довоенные фотографии Наума и Мурочки с Диной на руках. Так этот брак и растворился в прошлом, как будто никогда не жила бедная нежная Мурочка, а была только пышная громкоголосая Рая.
Дина называет Раю «мама», а Маню – «мама Маня». Маня прожила с крошечной болезненной Диной всю войну, выходила ее в блокаду, увезла в эвакуацию. Дети этих древних историй не знают и отношения вокруг себя воспринимают как данность, не вникая в подробности.
Додик с Диной, любимейшие Манины племянники, горделиво выставляют перед собой дочь, пятнадцатилетнюю Аню, Лизину сестру-подружку. Лиза ревниво отмечает, что Аня сегодня в новом платье, красные и белые клетки смешиваются в Лизиных глазах, она изо всех сил старается не заплакать от обиды. Почему Аньке опять новое платье, а у самой Лизы одно, официально назначенное нарядным? Платье, оранжевое с широким поясом, сшито в районном ателье из колючей пальтовой ткани. Лиза в нем уже второй год чешется, в театре и в гостях, она и сейчас еле сдерживается, чтобы не почесаться при всех.
Дина тихо, жалобно и одновременно требовательно обращается к Мане:
– Мама Маня, я неважно себя чувствую… и у Ани опять по математике две двойки подряд…
– Ну, посмотрим, придешь ко мне, кровь сдашь… – отвечает Маня, непроизвольно притягивая к себе Лизу-отличницу, злорадно блеснувшую улыбкой.
В Маниных глазах гордость за внучку мгновенно сменяется участием.
– У меня еще кашель по утрам, ты слышишь?! – Обиженная недостаточным вниманием, Дина тянет Маню за рукав в маленькую комнату, где, кроме кровати и оттоманки, помещались шкаф со стеклянными дверцами, через которые просвечивали Манины платья и Монин костюм, и большой, затянутый пупырчатым коричневым сукном радиоприемник с круглыми ручками. Приемник был таким массивным, что определял себя отдельной мебельной единицей. Его накрытая кружевной салфеткой крышка была, как тумбочка, заставлена белыми слониками, коробочками с пуговицами и запонками, блюдцами с лекарствами и фотографиями маленькой Лизы. С приемника на Маню с Моней смотрел бывший Лизин любимец, медведь с продранным красным флагом в облезлой лапе. В этих семи метрах предпочтительно было находиться на лежачих местах: к радиоприемнику, например, удобно было подползти со стороны оттоманки, а открывать шкаф, сидя на кровати, тогда одежда вываливалась на кровать, стоило лишь протянуть руку. Нельзя сказать, что здесь, рядом с кружевным белым покрывалом, витал дух дальних странствий, но почему-то на шкафу громоздились два готовых к выходу потертых картонных чемодана с большими металлическими замками. Дина усаживается на металлическую кровать и что-то нашептывает хозяйке на ухо, придерживая для верности рукой. Дина всегда приходит первой, чтобы успеть пошептаться с Маней. Получив свою долю сочувствия, она отваливается от нее, как насосавшийся молока ребенок.
Додик с Диной никогда не приходят без подарка Лизе, и сегодня она с утра в нервно-приятном предвкушении. Сейчас старательно демонстрирует безразличие к аккуратному пакету, перевязанному веревочкой. Лиза рассеянно принимает пакет из Додиковых рук, подчеркнуто радостно глядя ему в глаза: «Главное для меня – это ты, Додик, а не твой подарок!» – и одновременно пытается на ощупь определить, что внутри. Кажется, пакет мягкий, значит, не книга, а какая-то одежда!
– Опять ты, Додик, с подарком, ты слишком балуешь Лизу! – недовольно тянет Веточка.
…Когда Лиза была маленькой, она мечтала родиться у Додика с Диной. Заснуть бы дочкой вялых и скучных Веточки и Кости, а проснуться… Додик станет ласково пощипывать ее, называть «моя мусенька», дарить красивые платья и каждый день заставлять съедать все до крошки… И жить в богатой, заставленной красивыми вещами квартире, где повсюду книги, цветы, а мебель меняется каждые несколько лет…
Равнодушная к окружающим ее вещам Маня и выросшая в бедности Веточка не испытывали неловкости перед богатыми родственниками. За них обеих с утроенной силой стыдилась Лиза.
Сразу за коридором располагалась гостиная, которую в семье Бедных простодушно называли «большая комната». В большой комнате чувствовалось влияние времени, витали флюиды борьбы старого и нового быта, и со всей очевидностью побеждало новое. Вдоль стены вытянулся диван с блеклой обивкой в голубоватую крапинку, по углам разбежались бежевые в рыжеватых разводах полированные сервант и секретер, в центре комнаты – прямоугольный стол, покрытый синей плюшевой скатертью из недр Маниного шкафа, а у окна – два низких тонконогих кресла, интимно образующих треугольник с тонконогим торшером в вершине, метровой желтой металлической палкой с нахлобученным сверху голубым пластиковым ведрообразным абажуром. Когда-то за гарнитуром долго стояли в очереди, сын с невесткой бегали отмечаться ночью, всей семьей радовались, что достали подешевле, с браком. Брак состоял в отсутствии тумбы, поэтому телевизор красовался на старой темной тумбе с вечно приоткрытой дверцей. С телевизора свисала белая кружевная салфетка. Маня следила, чтобы выключенный телевизор всегда был прикрыт, а Веточка, с честными глазами уверяя свекровь в своей забывчивости, украдкой салфетку поднимала. Ворвавшись в комнату, Маня сразу бросала взгляд на телевизор и в два прыжка ликвидировала беспорядок. Свои позиции по части дизайна она сдавала крайне неохотно, в частности, любимое Маней семейство из семи слоников постоянно перемещалось из боковой комнатки прямиком на сервант в большую комнату и обратно, пока не осело окончательно на Монином радиоприемнике. На телевизор Маня упорно ставила чисто вымытую молочную бутылку, а в ней цветок, нарцисс, например. Веточка морщилась, но бутылку убрать боялась. Маня трогательно любила цветы, а вазочка в доме была одна и занимала постоянное место на серванте. Подковерная борьба Веточки с упрямой свекровью за более современный быт носила скорее условный характер. Сервант вкупе с секретером еще не успели до конца выжить старое, как уже сами перестали быть модными, уступив место следующему витку советского мебельного благополучия – монструозным стенкам. Но о том, чтобы поменять сервант на более современные конструкции, в этом доме даже не мечтали.
Лиза стыдилась нарциссов в молочной бутылке, им следовало бы красоваться в хрустальных вазах, расставленных повсюду, как у тети Дины. Еще ей казалось, что давно следовало бы выбросить цветастый пупырчатый половичок из прихожей, было неловко за дрянные алюминиевые кастрюли и синий обколупанный ковшичек. Ему, наверное, столько лет, сколько Лизе. А чего стоил шкаф в спальне, за стеклом которого просвечивают платья! Отдельной работой было скрывать свой стыд за независимым видом.
Додик придирчиво осматривает Лизу и строго спрашивает:
– А почему ты не надела лакированные туфли, которые мы тебе на день рождения подарили? Они тебе не нравятся? – пытается он проникнуть взглядом сквозь ее туфли, словно пробуя разглядеть внутри еще одни.
– Ну, дядя Додик, я же не могу надеть две пары туфель одновременно! – хихикает Лиза.
– Лиза, не путай божий дар с яичницей! Разве можно сравнить наши туфли и эти обглодыши!
Лизе легко с Додиком, она нисколько его не стесняется, в отличие от собственного отца, ей и в голову не придет обсуждать с ним какие-то туфли.
Сколько живет Лиза на свете, столько думает, что Аню любят в семье больше. Поэтому ей так близок Додик, Лиза чувствует за его веселостью такую же, как у нее, неприкаянность. Додик всем свой, родной, но не такой родной, как Дина, любимая Манина племянница. Получается, что у него никого и нет, кроме Дины.
Из подслушанных разговоров взрослых Лиза знает, что между Додиком и Диной все не так гладко, как кажется. Кроме внешне благополучных, есть еще какие-то сложные отношения, и стоит Додику повести себя неподобающим образом, благолепие нарушится в любой момент. Выстроившись «свиньей», родственники бросятся на защиту Дининых интересов. Наум, Маня, даже тихие тетки будут на стороне бедной Дины – кровиночки, сироты, оставшейся от бедной, погибшей в блокаду Мурочки. Все помнят, что Дина сиротка, Дина никому об этом не позволяет забыть.
Улучив момент, Лиза вбежала в Манину комнату и быстро проковыряла бумагу пальцем.
– Лиза, где ты? – кричит Дина.
– Какая ты сегодня красивая, тетя Дина! – любуется теткой Лиза.
Сухопарая, похожая на скучного петуха, с яркими бусами и серьгами, Дина кажется красивой одной лишь Лизе.
Дина довольно поблескивает лицом – яркой помадой на узких губах, запудренным носом ярче щек и аккуратно накрашенными дефицитной французской тушью маленькими глазками с голубыми веками. Застав красную Лизу с дырявым пакетом в руках, Дина понимающе усмехнулась:
– Лиза, давай всех позовем и будем наш подарок мерить.
Там кофточка. Дорогая.
– Знаешь, сколько кофточка стоит? – обернулась Дина к застывшей в дверях Вете.
Отшвырнув пакет, Лиза выскочила из комнаты так стремительно, что чуть не снесла мать и Дину.
За столом собралась вся семья.
Старший, Наум, невысокий, плотный и осанистый, несмотря на близящиеся шестьдесят, выглядит ухоженным и подтянутым. Со спины, выпуклой и пухлой, он напоминает наряженный в костюм матрац, неторопливо перемещающий себя в пространстве шаг за шагом. В его облике выделяются два несоразмерно массивных элемента – живот в белоснежной рубашке, обрамленный полосатыми подтяжками, и щеки, разлегшиеся почти что на груди. По его лицу как траншеи пролегли носогубные складки, такие глубокие, что кажется, в них можно наливать воду. Мохнатые брови, нависающие над тяжелыми веками, и тонкая линия губ между толстенькими уютными брылами – вот и весь Наум: сверху страшный гном, а снизу добрый. Наум отодвинулся от стола с всегдашним брезгливым выражением лица.
В Михаиле, Моне, очевидны те же, слегка заретушированные, как на менее резкой фотографии, семейные черты. Помягче, чем у Наума, носогубные складки, не так свисают брылы, не столь дико кустятся брови, а вот взгляд у него совсем иной. Наум смотрит, точно стреляет, – остро и недоверчиво, а Моня – нежно, как будто поглаживает мягкой тряпочкой. Моня не такой корпулентный, как старший брат, он повыше Наума, но разница в росте скрадывается тем, что он немного сутулится. Если Наум по праву занимает свое место в пространстве и словно хочет распространиться, чтобы занять еще больше, то Моня старается подвинуться, убрать руки, поджать ноги – сделать все, чтобы занять поменьше места.
Наума и Моню объединяет отдаленное сходство с бульдогом, при этом Наум напоминает воспитанного откормленного бульдога из хорошей семьи, до самодовольности уверенного и в себе, лучшей в мире собаке, и в своих хозяевах, тоже лучших в мире. В Моне, напротив, проглядывает некая недоласканность, неполная уверенность в хозяйском расположении. Бездомность и неприкаянность были бы слишком сильными словами, но вдруг его хозяева не знают, что он лучшая собака в мире?
Моня выглядит более мужественным и крепким, чем его сын. Косте всего тридцать пять, но он уже заметно поплыл, обзавелся животиком-дынькой, слегка опустил обросшие жирком плечи, в общем, приобрел контур, который с годами будет лишь расширяться, повторяя уже наметившиеся очертания. Ничего не поделаешь: метро, стул в НИИ, опять метро, диван у телевизора, с него Костя катапультировался в кровать, стоять приходилось только в час пик, все остальное время Костя проводил в положении сидя или лежа. Еврейские черты проявились в нем ярче славянских, у него были темные глаза и мохнатые брови Гольдманов. Но русская кровь все же неуловимо ужесточила мягкость лица, в твердо очерченном овале которого не было даже намека на семейные мешочки брылей. Костя был красив: без следа деревенской простоватости Маниной родни, но и не типичный семит, как Моня.
Лиля и Циля не воспринимались в семье по отдельности, все, включая обоих братьев, называли их «тетки». Маленькая сгорбленная Лиля, с сильно отвисшими к старости щечками, была некрасива. Некрасива настолько бесповоротно, что ей не удалось сравняться с другими старушками даже в усредненной непривлекательности. Некрасивая – да, но зато, в противоположность младшей сестре Циле, от нее исходило тихое уютное спокойствие.
Лиля была предана братьям, их детям и внукам, но преданность ее казалась спокойной и вторичной. Никто из родственников не возбудил в ней любовного материнского чувства. Она искренне переживала за них, качала головой и хваталась за сердце, когда-то давно даже открывала свой скудный кошелек для юных племянников, но ничьи горести ни разу в жизни не помешали ей мирно заснуть. Ее невозмутимое треугольное личико, обрамляемое разделенными на прямой пробор гладкими волосами, было очень приятно всем, кто в данный момент находился в смятении чувств. Братья и племянники часто приходили к Лиле и молча сидели рядом, набираясь ее спокойствия. Если, конечно, рядом не случалось второй сестры, чуть покрупнее крошечной Лили, но занимавшей в пространстве несоразмерное своему небольшому телу место.
Циля смеялась, стреляла глазами, хмурилась и восклицала – в общем, выпаливала энергетическими сгустками в окружающих, утомляя их, как перманентный Новый год. «Наша Цилька – чистый цирк!» – говорил Моня, и выражение лица у него при этом всегда делалось чуть сожалеющим, как будто он мысленно разводил руками и просил прощения. Будь Цилька чуть менее праздничной, считал он, она вышла бы замуж, а вот желающих терпеть рядом всегда возбужденно подскакивающую жену не нашлось. Циля ярко красилась в стиле довоенного идеала красоты и теперь, задержавшись в нем, выглядела со своими малиновыми губками бантиком, по выражению того же Мони, как «старая барыня на вате». Ее голову, как и у Лили, разделял пробор, только, в отличие от аккуратной приглаженной головки старшей сестры, по обе стороны от ее пробора жестко кудрявились два пучка густых, до сих пор почти черных волос.
Если окинуть внимательным взглядом собравшихся в этот вечер за Маниным праздничным столом, то у всех, кроме русских жен – хозяйки дома и ее невестки Веточки, – высвечивались семейные черты. У братьев и сестер ярко, у следующего поколения чуть менее выраженно, а у внуков едва проступали совсем иным временем нарисованные лица.
Маня и Рая были несхожи настолько, будто относились к разным поколениям. Сто шестьдесят восемь сантиметров Маниного роста, позволявшие в довоенной юности дразнить ее «каланчой», теперь определяли ее как женщину хорошего роста. На первый взгляд аккуратно полная, крепкая Маня резкими движениями и неуклюжими жестами напоминала какого-либо персонажа мультфильма, старшего медведя, например, или растолстевшего Железного Дровосека. Но поворачивалась громоздкая Маня на удивление легко и резво, в неуклюжести ее проступала трогательная безыскусственная грация, так что именно подчеркнутая ее неловкость почему-то завораживала сильнее, чем иное очевидное изящество. У нее были неожиданные для такой крупной женщины маленькие кисти рук с коротковатыми, распухшими в фалангах пальцами и хорошей формы ноги, крепкие и икрастые, правда, с толстоватыми щиколотками и широкими ступнями, не влезавшими ни в какие туфли-лодочки и выдававшими ее крестьянское происхождение. Манины косы с юности не претерпели значительных изменений, разве что поредели. Достигнув определенного возраста, Маня все же сменила пионерскую корзиночку из светлых косичек на небрежно пришпиленный к затылку узел седых волос с выбивающимися во все стороны прядями, которые она непрерывно пыталась вернуть на место, коротко встряхивая головой. Если Маня встряхивала головой слишком сильно, из узла вылетали шпильки. Поседев до серебряной белизны во время блокады, она никогда не обременяла себя окраской волос, так с двадцати четырех лет и носила свою откровенную седину. Улыбалась Маня всем лицом, обнажая сразу все хорошее и плохое – великолепные белые зубы, среди которых прямо по центру бросались в глаза железная коронка и сломанный передний зуб.
К пятидесяти с лишним Маня, похоже, давно попрощалась с женской жизнью, но в ней легко угадывалась красивая, по-настоящему красивая в прошлом женщина. Красоту свою Маня потратила бездарно, но, ни разу в жизни не взглянув на себя в зеркало со свойственной красивым любовью, она все-таки умудрялась быть красивой, несмотря на металлический зуб, разрезающий улыбку на равные части, на некоторую утиность носа и на феноменальную небрежность в одежде.
– Боже мой, мама Маня, запихнуть такие красивые ноги в эти ужасные шерстяные чулки в рубчик! – ужасалась Дина. – Я же столько капроновых чулок тебе дарила, куда ты их только деваешь?
Маня неопределенно махала рукой куда-то в сторону, видимо, подразумевая находящихся в этом направлении деревенских родственников. Самой Мане было уютно в темных рубчатых чулках, у нее и эти-то чулки всегда ползли по ногам. Перекрученные чулки она вообще не считала беспорядком в одежде. Когда Маня в молодости надевала чулки со стрелками, Моня с удивлением указывал ей на стрелки, почему-то оказавшиеся у жены на коленях, а сама она лишь удивленно отмахивалась. Какая не стоящая внимания ерунда, подумаешь, стрелки там, стрелки тут! Блузка у нее обязательно выбивалась из юбки, из-под платья торчала комбинация, платок скособочивался, а застежка кофты всегда была перекошена так, будто кто-то только что тряс Маню, схватив за грудки.
Женская Манина суть самодостаточна и без всех этих глупых мелочей: сильная, видная женщина, жестковатая и пресная на вкус, основательно стоящая на своих крепких ногах в рубчатых чулках. Смотрела Маня на мир уверенно и даже напористо, только в самой глубине глаз притаилась готовность к тому, что ее могут обидеть, даже наверняка обидят, почти точно обидят.
У Мани ни следа косметики на лице, кроме ярко-красного пятна на щеке от Дининого поцелуя. Ее не назовешь «дамой», как Раю, ни за что не желающую мириться с грядущим пятидесятилетием. Рая раскрашена синими тенями в тон блузке и ежеминутно подмазывает губы розовой девической помадой. Резкими носогубными складками и чуть отвисшими щеками с годами она стала походить на мужа, как младшая сестра. Всегда желавшая во всем быть первой, Рая отказалась от мысли играть роль жены патриарха, несмотря на то что роль эта по праву была ее, ведь это она – жена старшего брата. Признавая Манину страстную преданность семье, она лишь осторожно посмеивалась над ее чудом сохранившимся деревенским говором, манерой одеваться и набитыми хозяйственными сумками.
Раина огромная грудь расположилась на столе, подвинув тарелку и рюмку. Рядом с ней Дина со своим троюродным братом-мужем Додиком. Рядом двадцатипятилетняя дочь Наума и Раи, хорошенькая, как кукла-цыганочка, Танечка с мужем Аликом, зубным врачом.
Сидя в центре стола, Маня удовлетворенно обозревала свое хозяйство. Она гордилась, что именно она собирает всех вокруг себя, и даже молодежь, посмеиваясь над ее ежевечерними обзвонами, тем не менее признавала Манино право на руководство семьей.
– Тетя Маня, я расскажу анекдот, можно?
– Додик, без глупостей, здесь дети! – строго отвечает Маня.
– Ну, тетя Маня, что я, не понимаю… Так вот. Исаака спрашивают: «Исаак, ты почему такой грустный?» – «Меня сняли с должности парторга». – «Почему?» – «Какая-то сволочь донесла, что я беспартийный!»
Все смеются, но истинная суть анекдота о беспартийном парторге выясняется позже.
– Тетя Манечка, все, послушайте! Вы не догадаетесь, что со мной случилось! – возбужденно-торжественно объявляет Додик.
Дина выпрямилась, горделиво оглядывая родных. Аня притягивает ее беспокойный взгляд постоянно, и даже сейчас, в момент радостного торжества, она машинально говорит дочери:
– Одерни рукава, запачкаешь… Убери локти со стола, не чавкай, ешь с закрытым ртом!
Аня убрала локти и перестала чавкать.
– Ну, Додик, может быть, ты нашел сто рублей в трамвае, что теперь так скачешь?! – насмешливо отзывается Додиков тесть Наум. Наум всю жизнь мечется между скептическим отношением к Додику как к зятю и привычно нежным как к племяннику, но чаще склоняется в сторону насмешливости.
– Нет, дядя Наум, меня назначили парторгом!
Додик смеется, не в силах сдержать восторг, а Дина небрежно-гордо улыбается, останавливая радостно блестящие глаза на двоюродном брате Косте. Ошеломленное молчание за столом прерывает Костя:
– Как это может быть, Додик! Ты, может, сам забыл, но разреши тебе напомнить, что ты еврей!
– Я – редкий экспонат! Снежный человек! Гордость ленинградской партийной организации! – щедро предлагает различные варианты Додик. – Видно, и на парторгов-евреев бывают разнарядки! К тому же в нашей ячейке, кроме меня, еще три человека – Кацман, Розенцвейг и сильно пьющий Васильев. Скажите мне сами, из кого было делать выбор? – пародирует Додик еврейский акцент.
– Ну, Додик, поздравляем! – галдят удивленные родственники.
– Поместите меня в музей! Приходите ко мне! Мои приемные дни вторник и пятница! – радуется Додик.
Глаза младшего зятя Наума, Алика, презрительно блеснули.
– Додик, фу. Тебе мало того, что ты и так уже член партии, так теперь еще и парторг!
В ответ Маня, набычившись и чуть ли не клацая зубами от нетерпеливого желания защитить Додика и его несомненные успехи, строго отвечает:
– Додик всю жиссь старается! Ты, Алик, сначала добейся в жизни всего, как Додик, а потом уже губы криви!
Маня недолюбливала Алика за попытку обособления, нарочитое противопоставление своего мнения мнению семьи. Заметив, что Алик напрягся и готовится возражать, Танечка пнула его под столом: «Не смей спорить!» – а Наум грозно нахмурился. Глазами он строго сказал Алику: «Сколько раз тебе было сказано, главное – мир в семье! Не лезь к Додьке, пусть живет как хочет, и не дразни беднейшее крестьянство».
За глаза Наум по старой, еще довоенной привычке называет Маню «беднейшее крестьянство», но былую насмешку в этих словах давно уже заменила любовная ирония. Случайно попавшая в большую еврейскую семью деревенская девчонка незаметно превратилась в Главу. Маня, правда, старшинство Наума учитывала, и если и распоряжалась им, то распоряжалась почтительно, не забывая Наума уважать.
– Ты не понимаешь, Алик, что у Додика открываются новые возможности, – тихо говорит Дина.
О Додиковых «возможностях» в семье хорошо известно. Никогда не обсуждалось, откуда у Додика в его научно-производственном объединении, выпускающем холодильные агрегаты, какие-то преимущества, отличные, например, от Костиного отсутствия любых возможностей. А ведь Додик и Костя с Веточкой учились в одном институте! Все просто пожимали плечами и признавали как некую данность, что Додик умеет жить, Додик делает деньги, «крутит дела», но как именно – оставалось загадкой, не интересующей, впрочем, никого. Додик не рассказывал, а спросить, не выносит ли он, случайно, холодильные камеры через проходную своего предприятия и не продает ли их тут же за углом, в голову никому не приходило.
Кроме источника Додикова богатства в семье никогда не обсуждалась еще одна сторона его жизни, а именно интимные подробности их с Диной супружеских отношений. Вернее, не так: не то чтобы это не обсуждалось в семье, а не обсуждалось всей семьей.
Дина ходила то к Мане, то к теткам, то к отцу с Раей и, опустив голову, тихим голосом, без всякого выражения монотонно рассказывала, что Додик вчера не пришел ночевать, а еще она вытащила у него из кармана чей-то надушенный платок, и вечером ему, не постеснявшись, звонила некая особа… Когда же вся семья, как сегодня, собиралась вместе, на виду оставалась только Динина успешность, обрамленная обеспеченностью, комфортом и недосягаемыми для остальных деталями быта. Каким-то чудным образом Додиковы похождения существовали отдельно, а Динина удачная семейная жизнь – отдельно.
В семье были приняты негласные правила Додикова поведения, и Додику было прекрасно известно, до какой степени он может расслабиться. Рассовывать по карманам чужие надушенные платки разрешалось раз в месяц, но не чаще. Не ночевать дома позволительно, а вот допускать звонки молодых особ домой – покушение на святость семейного очага, требующее вмешательства родных. Спасали Додика детское непостоянство в привязанностях, искренняя, рвущаяся через край любовь к жизни и к женщинам как к части жизни и признанная родными Динина неэмоциональность и скучность. Семья привыкла нести крест Дининой некрасивости, считая, что взамен своей устроенности Дина обязана дать Додику немного свободы. «С Диной жить – как сено жевать, она, кроме как о деньгах, и говорить ни о чем не может! Разве такого мужчину удержат ее рюмки и вазочки!» – шептала тайно и совершенно невинно вздыхавшая о Додиковом жизнелюбии Веточка своему вялому Косте. Костя, возможно, не находил Дину столь скучной, но жене не возражал. И об удерживающей силе рюмок и вазочек сама не имевшая ни малейшей хозяйственной власти Веточка судила неверно. Если что-то и послужило причиной того, что с годами Додик стал больше считаться с женой, то это были именно блестевшие чистотой их общие рюмки, вазочки и книги – идеально удавшийся Дине красивый и достойный быт.
Дина не забывала напоминать мужу, что благосостоянием они обязаны ее отцу. Тихим учительским голосом Дина говорила «мой папа», и Додик тут же представлял себе, как долго, при всех его, Додиковых, способностях и связях, им пришлось бы ютиться в коммунальной комнатке. Или в крайнем случае получили бы они от государства такую же хрущевку, как семья Бедных, если бы не Наум, купивший им в свое время кооперативную квартиру.
Постепенно признавая ее непререкаемую хозяйственную власть и уже не смея без ее разрешения переставить чашки на полке старинного резного буфета, Додик и не заметил, как эта женская пустяковая власть распространилась на все сферы их жизни. Например, воспитанием дочери занималась только Дина, а сам Додик как будто со стороны любовался на свою безупречную семью. Оставляя ему мужские развлечения, Дина забирала все большую власть, вначале, как он считал, только в быту, а теперь оказалось, что он иногда и думал с оглядкой на нее. Иногда Додик испуганно задавался странным вопросом: не изменяет ли он жене с ее полного разрешения? Сейчас по каким-то своим причинам она разрешает, а если вдруг не позволит, то и изменять он ей перестанет, так всю дальнейшую жизнь и будет привязан к ее совершенно неинтересному телу. Думать об этом страшновато, а Додик любил радоваться и быть счастливым. Вот он и был счастлив. А может быть, умная Дина любила его и хотела, чтобы он был счастливым? Для нее. Ведь с несчастливым Додиком и сама Дина будет несчастлива.
Пережив ужасное, как считала Дина, сиротское детство, она непременно должна быть счастливой! И она была, как и Додик, очень счастлива! И на Вету смотрела победительно. «Смотри, – говорил ее взгляд, – я-то живу с настоящим мужчиной, он всем нужен, как хороший товар на рынке, а твой всем, кроме тебя, без надобности». Мама Маня ее за измены мужа исправно жалела, но, впрямую не защищая Додика, разговор всегда заканчивала одинаково: «Все ж таки подвезло тебе, Дина!»
Кроме семьи, Дина собственными руками тщательно сделала и себя. Гимнастика и массаж, яркие украшения и каждодневный безукоризненный макияж, конечно, не превратили Дину в красавицу, но с годами помогли ей стать почти интересной. Во всяком случае, к сорока годам ее внешность наводила на мысль о затраченных усилиях и вызывала уважение. Лиза смотрела на Дину затаив дыхание, как на новогоднюю елку, и восхищенно говорила: «Какая же ты красивая!» В ответ на очередное Динино хвастовство Вета шепотом называла ее «распустившим хвост павлином» или, того хуже, «мороженой нототенией».
При слове «нототения» у Лизы всегда возникала ассоциация с южным отдыхом. В Крыму они все вместе лежали на пляже, расставались только на время обеда. Лиза с родителями пристраивались к очереди в засиженной мухами столовке, где в меню было блюдо с нездешним красивым названием «нототения», оказавшимся мерзкой на вкус и на вид рыбой, а Додик с Диной и Аней каждый день трапезничали на террасе ресторана с белыми скатертями и цветами в центре стола. От крымского отдыха у девочек остались на память красные пластмассовые шарики с фотографиями внутри: они стояли обнявшись – толстушка Аня с улыбкой до ушей в красивом купальнике и тощая Лиза с напряженным лицом в глупых трусиках «парашютом».
Кроме пластмассового шарика, на память о той поездке у Лизы осталось еще кое-что… Ехали в поезде, в одном купе Дина с Веточкой и девочками, а мужчины отдельно, с чужими соседями. Додик забегал к ним поминутно, то что-нибудь приносил, то просто щекотал или щипал Аню, то спрашивал у нее: «Как ты, пупсик?» Это было привычно и необидно.
Вечером, когда Лиза с Аней уже засыпали на верхних полках, Додик зашел в купе, тихонечко подоткнул дочери одеяло и, поглаживая ее по голове, что-то нежно зашептал ей на ушко. Заметив, что Лиза шевельнулась на своей полке, Додик и ее погладил по голове. Лиза сдержалась, не заплакала… У Дины с Додиком есть машина – «Жигули» самой последней модели, а глупая Анька считает, что машина – это принадлежность жизни всех, а не избранных счастливчиков. Как бы Лиза гордилась, если бы это ее отец, а не Додик, по выходным, горделиво поглядывая по сторонам, усаживал родственников в машину!
У Ани все лучше, красивее, дороже! Платья, туфельки и даже портфели, купленные Додиком в одном магазине, кажутся Лизе разными, и канцелярские принадлежности у них отличаются, даже зеленые тетрадки за две копейки у Ани лучше!
Толстую Аню начали учить фигурному катанию, слава богу, что почти сразу выгнали за полную неспособность, даже стоять на коньках она не научилась, валилась на бок, как куль. Аня бессмысленно тарабанит по пианино «Petrof», ненавидит уроки музыки и жалуется Лизе. Лиза делает вид, что жалеет сестру, а сама думает, как быстро она, Лиза, научилась бы играть… Маленькая Лиза завидовала маленькой Ане, а теперь детская зависть в прошлом, они уже взрослые: Лизе пятнадцать, Ане четырнадцать…
– Анька, давай вылезем, – ущипнула Лиза сестру. – Хватит уже есть, лопнешь!
Дожевывая соленый огурец и ухватив по дороге еще один кусок копченой колбасы, Аня послушно поползла по дивану вслед за Лизой. Лиза мигнула: «Давай под стол, как всегда!» И девочки нырнули вниз. Ноги Дины в тонких капроновых чулках, сухие и кривоватые, прижимались к дивану, как будто старались занять как можно меньше места. Рядом уверенно стояли икрастые и крепкие, как у молодой женщины, темные ноги Мани в рубчатых чулках. Стройные, с сухими лодыжками, неприметного мышиного цвета, переплелись Веточкины длинные ноги. Рядом с ними, непрерывно меняя положение, приплясывали серые брюки Додика. Девочки проползли между ногами, вылезли из-под стола и направились в спальню, сопровождаемые Дининым окриком:
– Аня! Ты поела? А курицу пробовала? Пирог? Холодец? Точно больше не хочешь? А маринованную рыбу? – быстро перечисляла Дина, окидывая быстрым взглядом стол.
Аня утвердительно мотала головой. «Дина сама на вкус как маринованная рыба, кисло-сладкая», – подумала Лиза и засмеялась своей дикой мысли.
– Аня, поправь платье и не сутулься! – озабоченно добавила Дина.
Аня поправила платье и выпрямилась.
– Еще поешь! – хлопотливо крикнул Додик вслед дочери.
– Ласточка, красавица наша… – растроганно приобнял Аню Наум.
– Да-да, ласточка, красавица, – согласно кивнула Маня.
Веточка, единственная в семье считавшая Аню красавицей с некоторыми оговорками, незаметно переглянулась с мужем, наступив ему на ногу под столом, чтобы быть уверенной: он все отметил и понял.
Аня была толстой. Не приятной пухлой толстушкой, а по-взрослому рыхлой и бесформенной. Ноги столбами, расширясь через круглый колышущийся зад, переходили в мощную спину с валиками жира, из массивных плеч торчала еще одна жировая складка. А венчалась вся эта жирная горка внезапно очаровательным большеглазым румяным личиком с припухлыми, яркими губками сердечком, как у дамы червей. Сквозь всегда чуть приоткрытые губки виднелись неожиданно белые для ленинградской девочки зубы. На конфетно-красивом лице странно смотрелись тонкие темные брови, разлетавшиеся к вискам таким смелым изгибом, как будто Аня была вначале задумана не просто кукольно-хорошенькой, а красивой необычной, значительной красотой. Робкое обещание тайны прозвучало в этом лице, но Аня словно раздумала становиться пугающе красивой и выбрала умеренность, благоразумно решив быть просто хорошенькой, без изыска и изюминки.
«Неужели они не видят, какая она жирная, ну и что же, что лицо у нее… ну, хорошенькое, как на конфетном фантике, это все равно не настоящая красота!» – думала Лиза, стараясь не допустить на лицо выражение обиды.
– Зато моя внученька – умница, лучше всех в классе учится! – неудачно вступился за Лизу Моня.
Лиза мучительно покраснела. Лизе не досталось семейных непривлекательных черт – ни отвисших щечек, ни кустистых бровей, но и привлекательных не досталось тоже – ни черных цыганистых глаз, ни ярких изогнутых губ, ни румянца. Просто девочка, обычная, никакая, таких миллионы, и некрасивой не назовешь, и не запомнишь, не выделишь из толпы. Миловидная, хорошенькая? Нет, пожалуй, и это звучало для Лизы слишком определенно. Передние зубы выдаются вперед, как у мышки. Мышонок? Да, пожалуй, мышонок подходит. С зубами девочке обидно не повезло, из всех сидящих за столом такие только у Цили. Надо же было бедной Лизе выцепить, поймать именно эту не очень характерную черту, не получив в придачу к ней ни темных глаз, ни пушистых ресниц, ни густых бровей, ни вьющихся волос! Вот только прицельно-жесткий взгляд Лизин никак не вязался с общей ее мышиностью. Гены за этим столом изрядно разгулялись, интригующе распределившись крест-накрест.
Лизе, Мониной внучке, достался атакующий, выстреливающий, на ходу хватающий взгляд Наума, а Анины глаза были задумчивыми, как у Мони.
– Хорошо учиться, конечно, очень важно, но… Давайте откровенно, это никогда не было и не будет главным для девушки, – мгновенно отреагировала на Монино замечание учительница русского языка и литературы Дина.
Страстно желая ежеминутно доказывать себе и окружающим, что все в ее жизни соответствует правилам, Дина, жертвуя учительской этикой, всегда намекала, что Лизины пятерки не стоят Аниной красоты.
– Но у Лизы хорошие волосы, – задумчиво добавила она, кинув на Костю взгляд, в котором ясно читалось: «Посмотри, моя дочь не идет ни в какое сравнение с твоей!»
«Волосы у меня мышиные, я это точно знаю. Если Дина хвалит мои волосы, значит, я совсем уродка», – отстраненно подумала Лиза и потянула Аню в спальню.
В семье гордились Аниной красотой, удивительным образом не замечая, что полнота ее достигла того предела, за которым начинается болезнь. Только Веточка считала, что у девочки явные проблемы с обменом веществ и ее надо показать врачу. Она робко намекала на это Додику с Диной, но им комфортнее было восхищаться ее действительно чудным личиком и без удержу кормить, наслаждаясь видом непрерывно жующего ребенка.
Дина с Додиком постоянно, не прерываясь ни на минуту, были заняты кормлением. В их семье вообще с большим волнением относились к процессу питания. Они даже соревновались, кто впихнет в дочь больше еды. Обычно Дина оставляла Ане полный обед из трех блюд, к которому обязательно полагались салатик, компот с пирогом и горка любимого печенья курабье.
Сначала звонила Дина, осведомляясь, всю ли сегодняшнюю еду обнаружила Аня.
– Не забудь компот! – волновалась она у телефона в учительской.
Когда Аня возвращалась из школы, Дина, как шептались за ее спиной коллеги, «теряла человеческий облик», названивала дочери и горячим шепотом уговаривала ее скушать еще одну котлету и умоляла доесть до конца суп.
Конечно, Веточка старалась приготовить то, что Лиза любит, а Маня, приходя с работы, всегда спрашивала: «Лиза кормлена?» – но любовной страсти в ее питание никто не вкладывал, тогда как каждый проглоченный Аней кусок был частью Додиковой любви и Дининой заботы…
Толстая Аня казалась родителям незаслуженным подарком судьбы, лучшим ребенком на свете. Правда, Дина постоянно теребила Аню, ежеминутно повторяя: «Не сутулься, прекрати косолапить…» А Веточке все равно, думала Лиза, пусть она хоть сгорбится до земли. Поэтому Лиза сама старалась за собой следить.
Дина любит Аню больше, чем Веточка Лизу. Веточка постоянно подчеркивает, что Лиза обычная, никакая. А еще мама не прочь указать Лизе на ее недостатки. «Некрасивая? – пожимала она плечами. – Ну что же, не всем быть красивыми, и для тебя счастье найдется. Род человеческий уже давно бы закончился, если бы шанс имели только красавицы».
Если бы мама любила ее по-настоящему, рассуждала Лиза, она бы упрямо считала дочь красавицей. Даже Лизиными пятерками Веточка, по ее мнению, недостаточно гордилась, привыкла к ним и воспринимала как должное. А вот Аню любили так безоглядно, что просто не замечали, какая она уродка с этими ужасными свисающими жирными складками.
Если трезвая, разумная Дина все же видела нездоровую полноту дочери, но ничего не могла с собой поделать и продолжала кормить, то Додик и мысли не допускал, что его обожаемая Аня не самая стройная девочка на свете. Додик был так радостно-наивно убежден, что все принадлежащее ему не только не могло быть плохим, но являлось самым лучшим, что он и Дину искренне считал красивой женщиной. «Были с Динкой в театре, так все просто не сводили глаз!.. Моя идет по улице в новой шубе, все просто падают!» – утверждал он, не испытывая ни малейшего желания по отношению к жене и заставляя себя вежливо исполнять супружеский долг раз в месяц.
Веточка однажды намекнула Мане, что Додика рядом с дочерью за общим столом может вынести только Дина. Он подскакивал на месте, не сводя глаз с Аниной тарелки, вечно ему казалось, что дочери достался не самый вкусный или жирный кусок, он что-то отрезал и перекладывал ей со своей тарелки, растроганно улыбался, наблюдая, как она жует и глотает то самое питательное, что он, Додик, смог для нее добыть. «Все остальные совсем не так увлечены Аниным кормлением, как он», – отметила Веточка с презрительной гримасой. Всего-то один раз позволила себе что-то осудить в Маниных родных, но последовавшее за этим молчание навсегда отучило ее не только осуждать, но и давать оценки. Неделю Веточка вилась вокруг тяжело молчавшей свекрови.
– Для твоей мамы Динина семья на первом месте, – жаловалась она мужу. – Подумать только, из-за такой ерунды… уму непостижимо…
Маня не разговаривала с ней неделю, ждала официального признания вины, пока вконец растерянная Веточка не попросила прощения. Веточка плакала, а Маня сурово смотрела на нее с видом человека, выполняющего нелегкий долг и справедливо ждущего в ответ признания своей правоты.
Когда сирота Веточка впервые невестой пришла к Мане в дом, та, внимательно оглядев будущую невестку, строго велела:
– Меня зови мамой, поняла? А у его, – Маня кивнула на мужа, – всегда мечта была дочку иметь. Его будешь звать папой. И чтобы на «ты».
Веточка послушно пропищала:
– Хорошо, мама!
Сначала каждый раз запиналась, потом привыкла, и «мама, папа» вылетало легко, но выговорить «ты» было выше ее сил. Мане пришлось удовольствоваться родственно-вежливым «мама – вы», «папа – вы».
Только эти «вы» и отличали ее положение от Костиного, который часто ловил себя на мысли: чьи же родители Маня и Моня, его или Веточкины?
Прикрыв дверь спальни, девочки наконец остались наедине.
К пятнадцати годам Лиза уже начала раздражаться на вечерние семейные сборища, на деда в неряшливо спадающих за резинку кальсон домашних штанах, на отца, лежащего на диване в синих тренировочных брюках с вытянутыми коленями. Она делала уроки за секретером в гостиной, стараясь закончить все до вечера и быстро исчезнуть в спальне. В длинную спальню входили из большой комнаты, у окна стояла широкая, с выгнутой спинкой кровать Кости и Веты, а за платяным шкафом узкая Лизина тахта. Боковиной шкафа Лиза была отделена от своей семьи. Дверца полированного шкафа так блестела, что в нее можно было смотреться как в зеркало. Под книжную полочку около тахты были подложены книжки, на них стояли проигрыватель, небольшой коричневый чемоданчик с постоянно откинутой крышкой. В картонной коробке на полу аккуратно сложены пластинки, жесткие черные и мягкие голубые из журнала «Кругозор». Если по телевизору не показывали КВН, «Кабачок “13 стульев”» или фигурное катание, Лиза коротала вечер в своем закутке, замирая от голосов любимых Лемешева и Собинова. К тенорам ее приучил Моня, без устали накручивая маленькой Лизе пластинки. Моня подпевал им приятно мягким голосом, к нему часто присоединялся тоненький Лизин голосок.
Лиза ставила на сорок пять оборотов старые пластинки Трошина, они ужасно шипели под иглой проигрывателя, но так невыносимо трогательно звучал его голос, что под это страшное шипение у Лизы наворачивались на глаза слезы. Ей хотелось броситься на кровать лицом в подушку и долго упоенно плакать, наслаждаясь собственным томным горем.
Последний год все разговоры сестер сводились к обсуждению сложных отношений Лизы с Женей Селивановым, признанным самым симпатичным мальчиком в восьмом «Б». Женя не замечал Лизу, так бесповоротно не оставляя никакого пространства для игры воображения, что это были даже не отношения между ней и Женей, а скорее отношения между той ее частью, которая придумывала, и той, что жадно пыталась в придуманное поверить.
Аня не допускала и мысли, что в Лизиных рассказах может проскользнуть хотя бы тень преувеличения, и от встречи до встречи жадно ждала продолжения рассказа о любви сестры и мальчика Жени. Женю она представляла романтическим красавцем, похожим одновременно на принца в красном плаще из мультфильма «Белоснежка» и на любимого всеми девочками города актера ленинградского ТЮЗа.
– Анька, я расскажу тебе такое!.. – обняв Аню за плечи, Лиза горячо шептала ей на ухо: – Ты даже не представляешь, как развиваются наши отношения! Нет, я даже лучше покажу, хочешь?
– Что покажешь? – замирая, спросила Аня.
– Мы целовались, – торжественно произнесла Лиза, оглядываясь на дверь. – Хочешь, я теперь тебя научу целоваться?
На самом деле Лиза преследовала совершенно конкретную цель, намеченную еще несколько дней назад: ей хотелось заранее понять, что она почувствует при поцелуе. Последнее время она думала об этом неотступно, не веря, что когда-нибудь такое может с ней случиться.
– Я не знаю… Нет, не хочу, ты что такое говоришь… Нет, хочу, наверное… Да, хочу, пожалуйста, научи меня, – почти уверенно ответила Аня, изо всех сил стараясь не показаться сестре маленькой и недостойной ее доверия. С тех пор как у Лизы появились грудь и томный блеск в глазах, близость между выросшими вместе девочками стала чуть более зыбкой. Лиза как будто все время проверяла, достойна ли Аня по-прежнему оставаться ее самой близкой подругой или же будет переведена в разряд просто родственницы.
Лиза вскочила с кровати и исчезла за занавеской у окна.
– Иди сюда! – позвала она Аню. – Вдруг кто-нибудь войдет, а мы как будто в окно смотрим!
Аня встала рядом с безразличным видом.
– Ты что так трясешься, дурочка… – задрожавшим вдруг голосом начала Лиза, вздохнула и, будто нырнув, быстро прижалась губами к Аниному рту. Она твердо решила, что попытается сегодня приобрести какой-то опыт. Лиза не любила отступать от своих планов, поэтому, ощутив сопротивление, попыталась раздвинуть языком твердо сжатые губы сестры и прижала ее к подоконнику, слегка заломив ей руку.
– Ой, Лиза, ты делаешь мне больно! – пискнула Аня, робко отстраняясь. Полная Аня была выше и сильнее мелкой Лизы, но вырываться боялась, скорее попыталась выползти из неожиданно цепких объятий сестры.
– Ну что, тебе понравилось? Вот так он меня целовал! – переведя дыхание, гордо сказала Лиза, с удивлением отмечая шевеление внизу живота.
С этим чувством она уже была хорошо знакома, впервые испытав такое полуобморочное шевеление, когда ее случайно прижала к Жене толпа, ринувшаяся в школьный гардероб. После Лиза научилась вызывать это чувство и сама, надо было только сильно сжать ноги и напрячься. Оргазм приходил всегда, отличаясь лишь силой, и зависел, по ее наблюдениям, от внутренней сосредоточенности. Сейчас ей показалось странным и пугающим, что она испытала оргазм без привычных усилий, только от Аниного дыхания и прикосновения к ее язычку.
– Мне понравилось, здорово! – фальшиво восторгалась Аня, вылезая из-под скрывающей их от взрослых занавески и неловко торопясь обратно в безопасный уют широкой кровати, где Лиза ее точно не тронет. Тяжело выпростав из тесной туфли полную ногу, она сказала, надеясь заслужить Лизино благоволение: – Смотри, мне эти туфли почти малы, можно считать, что совсем уже малы. Скоро моя мама их тебе отдаст. Померяй!
Лиза все еще стояла за занавеской, чувствуя, как мягкими волнами отходит от нее пережитое. Услышав про туфли, она непроизвольно сжала кулаки и подумала ясно и четко: «Я тебя ненавижу! Только дай мне вырасти! Я тебе покажу! За все заплатишь!»
Мгновенная вспышка ярости была такой сильной, что у нее перехватило дыхание и на глазах выступили слезы. Глубоко подышав, Лиза привела в порядок лицо, присела рядом и сунула ноги в жаркие после Ани черные лакированные туфли. Деловито поболтав ногами и придерживая сваливающиеся туфли пальцами, она мирно ответила:
– Да, они мне в самый раз! Скажи маме… что они тебе малы.
Аня послушно кивнула и, глядя на Лизу влюбленными глазами, осторожно спросила:
– Лиза, будем играть?
«Играть» на их языке годами означало одно – вытащить из ящика Лизиной тумбочки шесть крошечных, величиной с мизинец, пластмассовых фигурок – Буратино, Мальвину, Пьеро, Карабаса-Барабаса, Кота Базилио и Лису Алису. Затем фигурки надлежало поделить. Лиза всегда, сколько помнила себя, горестно ощущала, что по сравнению с Аней владеет столь малым, и изо всех сил торговалась за свое единственное достояние. При дележе фигурок она не упускала случая показать, кто их хозяйка, так ни разу в жизни и не позволив сестре завладеть вожделенной Мальвиной. Аня была готова всячески унижаться и за Мальвину, и за Пьеро, но если о Мальвине речь не шла вовсе, то бороться за Пьеро было разрешено. На что только не соглашалась Аня в детстве, чтобы получить нежного грустного Пьеро в белом балахоне! По Лизиному приказу Аня пыхтела, безуспешно пытаясь перенести свое полное тело через голову, целовала Лизину руку и даже как-то, задрав платье и спустив колготки, продемонстрировала противной Лизке голую попу. Сейчас Лиза быстро разделила фигурки, оставив Ане малоценных Карабаса-Барабаса и Кота Базилио, и, сблизив головы, девочки принялись передвигать фигурки и шептаться.
– Лизаня! – позвала их Маня общим детским именем.
– Девочки, Аня, Лиза, идите чай пить! – волнуясь, крикнула Дина. – Народу много, торта может и не хватить.
Рядом с Лизиной тарелкой уже стояло блюдце с куском торта для Ани. И рядом с Додиком тоже стояло блюдце с куском торта для Ани. «Пусть бы я была такая же жирная уродка, как Анька, – подумала Лиза, стараясь удержать вдруг подступившие к глазам слезы, – только бы меня так любили!» Анины новые платья, нежные похвалы родных ее красоте в ущерб Лизиным пятеркам с первого класса, упоенное кормление, предпринимаемое Додиком и Диной, Лиза наблюдала всю жизнь, но именно сегодня все казалось невыносимо несправедливым. Как будто все, что принадлежало сестре, отобрали у Лизы, причем сделали это только что, такой острой болью вспенилась в ней обида.
– Из чего сделана каемочка на торте? – спросила Аня с полным ртом, поедая сразу с двух блюдечек.
Додик рванулся к торту.
– Сейчас, мусенька, сейчас, – бормотал он, соскребая розовую карамель со всех сторон. В его тарелку вместе с розовой каемочкой сваливались куски крема и безе, и через минуту нарядный торт остался голым, а перед Аней появилась третья тарелочка. – Чьи это такие щеки? – радостно вопрошал дочь Додик, будто сюсюкая над коляской с младенцем. – Ах ты мусенька моя щекастая!
За столом брали верх старики.
– Немка! – веселится Моня, намекая на бровастого вождя. – Что у тебя так густо растут брови, я даже боюсь при тебе шутить!
Наум не отзывается. Тогда Моня совершает заход с другой стороны:
– Немка, ты как хомяк! Что ты держишь за щеками? Свои особо ценные антикварные штучки…
Наум мрачно молчит.
– Немка, ты собой когда-нибудь бываешь доволен? У тебя есть дача? Скажи!
– Ну, – подозрительно отвечает Наум, шевеля мохнатыми бровями.
– У тебя есть деньги?
Наум засопел, и Моня быстренько перешел к следующему вопросу:
– У Раи есть две шубы?
– Ну…
– У меня три шубы, две каракулевые и одна норковая, – вмешалась Рая.
– Две, три, какая разница! Наум, ты не ходишь каждый день на работу?
– Ну…
– Так чем ты все время недоволен? – кульминационным тоном вскричал Моня и засмеялся со всхлипом, оглядывая родных и ожидая похвалы.
Ему доставляет детское удовольствие дразнить и дергать брата, придирчиво проверяя: здесь ли Наум, рядом с ним, не сердится ли он, любит ли он своего младшего брата Моню?
– Такая неприятность, я вымыла центральный камень из кольца. Самое мое любимое, «маркиза». Мыла сегодня посуду, раз – и целый карат ушел вместе с пеной! – пожаловалась Рая и растопырила руку. Два расположенных в ряд крупных бриллианта окружали пустую сердцевину.
– Так надо было вызвать водопроводчика. Ты вызвал, Нема? – всполошилась Маня.
– Нет уж. Я еще не сумасшедший, – покачал головой Наум. – Зачем мне лишние разговоры…
«Хочу умереть», – спокойно подумала Лиза и ушла в ванную. Ее хватились через полчаса. Стучали в дверь, требовали немедленно открыть, возмущенно кричали, что она себе позволяет, что она испортила праздник. Где-то за возбужденными голосами Лиза различала Монины причитания: «Открой, внученька!» Лиза сидела на краю ванны и, наслаждаясь своей тайной, разглядывала пятнышко на трусиках и тонкую струйку крови, стекающую по ноге. Струйкой крови вилась Лизина тропинка к взрослой жизни, а рядом бродила одна невзрослая мысль: «Ненавижу, ненавижу жирную Аньку!»
Перед уходом в прихожей Додик сунул Лизе деньги. Он постарался незаметно вложить свернутую бумажку в карман Лизиной куртки, но вышло немного заметно, даже очень заметно, и Веточка обиженно надула губы, бросила на Додика выразительный взгляд.
– Не сердись, Ветка! Мы же все одна семья! – сказал Додик и притянул Лизу к себе.
Веточка расплылась в ответной улыбке и продолжала нежно улыбаться, пока не наткнулась на Динин острый взгляд.
– Мы сами могли ей купить что требуется, не надо было… – проговорила Веточка без всякого вызова, скорее информативно.
– Могли, но не купили! Кто подарил Лизе кофту и… Ну ладно, не важно, – ответила Дина.
Костя смутился, взгляд и слова были предназначены не Веточке, а ему. «Вот видишь! Я даю твоей дочери, а значит, тебе!» – послала ему безмолвное сообщение Дина.
– Просто Вета не все про нас понимает, она же не прожила с нами много лет одной семьей на Троицкой, – кисло добавила Дина, и день рождения закончился.
За полгода, прошедшие с Маниного дня рождения, произошли события, резко изменившие жизнь Бедных и Гольдманов. Тетки, Лиля и Циля, являясь самой незаметной составляющей семьи, всегда жившие по касательной к общей семейной жизни, неожиданно заняли главенствующее место. В ежевечерних телефонных разговорах все чаще звучало имя Цили. «Циля стала такой раздражительной, я уже боюсь ей слово сказать», – жаловалась Лиля, не расстававшаяся с сестрой последние пятьдесят лет ни на день. Циля накричала, а потом весь вечер плакала, Циля стала задумываться, Циля разбила чашку… Жалобы на злокозненный Цилин характер постепенно сменились беспокойством. «Она неважнецки выглядит», – поставила диагноз Маня, пользующаяся непререкаемым авторитетом в семье по части медицины.
Однако если Лиля всегда покорно влеклась по жизни, уцепившись за Манину руку, то Циля пусть в дозволенных Маней рамках, но все же отличалась некоторым свободомыслием. Свободомыслие проявилось сейчас в визгливом отказе обратиться к врачу.
– Я тебя покажу Кире Петровне, у ей все наши доктора лечатся, – уговаривала Маня.
– Цилька! Я тебе приказываю! – кричал Наум.
– Цилечка, надо показаться. Маня к плохому врачу не отведет, – беспокоился Моня.
Циля, всю жизнь истерически трусившая врачей, уверяла, что своими ногами она в больницу не пойдет, и ехидно предлагала оттащить ее волоком.
Когда Циля в любимом цветастом платье появилась на очередном семейном сборище у Мани, родственники пришли в ужас. Они не видели Цилю около месяца. Платье, последние лет пять ровно обрисовывавшее круглые Цилины бока, теперь струилось по ее телу, пугающе обвисая и проваливаясь в бывших особенно пышных местах.
– Мама Маня… что нам делать? – беспомощно прошептала Дина.
Маня значительно повела глазами на Цилю.
– Вета! Покажи Лиле с Цилей свое новое пальто! – скомандовала она невестке.
В случаях угрозы благополучию кого-то из родных Маня собиралась моментально. Она вышла позвонить. Вернувшись, как генерал, производящий смотр своего войска, быстро оглядела оставшихся за столом, произвела в уме рекогносцировку и выдала готовое решение:
– Ну, так! У меня все уже договорено! Додик! Завтра в восемь утра заберешь Цилю из дома на машине. Лиля, проследи, чтобы она ничего не ела, все обследование натощак.
– Тетя Маня! – вскричал Додик. – Я могу не успеть на работу!
– Значит, опоздаешь! – хладнокровно ответила Маня, небрежно отмахнувшись от него как от мухи. – Ты поедешь с ним, – велела она Дине. – Что ты говоришь, у тебя первый урок? Заменят, не забудь только позвонить в школу. Почему ты? – добавила она в ответ на Динин округлившийся рот. – Я бы, конечно, могла Веточку отправить, но зачем она Циле, ей будет легче с тобой ехать. – Она задумалась, что-то прикидывая в уме. – Привезете Цилю ко мне и можете отправляться на работу.
– А я? Мне что делать? – робко пискнула Лиля.
– Дома сиди и не путайся под ногами, – махнула Маня рукой. – Наум, – обратилась она к мрачно молчавшему главе семьи, не забыв добавить немного вежливо-просительной мягкости в командный «больничный» голос, – ты можешь прийти в больницу забрать Цилю? Начиная с одиннадцати… Посидите, подождете вместе с Моней. Я бы сама, но у меня завтра сутки… – оправдываясь, добавила она.
Братья со своими нахмуренными мохнатыми бровями и, кажется, особенно отвисшими сейчас брылами смотрели на Маню с одинаковым сложным выражением растерянности, ужаса и страстной надежды, что можно не понимать, какой болезнью больна сестра, и не страдать. Маня все возьмет на себя, будет и для них «мамой Маней»… Циля, сестра… Вот и первая среди них… Неужели это оно, то самое, о чем и думать-то страшно?..
– Мама, а как ты ей скажешь? Она же не хочет идти к врачу? – поинтересовался Костя.
Маня не ответила, только посмотрела удивленно, считая, что Цилиному упрямству уже положен конец.
Косте ответил Додик:
– Если уж наша мама Маня что-нибудь решила…
– Она прет как танк… – грустно покивав, продолжил Моня. – Послушай, Манечка, дай Циле анальгина и валерьянки.
– Зачем? Без врача?! – яростно сверкнула глазами Маня.
Сама Маня при малейшей неполадке в организме хлопала пригоршню анальгина и бежала дальше.
– На всякий случай. Хуже не будет… – глубокомысленно ответил Моня.
Дожидаясь Цилю, Наум и Моня часа три молча просидели рядом на узкой скамеечке в приемном покое Куйбышевской больницы. В узком, освещенном тоскливой лампочкой длинном коридоре братья примостились на топчане рядом с каталкой, покрытой рыжей продранной клеенкой. Моня пытался шутить, заглядывая брату в глаза и дергая за рукав синего ратинового пальто, но рукав пару раз весьма определенно стряхнул Монину руку, и младший брат притих. Он только периодически вздрагивал и мотал головой, представляя, что Цилю не вернут и он больше никогда не увидит сестру, а Наум так и сидел недвижимо, поднимая глаза на каждый звук хлопнувшей двери.
Наконец в дверном проеме появилась Маня и, обведя взглядом темное помещение, неожиданно резво для своей солидной комплекции рванула к ним через длинный коридор, волоча на руке дрожащую Цилю. При одном взгляде на Маню, излучающую профессиональную значительность, Наум с Моней приободрились. Братья были настолько измучены ожиданием, что не смогли даже встать, только синхронно подались лысинами вперед, от усталости равнодушно глядя на Маню одинаковыми глазами, обреченно готовые к самому страшному.
– У Цили обнаружили язву, – делая свое специальное «медицинское» лицо, весомо произнесла Маня.
– Господи, и всего-то! И от этой язвы Цилька так похудела… и такая сумасшедшая стала, на всех бросалась! – нервно хихикнул Моня. – Немка! А мы-то испугались, вот уж у страха глаза велики! Ха-ха-ха! У язвы Цильки – язва!
Наум мгновенно вернулся мыслями к собственным делам, с первых Маниных слов, как только стало ясно – самого страшного у сестры нет. Все остальное уже не его дело. Язва! Надо же! Из-за такой ерунды он пропустил встречу с тишайшим старичком, считавшимся главным специалистом в городе по кузнецовскому фарфору. Хотел показать ему блюдо, похоже, что кузнецовское, но без клейма. Приготовившись к худшему, ну, например, что Циле осталось жить пару недель, Наум чувствовал даже какое-то странное разочарование в том, что трагедия не состоялась и он зря потратил время и душевные силы на это молчаливое сидение плечом к плечу с братом в приемном покое. Пожав ратиновыми плечами и брюзгливо скривив губы, он молча направился к выходу. Моня с Цилей заторопились за ним, а Маня, вернувшись в свой закуток в приемном покое, уселась за стол и принялась обзванивать родственников.
– Все провели, кровь у ей взяли, рентген желудка сделали, эту, как ее, фирогастроскопию, в общем, зонд давали глотать. Кира Петровна сама смотрела… – Тут Маня делала многозначительную паузу и, вдоволь потомив собеседника, добавляла: – Язва у ей, язвенная болезнь. Тоже, понимаешь, не ерунда, серьезное дело! Уж я-то знаю!
Комната в коммуналке на Маклина, где сестры проживали вдвоем тридцать шесть лет кряду, вечером того же дня была завалена пакетиками с содой, пузырьками с альмагелем и таблетками, выписанными Циле. Все еще белая от пережитых волнений, Циля рассказывала по телефону, как она боялась идти в больницу, подозревала, что у нее вы сами понимаете что… Особенно любовный рассказ, включая все подробности фиброгастроскопии, достался подоспевшим вечером навестить тетку Косте с Веточкой. Выслушав в третий раз, как Цилю тошнило при попытке проглотить резиновую кишку, Костя с Веточкой улизнули домой.
Контролируя каждое мгновение жизни своих подотчетных родных, Маня не допустила бы такого бессмысленного совместного приезда и отправила бы к Циле одного Костю, а Веточку – домой к хозяйству, но даже в ее руководительстве случались погрешности. Сегодня она дежурила сутки, не уследила за детьми, и теперь Костя с Веточкой радовались нечасто выпадающей им возможности побыть вдвоем целый час по дороге домой…
Моня, сам покорно несущий огромную тяжесть Маниной любви и заботы, молчаливо потворствовал редким моментам их неподотчетной близости. Впрямую он Мане не возражал, но по-супружески посмеиваться над ней ему позволялось. «Смотри у меня, Манечка! – Смягчая шутку нежной улыбкой, Моня вспоминал своего друга Петрушу, недавно похоронившего жену. – А то приглашу Петрушу на твои похороны, он ведь меня уже приглашал!»
Никто не смог бы поколебать Манино убеждение, что все вечера после работы в будние дни и все двадцать четыре часа в сутки в выходные Веточкино место исключительно рядом с ребенком. Маня самозабвенно стирала пеленки и часами носила на руках плачущую Лизу, до года страдавшую животиком, но отпустить невестку в кино или в гости… А как же семья?! Иногда случалось, что Маня уходила на сутки в субботу, и, как только за ней закрывалась дверь, Моня, непрерывно подмигивая и нежно похлопывая невестку по плечу, подталкивал не верящую в свое счастье Веточку к двери, крича ей вслед: «К завтрему не забудь вернуться! Молоко-то у меня, конечно, есть, но немного!» – и гордо поводил воображаемой грудью. Веточка вырывалась на улицу как изголодавшийся зверь, с неловким чувством неприязни к свекрови, искренне заменившей ей мать… Да и не всякая мать так заботилась о дочери, как Маня о невестке.
– Я куриной ножки в жизни не ела, – смеялась Маня. – Сначала свекровь делила курицу, крылышки Лиле с Цилей, ножки Науму с Моней, а нам с Мурочкой что останется. Теперь ножки Косте с Веточкой, а мне опять фигу, – смеялась она.
Действительно, Маня всегда оставляла невестке лучший кусок и на все лишние деньги старалась приодеть Веточку.
«Господи, да у ей одна юбка, которая на ей надета, и все!» – в ужасе шептала она Моне, когда Веточка появилась в ее доме с узелком и перевязанным веревочкой газетным свертком с резиновыми ботами.
Возможно, Костя с женой сейчас предательски отправятся в кино на последний сеанс. Маня, конечно, поджав губы сказала бы: «Идите, если уж так охота… Хотя когда в семье неприятности… Делайте как знаете!» В кино пойти хотелось, но было страшновато. Сын с невесткой боялись не столько незримого Маниного ока, сколько незаметно впитали ее понятия и сами опасались нехорошести развлекающихся себя на фоне драматических событий с теткой.
На следующее утро с Цилей случился инсульт. К ней с незначительными изменениями довольно быстро вернулась речь, но встать она уже не смогла и осталась недвижимо лежать на своем древнем диване хоть и чуть похудевшей, но все-таки грузной безнадежной старухой. Врач, совсем еще мальчик, не пожелав осматривать неприятную ему старую тетку, пару раз брезгливо ударил молоточком по Цилиной ноге в старом Монином полосатом носке и вяло, по обязанности, поинтересовался:
– Вы знаете, какое время года идет вслед за зимой?
– А вы сами-то знаете? – безошибочно распознав, что на самом деле ему это совсем неинтересно, строго спросила Циля.
– Весна, – растерялся врач.
– Правильно, – похвалила его Циля.
На этом отношения с медициной были закончены и начались муторные в своей нескончаемости отношения родственников с Цилиными телом и сознанием.
По мере понимания родственниками, что именно так теперь будет всегда, Циля постепенно переставала быть «теткой», с которой прошло детство Дины и Кости, на руках у которой выросли Лиза и Аня. Лиля, работавшая продавщицей в книжном магазине, вяло, но успешно сопротивлялась уговорам родственников уйти на пенсию, а Циля в действительности вырастила два поколения семьи. Дина и Веточка ни дня не сидели с девчонками на больничном, при малейшей необходимости скорой помощью врывалась шумная Циля, на ходу выхватывая у них сопливых детей. Вечером, обращаясь к вернувшейся из школы Дине, Циля хвасталась:
– У меня Аня уже стихи читает, а у тебя в штаны писает!
А Веточку как-то встретила восторженным воплем:
– Ну, будет кто-нибудь заниматься ребенком в этой семье, кроме меня?! Я, например, хотя бы научила Лизу хрюкать и трубить, как слон!
– Тетя Циля, зачем Лизе хрюкать и трубить как слон? – удивилась ее достижениям Веточка, расстегивая пальто.
– Ребенок должен знать и любить зверей!
– Ду-ду, хрю-хрю… – цеплялась за Цилину ногу маленькая Лиза.
Теперь Циля все больше становилась для них «она»…
Уход за лежачей Цилей был честно распределен Маней следущим образом: дважды в неделю, после суточных дежурств, она приезжала к теткам, большим неповоротливым телом металась по комнате, ловко подбирая, расставляя и приводя все в порядок, затем совершала с Цилей необходимые процедуры и валилась спать рядом с ней на узкую Лилину кушетку. С детской кушетки свисало Манино полное тело, она трогательно прятала под себя крупные руки и легко поворачивалась на бок на Цилин истерический выкрик: «Маня! Не храпи!» К вечеру просыпалась бодрой, все повторяла и в одиннадцать вечера уже гордо рассказывала дома: «Цилька у меня лежит как картинка!»
Манино дежурство было еще в середине недели и в субботу. По разу приезжали девочки: Веточка – в будний день, в зависимости от графика Маниных суточных дежурств, а Дина – в воскресенье. Иногда по воскресеньям Дина просила Маню заменить ее, обещая приехать вместо нее на неделе. Маня соглашалась, но ни разу Дину вне очереди до Цили не допустила. Беспокоилась, что Циле, оставшейся без ее, Маниного, присмотра на целых два дня подряд, станет хуже. Подумать о Рае, такой же Цилиной золовке, как и она сама, Мане просто в голову не пришло. Тем более не рассматривалась Танечка. Привыкнув считать ее таким же ребенком, как Лизаня, Маня как-то упустила из виду, что Танечке уже двадцать пять, ну а Рая с ее вечными истериками… Спасибо, не надо! Зашла один раз, потом два дня лежала в слезах и с мигренью – так по крайней мере Наум сказал и очень просил Маню больше Раю не привлекать. Что же, Маня и сама бы ей не доверила, так что лежачая Циля досталась Мане целиком. Дина приходила все реже и так ловко поставила дело, что все чаще казалось, будто она делает Мане одолжение, сменяя ее у Цилиной постели.
– Мама Маня, отдохни, если хочешь, я могу в это воскресенье прийти, – отпускала она Маню. – А вот в следующее уже никак, идем в гости.
Маня мгновенно подхватывалась, в большую хозяйственную сумку, служившую ей ридикюлем, сметала суп и котлеты в банках, поверх закидывала яблоки и неслась по привычному маршруту. Все чаще она звонила вечером домой и сообщала: «Я ей говорю: Циля, напейся лекарств и ложись спать! А она в слезы: я, говорит, и так лежу, куда ты хочешь, чтобы я еще легла! Циля сегодня очень перенервничала, остаюсь у нее!»
На Лилю у Мани совсем не было надежды – оказать тяжелой Циле необходимую помощь она не могла, только беспомощно всплескивала крошечными ручками. Болезнь сестры не поколебала милой Лилиной невозмутимости, она лишь стала перемещать свое невесомое тело еще тише, словно боялась расплескать в себе тщательно оберегаемую тишину и покой. Ставшая очень нервной Циля непрерывно вещала что-то со своего ложа, частенько доводя безобидную сестру до слез.
– Циля, как хорошо поет Кобзон, правда? – мирно замечала Лиля, сидя у телевизора.
– Лиля, это не Кобзон, а Магомаев! – брюзгливо откликалась Циля.
– Да нет же, Цилечка, это Кобзон, посмотри, – удивлялась Лиля, тыча пальчиком в лицо народного любимца.
– Как же это не Магомаев, когда я тебе говорю, что это Магомаев! – кричала Циля.
Маня надвигалась на Лилю, как большая грозная птица:
– Ну что тебе стоит сказать больному человеку, что Кобзон – это Магомаев! Где твое понятие, Лиля!
Съежившаяся в кресле Лиля уже готова была признать все, что угодно, даже что сама Маня – тоже Магомаев, но ей было обидно.
– Она меня специально дразнит, она же не сумасшедшая, она все понимает! – заливалась слезами Лиля. – Я же тоже человек!
– Это Магомаев! – ревела со своего дивана Циля.
Разве могла Маня оставить теток вдвоем надолго?
Циля становилась все капризнее, невнятно требовала специальной еды. Однажды, забывшись, попросила у Мани цимес[1]. Маня, прожив всю жизнь с мужем-евреем, из еврейской кухни освоила только тейглах[2]. Забывала, принимала лекарство или нет, все чаще улыбалась чему-то внутри себя, так же, без видимой причины, плакала. «Она так уйдет в себя и забудет вернуться», – пошутила Лиза, и Маня ее чуть не убила за непочтительность к больной.
Дина кривилась, закатывала глаза, раздражаясь, а Маня нельзя сказать что терпела, а просто жила рядом с Цилей в новых предлагаемых обстоятельствах.
Теткам, имевшим на двоих Лилину зарплату продавщицы, строго в очередь помогали деньгами братья, Наум и Моня, а Маня зорко за ними следила. Про себя с Моней Маня не забывала, ровно первого числа Костя привозил им конвертик с деньгами, тогда как Наума ей приходилось осторожно готовить к тому, что скоро «его» первое число. Наум расставаться с деньгами не любил и каждый раз пытался молчаливо пропустить свою очередь, надеясь, вдруг как-нибудь проскочит. Мысль о том, что он может лишить сестер помощи, никогда не приходила в его голову, просто то одно, то другое… Расходы у него были большие, постоянно подворачивалось что-то по антикварным делам. Кто же может знать, когда возникнет кузнецовское блюдо или настенная тарелка? «Это гешефт[3], а не аванс-зарплата по первым и пятнадцатым числам», – говаривал он. Маня возмущалась, сужая глаза и злобно всасывая в себя воздух через сломанный передний зуб: «Ну совесть-то, совесть есть у Немы? Его же сестры, не для себя же прошу!» «Такой уж он, Наум. Что ты хочешь, Манечка, муж любит жену здоровую, а брат сестру богатую…» – посмеивался Моня, торопясь, впрочем, ускользнуть от обозленной Мани. Она была скора на злобу и мгновенно начинала шипеть, как раскаленный утюг, если на него плюнуть. Моня предусмотрительно предпочитал не плевать.
Часть полученных от братьев денег тетки всегда тратили тайком. В годы Дининого детства этим «тайком» было новое платье или туфли для Дины. Тетки были тихо убеждены, что Наум с Раей обижают сиротку, девочку, кровиночку. Даже теперь, в годы полного Дининого благоденствия, они по привычке ухитрялись покупать из своих жалких денег то колготки для Дины, то шоколадку или альбом для Ани. Дина брала, как брала в юности. Привыкла. Сейчас же в бедной Цилиной голове, то больной, то почти ясной, сместилось что-то, связанное именно с Диной. В минуты путаницы она плакала о Динином сиротстве, грозно покрикивала на воображаемого Наума: «Ты опять обижаешь девочку!» Потом, вдруг светлея сознанием, вспоминала: «А ты помнишь, Лиля, как у всех девочек уже были часы, только у нашей Дины не было? Рая не разрешала Науму купить ей часы. Неужели не помнишь?» В моменты ясности она настойчиво твердила сестре: «Мы должны что-то сделать для Дины!» – «Что мы можем сделать, Цилечка?» – недоумевала Лиля. Действительно, чем они, две бедные старые женшины, полностью зависимые от родных, могли помочь замечательно устроенной Дине? Циля напряженно хмурилась и смотрела в потолок.
Додик с Диной собирались в Москву, и на оставшиеся от весенних каникул три дня Лиза отправилась к Ане. Чем несколько раз перескакивать в метро с одной линии на другую, она предпочла долго тащиться на трамвае. Лиза легко впадала в нежный дорожный транс и с удовольствием погружалась в свои мысли.
Усевшись у окна, Лиза с удовольствием разгладила на коленях новую ярко-синюю юбку в складку. Юбку сшила Веточка, только вчера закончила строчить на Маниной машинке «Зингер». Лиза в нетерпении вертелась рядом, торопила, юбка вышла красивая, и сейчас Лиза чувствовала себя очень нарядной.
Сегодня Лиза, планирующая в своей жизни все, даже размышления, заранее наметила разобраться в своем отношении к Ане. С Маниного дня рождения, когда Лиза впервые испытала острый спазм ненависти к сестре, прошло полгода. Ненависть, конечно, не бурлила в ней постоянно, но по мере надобности легко возникала на фоне привычной привязанности к толстой глупой Ане. Темное страшноватое чувство вертелось колючим шаром и царапало душу изнутри. Лизе самой было от этого больно, но как теперь быть, она не знала.
Они всегда были самыми родными. Ни у болезненно самолюбивой Лизы, ни у тихой толстой Ани не случилось в школе близких подруг. Но теперь Лизе казалось, что злоба и зависть к «богатой» сестре притаились в ней еще с детства. Лиза была мельче младшей сестры и всю жизнь донашивала за ней одежду. Дина отдавала ей мешок Аниных старых тряпочек и так кривила губы, что Лизе становилось обидно. Может быть, Дина, заметив Лизину радость, не могла сдержать выражения жалости и презрения? А может быть, ей все это казалось, думала Лиза, и она во всех видит плохое, потому что сама Лиза просто ужасная гадость?
Богатство Аниной семьи было, конечно, очень обидным, но еще обиднее совершенно незаслуженная окружающая Аню общая любовь.
…Трехлетнюю Аню по очереди подбрасывают на руках Наум и Додик, Веточка улыбается. А где же Лизин папа, почему он не берет ее на руки?..
Обожания Додика и Дины уже хватило бы на десять девчонок, но почему-то Аню все любили больше, чем Лизу: и тетки, и даже Маня с Моней! Нет, не так! Лиза приказала себе не увлекаться. Они любили Аню больше, чем Анины дед Наум и бабка Рая любили Лизу. А ведь Рая Ане вообще никто! Теперь Лиза уже знала, что Дина ей не родная дочь. Как бы Дина ни подчеркивала, что обожает Раю, сколько бы ни называла ее ласково мамой, а Танечку родной сестрой, все равно они друг другу чужие или по крайней мере получужие. Почему же все Аню любят, за что?
Лиза честно принялась мысленно загибать пальцы. Первое. Аня уютная и мягкая, как подушка, а Лиза – тощая и колючая, как мышиный хвост. Так. С этим не поспоришь. Еще что? Чем еще Аня лучше?
В школе Лизу уважают. В первом классе Лиза была командиром звездочки, затем заместителем председателя совета отряда, потом членом комитета комсомола. Почему-то она никогда не добивалась окончательных командных постов, а всегда была около, за шаг до верховного командования. Возможно, потому, что ребятам не хотелось удовлетворить ее слишком уж яростное желание оказаться в центре. А с Аней всегда были проблемы. Она, например, не хотела ходить в школу. В первом классе ее рвало по утрам, каждый-каждый день, весь год! Ее тогда все жалели: «Ах, какая нежная девочка, какая у нее тонкая душевная организация!»
Маня раз в год водила сразу обеих сестер к стоматологу Лиде Палне. Визит занимал полдня, лечили девочек без уколов: Маня считала обезболивание вредным для детского организма. Аня обычно обходилась одной-двумя пломбами, но терпеть боль совсем не могла – визжала и кусалась, а однажды даже пнула Лиду Палну ногой. Маня стояла за креслом и строгим голосом говорила: «Аня, мама обещала купить тебе подарок, если будешь сидеть тихо». У Лизы зубы были хуже, ей ставили по шесть-семь пломб за раз, но она не хныкала, только сжимала изо всех сил кулаки. Спрашивается, за что же Аню любить больше?
У Лизы никогда не было в четверти ни одной четверки, кроме математики и физики. Сейчас, размышляла Лиза, можно было бы напрячься и попытаться исправить физику, взять и вызубрить весь учебник от корки до корки. Лиза сжала заледеневшие в холодном трамвае руки, прикрыла глаза и загадала: «Если руки будут торчать из рукавов пальто, то я смогу исправить физику». Лиза хитрила, она прекрасно знала, что купленное в «Детском мире» убогое пальтишко стало мало ей еще в прошлом году. «Бедная я, бедная, бедная Лиза…» – привычно пожалела она себя.
Лиза была благодарна Веточке за странную в общем-то идею дать ей имя Лиза в придачу к фамилии Бедная. Каждая новая учительница читала список учеников по классному журналу, останавливаясь на ней, Бедной Лизе, обязательно спрашивала: «Кто это, Бедная Лиза? Встань, покажись, Бедная Лиза!» – и улыбалась. Лиза выделялась из всех остальных девочек только отличной учебой и этим вниманием, а это не так уж и мало! В классе у них было восемь Лен, шесть Ир и три Марины, а Бедная Лиза одна. Молодец, Веточка!
Есть у Лизы, правда, один минус, если честно, – бесконечные простуды, ангины, каждый год по пневмонии, кажется, все детство прошло в очередях в поликлинике. Долгое ожидание в полном вопящих бегающих детей коридоре, две минуты в кабинете врача, и вот уже усталая Веточка несется в аптеку, в одной руке держит ворох рецептов, другой волочет Лизу. В десять лет к тривиальным болезням прибавился холецистит, несколько раз ее заставляли глотать зонд в больнице, Лиза до сих пор помнит вкус длинной резиновой кишки. Кишка длинная, немного проглотишь, затошнит, и надо начинать все сначала. Вполне могла раздражать всех постоянными болячками…
Когда Лиза была маленькая, она интересовалась, почему из всей семьи Гольдманов только они – Маня, Моня, Костя, Веточка и Лиза – носят фамилию Бедные. Не означает ли это, что они, Бедные, действительно бедные, не за их ли собственную бедность им назначили такую фамилию. Смешно, но они действительно бедные по сравнению с Гольдманами, «золотыми людьми», как всегда шутил Додик. Бедные и глупые!
Кто богатый и умный, так это Наум, немного отвлеклась мыслями Лиза. Наум с Раей до сих пор жили в огромной сорокаметровой комнате в коммуналке на Троицкой, из-за такого огромного метража им не полагалась ни квартира от государства, ни даже кооператив. Но их жилье вовсе не было бедным. В эркере уютно расположился ампирный диван с золоченой обивкой. Старинные буфеты, консоли, туманные зеркала с фасетами, казалось, стояли на своих местах еще с начала века. Лиза очень любила бывать там в гостях, ее воображение сладко волновали неведомые предметы, бывшие в этом доме своими. Фраже, кузнецовский фарфор, зеркало на крутящейся раме, которое Наум называл смешным словом «псише», фарфоровые лампы, ширмы в резных рамах. Маленькая Лиза радовала Наума, утверждая, что это не комната, а Эрмитаж.
Каждый год, в мае, после окончания очередного учебного года, Маня одевала Лизу в самое нарядное платье и вела во второй двор на Владимирском к подвалу с синей вывеской «Фотография». Спускаясь по разбитым ступенькам, они попадали в мастерскую, крошечное, пахнущее пылью помещение, где стоял старый фотографический аппарат на высоких ножках. «Трофейный», – почтительно поводил вокруг аппарата руками Наум. Положив руки на колени, Лиза напряженно смотрела вдаль и немного в сторону, как велел Наум. Он нырял под черную занавеску, долго крутился, пыхтел и наконец страшным голосом говорил: «Снимаю!»
– Почему Наум так много зарабатывает? – как-то спросила Лиза Маню.
Та лишь пожала плечами:
– Это не наше дело.
Тогда Лиза пристала к Моне.
– Ему не позавидуешь. Тому заплати, этому заплати… Налоги… Это же ужас! Лучше спать спокойно, – отвечал Моня.
– Во-первых, как раз позавидуешь, а во-вторых, он и так спит спокойно, – возразила Лиза.
Рая всегда гордо говорит: «Я в своей жизни не работала ни дня! – Правда, тут же ворчливо добавляет: – Из-за этой мастерской я всю жизнь в коммуналке прожила!» Мастерская находилась в пяти минутах от Толстовского дома, Наум был в ней хозяином и единственным работником, ему запрещалось брать даже уборщицу, и Рая всегда находила какую-нибудь соседку в помощь.
Наум богатый и жадный, а они бедные идиоты! Лиза вспомнила случай, когда ей обещали купить новое платье, а Маня с Моней как раз последний взнос за телевизор заплатили и еще надо было теткам деньги давать, их очередь подошла. Сами они давно забыли, а Лиза хорошо запомнила. Платье ей не купили. Она плакала, на день рождения не пошла, а теткам деньги отдали. Неужели нельзя было попросить, чтобы богатый Наум дал теткам деньги, а ей, Лизе, купить платье?
Лиза жадно прислушивалась, выглядывала и вылавливала из повседневных семейных разговоров какие-нибудь сведения, которые помогли бы ей разобраться в источниках такой богатой красоты Гольдманов, но Маня с Моней никогда не обсуждали при ней дела Наума, раз и навсегда ограничились сугубо родственными отношениями. Мане было важно, что у Наума сегодня давление, об этом она говорила озабоченно, а вот о том, что Лизе так хотелось узнать, почему одни бедные, а другие богатые, они почему-то за ужином не беседовали. Подросшую Лизу страстно манили антикварные вещи, она Наума расспрашивала, стилями интересовалась. А этим дурачкам, ее родителям, что копеечный торшер из соседнего универмага, что лампа конца восемнадцатого века – светит, и ладно. Лизе так хотелось жить красиво, а приходилось существовать среди кружевных деревенских салфеток… Убого… Бедная, бедная Лиза!
Она вернулась мыслями к сестре. Наверное, Аню любят за красивое лицо, получается, что больше не за что, ведь всем остальным она, Лиза, лучше! Ее собственная мама часто повторяла: «Ах, как жаль, что Анечка забрала всю семейную красоту!» Лиза слышала это от нее миллионы раз, ей хотелось топать ногами и кричать: «Помогите, люди, забрала, захватила, украла!» Всю предназначенную им обеим красоту? Неужели всю? Кричать и топать ногами нельзя, Лиза себе этого не позволяла. Каждый человек должен уметь справляться с неприятностями, и она со своими справится. Это Аня, когда хотела, плакала, когда хотела, смеялась до икоты…
Лиза спохватилась – ей пора выходить, а она опустила десять копеек и еще не собрала сдачу. По дороге к кассе она ощутила легкое дуновение вокруг ног и, не успев понять, что произошло, догадалась: смех, грянувший в вагоне, имеет отношение к ней. В ужасе взглянув вниз, Лиза увидела юбку, солнцем расположившуюся на грязном полу. Зря она вчера торопила Веточку, петелька, накинутая на пуговицу на талии, была небрежно сделана из нескольких ниток, видимо, нитка порвалась, и юбка просто вывалилась из пальто на пол.
Умирая от стыда, жаркая и красная, Лиза выскочила из трамвая, на ходу подбирая юбку, и, зажимая трепещущую ткань между ногами, униженная в собственных глазах донельзя, поковыляла от остановки в сторону Аниного дома.
Большего подарка на каникулы обеим девочкам и вообразить было трудно. Впервые Лиза с Аней остались одни на целых три дня.
– Так, давай прикинем, как нас будут контролировать, – говорит Лиза.
– Один раз приедет Веточка приготовить нам обед, – отвечает Аня.
«Это для Ани, она должна есть все свежее, а у нас дома Веточка всегда готовит обед на три дня». – Лизе трудно сразу отойти от горестного перебирания обид в холодном трамвае.
– Ну, о полной свободе можно и не мечтать, Маня будет названивать нам каждые полчаса… – добавляет она.
Аня смеется, а Лиза радостно прислушивается к себе: в ней наконец будто тает злость и возвращается теплое чувство к сестре.
– Лиза, помни, ты старшая. Следи, чтобы Аня хорошо ела!
Дина нервно мечется в прихожей, одновременно проверяя билеты, убирая лишние пальто в шкаф и выравнивая и без того ровную стопку газет на тумбочке. У нее все расставлено и разложено в геометрической аккуратности, и в доме все живут по расписанию. Из-за этого у нее всегда такое напряженное лицо, похоже, что она никогда не расслабляется…
Лиза знакома с большой трехкомнатной квартирой во всех подробностях. Как только за Додиком и Диной закрывается дверь, Лиза издает победный клич, вертится волчком по всем комнатам, открывает шкафы, перебирает Динины платья, любовно гладит белье в шкафу. Дубленку Дина оставила дома, не захотела трепать в поезде. Она надевает дубленку только на выход, а по обычным дням носит в школу пальто с коричневой норочкой. «Нельзя вызывать в людях зависть к тому, что они не могут иметь. Себе дороже выходит!» – убежденно говорит Дина.
Если бы у Лизы были красивые вещи, она бы их всюду носила, пусть завидуют! А вообще-то Дина, наверное, права, недаром у нее такие хорошие отношения на работе. В день ее рождения, например, невозможно спокойно посидеть за столом, пока все учителя ее не поздравят. Маня радуется: «Дина хорошо устроена». Как это – устроиться хорошо? И Рая Дину хвалит, когда недовольно выговаривает Танечке: «Мало уметь зарабатывать деньги, надо еще уметь их тратить, вот Дина умеет!» Даже Веточка говорит: «Дина умеет жить». Лиза прислушивается к Дине, учится правильно жить.
Вот только одна странность: почему в школе она была такая счастливая, а дома, кажется, не очень? Как-то раз Лиза не рассчитала время и приехала к ним пораньше, ей тогда пришлось подождать Дину на улице. Лиза увидела ее издалека и удивилась Дининому такому покойному, не домашнему лицу. Подойдя ближе к дому, Дина подтянулась, нахмурилась и стала прежней, знакомой. А однажды они с Маней зачем-то приехали к Дине в школу, и там она тоже была другой – улыбчивой и безмятежной. У Лизы тогда мелькнула странная мысль: вдруг счастливице Дине совсем не так легко и счастливо живется, ведь она так старается, чтобы все было правильно и разумно. Может быть, это ей трудно?..
Большими скачками Лиза несется к Дине в спальню. Вся комната забита мягкими игрушками, со всех сторон на Лизу смотрят разноцветные медведи, львы и собаки – подарки учеников. Наверное, Дина очень хорошая учительница и дети ее любят, плохим учителям не захочется дарить игрушечных зверей. Счастливая Аня, переваливаясь, торопится за ней.
– Давай рассматривать украшения, – командует Лиза, открывая Динину шкатулку.
Через час, проголодавшись, девочки выплывают на кухню, обвешанные Диниными цепочками и бусами. Лиза одета в дубленку, поверх дубленки пламенеет огромный янтарный кулон, на голове голубой норковый берет, на носу Динины очки в золоченой оправе. Пальцами в кольцах Лиза поднимает крышку кастрюли и, щурясь из-под очков, деловито спрашивает:
– Могу тебе курицу из бульона достать, как Дина велела, а хочешь, сосиски сварим и картошку поджарим?
– Ура! Картошку хочу с сосисками! – в восторге кричит Аня.
– Не вой так громко, ты, обжора!
– Буду выть! – радуется Аня.
– Так что тебе дать?
– Сначала картошку… потом курицу… и бульон. Можешь рис сварить?
– Ладно уж, – покровительственно отвечает Лиза.
Утром Аня с остановившимся взглядом подолгу сидит на кровати, натянув колготки до колен.
– Вот всегда со мной так, – зевая, жалуется она. – Каждое утро сижу, пока мама меня не пихнет как следует. Прямо ногой, как собачонку, представляешь! Не больно, конечно, обидно только. С другой стороны, что со мной делать!..
В ответ Лиза грозно хмурится и щиплет Аню за руку. Аня встряхивается и в конце концов натягивает колготки.
Сначала девочки отправляются в соседний магазин с влекущим названием «Галантерея». С замиранием сердца они рассматривают у прилавка заколки для волос, потом переходят к витрине, в которой выставлены кремы, помады и пудры. Лиза, хихикая, толкает Аню в бок:
– Смотри, крем «Спермацетовый»! Интересно, из чьей спермы его сделали?
Аня недоуменно пожимает плечами. Она еще совсем не развилась, и слово «сперма» не возбуждает ее, как Лизу.
Уезжая, Додик сунул каждой по пять рублей, и теперь Аня выбрала крем для рук и заколочку с голубым прозрачным камешком. Лиза долго терлась у прилавков, что-то подсчитывала, простояла очередь в кассу, тяжело вздыхая, и у самого окошечка передумала – протянула деньги и торопливо сгребла обратно.
Вернувшись домой, девочки долго и тщательно обедали, наслаждаясь своей свободой, а вечером, многократно прокричав Мане в телефон, что встречать их не надо, отправились в ТЮЗ.
Сегодня Лиза как будто вернулась в их общее детство, и сестры без умолку бормотали любимые детские глупости, но, как только они вступили на широкую аллею, ведущую ко входу, Лиза задумалась и замолчала, дрожа от предвкушения театра.
– Куда идем мы с Пятачком? Конечно, в гастроном! – приговаривает Аня в такт шагам. – Зачем идем мы в гастроном? Конечно, за вином!
Лиза молчит.
– А где мы будем выпивать? Конечно, за углом!
На этом месте Лиза сильно толкает Аню локтем и шипит:
– Заткнись, дура! Ничего не понимаешь!
– А чем мы будем заедать?.. – потирая ушибленное место, машинально продолжает Аня, удивленно хлопая глазами и не понимая, почему с ней больше не играют.
Сжалившись над сестрой, Лиза кричит ей в ухо:
– Конечно, Пятачком! – Она быстро нагнулась и сунула глупышке снежок за шиворот.
Пока девочки были в театре, мартовскую слякоть неожиданно сменил снегопад, и, стараясь поймать губами мягкие снежинки, все еще возбужденная спектаклем Лиза задумчиво произнесла:
– Правда, именно про такую погоду Цветаева написала: «Вот опять окно, где опять не спят…»?
– Не знаю, я не читала, – равнодушно ответила Аня и поежилась. – Хочу есть.
– Погоди, давай здесь постоим немножко, так красиво…
Лиза прочитала переминающейся с ноги на ногу Ане все стихотворение и без всякой паузы спросила, немного стесняясь:
– Аня, как ты думаешь, что такое счастье?
Не зная, что ответить, чтобы попасть Лизе в тон и не нарушить ее настроения, Аня осторожно произнесла:
– Может быть, когда все здоровы? – И тут же поняла, что сказала не то. – А ты как думаешь?
Лиза отозвалась так быстро, как будто вынула готовый ответ из кармана:
– Я думаю, что счастье – это когда добиваешься всего, чего хочешь!
– А чего ты хочешь?
– Я много чего хочу! Хочу, чтобы у меня все было, быть… ну, обеспеченной… Еще хочу стать знаменитой, чтобы не я на кого-то по телевизору смотрела, а они на меня! – Она с опаской порхнула взглядом по лицу сестры, проверив, не насмехается ли та над ней. – А еще хочу, чтобы вокруг меня всегда все было красиво… красивые люди, красивые вещи, красивая природа, красивый муж и красивые дети, – быстро-быстро бормотала она. – И у меня все будет! Только не смейся!
– Оранжевое небо, оранжевое солнце, оранжевый верблюд… – запела Аня.
– Помолчи, глупая глупышка! И знаешь что, еще очень хорошо, что я русская, а не еврейка, как ты.
– Но мы же сестры? Значит, вы тоже евреи.
– Нет, мы русские! – утверждает Лиза. – Дура ты! У меня Маня русская, папа русский и мама русская.
– А Моня? Он же дедушки Наума брат.
– И Моня тоже русский. Я паспорт видела. По крайней мере по паспорту он русский.
– По-моему, насчет Мони ты все же ошибаешься, – проницательно заметила Аня.
– Ладно, пошли! – помрачнев, велела Лиза.
Испугавшись, что Лиза рассердилась и такое редкое в последнее время согласие нарушится, Аня заторопилась:
– А мне, знаешь, вообще всегда трудно говорить про что-то, чего я не знаю, я ведь даже сочинения на вольную тему никогда не пишу, всегда выбираю лучше про произведения… так вот… Я же про будущее ничего не знаю, не знаю, чего мне захочется, поэтому мне про счастье в будущем сказать трудно. Я тебе скажу про прошлое и про сейчас, можно?
Лиза кивнула и ласково смахнула снег с воротника Аниной куртки.
– Помнишь, меня в первом классе тошнило по утрам? Как-то на большой перемене всех повели во двор гулять, а я еще тогда не знала, что нельзя не хотеть, и не захотела. Все ушли, а меня учительница в классе заперла. Их долго не было, а я в туалет захотела. Ну не описаться же. А в классе фикус стоял… и, представляешь, они входят в класс, а я писаю в цветочный горшок!
– А при чем тут счастье?
– Не знаю при чем, но при чем-то точно есть. Чтобы такого больше не случалось.
– Это прошлое. А ты еще сказала «про сейчас».
– Да. Сейчас мое счастье конкретно состоит в том, чтобы не ходить на физкультуру.
– Неинтересное твое счастье, – машет рукой Лиза, – пойдем домой.
Девочки молча бредут к метро, разгребая ногами вялую тающую массу. Лиза еще раз перебирает в уме свои мечты, а Аня думает: «Лиза просто не понимает». На последнем перед каникулами уроке физкультуры нужно было прыгать через козла. Об этом невозможно было даже помыслить, не то что прыгнуть! Аня была уверена, что ей ни за что не перенести свое толстое тело через обтянутого черной кожей монстра, и понадеялась, что в предканикулярной суете ее забудут. Она уютно угнездилась в самом дальнем углу раздевалки с книжкой «Девочка, с которой детям не разрешали водиться» и погрузилась в чтение, восхищаясь и завидуя смелости хулиганистой рыжей героини. Вдруг, почувствовав, что она не одна, Аня вскрикнула от неожиданности и увидела вблизи от себя физкультурника со зверским выражением лица. Физкультурник надвигался на нее, широко расставив руки, как будто ловил курицу. О том, как уже через пару минут она восседала на козле, лучше даже не вспоминать. Хотя, конечно, все одноклассники вдоволь повеселились!.. Переодеваясь обратно в школьную форму, Аня потеряла свой физкультурный костюм. Брюки и футболка лежали на полу перед ней, но взять их она не могла, не могла, и все! Наверное, оттого, что она так долго служила предметом общего веселья, что-то сместилось в ее голове – ей показалось, что это чужие вещи, хотя такой дорогой и красивый костюм был только у нее. Конечно, Лиза не понимала!
Лиза и Аня с детства собирали театральные программки. Вечером, сидя на Аниной кровати в пижамах, театралки ностальгически перебирали толстую пачку.
– Ну ладно! – вдруг голосом Карабаса-Барабаса зашипела Лиза. – Перед сном надо бы тебя как следует напугать!
– Ой-ой-ой! – заверещала Аня.
Это была еще одна любимая ими детская игра – «страшилки».
– Синяя рука вышла из дома, – замогильным голосом привычно завела Лиза, и Аня уже успела приятно испугаться, как вдруг Лиза прервала завывание и спросила: – Слушай, что мы как маленькие? Хочешь, я тебе лучше расскажу, что у нас с Женей было? Поклянись, что никому не расскажешь!
– Клянусь! – с готовностью ответила Аня, подвигаясь поближе к сестре.
– Повторяй за мной: «Пусть я на всю жизнь останусь жирной коровой…»
Желание узнать Лизину тайну было столь сильным, что Аня послушно пробормотала за ней клятву, даже не обратив внимания на обидные слова.
Запинаясь, Лиза поведала сестре придуманную на ходу историю, как после уроков они с Женей пошли к нему домой и там он так просил, умолял, клялся в вечной любви и даже плакал, что Лиза уступила его мольбам и…
– Ты не можешь представить себе, как он умолял! Стоял на коленях, говорил, что покончит жизнь самоубийством… плакал… Я никогда не видела, как мужчины плачут… – задумчиво рассказывала Лиза, горестно глядя вдаль, мимо Ани.
– Ну и что дальше? – выдохнула Аня.
– Я уступила его мольбам…
– Ты теперь… – Аня не могла найти слов. – Ты…
– Да! Теперь я – женщина… А хочешь, я тебе покажу, что мы делали? – Лиза помолчала и решительно выпалила: – Сними пижамные штаны!
Аня протестующе мотнула головой, заранее зная, что не сможет противостоять сестре, и надеясь, что Лиза все-таки передумает. Но Лиза, скрывавшая свою неуверенность за командным тоном, не передумала, и через минуту, закрыв глаза от стыда, Аня уже лежала на кровати с поднятой вверх рубашкой, а Лиза, возвышаясь над ней, с интересом рассматривала темный треугольник волос, зажатый между жирными складочками, и розовые стреи, опоясывающие Анин живот. Любопытство ее быстро сменилось волнением, и она вдруг почувствовала знакомое дуновение ветерка внизу живота, переходящее в ноющую боль.
– Смотри, сначала он сделал мне вот так… – прерывающимся голосом сказала она и неожиданно для себя самой сильно развела в стороны Анины ноги.
– Лиза, ну пожалуйста, не надо, – заныла Аня, и из-под ее крепко зажмуренных глаз показалась слеза.
У Лизы не было никакого представления о дальнейших действиях, но прекращать такую интересную игру она не собиралась.
– Хочешь, я тоже разденусь? – Не дожидаясь ответа, Лиза быстро скинула одолженную Аней фланелевую пижаму в мелкий цветочек. – Смотри, я тебя не стесняюсь, мы же сестры. Тебе лучше узнать про это от меня, чем от чужого парня. И потом, я же не сделаю тебе больно, понимаешь? И ты такая же взрослая, как я, правда?
Аня согласно кивнула и, открыв глаза, сквозь слезы доверчиво посмотрела на Лизу, непроизвольно попытавшись сдвинуть ноги. В Лизиных глазах горел хорошо знакомый ей с детства огонь. Так она смотрела на даче, заставляя неуклюжую семилетнюю Аню прыгать вслед за ней с сарая. «У меня ничего не получится!» – ныла тогда Аня, равно избегая смотреть вниз на землю и Лизе в глаза. Когда Лиза устремляла на нее этот специальный настойчивый взгляд, лучше было не возражать и слушаться, иначе она переставала с Аней разговаривать. Приходилось просить прощения, Лиза кривлялась, прощения не давала… Сейчас лучше потерпеть, подумала она. Лиза долго рассматривала сестру, лежащую перед ней с раздвинутыми ногами, потом вдруг непроизвольно протянула руку и потрогала ее сначала сверху, а потом внутри между ногами.
Игра требовала продолжения, вернее, продолжалась уже сама, по не зависящим от Лизы законам. Рассмотрев и потрогав сестру, Лиза внезапно ощутила знакомую с детства злую радость от своей власти и Аниной беспомощности и попросила, чтобы Аня потрогала ее в ответ. Та, поначалу в ужасе отключившись от реальности, теперь поняла, что ничего страшного ей не угрожает, перестала бояться и послушно выполнила все, что велела сестра. Аня почти успокоилась, подумав, что всегда слушалась Лизу и ответственность за правильность их общей жизни лежала на Лизе. Лиза долго двигала Анину руку, потом ее рукой погладила себя по небольшой, стоящей остренькими пирамидками груди. Затем Лиза улеглась на нее сверху и подвигалась, приговаривая, что именно так делал Женя.
– Хочешь узнать все до конца? – спросила она глухим дрожащим голосом.
Аня молча кивнула, надеясь, что, когда она узнает все до конца, на этом все и закончится. Лиза повела глазами вокруг, схватила огромный красно-синий карандаш-великан и недолго думая засунула его между Аниными ногами. Вспомнив все, что она знала из прочитанных украдкой медицинских книг и дворовых песен, она постаралась просунуть карандаш как можно глубже.
– Он сделал мне вот так… – увлеклась она, уже сама не помня, что врет, внезапно нажала посильнее и вдруг слетела на пол, отброшенная сильным ударом.
– Ты с ума сошла! Больно! – плакала Аня, зажимая руками низ живота.
В первый момент Лизе показалось, что она неосторожно ранила сестру, и она метнулась к телефону звонить Мане и требовать немедленной медицинской помощи. А в следующую секунду потеряла сознание. Увидев побледневшую, с закатившимися глазами Лизу, Аня, все еще подвывая от боли, бросилась ее трясти и вскоре вытащила из убежища, где сознание спрятало Лизу от страшной реальности.
Девочки вместе отстирывали пятно крови с простыни, потом до ночи сидели обнявшись. Лиза гладила всхлипывающую сестру, приговаривая: «Ничего, зато ты теперь, как я, тоже женщина, мы же сестры с тобой, у нас все должно быть одинаково…» В какой-то момент она сообразила, что Аня не вполне понимает, что только что лишилась девственности, а всхлипывает от счастья, растроганная непривычной Лизиной жалостью. К ужасу Лизы от содеянного и страху, что она повредила Аниному здоровью, примешивались четкие трезвые мысли. Как честный человек, она должна теперь тоже немедленно потерять девственность, чтобы искупить свою вину перед Аней. Только как это сделать? «Не просить же Аню, в свою очередь, проткнуть меня карандашом! Да я бы и попросила, но как признаться в жутком вранье?!» – грустно улыбнулась она своим мыслям. Сказать, что вся история придумана от начала до конца, означало открыть Ане свою слабость, незащищенность. Нет, она должна остаться старшей, главной, непогрешимой, иначе невозможно! «Бедная Анька, ни за что пострадавшая глупышка!» Так, поглаживая почти счастливую Аню по голове, Лиза наконец и заснула.
Вернувшиеся Дина с Додиком нашли дом и Аню в полном порядке. Дина вручила девочкам по паре колготок и нарядных шоколадных зайцев, а огромный пакет с Аниными подарками распаковывать при Лизе не стали. На прощание Дина вынесла ей большой, упакованный в газету сверток. Лиза взяла, сказала спасибо. Оставшись на минуту одна в прихожей, она молниеносно засунула руку в карман Аниной куртки и вытащила из него заколочку с голубым камешком. Выйдя из подъезда, Лиза размахнулась изо всех сил и забросила заколку далеко в кусты. Хотела отправить туда же и газетный сверток с подачками, но знала про себя, что не сделает этого ни за что.
Дома Лиза, сидя в своем закутке за шкафом, доставала и разглядывала знакомые Анины кофточки и платья. Одна ночная рубашка и две пижамы, одна из них та, фланелевая в цветочек, в которой Лиза только что спала в гостях, юбка, которая давно ей нравилась… А ведь она, пожалуй, будет ей велика… Ой, какие чудные, ужасно дорогие ажурные колготки, таких не было ни у кого в классе! Лиза натянула колготки на руку, и рука засветилась огромной безобразной дырой. Лиза заплакала. Она сама не знала, почему она плакала – от пережитого ночью потрясения, от унижения или потому, что на вожделенных колготках оказалась дыра, или от вспыхнувшей опять ненависти к Ане… Ощущая себя пустой настолько, будто сейчас взлетит, Лиза обложила себя в кровати старыми игрушками, уткнулась в облезлую обезьяну и сразу почувствовала, что ничего плохого не было.
Утром Лиза пошла в школу во всем новом – Аниной кофте, надетой на школьную форму, Аниных зашитых ажурных колготках. С колготками обнаружились, правда, некоторые сложности. Чтобы скрыть зашитую на коленке дырку, колготки пришлось перевернуть. Теперь шов оказался в невидном месте, под коленкой, зато из туфли торчала пятка, которую приходилось время от времени заталкивать обратно.
Лиза изменилась. Она всегда тяжело просыпалась, но раньше, едва услышав будильник, вскакивала с постели как солдат, а теперь подолгу лениво лежала в постели, размышляя, не сказаться ли больной. Лиза действительно почти каждое утро ощущала вялость, кружилась голова, подташнивало, и часто так продолжалось до самого вечера. Часов с семи она с наслаждением думала, что скоро можно будет лечь спать. Не в Маниных привычках было присматриваться к душевному состоянию членов семьи, но плохой Лизин аппетит она заметила быстро. Веточка выдала Лизе витамины, Маня добыла банку черной икры, а Моня тихонечко вглядывался в Лизины потухшие глаза и вздыхал. «Не волнуйтесь, папа, это переходный возраст», – успокаивала его Веточка. И покупала следующую баночку с витаминами.
Дома с Лизой стало тяжело, неприятно. «Лиза, очнись!» – говорили ей, если она слишком уж долго сидела неподвижно, погруженная в свои мысли. Лиза возвращалась, но не на радость домашним. Ее апатия сменялась раздражением, прежде она его прятала, а теперь срывалась – шипела, покрикивала и тут же начинала плакать. Она с трудом выносила Костю, лежавшего посреди комнаты на диване в тренировочных штанах, Веточкину суету на кухне, Манины словечки. Только к Моне относилась терпимо, выразительно посматривала на его, мягко говоря, не самую элегантную домашнюю одежду, но молчала.
Неимоверных усилий требовала учеба. Лизу одолевала сонливость, и, к удивлению учителей, примерная отличница могла откровенно задремать на уроке. Пока что ей всё прощали.
Ее сознание старательно отметало немногие радостные события, происходящие вокруг. Впервые Лиза отказалась идти на школьный день рождения, фыркнула на предложение Веточки сходить в театр, перестала бегать с одноклассницами в кино. Ей нравилось грустить. Печальные стихи, чужие неприятности были сейчас созвучны ее настроению. Она даже поехала вместе с Маней навестить Цилю, ей хотелось почувствовать, как именно тетке плохо, напитаться ее горестями.
В действительности Лиза была одержима сейчас лишь одним: что именно они с Аней будут делать ночью. Каждую субботу, отправляясь в гости к сестре, она очень старалась справиться с собой и даже брала с себя клятву, что больше не станет играть с ней в мерзкие, порочные игры, и каждый раз точно знала, что клятву нарушит. Она начинала думать об этом за несколько дней, ощущая себя настоящей преступницей, достойной самой страшной кары. В душе шевелилось гадкое любопытство, куда может завести их обеих Анино послушание и ее власть, к чему она может принудить сестру. Одновременно она испытывала безнадежное чувство, что теперь уже все равно, уже все пропало… Лиза привычно сердилась на Аню за глупую невинность, за то, как сильно мучается завистью сама Лиза, а сестра ни о чем не подозревает. Но она как-то вся опала, словно сдувшийся шарик, и единственное, на что она осталась способна, была какая-то слабая, заплаканная злость.
Лиза уже не понимала, что же с ней происходит, почему она к Жене стала безразлична, а мысли об Ане становились все неотступнее. Теперь ей все чаще приходила в голову странная мысль: может быть, она влюблена в Аню? Бедная Лиза! Если бы она могла кому-нибудь признаться, если бы этот кто-то мог открыть ей, что она действительно влюблена, но не в сестру, а в любовь. Если бы этот кто-то сказал ей: «Да, Лиза, девчонка ты, конечно, испорченная, но все это детские глупости, так что жить будешь!» Никто не мог ей помочь, и Лиза считала себя недостойным ничьих добрых чувств монстром.
Аня ждала Лизиных приездов с тоскливым страхом. Она не вполне понимала смысл происходящего и лишь испытывала ужас перед скорым разоблачением их игр. Аня была совершенно уверена, что Дина может узнать об этом в любой момент, потому что мать была везде. Как и Лиза, она стала плохо спать, только аппетит ее не покинул: ела она теперь еще больше, как будто исполняла свою главную обязанность – последнюю обязанность, остававшуюся ей от прежней чистой жизни. Аня была так изнурена постоянным страхом, что впервые в жизни ее оставила болезненно ковыряющаяся в сознании мысль: Лиза, любимая сестра, не захочет с ней больше дружить. Ей казалось, что она перестала любить Лизу и доверять ей. Аня была приятно удивлена, убедившись, что даже ее привычке к послушанию тоже есть предел. Бунтовать она и не мыслила, слушаться Лизу не перестала, но прибегла к единственному оружию слабых – просто взяла и разлюбила Лизу.
Все случилось так, как виделось Ане в самых ее страшных видениях. Лиза гладила ее, стыд уже не был таким острым, и Аня чуть задремала. А открыв глаза, увидела над собой мать. Привлеченная какими-то шорохами, Дина вошла в комнату и удивилась, обнаружив Лизин диван пустым. В следующий миг она бросилась к двум фигурам на кровати и оттащила Лизу от дочери за шиворот, как котенка. Даже в этот совершенно нереальный в своем невыносимом ужасе момент Дина отстраненно подумала, что ни за что не хотела бы разбудить Додика криками или Аниным плачем, что Лизу все равно не выкинешь на улицу ночью и до утра придется терпеть ее в своем доме. Она молча показала Лизе на гостиную и, пошатываясь, вышла из комнаты. Сил взглянуть на дочь у нее не было, да она и сомневалась, была ли у нее теперь дочь…
До утра Дина просидела на кухне. Когда рассвело, она зашла в гостиную к Лизе, испуганно вжавшейся в кресло, и молча, прижав палец к губам, махнула в сторону двери. Даже «убирайся вон» не обронила. Вывела в прихожую и закрыла дверь.
«Странно, что Дина, такая предусмотрительная, не подумала, что я скажу дома, – рассуждала Лиза, спускаясь по ступенькам к Неве. – Я сейчас утону, и она всю жизнь будет мучиться». Лиза специально добиралась сюда, к реке, от Дининого дома, долго шла пешком и ужасно замерзла. Больше идти было некуда. Лиза медленно подошла к воде, заплакала и подумала: «Все!» Затем нагнулась, потрогала ледяную воду и пулей ринулась наверх по ступенькам. Упала, разбила коленку и, не чувствуя боли, помчалась по набережной. Домой, скорее!
А Дина, неслышно затворив за Лизой дверь, опять уселась на кухне. Сегодня воскресенье, Додик с Аней будут спать долго, она успеет все решить. Сначала необходимо продумать практические шаги. Додик не должен ничего знать, это во-первых. Никто не должен узнать, это во-вторых. И наконец, никто не должен узнать никогда! Дина открыла записную книжку. К своему гинекологу – блестевшей ярко накрашенными губами и любопытными глазами Ирине Викторовне – Аню вести нельзя. Врач нужен не близкий и даже незнакомый, чтобы никаких слухов не просочилось. «А зачем, собственно, вести дочь к гинекологу, что может сказать врач? – спросила себя Дина. – Не с мальчишкой же я ее застала…» Но почему-то этот визит был необходим, не для Ани, а для самой Дины. Пусть врач заверит, что ничего страшного не произошло, девочка здорова. В четырнадцать лет вести дочь к гинекологу… Какой позор! Разве она ее неправильно воспитывала? В чем она виновата? Что она делала не так?
Дина вскочила, как только услышала робкие шорохи из комнаты дочери. Она принесла Ане завтрак в постель и, не глядя на нее, размеренно произнесла:
– У тебя температура и начинается грипп. Сегодня не вставай.
Дина решила на сегодняшний день максимально изолировать Додика от дочери.
– Давай сегодня поедем покупать мне шапку, сегодня все магазины открыты. Уже вторую неделю выбраться не можем.
– А как же Аня? Она же заболела…
– Полежит, подремлет, телевизор посмотрит, температура у нее невысокая…
В поисках шапки они объездили все большие универмаги города и, вернувшись вечером домой, нашли Аню уже спящей.
Когда пожилая равнодушная докторша вышла из-за ширмы, за которой осматривала Аню, с неожиданно заблестевшими, оживившимися глазами, у Дины мгновенно заныло сердце.
– Мамаша, а девочка-то ваша уже где-то девственность успела потерять. Вы ее порасспросите. Сколько ребенку лет, вы говорите? Да, вот дети-то… А ведь вроде бы приличная семья…
Она брезгливо посмотрела на помертвевшую Дину и ловко подхватила выпавшую из ее рук огромную коробку конфет.
Дина молча, со сжатыми губами, вела за руку дочь. Мать еле перебирала ногами, задумчиво глядя куда-то в сторону и вверх. Казалось, она забыла не только о потной Аниной ладошке в своей руке, но и кто такая Аня. Дина впервые обращалась сейчас к Богу, к своему еврейскому Богу. Она решительно ничего не знала ни о Нем, ни о каком-либо другом, но кто же еще примет ее сейчас, такую беззащитную в своем позоре… Откуда-то из генетических глубин сознания рождались слова, незнакомые, никогда не слышанные прежде, а скорее просто прочитанные когда-то в книгах. Не проронившая ни слезинки, умеющая держать удар, «нехорошая девочка», как называли ее родные, Дина мысленно причитала, как синагогальная старушка: «Боже, Боже. Почему ты меня оставил? За что? Что я сделала не так? Я так старалась всегда быть хорошей, ты же знаешь, Господи, я и правда старалась…»
1975—1977 годы
ССОРА
– Ну Дина, где ее совесть, совсем Цилю на Маню спихнула, – бурчал Моня. – Нет, ты скажи, когда Дина последний раз здесь была? – Моня повел рукой на лежащую сестру.
Лиля, на глазах становясь еще меньше и беспомощнее, как травиночка вытягивалась вверх и в сторону… сейчас ветерок унесет ее из этой пропахшей несчастьем комнатки, где уже не осталось даже крошечного пространства, не занятого болезнью. Только судно, только пузырьки с лекарствами, таблетки, баночки и тряпочки.
– У нее дела, она звонила, она каждый день звонит, честное слово, – защищала Лиля племянницу.
Моня махнул рукой:
– Дела у нее… Лиля, не делай лицо, как будто тебя пытают! Я лично уже забыл, когда Маню дома видел. Или у меня уже нет никакой жены, а я и не заметил?
Целый месяц Циля понемногу умирала, по чуть-чуть каждый день. Объяснялась она теперь уже больше знаками, но однажды, собрав все силы, поманила Маню поближе к себе и почти четко прохрипела:
– Чемодан…
– Какой чемодан? Ты бредишь.
– Че-мо-дан! – четко, по слогам повторила Циля и выразительно задвигала бровями. – Наследство..
– А-а… вот ты о чем, – протянула Маня, – опять бредит.
Тетки со времени Цилиной болезни намекали Мане на некое наследство, чему она абсолютно не верила.
– Маня, она правильно говорит, у нас кое-что есть! – вступила Лиля. – Циля мне раньше не разрешала говорить, но теперь она сама хочет, ты же видишь. Я скажу.
– Лиля, ты что, тоже бредишь? Да у вас нет ничего, да и откуда? Всю жиссь вам Наум с Моней помогали… – отмахнулась Маня. – Помоги мне лучше, я буду Цилю переворачивать, а ты тазик неси. А то выдумали тоже, наследство у них…
– Чемодан! – вращая глазами, яростно прошипела Циля.
Лиля вытащила из-под Цилиного дивана небольшой картонный чемоданчик.
– Ну что, набили небось его старыми газетами, – пошутила Маня.
В чемоданчике оказалось столовое серебро.
– Это мамино, никто не знал, что оно у нас, ни Наум, ни Моня… Мы его в войну сохранили…
– А чего молчали-то про его, может, оно им тоже надо? – поинтересовалась Маня, вынимая из шкафа свежее постельное белье.
– Циля не разрешала, говорила, на самый черный день, а теперь она хочет его тебе отдать, я знаю, Маня. Что бы мы без тебя… – Лиля заплакала.
Циля лежала молча, посверкивая уже не такими черными, как прежде, глазами.
– Перестилать-то будем? Лиля! – прикрикнула Маня. – Тоже мне, барыня… Фу-ты, ну-ты, ножки гнуты… Наследство у нее… Тазик тащи, тебе сказано!
А потом Циля удалилась в свое маленькое местечковое детство и обратно уже не вернулась. Ей снова было хорошо в маленьком местечке с мамой и папой. На идише Циля не говорила лет пятьдесят, а тут вдруг разошлась. Маня совсем перестала ее понимать.
– Мама, гиб мир…[4] – А дальше совсем что-то неразборчивое.
– Лиля, что она говорит? Тарабарщина какая-то!
– Она просит маму дать ей цимес.
– Господи, это еще что такое?
– Тушеная морковка, сладкая… еще фасоль тоже бывает… Мы ели, когда совсем маленькими были, по праздникам только давали. Так вкусно было…
– Морковка? Тушеная? Это я могу, давай сделаем!
– Папа… – бормочет Циля, – Моше… их абиселэ цудрейтор…[5]
Лиля заливается слезами.
– О господи, теперь эта ревет! Ну что опять, Лиля?
– Так наш папа всегда про Моню говорил…
– А что это значит?
– Значит, Моня у нас самый смелый, но глупый....
– Да? – заинтересованно спрашивает Маня. – Он так про него считал?
– Тейглах[6], дай мне тейглах, Маня, дай мне тейглах, – вдруг возвращается Циля и рыдает так горько, что Маня хочет немедленно дать ей все, что только возможно.
– Что, Циля, что ты хочешь?! – кричит она. – Что она просит, Лиля, говори скорей! Может быть, у нас это есть! Или позвоним Науму, он достанет…
– Маня, дай мне лебергхакте[7]…
– Что это… Как она говорит – лебер?.. Что это?
– Не знаю!.. – рыдает в ответ Лиля. – Не помню!
И так целый месяц… Маня была совсем одна с умирающей Цилей и плачущей, полностью потерявшей соображение Лилей.
Когда вернулись с кладбища, Лиля неуверенно предложила:
– Давайте, как положено, сядем на пол…
Наум пожал плечами и вышел из комнаты, а Рая с Маней послушно уселись на пол.
– Надо обувь снять… – прошелестела Лиля, стесняясь.
Сняли обувь.
– Молитву кто-нибудь знает? – деловито спросила Маня.
Молитв не знал никто, Маня свои православные забыла, а Лиля с Раей своих иудейских и не знали никогда.
Посидели немного молча и пошли к столу. Цилины подруги, продавщицы из Лилиного книжного магазина, соседи из коммуналки на Маклина, соседи с Троицкой… На Цилиных поминках, устроенных у Наума на Троицкой, было неожиданно много людей. Лишь поздно вечером за разоренным столом осталась только семья.
Лиза сидела у окна и рассматривала фигурки в шкафу. Серебряные, золотые, фарфоровые и нефритовые зверьки каждый раз были расставлены по-разному, как будто сами жили своею звериною жизнью. «Кто же их переставляет, неужели Наум? Невозможно представить, что он играет со зверьками, как мы с Аней с Буратино и Пьеро», – подумала Лиза.
Поминали Цилю по русскому обычаю напеченными Маней блинами и киселем, но, кроме блинов, на столе было много еды. Циля умерла как раз на Пасху, и чай пили с Маниными куличами, а в центре стола стояла пирамидка жирно-желтой пасхи с выпуклым крестом на каждой стороне. С пасхой соседствовали неубранные остатки Раиной фаршированной рыбы, но картина эта вовсе не являла собой воплощение дружбы народов, а лишь подтверждала полное безразличие к религии и обычаям – пасху и куличи ели просто как сладкое.
– Ни у кого не бывает такой вкусной пасхи, как у мамы Мани, – привычно похвалила Дина.
– Так это еще мамин рецепт, – так же привычно откликнулась Маня. Кроме маминого рецепта, она владела, пожалуй, единственным деревенским наследством – деревянными формочками с выбитыми крестами.
– Мы теперь остались здесь все свои, давайте выпьем за Маню, – предложил Додик, – она ухаживала за Цилей до самого конца.
– Ладно тебе, – отмахнулась Маня. – Слушайте, я чего вспомнила-то… Циля с Лилей мне чемодан с ложками-вилками показывали. Да, Лиля? Так надо его между всеми разделить!
Лиля по своей привычке вытянулась травинкой и беспомощно взглянула на Дину.
– Я забрала серебро, – спокойно сказала Дина.
Маня непонимающе на нее смотрела:
– Ну так потом принесешь, сама раздели на всех.
– Циля завещала столовое серебро мне. Она так сказала, правда?
Лиля кивнула. Еще до Цилиной болезни они любили иногда поговорить о том, как отдадут когда-нибудь серебро Дине, девочке, сиротке, кровиночке… Она единственная о серебре знала и пару раз пыталась выпросить, но Циля твердо сказала: «Только после моей смерти!» Вот, как Циля умерла, Дина сразу и пришла за чемоданом. Положила в большую сумку и унесла.
Маня растерянно молчала. Зато приподнялась Танечка.
– А почему это ты решила, что это все тебе? – покраснев, обратилась она к сестре. – За какие это твои достоинства ты должна получить столовое серебро начала века? Может быть, за то, что ты тетку бросила, за весь месяц, что она умирала, ни разу не появилась?
– Я до этого там вполне появлялась, в отличие от тебя, – невозмутимо ответила Дина.
– А по-моему, ты просто украла серебро! – Танечка впилась глазами в сестру. В семье считалось, что ей нельзя нервничать, она начинала дрожать и задыхаться. – Почему все тебе, и комнату тебе…
– Как комнату?! – испуганно закричала Маня, клацнув зубами. – Это еще что такое – комнату?!
– Твоя любимая Дина потихоньку прописала к теткам в комнату свою Анечку! А ты что, не знала? Зря она, что ли, бегала к теткам? Додик подсуетился, дал взятку кому надо, и комната теперь Ане достанется!
Ошеломленная Маня молчала. До нее все доходило небыстро, и теперь она с трудом пыталась осознать предательство родственников.
– Таня, успокойся! Комната нам теперь ни к чему, и серебро тоже, нам его все равно не вывезти! – вступил Алик, потянув жену за руку.
Костя вопросительно взглянул на него:
– Алик, неужели вы решили… Не может быть!
Переглянувшись с зятем, Наум укоризненно покачал головой: «Зачем же сейчас об этом, не время…»
– У меня для вас новость. Мы уезжаем, – не обращая внимания на выражение лица отца, объявила Танечка и торжествующе улыбнулась.
Шел 1977 год, отъезды были редкими и не коснулись семьи, из знакомых никто не уехал, и новость всех совершенно ошеломила.
– Как уезжаете… куда… – бормотал Моня. – Нема, ты что, меня бросаешь, что ли? Цилька умерла, а ты что, правда уезжаешь?.. Не можешь ты меня бросить, а как же я, ты ведь старший, Нема! – Моня заплакал.
– Я – член партии! Вы меня без ножа режете! – В Додиковом крике прозвенели визгливые нотки. – Что вы написали в анкетах? Что у вас есть сводная сестра? Сводная сестра – это не настоящий родственник!
Рая всегда хвасталась: «Я могу выкрутиться из любой ситуации» – и слово «выкрутиться» звучало у нее так вертко, вкусно и зримо… Сейчас, напряженно улыбаясь, Рая толкнула в бок мужа:
– Скажи им, что все еще очень неопределенно, сначала поедет Танечка, а о нас говорить рано, мы еще пока никуда не уезжаем.
Дина смотрела только на Раю.
– Мама?.. А как же я? – тихо, одними губами, прокричала Дина.
Она медленно поднялась с чашкой в руке, обошла стол, замерла около Раи, аккуратно поставила чашку, стряхнула со стола крошки и медленно осела на пол. Для не склонной к театральным эффектам, всегда чуть замороженной Дины это было так странно, так неприлично, что замершие от неожиданности родственники не знали: броситься ли поднимать ее или сразу вызывать врача. Первым опомнился Додик. Усадив жену на стул, он легонько похлопал ее по щекам.
– Мама, помнишь, ты такой вкусный суп варила, Танечке давала, а папа один раз говорит: «Дай Дине тоже такого супа», а ты не давала, никогда не давала мне такого супа… – шепотом, как в полузабытьи, вдруг сказала Дина.
Давным-давно, когда дети были маленькими и Науму с Моней хотелось что-то от них скрыть, они переходили на идиш. Маня всегда воспринимала это как личную обиду, как Монин уход в его частное пространство, куда ей самой не было доступа.
– Моня, кум цу мир[8], – подал голос Наум.
– Говори по-человечески! – потребовала Маня. – Да что тут говорить! – Маня встала, угрожающе нависая над поминальным столом. – Моня, пошли! – скомандовала она.
Моня послушно встал из-за стола и, виновато пожав плечами, потрусил за женой. Вслед за ними вспугнутой стайкой потянулись Костя с Веточкой и Лизой.
Не попрощавшись, Маня большими шагами вышла на знакомую ей до последней щербинки лестничную площадку.
Маня порвала с семьей сразу и навсегда. И в один миг еще вчера любимые родственники стали ей ненавистны. Она могла бы еще простить историю с Цилиным чемоданом. Маня вообще была равнодушна к вещам, и ей искренне казалось, что комплект столового серебра можно разделить между родственниками, выдать каждому по паре ложек и вилок, подумаешь, большое дело! Но с понятием «жилплощадь» у нее, как у всякого советского человека, были свои давние непростые отношения. На словах «квадратные метры» Маня всегда делала стойку.
– Они сговорились оставить меня в дураках! – брызжа слюной, кричала она на Моню, хотя сама никогда даже не мыслила прописать кого-то из своих в комнате теток.
– Фантомас разбушевался, – прошептал Моня невестке и, вежливо улыбнувшись жене, нырнул от греха подальше к себе в комнату.
– У нас тоже есть кого прописать! Вету могли бы или Лизу! А теперь все пропало, все им! – неслось ему вслед.
Если бы обидевшие Маню родственники пришли виниться и просить прощения на следующий день, все могло бы еще закончиться иначе, но никто не пришел и не позвонил.
– Ходит, ходит кругами, как тигра в клетке, – испуганно косился Моня на жену со сжатыми в ниточку губами и страшными запавшими глазами. Впервые за много лет часами молчал телефон.
Маню грызла обида… Ее обошли, обманули, обмишурили, как последнюю дуру! «Они», собравшись вместе, провернули все за ее спиной! Это простить нельзя! Самым непереносимо страшным было для нее то, что все произошло втайне от нее, как будто она не главный человек в семье, а так, Петрушка!
Злоба так распустила лапы в Маниной душе, за это время столько плохого она успела сказать про бывших любимых родственников, что Моня только ойкал испуганно, прячась по углам от ее высекающего искры взгляда.
Теперь Маня пользовалась любым предлогом, чтобы осудить тех, кому еще вчера была так предана. Самые любимые Дина с Додиком моментально стали злобными исчадиями ада. Они отобрали квадратные метры, Манины метры!
– Если бы Костя воровал, как Додик, мы бы тоже давно на машине катались! – шипела она.
Никогда не позволявшая отмечать разницу в достатке своей семьи и Гольдманов, теперь на Лизин отказ есть вчерашние котлеты Маня злобно ответила:
– Что, не хочешь? Конечно, мы же не Гольдманы! У нас икры нету! Они-то никогда дешевые продукты не покупают, им только дорогое подавай! Уж я-то знаю!
Все много лет подспудно копившиеся обиды вырвались теперь наружу.
– Слушай, дед, а здорово Маня всегда притворялась, что она их всех любит! – посмеиваясь, сказала Лиза Моне.
– Что б ты понимала, маленькая еще! Она не притворялась, потому так и злится, что столько лет… А-а… да что там говорить… Ты же ничего про ту нашу жизнь не знаешь.
Как раз сейчас Лиза понемногу «про ту жизнь» узнавала. Представляя, как «они» сговаривались тайком, Маня постоянно ковыряла свою рану, растравляла себя горькими мыслями о кипевшей за ее спиной жизни. Не стесняясь больше внучки, Маня завела разговор о пресловутой брошке, той самой, о которой когда-то мечтала маленькая Лиза. Думала, что ей не хватает всего лишь этой брошки, чтобы стать настоящей королевной…
– Деда твоего с наследством тоже обманули! Ему-то ничего не досталось, а Науму брошка брильянтовая материна. А почему ему? По справедливости надо было продать и между всеми деньги-то разделить. Только Немка не такой, чтобы делиться! Теперь вот семью рушит, разрешил Таньке уезжать незнамо куда. У нас в больнице все говорят, что оттуда, из Израиля этого, все потом обратно просятся!
В бедной Маниной голове шла постоянная работа по оживлению старых обид. Вдруг о какой-то Муре стала деду говорить:
– Помнишь, у Муры шуба была, котиковая? Все бедно жили, а у нее шуба!
Выяснив, что Мура – это первая жена Наума, а дело было еще перед войной, Лиза пожала плечами. Охота же Мане так себя будоражить, вспоминая доисторические времена.
В доме не разрешалось теперь упоминать даже фамилию Гольдман никому, кроме самой Мани. Основным ее собеседником была Лиза.
– Все они такие! Хорошо, что я не Гольдман, не хочу с ними на одной фамилии быть! Мне тогда в больнице умные люди сказали, что брать такую фамилию не надо, вот я и осталась Бедная.
– А дед почему не Гольдман, а Бедный? Он, что ли, взял твою фамилию?
– Ты что такое говоришь! – пугается Маня. – Где же это видано? У них знаешь, как в семье строго было? Они и так-то меня не очень хотели. Это уже потом, во время войны… дед твой документы потерял и записался русским… А фамилию мою взял – стал Бедным. Только ты никому про это не рассказывай! – подмигнула она Лизе. Маня задумалась и вдруг с детской обидой сказала: – А вот еще я вспомнила… про Наума. У нас тогда денег совсем не было, чтобы теткам дать, а очередь наша подошла. Так я велела Моне часы золотые в ломбард снести, у его из Германии были привезены. А Наум говорит, дескать, ты заложи у меня. Ну… Моня ему и отнес. Денег-то не собрали выкупить, так часы у его и остались.
Незаметно подкравшийся Моня засмеялся.
– Вот у меня в семье люди как люди, а у Наума одни евреи! – неудачно пошутил он.
– Да евреи все такие, уж я-то знаю, – всерьез подтвердила Маня.
– Ну ты даешь, бабушка, а Моня у нас, по-твоему, кто? И вообще, если бы они были рыжие, ты бы сказала, что все рыжие такие? – склочно завела Лиза.
– Все евреи такие, – упрямо повторила Маня, беспомощно подергивая губами.
Почему за ее спиной они так с ней поступили? Все рассказы о подлых корыстных евреях зашипели, свиваясь клубком у нее в мозгу. Лизе казалось, что вместо щедрой на любовь Мани по дому бродил инопланетянин с бедным, глупым и колючим ежиком вместо головы: злые мысли высовывались из него шипами, а часть колючек была направлена внутрь, раздирая его самого.
Прошел месяц. Как-то в воскресенье Веточка вдруг спешно увела Лизу на улицу. Моня хотел увязаться за ними, но Маня его не пустила, строгим голосом велев сидеть дома. Лицо ее неуверенно колебалось между злобой и детской беззащитностью.
– Ой, дядя Наум, здравствуй! – бросилась Лиза к сидящему на скамейке у подъезда Науму. – Ты здесь откуда? А где остальные?
– Я позвонил Мане и спросил, можно ли мне прийти.
Веточка испуганно кивнула.
– Я хочу попросить прощения за себя и за Дину. Как ты думаешь, Маня… простит? Как там она сегодня?
– Конечно, простит, дядя Наум, она сама очень переживает!
– Вета, а может, ты со мной пойдешь? Или ты, Лиза?
– Ой, что вы! – испугалась Веточка. – Мы специально ушли. Да вы идите, не бойтесь, а мы тут посидим.
Через час мимо них, неуверенно переставляя ноги, медленно прошел Наум. Он плакал.
– Не простила… – протянула Лиза.
Ссора не очень занимала Дину. Мама Маня подуется какое-то время, а потом простит. Главной для Дины давно уже была ее семья. Конечно, она виновата в том, что проделала все с комнатой и серебром за Маниной спиной. А с другой стороны, кто теткам племянница, кто теткам сирота… И столового серебра ей хотелось больше, чем она боялась Маниных обид, не говоря уж о комнате! Прописать Аню в комнате теток означало устроить ее будущее, кто же этого не понимает. Это – совершенно очевидные вещи!
После той страшной ночи Лиза, Аня и Дина впервые увиделись на Цилиных поминках. Все это время Дина страстно убеждала себя, что ничего страшного не произошло.
Это были просто детские игры, не более, пусть даже неудачно закончившиеся. Она непрерывно вела внутренний диалог сама с собой: «У меня же были отношения с Костей, – защищала она дочь перед собой. – Да, но не однополые отношения, – отвечала она себе и корчилась от омерзения. – Косте было всего шестнадцать, когда все это началось, может быть, Лиза в него такая ранняя… ах да, и Аня тоже». – Она с трудом вспоминала, что Аня Костина дочь.
Дина стала иначе вести себя с дочерью. Сквозь любовь все чаще пробегало ощущение, что Аня ее подвела, она не отвечает представлениям об идеальной семье, подчиняясь которым Дина жила все эти годы. У нее, Дины, должна быть образцово-показательная жизнь. Четырнадцатилетняя недевственница дочь в понятие «как надо» не вписывалась, а Дине хотелось бы поставить дочь как рюмку в сервант – строго на свое место – и протирать через день, по плану.
В понедельник утром на первой же перемене к Дине подбежала молоденькая учительница математики Алена. Выглядела она так, как будто с утра забыла не только умыться и причесаться, но и проснуться.
– Дина Наумовна! Вы знаете, что случилось?
Дина покачала головой.
– Козакова и Малышев из девятого «Б» в субботу целовались в раздевалке! Я говорила, эта парочка добром не кончится!
– Алена Игоревна, парочка не может кончиться добром, а история с парочкой может, – необидно поправила Дина. Ею владела такая нежная любовь к родному языку, и она умудрялась поправлять учителей так тихо и тактично, что они не только не обижались, но даже благодарили.
– Мне будет выговор! Возможно, даже строгий! – объявила Алена и по-детски скривилась. – И премию из-за них теперь не дадут…
Все Аленино семейство сгруппировалось здесь же в школе: мать работала уборщицей, а сестра училась в пятом классе. Ни Алена, ни ее сестра не были знакомы со своими отцами. Алена так боялась повторить судьбу своей непутевой матери, что предпочитала вообще ни с кем не встречаться.
– За что вам выговор, объясните толком! Это не вы, надеюсь, целовались в школьной раздевалке?
– Ой, что вы, Дина Наумовна, я вообще еще… ну… не важно, дело не в этом. Произошла ужасная история. Все уже ушли, я зашла в раздевалку проверить, а они целовались, а я была дежурный педагог…
«Дежурным педагогом», – пробормотала Дина про себя.
– Как дежурный педагог я и говорю: «Как тебе, Козакова, не стыдно, из тебя проститутка вырастет, если будешь при всех целоваться!» А тогда он, этот Малышев, говорит: «Я вам не позволю оскорблять…» Ну а я тогда сказала, что ему самому должно быть противно с проституткой и чтобы в понедельник к директору с родителями… – Алена начала тереть глаза и шмыгать носом прямо в школьном коридоре.
– Я пока не вижу повода для вынесения вам выговора. Не стоило, конечно, так говорить о девочке. С «проституткой» вы погорячились…
Алена прервала ее, приблизив губы к Дининому уху:
– Сегодня утром пришли родители. Сидят у директора. Козакову привели со справкой от врача, она два дня ревела, ее к гинекологу свели, что она девушка, а не проститутка, и еще от невропатолога… Теперь они в роно собираются, а отец у нее какой-то начальник! Сейчас вас позовут, вы же классный руководитель. Дина Наумовна, дорогая, спасите, они вообще меня уволят! – накручивала себя Алена.
– Дина Наумовна, я надеюсь, вы поможете уладить эту равно неприятную и нехарактерную для нашей школы историю, – значительно посмотрев на Дину, сказала директриса и выплыла из кабинета, слегка ускорив шаги на пороге.
Дине показалось, что она еле удержала себя от того, чтобы не побежать.
Вздохнув, Дина заговорила:
– Пусть девочка выйдет ненадолго, мы с вами поговорим. – Как только Козакова вышла, Дина подсела к матери и начала: – Я понимаю, какая для вас травма то, что случилось… Как мы все переживаем за наших детей, особенно девочек… Так хочется, чтобы они были счастливы и не допускали ошибок…
– Моя дочь не сделала ничего плохого, а ее назвали проституткой!
– Да-да, учительница совсем молодая, она просто неправильно выбрала слова, мы с ней поговорим, накажем ее своими силами. К сожалению, мы не всегда бываем тактичны с нашими детьми… Зачем вам огласка? Для вашей дочери еще одна травма… Учительница очень молодая, она просто испугалась за девочку. Мы же с вами интеллигентные люди… – ласково напевала Дина, содрогаясь при мысли, что эта разряженная дамочка, потащившая своего ребенка к врачу, чтобы обзавестись справками, может называться интеллигентным человеком, таким же, как она, Дина, – дипломированный педагог с большим стажем.
Еще через пару минут растаявшая мамаша нерешительно произнесла:
– А с Ленкой моей что делать? Она не хочет в школу идти.
– Я сама с ней поговорю, возвращайтесь спокойно домой. Приятно было поговорить с такой милой дамой…
Выпроваживая дамочку из директорского кабинета, на пороге Дина неожиданно для себя спросила:
– А вам не жалко было дочь к гинекологу вести?..
– Муж сказал: чтобы жаловаться в роно, нужно справки собрать.
– А, да-да, конечно…
Самолюбивая дурочка Козакова, всхлипывая, смотрела на Дину честными глазами.
– Вы понимаете, что самое обидное, Дина Наумовна, я вообще никогда не целовалась, это первый раз, я думала, это такое счастье, что я навсегда запомню… А она меня проституткой… – Лена опять начала рыдать.
Чужую девочку было очень жаль. Дина долго гладила ее по голове, приговаривая:
– Поплачь, поплачь, все в жизни бывает, не все получается, как нам хочется, разные люди встречаются, могут оскорбить, обидеть. Ты и сама не права – зачем целоваться в школе… И на маму не обижайся, все у тебя будет хорошо, впереди так много хорошего, будет еще много счастья, вот увидишь…
Девочка подняла залитое слезами лицо:
– Вы самая лучшая на свете учительница, Дина Наумовна, мы так все считаем, правда, спасибо вам!..
Уставшая от излитых на нее сегодня эмоций, заранее недовольная, очень похожая в этот момент на Наума, Дина вошла в дом с недовольным выражением лица и придирчиво осмотрела Аню.
– Ну, как дела в школе? – строго спросила она, не позволяя себе расслабиться и улыбнуться.