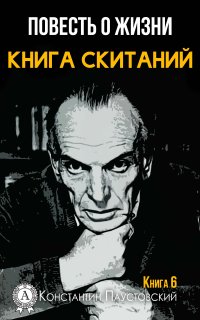
Читать онлайн Книга скитаний бесплатно
- Все книги автора: Константин Паустовский
Воспоминанье слишком давит плечи,
Я о земном заплачу и в раю…[1]
Марина Цветаева
Последняя встреча
Я очень долго добирался от Тифлиса до Киева.
В Киев поезд пришел к вечеру. Был широкий разгар весны, цвели каштаны, на куполах Владимирского собора горел горячий блеск заката, нарядно шумел Крещатик. И тем беднее и опустошеннее показалась мне комнатка, где жили мама и сестра Галя.
Прошло больше двух лет с тех пор, как я уехал из Киева в Одессу, а потом в Тифлис. За это время мама и Галя постарели, но стали спокойнее.
При каждой возможности я посылал маме деньги и все время мучился, что денег мало и доходят они с перерывами. Но мама не жаловалась. Я убедился, что характер у нее действительно был стоический.
– Костик, – сказала она после первых слез и первых беспорядочных расспросов, – мы с Галей нашли прекрасный способ жить без больших затрат и огорчений.
– Какой же это способ?
– Посмотри на комнату – и ты поймешь.
Я осмотрел комнату. Стены ее были желтые, как в больнице, обстановка нищенская – две жидкие железные кровати, старый шкаф, кухонный стол, три расшатанных стула и висячее зеркало. Все это было покрыто серым налетом, будто от пыли. Но никакой пыли не было. Серый цвет вещам придавали старость и беспрерывное вытирание их тряпками.
– Знаешь, – сказала Галя и болезненно улыбнулась в сторону окна, откуда падал солнечный свет. – Знаешь, мы даже сделали с мамой ремонт.
Я еще не успел спросить маму наедине, как у Гали со зрением, но понял, следя за ней, что она уже настоящая слепая, совсем слепая. Мама показала мне глазами на Галю, торопливо вытащила из рукава старой вязаной кофточки маленький платок и прижала к глазам.
– Мама, – спросила испуганно Галя. – Ты что? Плачешь?
– От радости, – ответила мама срывающимся голосом. – Костик приехал, и мы опять все вместе. Мы с тобой опять не одни.
– Костик приехал, – медленно повторила Галя. – Приехал! Мой брат, – неуверенно добавила она, как будто представляя меня кому-то. – Да, мой брат!
Она помолчала.
– Костик, ты знаешь, мы долго спорили с мамой, в какой цвет выкрасить стены. И покрасили в оранжевый. Правда, красиво?
– Очень красиво, – ответил я, глядя на стены, покрытые дешевой желтой краской. – Очень.
– Мама говорит, что даже в пасмурный день к нам в комнату как будто светит солнце. Правда?
– Правда, – ответил я – Очень яркий и радостный цвет у этих стен. Где вы только нашли такую хорошую краску?
– Я уже ничего не вижу, – сказала Галя и опять улыбнулась не мне, а куда-то в сторону, – но я чувствую, как от стен просто тянет теплом.
Она медленно пошла ко мне, придерживаясь за грубый кухонный стол. Я поднялся ей навстречу. Она дотронулась до моих пальцев, провела кистью по моей руке к плечу и коснулась щеки.
– Ой, какой ты небритый! – сказала она и засмеялась. – Я наколола пальцы. Я уже не делаю цветов из материи. Не вижу. Теперь наша соседка-вязальщица дает мне сматывать гарусные нитки в большие клубки. Она мне платит по два рубля за каждый клубок.
– Когда Галя наматывает гарус, – сказала мама, – я ей читаю. Теперь ты понял, Костик, как мы живем?
– Да, я понял, – ответил я, стараясь не выдать своего волнения. – Я все понял.
– Мы, – сказала мама, – продали все лишнее, все ненужные вещи.
– На Житном базаре, – добавила Галя. – Зачем нам, например, самовар. Или старые бархатные альбомы с фамильными фотографиями. У нас их было четыре. Они лежали много лет на хранении у пани Козловской.
Пани Козловская была ветхая и тихая старушка – давнишняя приятельница мамы.
– Все карточки я оставила, – заметила, как бы оправдываясь, мама.
– Маме повезло. Она и не думала, что кто-нибудь купит теперь эти альбомы.
– И кто купил, представь себе, – вмешалась мама. Она оживилась и даже засмеялась. – Какой-то монах из Братского монастыря. Он взял все четыре альбома. Ему они были нужны. Вот догадайся, Костик, зачем?
Я, конечно, не мог догадаться.
– Бархатные переплеты очень тяжелые, – объяснила мама. – Из них получились хорошие, прямо роскошные покрышки для Библии. Монах их распродал по сельским церквам, а мы избавились от хлама. Так спокойнее жить. Я всю жизнь говорила, что вещи берут у нас все силы и мучают нас. Они заставляют нас работать на себя, как поденщиц. В общем, – сказала мама, как будто прекращая затянувшийся спор, – так легче жить. Мы свели свои потребности к самому малому.
Мама сказала это с легким оттенком гордости.
– А что со старухой? – спросил я Галю. – Той, что покупала у тебя цветы для Байкова кладбища?
– Умерла эта старуха. Я сделала на ее могилу венок из одних только ромашек.
– Замечательный венок, – вздохнула мама. – Последний. Я сейчас разогрею обед, а потом ты нам все расскажешь про себя. Хорошо? Посидите пока в комнате у Амалии. Или на балконе, на воздухе.
Я взял Галю под руку и повел ее через комнату Амалии на балкон. Амалии не было дома. Галя шла по полу, как будто переходила мелкую реку, нащупывая ногой дно.
Мы сели с ней на балконе. Он выходил в сторону Ботанического сада. Изредка по Бибиковскому бульвару проползал, повизгивая, трамвай. На площади Владимирского собора меж больших булыжников уже выросла высокая трава.
Приближался вечер. Закатный свет, отраженный множеством оконных стекол, наполнял улицу.
– Костик, – спросила Галя, – ты правда напечатал несколько своих рассказов?
– Откуда ты знаешь?
– К нам как-то зашла Гильда, сестра Эммы Шмуклера. Ты ее помнишь?
– Как же! Такая длинная, нескладная.
– Ну, сейчас она, говорят, красавица. Не узнаешь. Так вот она и рассказала об этом. Что же ты нам их не прислал?
– Я привез их с собой.
– Так слушай, – таинственно сказала Галя, – ты положи их на мамину постель, на подушку, а сам ничего ей не говори. Ты знаешь, теперь это ее единственная мечта, чтобы ты стал настоящим писателем. Недавно мама сказала про тебя, что если ты сделаешь хоть немного хорошего для людей, то этим искупишь – так она и сказала: «искупишь» – все ошибки отца. Скажи, пожалуйста, – то, что ты пишешь, может помочь людям, чтобы они меньше страдали? Как ты думаешь?
Хлопнула парадная дверь.
– Спрячься, – быстро сказала Галя. – Это Амалия. Вот она удивится!
Я спрятался за кадку с большим олеандром. Амалия вошла, остановилась перед трюмо, подняла руки и устало поправила свои все еще красивые волосы.
– Я сижу у вас, – сказала Галя, – потому что мама жарит котлеты. И у нас чад.
Амалия усмехнулась и спросила:
– А где же он?
– Кто? – испуганно спросила Галя.
– Где он? – повторила Амалия. – Костик. В передней висит его плащ.
Тут она увидела меня, схватила за руку, вытащила на середину комнаты, обняла за шею и поцеловала несколько раз крепко и звонко, как целуют крестьянки.
Я сделал так, как мне посоветовала Галя, – положил вечером на мамину подушку три моих рассказа, вырезанных из газет, где они были напечатаны. Мама в это время возилась на кухне.
Я, конечно, струсил и тайком ушел в город. Бродя по улицам, я все время гадал – прочла ли мама рассказы или еще нет. Наконец я не выдержал и вернулся домой.
Дверь открыла мне мама. Она взяла в ладони мою голову и крепко поцеловала в лоб. Глаза у нее были заплаканы.
– Если бы ты знал, – сказала она, – какие вещи я сейчас прочитала! Спасибо тебе, Костик. От всех нас – и от отца, и от братьев, и от нашей несчастной Гали.
Мама не могла говорить. Она села на табурет в передней.
– Дай мне воды, – попросила она.
Я принес из кухни кружку воды и дал ей напиться.
– И это мой сын, – сказала она почти шепотом и погладила мои руки. – Мой Костик!
– Ну что ты, мама! – сказал я, пытаясь ее успокоить. – Я останусь здесь, с вами.
– Не надо! – твердо ответила мама. – Иди своей дорогой. Только смотри – не забывай нас.
Внезапно она сжалась в комок и зарыдала. Я обнял ее и прижал к себе.
– Если бы был жив отец, – сказала она, глотая слезы. – Если бы он был жив! Как бы он был счастлив. Он был чудный человек, Костик. Самый чудный человек на свете. Я ему все простила. И ты его прости. У тебя была тяжелая молодость. Теперь мне и умереть не страшно. Но обещай, что, если я умру, ты возьмешь к себе Галю.
Я обещал ей это, но все случилось совсем не так, как ожидала мама. Она не увидела даже моей первой книги. Жизнь распорядилась с ней и с Галей круто и несправедливо.
Как-то летом я уехал в Поти, в Колхиду, готовился писать книгу о субтропиках. В Поти я заболел каким-то «синим» сыпным тифом, долго лежал в больнице, долго боролся со смертью, а в это время мама умерла в Киеве от воспаления легких. Через неделю умерла Галя. Без мамы она не могла прожить даже нескольких дней. Отчего она умерла, никто не знал, и выяснить это не удалось.
Амалия похоронила маму и Галю рядом на Байковом кладбище в страшной тесноте сухих заброшенных могил.
С трудом я нашел их могилы, заросшие желтой крапивой, – две могилы, слившиеся в один холм, с покоробленной жестяной дощечкой и надписью на ней: «Мария Григорьевна и Галина Георгиевна Паустовские. Да покоятся с миром!»
Я не сразу разобрал эту надпись, смытую дождями. Из трещины в дощечке тянулся бледный, почти прозрачный стебелек травы. И странно и горько было думать, что это – всё! Что этот стебелек – единственное украшение их тяжкой жизни, что он – как болезненная улыбка Гали, как маленькая слеза из слепых ее глаз, застрявшая на ресницах, – такая маленькая, что никто и никогда ее не увидит.
Я остался один. Все умерли. Мать, давшая мне жизнь – не напрасную и не случайную, – лежала здесь, под глинистой киевской землей, в углу кладбища, рядом с полотном железной дороги. Сидя у могилы, я чувствовал, как содрогалась земля, когда проносились тяжелые поезда. Должно быть, и там, в могиле, мама тревожилась обо мне, как тревожилась в жизни. Она часто смотрела мне в глаза и спрашивала:
– Ты ничего от меня не скрываешь, Костик? Смотри, не скрывай. Ты же знаешь, что я готова пойти на край света, чтобы тебе помочь.
Полевая тишина
Тогда, в августе 1923 года, я вернулся из Киева в Москву.
Денег у меня оставалось на месяц полуголодной жизни. Надо было искать работу в московских газетах. Но вместо этого я, измученный недавней закавказской жарой, мечтал о сырых рощах и прохладных реках Средней России, мечтал непременно съездить, хотя бы ненадолго, в какую-нибудь деревенскую глушь. Кроме того, я хотел, начиная новую полосу жизни, попрощаться – и теперь уже навсегда – со старой деревней. Я знал ее воочию, а не только по рассказам Чехова и Бунина.
Попрощаться мне помог случай. В Москве я на время поселился в Гранатном переулке у прежней своей хозяйки, в комнате жильца, уехавшего в командировку.
В квартире все еще жила моя соседка по семнадцатому году – веснушчатая курсистка Липочка. Она никак не могла окончить медицинский институт.
К Липочке, как и пять лет назад, приезжали из рязанской деревни земляки, привозили мед и яблоки, а увозили все, что Бог дал раздобыть в Москве, – даже паклю и пачки старых газет на раскурку.
Отец Липочки был сельским священником под Рязанью. Это обстоятельство Липочка тщательно скрывала, но я случайно узнал правду об этом еще в семнадцатом году. При мне Липочка насмешливо называла отца «мой попик».
К нему, по совету Липочки, я и поехал пожить две-три недели.
Ока разделяет Рязанскую область на две обособленные части: северную – лесистую и болотистую – и южную – полевую и овражную. Село Екимовка, где жил отец Липочки, лежало в южной части, среди бесконечных полей.
Я был огорчен, что еду в безлесные места. Но как только я вышел из теплушки на полустанке Стенькино за Рязанью, то тут же забыл о своем огорчении.
В лицо мне подуло теплым воздухом ржи. Полевая тишина, не задетая ни единым звуком, кроме отдаленного гудка уходящего поезда, подошла вплотную.
Я немного постоял под старыми вязами на платформе и услышал давно позабытый запах дегтя от тележных колес. К одному из вязов была привязана телега. Серый мерин дремал, подрагивая сухой кожей.
Телегу выслал за мной отец Липочки. Возница – мальчишка лет двенадцати по имени Влас – конопатый и хмурый, – всю дорогу старательно хлестал мерина по впалым бокам. На мои вопросы Влас отвечал только одно: «Откуль я знаю».
Мы долго ехали молча. Потом Влас собрался наконец с духом и сказал:
– Батюшка наш, отец Петр, вдовый. Старенький и глуховатый. А мерина этого ему ссудил председатель. Из комитета бедноты.
Вскоре над шелестящим морем ржи возникли белая колокольня и зеленый купол церкви. Крест на куполе покосился и был готов вот-вот свалиться. На нем сидели, толкаясь и склочничая, воробьи.
Дом отца Петра стоял за селом, вблизи церкви. Он так зарос бузиной и одичалой сиренью, что виднелось только крылечко.
Отец Петр вышел в старом чесучовом подряснике. Низенький, с тощими косицами седых волос на затылке, он заглядывал мне в лицо водянистыми глазами и говорил, шепелявя:
– Спасибо, не побрезговали навестить старика. Житьишко у нас скудное. Но, как говорится, «буду есть мякину, а Екимовки не кину». Отдыхайте. Воздух у нас богатый.
И я поселился в доме, где весь день копошился глуховатый старик.
– Уж и не знаю, – говорил он тоном заговорщика, – почему не тронули меня, раба божьего? Или снизошли к престарелости моей? Или оттого, что приход этот – нищенский, бездоходный? Самый никудышный приход в Рязанской епархии. Только садом да картохой я и живу. Яблони – все перестарки. Плод имеют махонький, червивый. И цена этим яблочкам – две копейки за меру. Липочка вот помогает, а то давно бы меня сволокли на погост.
В доме было сумрачно, прохладно. Дряхлая чистота поселилась здесь, видимо, давно. Некрашеные выскобленные полы казались седыми.
Пахло лампадным маслом. За киоты были заткнуты пучки сухого зверобоя. Книг не было, кроме Часослова[2] и зачитанного романа Засодимского[3] «Хроника села Смурина». Чернила в баночке заросли белой плесенью.
Главным обитателем дома, как и окрестных полей, была оцепенелая тишина. Изредка ее нарушало уверенное гудение шмеля. Он облетал комнаты, как владелец. Насердившись и наворчавшись, он с облегчением вылетал в распахнутое окно, в зной и лазурь уснувших полей.
Шмель улетал, и снова возвращалось безмолвие. Отец Петр тихонько прокашливался и запевал дрожащим тенорком: «Объяли мя муки смертные, и потоки беззакония устрашили мя», но тотчас спохватывался и замолкал, боясь меня обеспокоить. И снова тишина. Только ветер иногда прошумит по саду и подымет на окошках ситцевые занавески.
Я отдыхал в этой скудной обители. Мысли подолгу задерживались на всем, что происходило вокруг. Я испытывал непрерывную радость от близости к земле, к России. Тогда я полностью почувствовал, что она действительно моя. Великие судьбы и потрясения ждали ее. Это было ясно всем, даже недалекому отцу Петру. Я же твердо знал, что прелесть ее полей, ее далей, ее небес всегда останется удивительной и неизменной.
Около дома раскинулся сад, разросшийся по своему усмотрению и потому особенно живописный. Огромные лопухи, похожие на слоновые уши, росли рядом с крапивой в человеческий рост.
Днем сад вяло опускал листья. Август стоял жаркий. Я радовался самой малой тени от облаков, величаво проносивших в вышине свои белоснежные громады. Но все же жара была мягкая, совсем не такая изнурительная и зловещая, как в Закавказье.
Зато каким роскошным, тенистым, зачарованным и полным дыхания бурьяна становился сад к вечеру! Какие свежие воздушные волны заполняли его к ночи и оставались в нем до утра!
Туманно светил в конце сада закат. Протяжно пел, замирая за речкой Павловкой, пастуший рожок.
Отец Петр зажигал в зальце кухонную лампочку, и день сменялся успокоительной ночью.
Пожалуй, лучше всего в Екимовке были вечера – как бы нарочно созданные, чтобы показать певучесть женских и детских голосов, скликавших телят и гусей.
Каждый вечер соседская девушка Луша пригоняла на двор к отцу Петру бычка с влажными каштановыми глазами. Луша, шепотом здоровалась и, боясь расспросов, убегала. Но все же я каждый раз замечал ее вспыхнувшее тяжелым румянцем лицо. Замечал мгновенный, как зарница, любопытный взгляд из-под пыльных ресниц.
Когда Луша убегала, отец Петр говорил:
– Крестница моя. Возросла в этой пустыне, как Марья-царевна.
Однажды к отцу Петру, очевидно узнав о моем появлении, приехал лукавый отец благочинный.
Он был оранжево-рыжий, носатый, говорил сиплым фальцетом, и ряса у него была разодрана на животе и заду.
Он тут же сообщил, что устроил лаз в заборе своего сада, дабы внезапно прокрадываться с тылу и ловить мальчишек – «яблококрадов». Но лаз оказался узковат, и, торопясь пролезать в него, отец благочинный изодрал одеяние.
Отец Петр при виде благочинного онемел. Он только беспрерывно кивал, соглашаясь со всем, что говорил благочинный. А тот объяснял, что нужна большая политичность, чтобы оградить пастырей от всяческих бед и находиться в хорошем расположении с властями.
Потом отец Петр сходил куда-то неподалеку и принес бутылку мутного самогона. Он вонял керосином и гнилым хреном. Но отец благочинный выпил под вареную картошку два граненых стакана этой жидкости, тотчас захмелел и начал нести околесицу.
– После Господа нашего Иисуса Христа и блаженных святителей церкви, – заговорил он, рыгая, – пуще всего уважаю большевиков. Люблю решительных мужчин. Поскольку сам прославлен на всю епархию отвагой. У меня разговор простой. Согрешит чего-нибудь вот такой попик гугнивый, я его – хвать за загривок и так единожды тряхану, что мозги у него разболтаются в окрошку. Тогда тряхану вторично – и мозги станут на место! Других мер не применяю. Из сострадания.
Отец Петр поежился. Косицы его тряслись на затылке.
– Вот, скажем, сей глуховатый иерей отец Петр! Что с него взять? Соленый огурец да облезлую камилавку?
Отец Петр хихикнул.
– Я безгрешен, – сказал он с опаской. – Мне намедни восьмой десяток пошел.
– Грехов на тебе, понятно, нету по дряхлости тела и убогости разума.
– Напрасно вы так говорите, – заметил я благочинному, – отец Петр – добрый человек. Зачем его обижать.
– А он не обижается, – благочинный повернулся к отцу Петру. – Вот видите, кивает. Смирение пастырское предписывает ему сносить безропотно и глад и поношение. А вы, молодой человек, за пастырей заступались бы не здесь, в Екимовке, а там, в Москве, в Кремлевских палатах, где новые кесари пекутся о благе народа. Все хорошо у большевиков, все одобряю, кроме запрета держать лошадей и устраивать конские ярмарки. Я на коней был первый мастак от Рязани до Липецка. Ни одной ярмарки без меня не обошлось. Как взойду на ярмарку, так всех цыган-барышников будто корова слизнула. Крепко я им холки накручивал! А вы говорите – большевики!
Отец благочинный внезапно замолк, опустил голову на грудь и страшно захрапел. Так прошло несколько минут.
– Срам! – сказал мне шепотом отец Петр. – Заметут его большевики! Ой, заметут!
– Не заметут! – неожиданно и совершенно спокойно ответил отец благочинный, открыл глаза и оглушительно чихнул. – Не радуйся, отче Петр! – Он чихнул второй раз. – Как бы тебя самого не замели из Екимовки.
Благочинный чихнул в третий раз, потом – в четвертый и вскоре зальца начала дребезжать и позванивать от его богатырского чиха.
Наконец благочинный отчихался, вытащил из кармана обширный красный платок, обстоятельно вытер лицо и сказал совсем ясным голосом:
– У меня хмель выходит чихом. В каком бы опьянении я ни находился, а на двадцатом чихе я тверезый. Как стеклышко! Такая особенность!
Он встал, попрощался и напоследок сказал отцу Петру:
– Сиди! Никто тебя не тронет. Ни Советская власть, ни церковная. Христос, истинный Бог наш, и Пречистая его Матерь услышат твои вопли и завывания, отче Петр.
Благочинный уехал, а отец Петр взял большие ключи от церкви и поплелся служить молебен, очевидно, по случаю избавления от благочинного.
Я пошел вслед за ним посмотреть церковь. Я в ней еще не был. Она делилась на зимнюю и летнюю. Зимняя была внизу. В сильные морозы ее протапливали. Летняя помещалась вверху, на втором этаже. Она была светлая, залитая сейчас солнцем. В его лучах розовела водянистая церковная роспись.
Отец Петр надел епитрахиль и начал служить. По глухоте своей, он себя не слышал и потому то выкрикивал молитвы во весь голос, то бормотал их едва слышно, почти засыпая.
Я распахнул рассохшееся запыленное окно, сел на подоконник – и передо мной как бы промыли небо яркой водой. Облака тесно толпились от одного до другого края земли. Они плыли по выпуклому поднебесью, подергиваясь сизой тенью.
Отец Петр служил долго. Облака за это время начали громоздиться башнями, подножия их стали темнеть. Потом бледная вспышка огня озарила их до самой глубины. Над полями пролетел, наклонив к земле рожь, короткий ветер.
Но гроза не пришла. Должно быть, август уже потерял грозовую силу. Гроза уже не могла раскатываться по полям, неся столбы пыли, зловеще блистая, припечатывая дороги крупными вескими каплями.
На паперти отца Петра ждал костистый крестьянин Никифор – отец Луши.
– За Лушу сватается жених самостоятельный, – сказал он, не глядя на отца Петра. – Благословите сыграть свадьбу, батюшка.
– А кто таков? – спросил отец Петр. Он устал, и руки у него, когда он снимал епитрахиль, сильно тряслись.
– Портной из Сторожилова.
– Молод.
– Да так… годов пятьдесят, не боле.
– Человек-то хороший?
– А шут его знает. Обыкновенный. Закладывает маленько. А вот лицом вроде не вышел. Рябой. Да не квас же Лукерье пить с его ряшки. Правда, вдовец. Двое ребят на шее.
– Полюбовно выходит?
– Да Господи! – вскричал Никифор. – Мне-то, сам понимаешь, жалко ее портить. Одно соображение, – при заработке он. Государственный портной. Моя старуха прямо Лукерью зубами грызет: выходи да выходи. Она у меня знаешь какая, старуха. Зрак у нее завидный на все.
– Да уж знаю, – вяло согласился отец Петр. – Дело ваше, родительское.
Мы спустились с паперти. Отец Петр брел, опираясь на посошок.
Снова вдали в темном облаке мигнул бледный свет.
– Как вы думаете, – спросил я отца Петра, – Луша любит его или нет?
– Какое там – любит! – с сердцем ответил отец Петр. – Да все равно, пора выходить. Дело крестьянское.
Отец Петр помолчал и заговорил, что скоро начнут убирать хлеб. Из Рязани, сказывают, придут новые советские косилки. Они весь клин до самого Стенькина уберут, сказывают, за один день. Какие только чудеса дает Бог увидеть на свете!
В Екимовке работали почти одни женщины. Мужчины уходили на заработки в соседние города – Михайлов, Рязань, Пронск, Коломну, в самую Москву. Они приезжали в Екимовку только в пору горячих полевых работ. Кое-кто привозил семьям гостинцы. После побывки мужей женщины ходили в новых баретках, а ребята с утра до вечера дудели в свистульки и верещали трещотками.
Работа для женщин была непосильной. После революции наделы выросли, помещичьи и монастырские земли отошли к крестьянам, и управиться со всей этой землей было трудно. Машин в то время почти не водилось. Хлеб и сено убирали вручную.
Всей сельской жизнью управлял комитет бедноты. Ему беспрекословно подчинялись. Но все же полагалось ругаться с председателем комитета, бывшим солдатом по прозвищу «Один момент». Для него не существовало трудностей, и любое дело он решал быстро, приговаривая: «Это мы – мигом! Один момент!»
Прощание мое с деревней затянулось. Я медлил возвращаться в Москву, боясь неизвестности.
Но все же надо было в конце концов уезжать.
До Рязани ехала со мной Луша, – мать послала ее в город купить марли на подвенечную фату.
До полустанка Стенькино мы шли с Лушей полями и всю дорогу молчали. Поверх линялого ситцевого сарафана Луша надела тесную черную жакетку, русые косы подвязала белой косынкой и шла, почти не подымая глаз от смущения.
По небу однообразно тянулись синеватые холодные тучи. Луша задевала подолом подсохшие по осени травы. Только цикорий и дикая рябинка – желтая, как горчица, – еще не увядали и безмятежно и ярко дожидались ненастья.
Я старался запомнить все: каждый сжатый колос, блестевший слюдой на стерне, каждый короткий взгляд Луши – вопросительный и несмелый. Мне казалось, что она хочет спросить меня о чем-то, но не решается. И я, признаться, был рад, что она ни о чем меня не спрашивает.
О чем она могла спросить? Выходить ли ей замуж? Я бы начал ее отговаривать и наговорил бы, наверное, много такого, чего бы она не поняла. А если бы и поняла, то испугалась.
В этой простой девушке с шершавыми маленькими руками, в ее стремительной улыбке, в наклоне ее лица – покорном и нежном – было столько неясного обещания любви для кого-то еще неизвестного, но совсем не для того, за кого ее выдавали, что идти с ней рядом было и грустно и радостно. Всю дорогу мне почему-то хотелось заботиться о Луше, прикрывать ее от резкого ветра, дувшего в спину. Чем дальше мы шли, тем она все чаще поправляла под косынкой светлый локон.
В теплушке мы сели на дощатые нары. Знакомые поля нехотя поползли мимо. Вагоны погромыхивали на стыках.
Мальчишка в новом картузе пронзительно свистел на губной гармонике.
Я занозил ладонь о неструганую доску нар. Луша испугалась. Она осторожно вытащила занозу и совершенно по-детски зализала ранку языком.
Расстались мы в Рязани на товарной станции. Все пути были засыпаны шелухой от подсолнухов. Ходили, матерясь, замасленные кочегары. В липах у переезда орали галки.
Я пожал маленькую твердую руку, и Луша ушла не оглянувшись. Но, уходя, она все время, как и в полях, нервно поправляла косынку на растрепавшихся косах.
Я хотел окликнуть ее, но не окликнул. Потом я долго ждал поезда на Москву и курил дешевые пересохшие папиросы.
Много лет спустя я еще раз увидел Лушу, – ее лицо и всю ее, похожую на стройную ветку. Это было страшно далеко от Рязани, в Северной Италии, в цветущей долине Аосты, замкнутой снеговыми вершинами Альп.
Луша стояла на высоком каменном постаменте у перекрестка дорог, чуть склонившись и глядя с улыбкой на цветы, которые положил кто-то к ее ногам.
Неизвестный скульптор, вырезавший эту Мадонну из дерева, чуть прокрасил алой краской ее щеки. У Мадонны был тот же застенчивый румянец, какой я часто видел у Луши.
Ветер с гор дул ей в глаза, колыхал платье. У нее не было на руках младенца. Она была еще непорочна. И эта прелесть непорочности делала итальянскую Мадонну подругой крестьянской девушки Луши из села Екимовка Рязанской области.
«Четвертая полоса»
После возвращения из Екимовки я долго бродил по разным московским редакциям в поисках работы.
Однажды я встретил в редакции «Гудка» Виктора Шкловского. Он остановился передо мной и сердито сказал:
– Если хотите писать, то привяжите себя ремнями к письменному столу. Старших надо слушаться!
– У меня нет письменного стола.
– Тогда к кухонному! – крикнул он и исчез в соседней комнате.
Слова о ремнях Шкловский сказал просто так, наугад. Мы с ним не были еще знакомы.
В комнате, где исчез Шкловский, сидели за длинными редакционными столами самые веселые и едкие люди в тогдашней Москве – сотрудники «Гудка» Ильф, Олеша[4], Михаил Булгаков и Гехт[5]. Склонившись над столами и посмеиваясь, они быстро писали на узких полосках газетной бумаги.
Редакционная эта комната называлась странно: «Четвертая полоса». В простенке висела ядовитая стенная газета «Вопли и сопли».
В этой комнате готовили последнюю, четвертую полосу (страницу) газеты «Гудок». На этой полосе печатались письма читателей, но в таком виде, что ни один читатель, конечно, не узнал бы своего письма.
Сотрудники «Четвертой полосы» делали из каждого письма короткий и талантливый рассказ, – то насмешливый, то невероятно смешной, то гневный, а в редких случаях даже трогательный. Неподготовленных людей ошеломляли самые заголовки этих рассказов: «Шайкой по черепу», «И осел ушами шевелит», «Станция Мерв – портит нерв».
Сам редактор «Гудка» без особой нужды не заходил в эту комнату. Только очень находчивый человек мог безнаказанно появляться в этом гнезде иронии и выдерживать перекрестный огонь из-за столов.
В то время никто еще не подозревал, что в этой комнате собралась «могучая когорта» (так они себя шутливо называли) молодых писателей, которые вскоре завоюют широкую известность.
В эту комнату иногда заходил «на огонек» Бабель. За ним учтиво входил Василий Регинин. В то время он редактировал новый журнал «Тридцать дней». Стоя на пороге и как бы боясь войти, Регинин начинал быстро рассказывать последние анекдоты. Часто шквалом врывался Шкловский и с жестоким напором прославлял Стерна и Велемира Хлебникова.
Далеко не каждого принимали в этой комнате приветливо. Халтурщиков встречали зловещим молчанием, а бахвалов и крикунов – ледяным сарказмом.
Мирились только с одним старым и хрипучим халтурщиком-репортером по прозвищу Капитан Чугунная Нога. У него действительно была искусственная железная ступня. Однажды он наступил на ногу кроткому писателю Ефиму Зозуле, и тот около месяца пролежал в больнице. Поэтому, когда капитан входил, все тотчас поджимала ноги под стулья.
Я попал в эту страшную комнату вскоре после приезда из Екимовки. Меня встретили спокойно, должно быть, потому, что я водил дружбу с Бабелем. Для сотрудников «Четвертой полосы» он был бесспорным авторитетом.
– Творятся неслыханные дела! – говорили они. – Из Одессы прибыл выдающий писатель Пересыпи и беззаветный красный конник Исаак Ги де Бабель Мопассан!
Под этой насмешкой скрывалась любовь к Бабелю и даже гордость им. Считалось, что он один знал на ощупь вес каждого слова.
Когда Бабель входил, он долго и тщательно протирал очки, осыпаемый градом острот, потом невозмутимо спрашивал:
– Ну что? Поговорим за веселое? Или как?
И начинался неистощимый разговор, который сотрудники «Гудка» прозвали «Декамероном». Это было похоже на волшебную нитку в сказке (может быть, такой сказки нет и такой нитки тоже нет, но это не имеет значения). Нитку эту надо было отыскать в огромной куче других разноцветных свалявшихся ниток, потянуть за нее – и она начинала вытягивать за собой то красные, то серебряные, то синие и желтые нитки, а потом и запутавшиеся в нитках сосновые шишки, позеленевшие патроны, ленты, орехи и всяческие как будто ненужные, но интересные вещи.
Такая невидимая и несуществующая золотая нитка как бы лежала в ящике стола у кого-нибудь из сотрудников – у Ильфа или Олеши. Лежала до тех пор, пока в комнате не появлялся интересный собеседник. Тогда ее вытаскивали из ящика, и она как бы тянула за собой неистощимую вереницу рассказов.
Досадно, что в то время никто не догадался записывать их, хотя бы коротко. То был шипучий фольклор тех лет.
Я знал мастеров устного рассказа – Олешу, Довженко, Бабеля, Булгакова, Ильфа, польского писателя Ярослава Ивашкевича, Федина, Фраермана, Казакевича, Ардова. Все они щедрые, даже расточительные люди. Их не огорчало то обстоятельство, что блеск и остроумие их импровизаций исчезает почти бесследно. Они были слишком богаты, чтобы жалеть об этом.
К суткам следовало бы прибавить еще несколько часов, чтобы мы могли записать эти неожиданные устные рассказы. Записать, конечно, сверх того, что мы пишем «от себя».
Самый плодовитый писатель (не считая Бальзака) не может работать свежо и в полную силу больше четырех-пяти часов в сутки. Несправедливо, конечно, что писателю не дана возможность продлевать свою жизнь до того времени, когда он напишет все, что задумал. Обыкновенно писатели успевают написать небольшую часть того, что могли бы.
Извините, я, как всегда, отвлекся.
Я уже говорил, что после приезда из Екимовки начал заходить в «Четвертую полосу» «Гудка». Там мне давали кое-какую работу.
Там я неожиданно встретил Евгения Иванова, нашего одесского Женьку Иванова, бывшего редактора «Моряка». Он носил все ту же мятую, как у адмирала Нахимова, морскую фуражку. Он расцеловался со мной, рассказал, что редактирует в Москве новую морскую и речную газету. Называется она «На вахте», и редакция ее помещается этажом выше.
Тут же Женька предложил мне работать в этой газете секретарем. Я согласился, хотя и заметил Иванову, что название газеты мне не нравится. Что это за название – «На вахте», «На стреме», «На цинке», «На подхвате»!
Иванов не обиделся. Он принял мои слова за обычное зубоскальство.
* * *
«Гудок» и «На вахте» помещались во Дворце труда на набережной Москвы-реки около Устьинского моста.
До революции во Дворце труда был Воспитательный дом – всероссийский приют для сирот и брошенных детей, основанный известным просветителем Бецким еще при Екатерине Второй.
Московские салопницы без всякой задней мысли называли Воспитательный дом «Вошпитательным». Таково было московское простонародное произношение.
Это был громадный, океанский дом с сотнями комнат, бесчисленными переходами, поворотами и коридорами, сквозными чугунными лестницами, закоулками, подвалами, наводившими страх, парадными залами, домовой церковью и парикмахерской.
Чтобы обойти все это здание по коридорам, нужно было потратить почти час. Население Дворца труда пользовалось коридорами как дорожками для прогулок.
Во Дворце труда мирно жили десятки всяких профессиональных газет и журналов, сейчас уже совершенно забытых.
Некоторые проворные молодые поэты обегали за день все этажи и редакции. Не выходя из Дворца труда, они торопливо писали стихи и поэмы, прославлявшие людей всяких профессий – работниц иглы, работников прилавка, пожарных, деревообделочников и служащих копиручета. Тут же они получали в редакциях гонорары и пропивали их в столовой на первом этаже. Там продавала пиво.
В столовой под низкими сводами всегда плавал слоистый табачный дым. Мы курили тогда дешевые папиросы «Червонец», – тонкие, как гвозди. Они были набиты по-разному – или так туго, что нужно было всасывать в себя воздух со страшной силой, почти до головокружения, чтобы добыть самую ничтожную порцию дыма, или, наоборот, так слабо, что при первой же затяжке папироса складывалась с противным щелканьем, как перочинный ножик. При этом пересохший табак высыпался в пиво или в тарелку с мутным супом.
На столиках в столовой стояли гортензии – шары водянисто-розовых цветов на голых длинных ножках. Эти цветы напоминали сухопарых немок с пышными бесцветными волосами. Вазоны с гортензиями были обернуты сиреневой папиросной бумагой и утыканы окурками.
Мы любили эту столовую. По нескольку раз в день мы собирались в ней, пили рыжий, остывший кофе и много шумели.
По утрам в столовой было пусто, пахло только что вымытыми полами и паром. Окурки из вазонов были убраны. Шипело старое отопление. За окнами над Замоскворечьем наискось летел снег.





