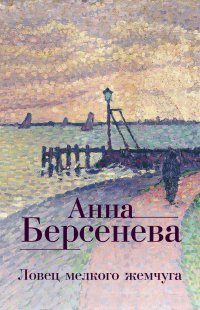Читать онлайн Неравный брак бесплатно
- Все книги автора: Анна Берсенева
Часть первая
Глава 1
– Вена – другая. Вы уже заметили?
– Но ведь это, кажется, написано на гербе? – спросила Ева.
Она поневоле вынырнула из тихого струящегося потока, в который была погружена не меньше получаса. Вернер читал газету, и Ева тоже делала вид, будто просматривает «Новый Венский журнал» на русском языке, отысканный ею среди множества разложенных в кофейне газет и журналов. Но, машинально перелистывая страницы, меньше всего она думала о том, что на них написано. Едва ли вообще можно было назвать мыслями те прозрачные невесомые промельки, которые плыли в ее голове, как апрельские облака над собором Святого Стефана. Плыли, сталкивались, убегали друг от друга, неузнаваемо преображались прежде, чем она успевала их разглядеть…
– Это девиз, – кивнул Вернер. – Не только девиз, но и смысл города, я бы сказал так.
Они говорили по-немецки, поэтому Ева сначала улавливала интонации своего собеседника, а уж потом – смысл его слов. После школы ей почти не приходилось говорить по-немецки – почти двадцать лет, с ума можно сойти! – и она была уверена, что забыла язык навсегда. И вдруг за неполный год, прожитый в Вене, оказалось, что нисколько он не забыт, как вообще не может быть забыто усвоенное в детстве. Не зря Лева так горячо уверял ее в этом, когда уговаривал ехать с ним сюда.
– Я иногда думаю: что же стоит за этим словом? – помедлив несколько секунд и не дождавшись от нее ответа, продолжил Вернер. – Что значит – другая? Есть какая-то неточность определения, не правда ли?
– Да, – наконец кивнула Ева. – Но, по-моему, эта неточность понятнее и точнее длинных объяснений.
– Вы правы. – Вернер улыбнулся, и улыбка тут же изменила его лицо; смягчилась даже твердая линия «габсбургского» подбородка. – Вы очень хорошо понимаете такие вещи.
Ева почувствовала легкую неловкость от его слов, хотя для неловкости не было ни малейшей причины. Он сказал лишь то, что мог бы сказать любой вежливый мужчина. Ощущение неловкости было связано только с его интонацией, которую Ева опять уловила отдельно от смысла сказанного. Но Вернер ничего ведь на этот раз не спросил, отвечать было необязательно, поэтому неловкость прошла прежде, чем стала заметна на ее лице; даже легкая тень не успела пробежать. И все-таки неловкость возникла, и не в первый раз.
– Еще кофе? – спохватился Вернер. – Извините, я не заметил. Я привык часами сидеть с одной чашечкой кофе и читать газеты. У нас ведь это принято, вы знаете, конечно? Итак, вы хотите еще раз меланж и апфельштрудель или теперь другое?
С тех пор как Лева начал работать в расположенном на Рингах университете, Ева часто встречалась с Вернером в Старом городе – чаще всего в этой кофейне у собора Святого Стефана. А теперь, весной, даже не в самой кофейне, а за столиками перед входом, которые здесь называли шанигартеном. Обычно она приходила сюда незадолго до полудня, чтобы дождаться Леву.
Это было время кофе и газет, и Вернер, как истинный венский житель, всегда сидел за одним и тем же столиком. Едва увидев его, пролистывающего какой-нибудь журнал, Ева ощущала неуловимый ветерок его ожидания, и ей казалось, что оно направлено именно на нее. Хотя Вернер ведь живет где-то рядом, и раньше тоже приходил сюда на чашку кофе и газеты, и сам говорил ей об этом.
Вернер быстро изучил Евин вкус: не мороженое и даже не роскошный захер-торт, а кофе-меланж – смесь из нескольких сортов – и яблочный штрудель из венского слоеного теста. Утонченный вкус, так он сказал однажды.
Официант поставил на крошечный, как подставка для цветов, столик две чашки с бело-золотистой пенкой.
– Как смешиваются запахи, – заметила Ева. – Даже не верится, что мы в городе, а не где-нибудь в поместье над Дунаем.
– А! – догадался Вернер. – Пахнет кофе и конским навозом, да?
– Да! – засмеялась Ева. – А я не решалась сказать.
– Я кажусь вам слишком церемонным. – Лицо Вернера снова стало ироничным, каким было в день их знакомства, каким бывало чаще всего. – Напрасно! У нас принят такой стиль поведения. Со стороны, наверное, кажется нарочитым, но мы привыкли с детства и не замечаем. Однако я не думал, что вас это угнетает.
– Меня это нисколько не угнетает, – возразила Ева. – Я тоже привыкла, и даже сразу привыкла здесь. Удивительно, правда? В России ведь совсем наоборот.
– Ничего удивительного, – пожал плечами Вернер. – В России, возможно, и наоборот – даже наверное наоборот, я успел заметить. Но я не стал бы отождествлять вас с огромными массами народа, к которому вы принадлежите. В вас есть что-то очень мне близкое… А фиакр, я думаю, стоит взять. – Он мгновенно сменил тему, наверное, заметив промельк неловкости в Евиных глазах. – Было бы странно жить в Вене и не прокатиться вдоль Рингов в фиакре.
Это было бы не только странно, но и просто невозможно. Старинных экипажей в полукольце бульваров было едва ли не больше, чем автомобилей. Машины подстраивались под их неторопливый ход, а кучеры в традиционной одежде смотрелись на своих высоких сиденьях даже более естественно, чем водители за рулем. И, конечно, Ева с Левой едва ли не в день приезда успели прокатиться по Старому городу в таком неотразимом экипаже.
– Только не сейчас, – покачала головой Ева. – Я думаю, Лева появится с минуты на минуту, у него занятия закончились полчаса назад.
– Откуда вы знаете? – удивился Вернер. – Вы ведь даже не взглянули на часы.
– Я всегда чувствую, который час, – объяснила Ева. – Это у меня с самого детства, какая-то аномалия. Или, наоборот, дарование. Единственное мое дарование.
– Вы действительно так думаете? – усмехнулся Вернер. – Единственное? Что ж, фиакр можно взять не сейчас. Но в таком случае обещайте, пожалуйста, что вскоре окажете мне честь и прокатитесь со мною по Вене в этой сентиментальной колымаге.
– Пожалуйста, – улыбнулась она. – С удовольствием.
– Ловлю вас на слове. В следующую нашу встречу мы договоримся о времени, не правда ли? А вот, кстати, и ваш супруг. Добрый день, господин Горейно!
Обернувшись, Ева тоже увидела мужа. Лев Александрович уже пересек площадь перед собором и, широко улыбаясь, шел к шанигартену.
– Гутен таг, херр де Ферваль! – радостно произнес он, остановившись у столика; Вернер тоже встал. – Чем, помимо прочего, прекрасна Вена – это тем, что в привычном кафе в привычный час непременно встретишь людей, которых и ожидал здесь встретить. Прелесть этой размеренности так велика, что я до сих пор воспринимаю ее как подарок!
Лева не говорил по-немецки, но понимал, по его словам, почти все. А если все-таки не понимал что-нибудь существенное, то бросал быстрый взгляд на жену, и Ева тут же переводила. Вернер, напротив, понимал по-русски, как он говорил, ровно столько, сколько понимает любой европеец, однажды посетивший Москву: «водка – матрешка – на здоровье». Ему Ева при случае переводила слово в слово. Это было для нее совсем не трудно, тем более что Вернер разговаривал с нею не по-венски, а на чистом литературном немецком. Ева даже радовалась, когда приходилось переводить: в такие минуты между нею и Вернером исчезали те странные промельки неловкости, которым она так и не могла найти разумного объяснения.
Из-за явно ощутимой языковой преграды Лева не часто общался с господином де Фервалем, предоставляя жене самой поддерживать это во всех отношениях полезное знакомство.
И сейчас Ева угадывала нетерпение в открытой, радостной улыбке своего мужа. Лева явно хотел поскорее уйти: наверное, устал за время семинара, надоело постоянно быть готовым к непринужденным любезностям.
– А ты, Евочка, чудесно смотришься за этим столиком, очень органично, – тем же непринужденным тоном заметил он. – Венская весна, запах кофе, женщина в белом платье рядом с таким элегантным собеседником… Поэт и муза!
Муза или не муза – тем более что Вернер был не поэтом, а художником, но Ева и сама радовалась и дню этому, и апрельским облакам над собором, и даже своему белому платью. Платье было батистовое, с вышивкой ришелье. Мама особенно любила эту вышивку и с самого детства украшала ею дочкины платья – считала, что Еве, как никому другому, идут эти причудливые воздушные узоры.
– Платье прекрасно, я не преминул сообщить вашей жене свое мнение, – кивнул Вернер. – Ведь это ручная работа, не так ли?
В самом деле, он сказал что-то такое, как только Ева присела рядом с ним за столик. Но его комплименты всегда произносились таким тоном, как будто разумелись сами собою, поэтому Ева считала их обычным проявлением вежливости. К тому же Вернер сам выглядел так безупречно, что она вообще не замечала, во что именно он одет. Казалось, что господин Ферваль и проснулся сегодня вот в этом летнем костюме такого же неуловимо благородного цвета, как пенка на кофе-меланж.
– А что? – Лева явно старался поддержать беседу ровно до той минуты, когда прилично будет раскланяться. – Я всегда считал, что ты просто рождена для того, чтобы быть музой, а не учительницей русского языка! Это, если угодно, твое жизненное предназначение, милая, уж позволь мне судить как поэту и твоему мужу.
– Позволяю, – улыбнулась Ева. – Если ты считаешь меня своей музой – что ж, тебе лучше знать. До свидания, господин Ферваль. Как всегда, рада была вас видеть.
Она сама не понимала, почему в присутствии мужа называет Вернера по фамилии. Они давно уже обращались друг к другу по имени, хотя и оставались на «вы». Еве всегда было проще говорить человеку «вы». Они и с Левой не переходили на «ты» до первой ночи, только в постели она наконец сказала, что теперь это, наверное, звучит странно. Ну, а Вернера с его венским стилем общения, который Лева называл «цирлих-манирлих», взаимное «вы» тоже наверняка не угнетало.
Впрочем, Ева уже шла рядом с мужем через площадь к метро, и обо всех этих тонкостях можно было больше не думать. Тем более что предстоит уик-энд и в следующий раз она увидит Вернера не раньше чем в понедельник.
– Уф-ф, – выдохнул Лева. – Слава Богу! Он, конечно, человек во всех отношениях приятный, да и все они тут приятные, но сил моих больше нет. Пять дней в неделю жить на чужой лад, да еще на австрийский, – этого, Евочка, ни одна душа живая не выдержит. Я удивляюсь, как ты выдерживаешь. Ты, правда, поменьше среди них вертишься, да и вообще…
Что «вообще», Еве было понятно. Конечно, Лева не испытывает ни малейшей потребности плеваться за столом, класть ноги на скатерть или сморкаться на тротуар. Но и излишняя утонченность поведения ему, как всякому русскому мужчине, тоже не присуща. А вот Ева, как он считает, вписалась в этот самый венский стиль так хорошо, как будто была прямой прапраправнучкой императрицы Марии-Терезии.
– А ты еще ехать не хотела! – словно угадав ее мысли, сказал Лева. – Я же говорил, ты себя здесь будешь чувствовать как рыба в воде. Видишь, так оно и вышло.
– Я ведь не потому ехать не хотела, – возразила она. – Совсем не потому…
Вена оказалась для Евы полной неожиданностью. То есть, конечно, не сам город Вена, а то, что муж, с которым она и знакома-то была меньше полугода, через месяц после загса сообщил о предстоящей поездке в Австрию.
– Ты не рада? – спросил он, заметив удивление в ее глазах. – Почему?
– Я просто не ожидала, – помедлив, ответила Ева. – Я как-то не готова к этому, Лева, да еще на целый год…
– В худшем случае на год, а повезет, так и подольше, – уточнил он и добавил, поморщившись: – Ты, милая моя, ни к чему не бываешь готова. Это вообще твой стиль. Хоть в Воркуту тебя зови, хоть в Вену. Извини, – спохватился он. – Извини, Евочка, я не хотел тебя обидеть. Я ведь без тебя жить не могу, ты же знаешь.
Ева совсем не обиделась, потому что Лева говорил чистую правду. И жить он без нее действительно не может, и к любым событиям она действительно не готова, даже на замужество не решалась чуть не до самого дня свадьбы. До последней минуты колебалась, хотя всем, и ей самой в первую очередь, ясно было, что лучшей пары не найти: пятьдесят лет, разведенный, дети взрослые, умный, интеллигентный, любит, надышаться на нее не может… И обеспечен прекрасно, и бытовых проблем никаких – квартира своя, машина. Все, что должен иметь человек, не дурачком проживший жизнь! А ей тридцать три года, а Лева всего лишь второй ее мужчина, а первый ни о какой женитьбе вообще не заговаривал за все шесть лет унылой близости…
– Я просто не ожидала, что работу придется бросить, – извиняющимся тоном объяснила Ева.
– Не вижу ничего страшного, – пожал плечами Лева. – Во-первых, если мы вернемся, тебя с удовольствием возьмут обратно. Учителей не хватает, ты же сама прекрасно знаешь. А во-вторых, Евочка, мне всегда казалось, что для тебя работа… Как бы это поточнее выразиться… Едва ли это было твоей мечтой с детства – работать учительницей! Ведь правда? Как-то ты не вписываешься в облик школьной словесницы. Не обижайся, но их же с двух слов узнаешь по назидательной интонации. Особый женский тип! А ты совсем другая.
И в этом он тоже не ошибался. Ева в самом деле не думала о будущей работе, когда поступала на филфак МГУ. Все получилось как-то само собою. Книжки любила читать, особенно русскую классику, потому и пошла на русское отделение, хотя окончила лучшую немецкую спецшколу, в которой к тому же преподавался и английский. Бабушка Эмилия тогда еще убеждала ее, что с такой подготовкой все идут на романо-германское, потому что перспективы не сравнить. А что после русского, учительницей станешь? Не смеши людей, Ева, какая из тебя учительница, ты на кошку и то не умеешь прикрикнуть!
Надя, наоборот, радовалась тому, что старшая дочь будет учительницей. Учительницей русской литературы была Надина мама, Евина черниговская бабушка Поля, умершая за несколько лет до того, как внучка окончила университет. Ева знала: мама втайне переживает из-за того, что дети не слишком тянутся к черниговской родне, даже на лето съездить – и то с кратовской дачи их не вытащишь. Особенно Юрочку: любимый внук Эмилии Яковлевны, та и не представляет, зачем с ним расставаться хотя бы на месяц. Даже из заграничных командировок всегда звонит, чтобы с ним поговорить, выкраивая деньги из жалких советских суточных.
Одна только Ева, в которой баба Поля души не чаяла, каждый год ездила к ней в Чернигов – в город, где она родилась, где прошли ее первые годы. И хорошо, если она станет учительницей, получится вроде бы в память бабушки! А что характер у нее не слишком подходящий – ну, мало ли…
Но вообще-то бабушка Эмилия была права: вряд ли Ева смогла бы работать в школе. В любой не смогла бы, кроме своей – которую окончила сама, которую любила, в которой директором до сих пор был их любимый вечный Мафусаил и помину не было казарменной грубости ни среди детей, ни среди учителей.
Так что в Левиных словах все было логично, с ним невозможно было не согласиться. И Ева сама не понимала, почему не радует ее такое приятное событие: жизнь с любящим мужем в чудесном городе, о котором она столько читала, в котором мечтает побывать всякий интеллигентный человек.
«Я просто боюсь оставить свой привычный кокон, – подумала она. – Как всегда! Боже мой, хоть бы раз в жизни почувствовать: я должна поступить только так, и никак иначе, я просто не могу поступить иначе… Ведь и мама такая, и Юра, и даже Полинка. Одна я не способна на сильные чувства!»
– Не переживай, милая, – успокаивающим тоном сказал Лева. – Кому рассказать – так ведь не поверят, из-за чего ты расстраиваешься. Ну, годик не придется талдычить каждый день, когда родился Пушкин да как спрягать «брить-стелить». Зато времени свободного у тебя будет предостаточно, хоть весь день стишки читай. Я тебе еще новых накропаю!
Он часто вот так, необидно, подшучивал над Евиной любовью к поэзии. Но свои новые стихи, и даже тексты к эстрадным песенкам, показывал в первую очередь ей и с заметным волнением ожидал, что она скажет.
В Шереметьеве она прощалась с родителями так печально, что даже всегда сдержанная мама не выдержала.
– Перестань, Ева, – сказала Надя. – Не смотри ты так обреченно, не на каторгу отправляешься! Хотя Волконская, по-моему, тоже не от большой любви за мужем поехала, – добавила она. – Так ведь у Некрасова написано?
– Так, – улыбнулась Ева. – Все-то ты помнишь, мам.
– А что мне еще помнить? – улыбнулась в ответ Надя. – Что в школе проходили да жизнь.
Мама родила Еву в семнадцать лет, едва окончив школу. Потом приехала из Чернигова в Москву, потом папа попал под машину, ему отняли ногу, начались бесконечные больницы, операции, протезы… Потом родился Юра, тем более стало не до учебы. А спустя десять лет, когда появилась на свет Полинка, Надя и вовсе уже не тешила себя мечтами о Строгановском училище, в которое хотела поступать в ранней юности. Да и так ли уж сильно хотела? Зная Надин характер, нетрудно было догадаться, что это полудетское желание не было у нее всепоглощающим…
Папа выглядел не веселее дочки; она заметила, что у него даже руки дрожат от волнения. Валентин Юрьевич вообще относился к Еве с особой трепетностью. Ненаглядная его Надя родила старшую дочь от польского студента, приезжавшего на каникулы из Киева в Чернигов. Студент уехал в Польшу, след его в конце концов изгладился из Надиного юного сознания, а Ева и вовсе понятия о нем не имела. Она узнала о его существовании случайно, всего год назад, когда пан Адам Серпиньски свалился как снег на голову, вздумав на старости лет повидать свою взрослую дочь.
Валентин Юрьевич был для нее единственным отцом, и после неожиданного визита пана Адама ровным счетом ничего не изменилось. Ева даже удивлялась: неужели папа всерьез мог волноваться, думая, будто дочь станет относиться к нему как к чужому, если узнает, что в ней течет не его кровь?
А волновался он за Еву всегда, сколько она себя помнила. Валентин Юрьевич не был человеком открытых чувств и никогда не рассуждал вслух о том, что его тревожило. Но связь между ним и старшей дочерью была так незаметно крепка, что и слов никаких не требовалось.
По Евиному впечатлению, поводов для родительских тревог не было вовсе. Жизнь у нее всегда была более чем размеренная, работа – не сравнить с Юриной, талантов никаких, не то что у Полинки. Ну, замуж долго не могла выйти, но теперь ведь и это позади.
Но Валентин Юрьевич всегда чувствовал ее душевную беззащитность и почему-то считал, что ни один мужчина не сможет оградить Еву от превратностей жизни. Даже такой житейски умелый, как Лев Александрович. Папа доверял в этом смысле только себе и Юре. Но не может же взрослая женщина всю жизнь прожить под крылышком отца и брата! Тем более что до Юркиного «крылышка» еще попробуй теперь дотянись, до Сахалина-то…
– Я, может, приеду скоро тебя проведать. – Валентин Юрьевич обнял Еву и замер на мгновенье, как будто боялся ее отпускать. – У нас с Братиславой контакты намечаются, командировки будут, а это ведь рядом, без визы можно в Австрию ездить. Придумаем что-нибудь… Или вдруг конференция какая-нибудь в Вене!
Отец работал в Институте Курчатова, занимался безопасностью ядерных объектов и часто ездил теперь за границу. Не то что раньше, когда он был ужасно засекреченный и даже телефон у них дома прослушивался!
Лева терпеливо ждал, пока жена распрощается с родственниками. Только когда подошла их очередь у таможенной стойки, он позвал наконец:
– Евочка, пора! Счастливо оставаться, Надежда Павловна. Валентин Юрьевич, ради Бога, не беспокойтесь. Ей там будет прекрасно! Мы позвоним сразу же, как прибудем.
С родителями расставаться было, конечно, непривычно, но Ева понимала, что не только в этом причина ее душевной смуты.
Она совсем не знала Льва Александровича. Да они просто слишком мало были знакомы, чтобы успеть друг друга узнать! Правда, для Левы и двух месяцев оказалось достаточно. В первую же ночь он попросил Еву стать его женой и еще три месяца терпеливо дожидался ее согласия.
Ева понимала, что вышла за него замуж главным образом потому, что он очень этого хотел. Она всегда была ему необходима, она это чувствовала, да Лева и не скрывал. И в конце концов, он не был ей неприятен, с ним было интересно… Никаких причин не было ему отказывать, особенно при ее незавидном одиночестве.
– Ты что, до сих пор размышляешь? – поразилась тогда ее подружка, математичка Галочка, и заявила решительно: – Народ тебя не поймет!
А Ева и сама себя не понимала.
И вдруг выясняется, что надо уехать, переменить жизнь еще резче, чем она предполагала, остаться наедине с Левой и своими мыслями. Как все это будет?
Глава 2
Ева ожидала чего угодно, но только не того, что произошло на самом деле. Вена оказалась тем городом, в котором она и в самом деле почувствовала себя как рыба в воде! Все сомнения забылись, счастливая беспечность охватила ее, и она ощутила наконец такую волшебную легкость, какой не чувствовала даже в детстве.
Первые три месяца, когда Лева еще не преподавал в университете, они жили в квартире его приятеля, который как раз в это время был на стажировке в Москве. Австрийское общество литературы, пригласившее Льва Александровича в Вену, было более чем ненавязчивым. Оно предоставляло солидную стипендию, на которую можно было прекрасно жить вдвоем, и просило за это всего лишь отчета о научных изысканиях господина Горейно. Указанные в отчете сведения, как Лева знал наверняка, никто не собирался проверять. Ева не понимала только, какое отношение имеет ее муж к австрийской литературе, стихи-то он пишет по-русски.
– Господи, Евочка, – засмеялся ее вопросу Лева, – не поехал бы я, тут же нашелся бы какой-нибудь ушлый литератор, которому и Вена-то до лампочки, только валюту подавай. Пара-тройка таких всегда на австрийских приемах вьется, и тоже, между прочим, по-немецки ни слова. А мне важны впечатления, я же их впитываю как губка. Ничего зря не пропадет, все потом прольется стихами. Почему было не воспользоваться тем, что австрийский культур-атташе, милейший человек, творческий, сам стихи пишет! И разве тебе здесь плохо?
Ей было здесь не просто хорошо, а невыразимо прекрасно. Они с Левой гуляли по городу, ездили в предместья, пили молодое веселое вино в ресторанчике над Дунаем, и Ева не могла понять, от чего так легко и беспечно кружится голова – от вина или от новой жизни. Все, о чем она читала, – Хофбург, Венский лес, белые кони, Зальцбург, домик Моцарта, летние парки, вальсы Штрауса – существовало наяву и вместе с тем казалось нереальным.
Вена оказалась другая, правду гласил ее старинный девиз.
«И я стану другая, – говорила себе Ева. – Избавлюсь от всего, что мешало мне жить, в себе самой от этого избавлюсь. Научусь беспричинному счастью – просто оттого, что есть этот город, и есть фонтаны в Шенбрунне, и я смотрю на солнечные струи, целый день могу на них смотреть…»
Лева не мешал ей быть счастливой, он радовался ее радости, и Ева чувствовала к нему все большую приязнь. И теперь это значило для нее гораздо больше, чем страсть.
«С Денисом была у тебя страсть, – вспоминала она свою первую любовь. – И что? Минуты невозможного счастья от его поцелуев, изредка ночи вдвоем – до сих пор без трепета не вспомнить… А что еще? Бесконечная оставленность, ненужность, отдельность, когда он так упорно не пускал тебя в свою жизнь. Этого ты хочешь?»
С Левой она не ощущала ни оставленности своей, ни тем более ненужности. Особенно здесь, в Вене, где они были отделены от прежней жизни и невольно сближались все больше.
«Какая я была дура! – уже без тоски, а только с веселой оглядкой на себя прежнюю думала Ева всего через два месяца. – Да Лева за полгода узнал меня лучше, чем сама я узнала себя за всю жизнь. И сделал именно то, что было нужно. Просто переместил меня немножко в пространстве, всего лишь усадил в самолет – и сделал счастливой, беспричинно счастливой! А какое еще бывает счастье, что мне еще надо было для счастья?»
Кажется, Льва Александровича даже радовала Евина созерцательность, которая когда-то так раздражала Дениса Баташова. Денис сам был энергичен, ходил в походы, ездил на археологические раскопки то в Мексику, то на Колыму, и людей любил таких же – активных, веселых, ясных. Меньше всего ему нужна была женская самоотверженность – единственное, чем, сама того не сознавая, могла быть привлекательна для мужчины Ева.
Льву Александровичу тоже невозможно было отказать в активности. За несколько месяцев в Вене он успел перезнакомиться со множеством людей. К кому-то приходил с рекомендательным письмом, с кем-то знакомился в Обществе австрийской литературы, быстро стал своим человеком в Школе поэзии, и его уже звали туда на семинары… Но при этом Лева не раздражался оттого, что Ева не занимается всем этим так же увлеченно, как он, а просто брал ее с собою всюду, куда приглашали с супругой, и неизменно восхищался ею.
– В тебе, Евочка, – радостно сказал Лева, когда они возвращались однажды с вечеринки, устроенной знакомым профессором из Школы поэзии, – есть такая пленительная утонченность, какой советский человек просто по определению не может обладать! Во всем – во внешности твоей, в манере держаться, одеваться. И откуда что взялось? От папаши, может, шляхетская кровь, а? – подмигнул он. – Я это в первый же день заметил – помнишь, когда в Писательскую лавку пошли вдвоем?
Конечно, Ева помнила тот день, когда познакомилась со Львом Александровичем Горейно. Он выходил из ресторана ЦДРИ с давним бабушкиным приятелем, а Ева шла по Кузнецкому к метро. В тот день ей было ни до чего: она в последний раз встретилась с Денисом, все точки были расставлены, все слова произнесены, и дальше была только бесконечная пустота одиночества. Ей было совершенно все равно, куда идти – почему бы и не за книжками, тем более что болит нога, а Лев Александрович любезно обещает подвезти до дома…
– Ты у меня натуральная – как это сказать – венка, что ли? – засмеялся Лева. – Нет, ей-Богу, как родилась здесь! Даже твое экстравагантное имя в Австрии звучит вполне органично. Я сегодня мельком глянул: стоишь рядом с этим аристократом, разговариваешь с ним, улыбаешься. Ну прямо как будто вы с ним в одну школу ходили! А он, между прочим, по женской линии потомок Габсбургов, а по мужской – французский граф. Обратила внимание, какой у него подбородок?
– Какой? – удивилась Ева.
Она мало обращала внимания на подобные вещи и всегда удивлялась Левиной осведомленности. Надо же, про женскую линию Габсбургов и то знает!
– Да вот именно габсбургский подбородок – ну, волевой, удлиненный. Неужели не заметила? У твоей мамы, между прочим, точно такой же, хотя вряд ли Надежда Павловна состоит в родстве с австрийским императорским домом. А здесь они же все на этом помешаны – Мария-Терезия, Австро-Венгерская империя… Считается, что у женщин из императорских потомков обязательно фарфоровая кожа, а у мужчин волевой подбородок, – объяснил Лева и добавил: – По-моему, ты произвела на Габсбурга прекрасное впечатление. Чем он, кстати, занимается, не знаешь? Вообще-то такому можно уже ничем не заниматься, – вздохнул он. – Пять поколений наследство ему собирали, не меньше.
Ева и сама заметила, что произвела впечатление на элегантного мужчину с суховатым породистым лицом и с фамилией, заставляющей вспомнить романы Дюма. Господин де Ферваль явно выделил ее среди многочисленных гостей. Подошел, предложил вина, завел беседу о Венском Сецессионе, пригласил вместе осмотреть знаменитый Бетховенский фриз…
– Он художник, – ответила Ева. – Он сказал: «Пытаюсь быть художником».
– Здесь это престижно, – кивнул Лева. – Счастливые люди! Престижно быть художником, поэтом, а не «крышей» вещевого рынка… Может, останемся, а, Евочка? – подмигнул он. – А что, попросим эстетического убежища! Напишу, что творческая личность не в силах ежедневно созерцать дикость российского капитализма. Тебе здесь, как я вижу, комфортно, мне тоже неплохо. А меня в университет приглашают, – словно между прочим произнес он после короткой паузы. – Преподавать.
– Правда, Лева? – обрадовалась Ева. – А почему ты мне не говорил?
– Вот теперь и говорю. Решено наконец, с сентября могу приступать!
Левино лицо светилось скрытым торжеством, казалось даже, что от этого поблескивает его небольшая ухоженная бородка. Ева с первого дня заметила спокойную завершенность черт его округлого лица: широкие шелковистые брови, чисто выбритые вокруг бородки щеки, небольшие, но выразительные карие глаза… И говорил он без малейшего напряжения – длинными, завершенными фразами.
Она почему-то вспомнила: Лева был первым, кто сказал ей, что волосы у нее вовсе не серые, а серебристые, как старинное ожерелье.
– Ты будешь читать лекции? – спросила Ева.
– Да нет, – как-то нехотя ответил он. – Лекции в Венском университете – это нереально. Даже семинар по славистике и то за пределами возможного. Буду преподавать русский язык – не австрийцам, конечно, только иностранным студентам. Что-то вроде факультатива. По-моему, должно быть полегче, чем с местными. Все-таки иностранцы эти первый год в Австрии, немецкий у них вряд ли лучше, чем у меня. На пальцах, в общем, будем объясняться! – усмехнулся он и добавил: – Если ты мне поможешь, конечно. Вас же русский как иностранный учили преподавать?
– Да, – кивнула Ева. – Но только в общих чертах, да и те я забыла давно, это ведь не моя специальность была.
Тут же ей стало стыдно: как будто отказывается помочь Леве! Конечно, методики она не помнит. Ну и что, подумаешь! Вспомнит, раз надо.
– Это, разумеется, крохи, – рассуждал Лева. – Стипендия кончится – сразу почувствуем. Но все-таки зацепка, а дальше видно будет, еще какие-нибудь помогальщики найдутся. Главное, квартиру дают на год! – вспомнил он. – Не в Первом округе, конечно, только за Дунаем. Но я полагаю, должна быть не хуже, чем моя элитная в Москве. Здесь ведь, Евочка, другие представления о качестве жилья. Не унывай, милая. – Он обнял Еву, поцеловал; они уже стояли возле дома. – Прорвемся как-нибудь!
– Совсем я и не унываю. – Ева улыбнулась, приоткрыла губы, отвечая на мужнин поцелуй. – Наоборот, Лева, у меня никогда не было так легко на сердце. Лева обнял ее крепче, снова поцеловал – на этот раз долгим, чувственным поцелуем.
– Хорошо, что уже пришли, – с придыханием произнес он. – Ты во всем пленительна, Ева…
Страсти, конечно, не было, это Ева понимала. Но то, что было вместо страсти, было так приятно и легко, что с лихвою заменяло и трепет нетерпения, и огонь, охватывающий тело.
Лева имел располагающую внешность, был обаятелен, неплохо сложен и достаточно чувствен для своего возраста. К тому же его сексуальный опыт наверняка не ограничивался бывшей супругой, с которой он развелся пять лет назад.
– Пока у мужчины есть пальцы, он не может считаться импотентом, – с улыбкой заявил он однажды, еще в Москве, отдыхая после близости. И тут же спохватился: – Я тебя не шокирую своим мужицким цинизмом, Евочка?
– Нет, ничего, – пробормотала она, в самом деле испытывая неловкость.
– Ты так смущаешься иногда, просто с девической прелестью! – засмеялся Лева. – Удержаться невозможно, чтобы тебя не поддразнить! Ну, не буду, не буду. – Он поцеловал жену в висок. – Тем более что я пока и без пальцев могу обходиться, а?
А здесь, в Вене, когда супружеская жизнь вошла в ровную колею, никаких неловкостей не возникало вовсе. Ева окончательно убедилась, что она не из тех женщин, которым секс необходим как воздух. Конечно, с Денисом… Но он ведь был у нее первым, он разбудил в ней женщину. Да и встречались они так редко, что немудрено бывало соскучиться.
Теперь все стало иначе, и Ева понимала, что нашла наконец именно тот ритм близости с мужчиной, который соответствует не только ее темпераменту, но и всему характеру.
Взаимное уважение, некоторая чувственная тяга – у мужа более сильная, но все-таки не настолько, чтобы требовать близости, когда жена совершенно к ней не расположена.
Когда секс завершен – неторопливая, обоим интересная беседа в постели, во время которой муж приносит себе рюмку виски, а жене бокал хорошего вина.
Взаимная потребность, чтобы все происходило не на полу в прихожей и не на кухонном столе, как в дешевых эротических триллерах, а в чистой постели, после ванны с душистым бальзамом. В конце концов, они живут не в тайге и в любой момент могут себе позволить эти маленькие удобства, правильно Лева говорит.
Все это у нее теперь было, и в обрамлении этих милых мелочей близость с мужем вполне удовлетворяла Еву.
Он был так же внимателен к ее интимным желаниям, как и ко всяким другим, и она была ему за это благодарна.
– Почему бы и нет, моя радость? – усмехался Лева, если она, например, просила его не спешить, еще немного ее подготовить. – Куда торопиться, всего пять минут – а насколько слаще обоим!
С таким же явным выражением удовольствия он покупал жене маленькие букетики фиалок, которые она любила, или картинки с видами Вены у уличных художников, или длинные серебряные шпильки для волос. Она не злоупотребляла его вниманием – просто потому, что больше не испытывала потребности в невозможном.
А удовольствие в постели с предупредительным мужчиной, который умеет вовремя продлить близость и вовремя ее завершить, – это было вполне из области возможного. Ева только вздрагивала до сих пор, неощутимо для мужа, когда он спрашивал: «Ты уже можешь кончить?» Это почему-то мешало, хотя ведь Лева беспокоился только о ней… Но в конце концов, многим женщинам можно пожелать, чтобы такая ерунда была для них единственной интимной проблемой!
Когда все заканчивалось, Лева благодарно целовал жену, шел в ванную, по дороге наступая тапкой на выключатель витого торшера. А Ева закрывала глаза и чувствовала, как ровное, приятное тепло разливается по всему ее телу.
Глава 3
Блошиный рынок возле Нашмаркта был до невозможности длинен.
Все новые и новые горы разноцветного тряпья вырастали по обеим сторонам песчаной дорожки. Наперебой кричали босые цыганята, заманивая неслыханной дешевизной своего сомнительного товара: «Их биллигер, биллигер! Фюнф шиллинг биллигер!» Бомжастого вида личности курили, пили пиво и пепси. На подстилках перед ними лежали сломанные компасы, металлические фляжки, ношеная обувь, потемневшие медали, часы без стрелок, тусклые старые флаконы из-под духов…
– Теперь-то в Москве то же самое, – сказал Лева, пробираясь через эту пеструю толпу. – А вот догадайся, Евочка, чем я больше всего был потрясен, когда впервые попал на блошак – не здесь, правда, а в Германии?
– Даже не представляю.
Ева устала, вспотела и меньше всего была расположена к элегическим воспоминаниям. К тому же в прошлый раз на блошаке у нее вытащили кошелек, поэтому теперь приходилось все время прижимать сумку к животу, и это тоже раздражало.
– Ну подумай, в восемьдесят седьмом году чем мог быть потрясен нормальный совок?
– Лева, мне надоело, – сказала Ева.
– Тем, что вот эти самые товарищи люмпенского вида курят «Мальборо» и пьют колу! Потерпи, мы почти у цели. Я же сегодня ничего не собираюсь покупать, посмотрим на всякий случай антиквариат, и все.
После того как закончилась стипендия Общества австрийской литературы, воскресные походы на блошак стали регулярными.
– Милая, конечно, куда приятнее бродить по бутикам в Первом округе, – объяснял Лева. – Но какой смысл это делать, если все равно можешь в них купить разве что коробочку для перчаток? На блошаке нелегко что-нибудь высмотреть, я согласен. Зато есть надежда среди груды дерьма напороться на отличную вещь и за десять шиллингов выглядеть как банкир! Нам ведь, возможно, все-таки придется вернуться в Москву. Ты представляешь, какие там теперь цены?
Еву не тянуло ни в бутики Первого округа за коробочкой для перчаток, ни на блошак за «банкирской» вещью, но возражать мужу в этих вопросах ей казалось неудобным. Она не была расточительна, но и особой рачительностью тоже не отличалась. И прекрасно понимала, что деньги мгновенно уходили бы у нее между пальцев, если бы не Левино умение правильно организовывать жизнь.
И почему это должно раздражать?
– Все! – выдохнул он, когда они добрались наконец до входа в крытый павильон. – Теперь я иду копаться в культурном слое, а ты… Ну, поброди пока по Нашмаркту, если хочешь. Ровно через час встречаемся на этом месте.
Лева исчез в павильоне, где продавали с рук старинные вещички, оставив жену у входа на Лакомый рынок.
Лакомый рынок, Нашмаркт, был пестр, ярок и действительно вызывал желание побродить по нему подольше, разглядывая горы фруктов, свежее мясо, цветы, сыры, колбасы… Но за год Ева побывала здесь столько раз, что воспринимала это живописное местечко только как недорогой продуктовый магазин. Впрочем, она ведь и венские музеи все уже обошла – то с Левой, то одна, то с Вернером. Ей вообще грех было жаловаться на горькую судьбу домохозяйки, чей мир состоит из «киндер-кюхен-кирхе»…
Ева пошла вдоль мясного ряда, высматривая колбасную нарезку подешевле. Попутно купила яблоки, зелень, и на этом деньги кончились. Лева ведь не предполагал, что жена станет делать покупки, поэтому и денег у нее было немного. Он вообще считал, что Ева из тех женщин, которых бессмысленно обременять житейскими заботами: все равно толку не будет, потому что они витают в облаках. Он охотно рассказывал об этом знакомым, слегка смущая жену, но, наверное, был прав. Во всяком случае, Еве он предоставлял создавать в доме то, что называл утонченным уютом, а за остальными хозяйственными делами следил сам.
Ева уже минут пятнадцать стояла на пятачке перед Нашмарктом, когда Лева наконец вынырнул из антикварного павильона. Старинные вещи были его страстью. Он и в Москве был завсегдатаем антикварных магазинов, в которых с удовольствием покупал все, что стоило внимания и что он мог себе позволить. Мебель в его квартире на Краснопресненской набережной напоминала музейную.
– А я уж думал, наш сегодняшний поход напрасен! – услышала Ева его радостный голос. – Ты посмотри только, Евочка, ты только взгляни, что я откопал!
Лева стоял перед нею потный и счастливый, сжимая в руке какой-то сверток. Наполовину развернув мятую обертку, он показал Еве позеленевшую статуэтку.
– Дома рассмотрим получше, но я уверен, это Сецессион! – воскликнул он. – Не Климт, конечно, но кто-то не из последних. Нет, все-таки Вена – настоящий кладезь! Какой-то плутоватый китаец за гроши продает вещь, которой нет цены! Не понимает, наверно, что в руках держит. Или, что вероятнее, украл и торопится сбыть. У него еще ваза какая-то пыльная стояла, я бы ничуть не удивился, если бы оказалось венецианское стекло. Но мне уже не до стекла было, летел оттуда как наскипидаренный! Пойдем, Евочка, пока полиция не отняла, – со смехом пошутил он.
Лева был так взволнован покупкой, что не заметил даже полную сумку в руках у жены. Впрочем, ей тоже было не до сумки, она думала совсем о другом. Ева сама не понимала, почему именно здесь, в жаре и суете, пришли ей в голову эти мысли…
– Лева, – сказала она, когда он уже открывал дверь их подъезда, – как ты думаешь, почему… почему у нас нет детей?
Теперь они жили далеко от Старого города, за Дунаем, где давали жилье большинству людей, приезжающих в Вену на временную работу. Район был непрестижный, дома многоэтажные, но квартиры в них вполне могли соперничать с лучшими московскими, в этом Лева не ошибся.
– Откуда же мне знать? – Он обернулся, оставив ключ в замке, и удивленно посмотрел на жену. – Милая, да я вообще об этом не задумывался. А ты считаешь, нам нужны дети?
– Я просто не понимаю, – сказала Ева, пропустив мимо ушей его последний вопрос, – ведь я ничего не делаю, никак не предохраняюсь. Я с самого начала ничего не делала, а уже больше года…
И тут она вдруг замолчала. Подождав несколько секунд и убедившись, что жена не продолжает фразу, Лева снова взялся за ключ. Она молчала, пока ожидали лифта, пока ехали на пятый этаж. Лева отправился в ванную, зашумел душ. Ева вымыла яблоки и зелень, положила в холодильник.
Она просто не могла продолжить эту фразу. Дальше надо было бы объяснить, что она и раньше не предохранялась, все шесть лет с Денисом, потому и тревожится теперь. Раньше еще можно было думать, что все дело только в редкости встреч или в том, что Денис не собирается иметь с нею детей. Но теперь-то все происходило так размеренно, так регулярно! И совсем не редко… Но Ева не хотела объяснять все это мужу. Едва ли ему будет приятно выслушивать рассказы о своем недавнем предшественнике.
Из ванной Лева вышел сияющий и сразу же развернул свою покупку, поставил на журнальный столик с мраморной «размытой» столешницей. Статуэтка представляла собою женскую фигурку с факелом в руках. Стремительный, неизвестно куда направленный порыв чувствовался в каждой линии этой маленькой выразительной скульптуры.
– Даже прикоснуться страшно, – весело произнес он, потирая руки. – Чувствуешь себя Шлиманом, откопавшим сокровища Трои. Не возись ты сейчас с салатом, Евочка, иди сюда скорее!
Ева вышла из кухни и тоже наклонилась к статуэтке. Смутная печаль тревожила ее, но говорить об этом было невозможно. Впервые за весь этот беспечальный год.
Глава 4
– Может быть, тебе это неприятно? – спросила Ева, прикалывая перед зеркалом последнюю прядь. – Ты не сердишься, что я иду без тебя?
На этот раз она не закрутила волосы привычным низким узлом, а подняла их, высоко уложила и сколола шпильками с крошечными бриллиантами. Шпильки, бриллиантовые серьги-капли и маленький, тоже бриллиантовый, аграф на черной бархотке пришлось одолжить у Вукицы, жены здешнего Левиного приятеля-серба. Эти драгоценности хорошо подходили к Евиному кольцу – маминому подарку к шестнадцатилетию. Старинное фамильное колечко с двумя бриллиантами подарил когда-то черниговской девочке Наденьке двадцатилетний Адам Серпиньски.
– Евочка, что за глупости! – весело возмутился Лева. – С чего мне сердиться? Наоборот, я в восторге: такой изысканной женщины сегодня в Опере не будет! Одни плечи чего стоят – куда Габсбургам… По-моему, платье удачное? – поинтересовался он.
– Более чем.
Глядя в зеркало, Ева улыбнулась мужу.
Черное вечернее платье пришлось взять напрокат: плотненькая фигурка Вукицы не имела ничего общего с Евиной. Да и вообще, неловко ведь просить у кого-нибудь платье для Оперы, если прямо на Марияхильферштрассе есть бюро проката свадебных и бальных туалетов. Лева перебрал по меньшей мере десяток платьев, пока выбрал достойное своей жены – простое, черное, длинное, подчеркивающее изящество ее фигуры.
Казалось, Евины открытые плечи таинственно светятся над низко вырезанным лифом, и еще таинственнее светятся ее серые, с глубокой поволокой, глаза.
Прошло время, когда она чувствовала себя невыразительным пескариком. И это ощущение прошло даже не с замужеством, а именно здесь, в Вене. Не то чтобы здесь ее останавливали на улице и звали на свидание – едва ли такое было бы возможно. Но Ева сама чувствовала, что вписывается в облик здешней жизни так же органично, как вписываются в облик Вены классические скульптуры на фасадах домов.
Она обернулась к мужу.
– А ревновать тебя к Габсбургу мне, я надеюсь, нет смысла, – весело заметил Лева; Еве показалось, правда, что вопросительная нотка проскользнула в его голосе. – Поэтому я могу спокойно радоваться, что ты послушаешь Доминго. Представляю, сколько сегодня стоят билеты и чего стоит их достать! Это тебе не на ступеньках сидеть за пятьдесят шиллингов… Помнишь, «Тоску» ходили слушать?
Они всего однажды были в Опере – по входным билетам, дающим право сидеть на ступеньках. Еве жаль было мужа: Лева так любит хорошую музыку, а вынужден отказывать себе в этом дорогом удовольствии, и где – в Вене!
– Можешь не ревновать, – подтверждающе улыбнулась она. – Габсбурги – сама порядочность, ты же знаешь.
– Ну, спускайся, спускайся, – поторопил Лева. – Без трех минут, он наверняка подъехал. Жалко, окна на другую сторону – не увижу, как ты садишься в «Роллс-Ройс»!
– Думаешь, у него «Роллс-Ройс»? – засмеялась Ева. – Едва ли.
– Вообще-то да, – согласился Лева. – Он же не нувориш совковый, понтоваться незачем.
Обычно Ева встречалась с Вернером в какой-нибудь кофейне Старого города или в Школе поэзии, и гуляли они пешком, только однажды прокатились вместе в фиакре. Вернер показывал ей такие переулки Вены, по которым на авто не проедешь, поэтому Ева понятия не имела, какая у него машина. Да и не очень ее это интересовало. Господин Ферваль с его умом, иронией и изяществом не нуждался, по ее мнению, в дорогостоящих спецэффектах.
Впрочем, даже то, что у других выглядело бы по меньшей мере показным, у него получалось совершенно естественно.
Одна такая история произошла всего две недели назад. Как обычно, они сидели в кофейне на Стефанплатц. Правда, на этот раз беседа шла не о метафизике венской жизни, а о каких-то повседневных мелочах. Да это даже и не беседа была, а самая что ни на есть беспечная болтовня. Ева рассказывала, смеясь, как впервые попробовала молодое белое вино, на следующее утро выпила немного воды, и сразу ее опять охватил веселый легкий хмель.
Вернер смеялся ее рассказу и даже пропел песенку в ритме вальса: «Хочу вернуться в Гринцинг, к вину, к вину, к вину!» И тут же сказал, что непременно надо будет пойти в Гринцинг – самый большой венский квартал, где шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на ресторанчик-хойриген, в котором это веселое вино как раз и подают.
– Как чудесно вы все сохранили, – заметила Ева. – Эти хойриген – они ведь и сто лет назад были, и двести, правда?
– Правда, – кивнул Вернер.
Он смотрел на нее без тени иронии, словно любуясь. Ни одна морщинка не показалась у сомкнутых губ или на высоком лбу, открытом под коротко подстриженными седеющими волосами.
– И во всем у вас так, – отогнав привычный промельк неловкости, продолжала Ева. – Эти платья прелестные – знаете, льняные, с металлическими пуговицами? По-моему, им тоже лет сто, не меньше, а продаются везде, и женщины носят.
Платья, о которых говорила Ева, действительно продавались во многих магазинах готовой одежды и очень ей нравились. Они были сделаны в фольклорном стиле и вместе с тем смотрелись вполне современно: льняные, палево-серые, с простыми, но хорошей работы кружевами и металлическими пуговицами.
– А, трахт! – кивнул Вернер. – Да, это тоже традиция. А вам они нравятся?
– Конечно, – сказала она. – Я даже примеряла однажды.
Тут Ева осеклась. Традиционные платья под названием «трахт» стоили так недешево, что она и в самом деле могла их только примерять. Но не рассказывать же об этом Вернеру!
– Как жаль, что я этого не видел, – улыбнулся он. – Уверен, вам к лицу. Даже не к лицу, а вообще – в ваш тон. А может быть, – вдруг предложил он, – вы предоставите мне возможность увидеть вас в старинном австрийском наряде?
– Как это? – удивилась Ева.
– Да очень просто. Еще раз примерите трахт, если вам понравилось, а я взгляну. Я вообще хотел бы написать ваш портрет в этом одеянии, однако не смею вас затруднять. Но несколько минут – ведь это нельзя считать большим затруднением, не так ли? А потом я попробовал бы писать по памяти.
Вернер говорил таким непринужденным, таким естественным тоном – впрочем, когда он говорил иначе? – что с ним невозможно было не согласиться. Конечно, ей нетрудно примерить платье, если художнику хочется посмотреть. Ева никогда не видела картин господина Ферваля, но была уверена, что они не могут быть ремесленными поделками.
– Пожалуйста, – улыбнулась она, – если вам это необходимо.
Платья были выставлены в витрине первого же бутика, который попался им прямо у соборной площади. Вернер распахнул перед Евой до невидимости прозрачные двери.
Что бы ни говорили и он, и Лева о том, как органично она вписалась в здешнюю жизнь, Ева так и не могла преодолеть робость перед приветливыми продавщицами дорогих магазинов. Смущала их мгновенная готовность заниматься ею, тяготила необходимость как-то реагировать на внимание, улыбаться, кивать. А уж то, что после этого все равно придется уйти без покупки, вообще вгоняло ее в краску.
Но демонстрировать подобные чувства в присутствии господина Ферваля было бы еще более неловко. Поэтому Ева постаралась держаться так, словно посещать мимоходом бутик в центре Вены для нее обычное дело.
Платья оказались здесь гораздо роскошнее тех, что она примеряла на большой торговой улице Марияхильфер. И ткань несравнимо тоньше, и фасоны изысканнее, и кружева – тончайшего ручного плетения. Взглянув на себя в зеркало, Ева поняла, что Вернер и на этот раз оказался прав: платье действительно было ей «в тон». Оно неуловимым образом совпадало со всем ее обликом – по ее мнению, блекловатым, но явно исполненным изящества.
– Ну вот, – выйдя из примерочной, обратилась она к своему спутнику, – так выглядели австрийские крестьянки в прошлом веке?
– Мне трудно судить о тогдашних крестьянках, – с улыбкой пожал плечами Вернер, – но вы выглядите так, как должна выглядеть истинная женщина.
Комплимент был вежливый и замысловатый; Ева улыбнулась изысканности его тона и смысла.
– Мне кажется только, – добавил Вернер, – что букет немного не тот.
Он повернулся к продавщице и стал ей что-то говорить. Что именно, Ева не могла разобрать, потому что разговор шел на венском диалекте. Она повернулась к зеркалу, пытаясь понять, что же могло не понравиться потомку Габсбургов. Букетик искусственных роз, приколотый у корсажа, показался ей ничуть не хуже, чем все платье.
– Ну как, вы уже готовы писать портрет, Вернер? – спросила она, когда продавщица, кажется, в последний раз улыбнулась господину Фервалю. – Я могу переодеться?
– Конечно, – кивнул он. – Теперь я уверен, что смогу писать ваш портрет по памяти.
Льняное платье принесли ей домой назавтра. В большую серебристую коробку, кроме трахта, был упакован сувенир от хозяйки бутика – крошечная фарфоровая куколка-поселянка точно в таком же наряде. Розовый букетик у корсажа был заменен на нежно-лиловый. Головки невянущих колокольчиков, из которых он был составлен, трепетали от каждого вздоха.
Ева чуть в обморок не упала, увидев все это. Вчера она, конечно, успела заметить цену: платье было немногим дешевле подержанной машины…
«Дорогая Ева! – было написано на вложенном в конверт листке с монограммой. – Прошу вас, не воспринимайте этот подарок иначе как сувенир. Будучи в Москве, я ведь смогу себе позволить принять от вас в качестве сувенира матрешку или еще что-нибудь национальное? Буду счастлив, если трахт напомнит вам о Вене. Искренне ваш Вернер де Ферваль».
К Евиному удивлению, Лева отнесся к этому подарку именно так, как предлагал господин де Ферваль. Может быть, просто не представлял себе его цену?
– В самом деле, Евочка, – засмеялся он, – ну, не лифчик же он тебе подарил. А платьишко, видишь, эдакое фольклорное, и впрямь сувенирное – самое то. Вполне пристойно, неброско и со вкусом.
Возражать мужу Ева не стала – зачем? Вернера она поблагодарила при встрече и тоже не стала произносить никчемных слов, которые прозвучали бы в этой ситуации просто глупо. Но надеть трахт она так до сих пор и не решилась – повесила в дальний угол шкафа.
И вот теперь Вернер пригласил ее послушать «Отелло». Приглашение было сделано с таким же непринужденным изяществом, с каким он делал ей все свои предложения: прокатиться в фиакре, или посетить хойриген, или вместе взглянуть на дома, построенные в знаменитом венском югендстиле.
Не то чтобы Еву очень тяготило одиночество. С детства живя в своем, мало кому понятном и мало кому интересном мире, она привыкла чувствовать себя немного отдельной от окружающих. Хотя, конечно – вдруг оказаться без работы, без привычного семейного и дружеского круга, остаться только с мужем, у которого хватает своих разнообразных занятий…
Господин Ферваль стал единственным человеком в Вене, общение с которым разнообразило Евину жизнь. Даже время от времени возникающие промельки неловкости этому не мешали – настолько он был интересен, глубок, учтив и сдержан.
Как она и предполагала, Вернер заехал за нею не на «Роллс-Ройсе» – у подъезда девятиэтажного дома стояло такси. Шофер вышел из машины и помог Еве сесть.
«В самом деле, – подумала она, – ведь это гораздо удобнее, чем возиться с машиной, искать парковку. Возле Оперы наверняка нет свободных мест, издалека пришлось бы идти, каблуки о мостовую ободрались бы…»
Несмотря на помощь шофера, она все-таки зацепилась за дверцу машины высоким тонким каблуком и едва не упала на господина Ферваля, сидевшего на заднем сиденье. Ее открытое плечо на мгновенье коснулось его выбритой щеки, Ева почувствовала тонкий и свежий запах его одеколона – и тут же вздрогнула, отшатнулась. Ферваль поддержал ее под локоть.
– Извините. – Хорошо, что в машине было не так светло, как на улице: Вернер едва ли заметил, как она покраснела! – Я не опоздала?
– Нисколько, – невозмутимо ответил он. – У нас вполне достаточно времени, чтобы спокойно доехать и занять свои места.
В смокинге господин Ферваль выглядел так же безупречно, как в любом другом костюме. Ева давно заметила, что австрийцы непременно подбирают одежду «к случаю», руководствуясь при этом устоявшимися правилами. В отличие даже от немцев, часто приезжавших в ее московскую гимназию по обмену. Те в основном одевались «к настроению»: что под руку попадет, лишь бы чистое.
Живя в Москве, Ева, конечно, не раз бывала в Большом театре. Сама по себе роскошь старинного театрального убранства едва ли потрясла бы ее. Но здесь, в Венской опере, она еще в прошлый раз почувствовала нечто иное: размеренный, подчиненный незыблемому порядку ход жизни. Он был ощутим и в гуле театральных коридоров, и в классическом интерьере зала, и в полумраке ложи, куда Вернер провел свою даму за несколько минут до начала спектакля. Еве показалось, даже бриллианты у нее на шее и в волосах становятся частью всего того, что вечер за вечером с потрясающей неизменностью происходит в этом зале.
И эта священная незыблемость в сочетании со взволнованным ожиданием оперного действа отозвалась в ее сердце трепетом, едва ли не страхом. Она инстинктивно прикоснулась к рукаву Вернерова смокинга, на минуту забыв о сегодняшней неловкости в такси.
Неожиданно он накрыл ее пальцы своей рукой – и, мгновенно опомнившись, Ева замерла. Его рука была суха и ободряюще прохладна. Сначала она не решалась высвободить свою руку, а потом зазвучала увертюра, открылся занавес, потом появился на сцене Пласидо Доминго – и Ева просто забыла…
– Вы не будете против, если мы прогуляемся немного? – спросил Вернер. – Поужинаем после спектакля?
Ева была так взволнована, так ошеломлена впечатлениями сегодняшнего вечера, что и сама не могла представить, как сядет сейчас в такси, останется одна в потоке своих чувств… Она кивнула и взяла Вернера под руку.
– Кажется, сегодняшнее исполнение вам понравилось, – заметил он. – У меня абонемент на сезон, я слушаю все, что стоит послушать, и тем не менее тоже сегодня взволнован. Вы чуткий и трепетный человек, – добавил он после короткой паузы.
Они медленно шли по оживленным вечерним бульварам. Ева молчала, предоставляя Вернеру самому выбирать маршрут. Есть ей совершенно не хотелось, о чем она с некоторым смущением сообщила своему спутнику.
– О, совсем не обязательно устраивать праздник желудка! – засмеялся он. – Мы можем не заказывать штельцен, а просто посидеть вдвоем, попробовать какое-нибудь легкое блюдо, выпить вина… Вы согласны?
Штельцен, запеченную свиную ножку, Ева не осилила бы сейчас ни за что.
– Конечно, – кивнула она. – Я в самом деле как-то взвинчена после этой музыки, после всего…
Она не заметила даже названия ресторана, в который незаметно привел ее Вернер. Обратила только внимание, что зал выдержан в классических винно-красных и золотых тонах, а приборы сверкают серебром. Кажется, столик был заказан заранее. Солидный, гренадерского роста обер сразу провел их в другой конец зала, к окну.
– Сегодня есть повод выпить шампанского. – Вернер поднял бокал, брызги света блеснули в хрустальных гранях. – За вас, моя дорогая фрау Гринефф, за ваше счастливое пребывание в Австрии! Я правильно произнес вашу фамилию – кажется, вы говорили, что оставили девичью?
– Я очень вам благодарна, Вернер, – ответила Ева, отпив глоток. – Если бы не вы, мое пребывание в Австрии не было бы таким… насыщенным. А фамилия действительно девичья, – улыбнулась она. – Мне почему-то хотелось оставить. Может быть, я просто привыкла к своему школьному прозвищу. Знаете, как меня называли ученики?
– Да, ведь вы преподавали. И как же? – заинтересовался он.
– Капитанская Дочка.
– Почему? – удивился Вернер.
– Просто из-за фамилии.
Ева вкратце рассказала про пушкинскую повесть. Когда она говорила, что-то дрогнуло вдруг у нее в сердце – так тонко и остро, что она даже прервала на несколько секунд свой рассказ. Почему-то вспомнился Юра, мгновенно и больно вспомнился, как будто с ним что-нибудь случилось. Хотя брат уже почти год как вернулся с Сахалина в Москву, волноваться было вроде бы не о чем…
– Я постараюсь это прочитать, – сказал Вернер. – Я читал «Евгений Онегин» по-немецки и по-французски, переводы были прекрасные, но все-таки я не совсем понял, почему же… Впрочем, это неважно!
Обер принес большие тарелки с телячьими рулетами и красное вино.
– Мне неловко, что я болтаю о своем, вместо того чтобы высказать впечатления от спектакля, – вспомнила Ева.
– Не вижу никакой неловкости, – возразил Вернер. – Извините, моя дорогая Ева, но впечатления, в том числе и от Доминго, написаны у вас на лице. Я читаю их по нему как по книге, – улыбнулся он.
– А мне и Юра, это мой брат, говорил в детстве, что у меня все на лице написано! – засмеялась она. – Мы с ним играли в гляделки – знаете, когда надо долго-долго смотреть друг другу в глаза, не моргать, не смеяться и угадать, кто о чем думает. Он всегда угадывал сразу, а я вообще не могла. Юра у нас такой, что, если сам не захочет, – ни за что не догадаешься.
– Вам дорог ваш дом… – медленно, словно о чем-то размышляя, произнес Вернер. – Вам дорога ваша семья, эти школьники, которых вы учили… Как вы оказались здесь?
– Но ведь я… – даже растерялась Ева. – Ведь я приехала с мужем. Разве я могла оставить его так надолго в одиночестве? Он любит меня, я нужна ему, и я не понимаю…
Вернер молча смотрел на нее своими небольшими, глубоко посаженными глазами. По его испытующему взгляду она не могла догадаться, зачем он задал этот странный вопрос.
– Извините, – наконец произнес он. – Извините меня за столь глупую бесцеремонность. К тому же я счастлив, что вы оказались в Вене, поэтому мой вопрос особенно неуместен.
Она опустила глаза. Сразу вспомнились все неловкости, то и дело вспыхивавшие между ними, и как она сегодня прикоснулась плечом к его щеке и щека мгновенно напряглась, и как он накрыл ее руку своей ладонью…
– А ведь я никогда не видела ваших работ, Вернер! – Ева хотела непринужденно переменить тему, но, кажется, ее слова все-таки прозвучали слишком торопливо. – Я почему-то думаю, что они не могут быть дилетантскими. Вы выставляетесь? Интересно было бы увидеть каталоги… Знаете, у меня ведь младшая сестра художница, но ей всего двадцать лет, она еще учится.
– Почему же каталоги? – спокойно сказал Вернер. – Я с удовольствием покажу вам свои работы. Приглашу вас к себе на чашку чаю, и вы увидите все, что пожелаете. Правда, я живу в основном за городом, поэтому на городской квартире у меня не много работ.
– Непременно, Вернер, – поспешно кивнула Ева. – Конечно, я как-нибудь обязательно приду, мне очень интересно.
К счастью, обер принес наконец десерт – ягоды, политые ванильным сиропом. Потом последовал кофе, потом Вернер выпил коньяка, и разговор о картинах не возобновился.
Лева не спал, когда Ева тихо открыла дверь квартиры. Он сидел в глубоком кресле и, перевернув недавно купленную статуэтку, рассматривал в лупу какую-то надпись на ней.
– Наконец-то! – воскликнул он, как только Ева появилась в дверях гостиной. – Ужинать, наверно, возил Габсбург? Что ели, Евочка, где? Да, а Доминго-то как, расскажи скорее! Смотри, хоть граф твой и весь из себя аристократ, и, как ты говоришь, порядочный, а как бы я не приревновал, – добавил он с легкой усмешкой.
Сделав вид, что не расслышала последних слов, Ева села на диван напротив мужа и начала рассказывать о спектакле и о Пласидо Доминго.
Глава 5
И отмеренные радости бывали, и случайные неловкости, но обо всем этом Ева думала в последнее время мало. По-настоящему ее волновала только одна мысль – та самая, ни с того ни с сего возникшая на Лакомом рынке, когда случайно мелькнули в голове эти «киндер-кюхен-кирхе»…
Выйдя замуж, Ева почти не задумывалась о том, хочет ли иметь ребенка. Даже не то чтобы не задумывалась – все-таки тридцать четыре, волей-неволей задумаешься, – а скорее отодвигала от себя эту мысль.
Семь лет назад, когда она безоглядно влюбилась в Дениса, ей было просто не до того: она думала только о нем, день и ночь о нем. И о своей неопытности, глупой в двадцать семь лет, о неумелости каждого своего движения, о том, что вот-вот ему надоест все это, обязательно надоест… Потом, когда их отношения вошли в будничную колею, Денис честно предупредил, что не собирается иметь детей и долго еще не соберется, поэтому лучше бы Еве не питать на этот счет пустых надежд.
А Ева и сама уже понимала в то время: зачем рожать детей такой женщине, как она? Можно подумать, спасибо они потом скажут мамочке за то, чем она их, скорее всего, наделит. За бесполезную созерцательность, за неумение распорядиться собственной жизнью, за всю эту бестолковую никчемность! Едва ли они будут ей благодарны… А заводить ребенка «на старость», как заводят страховой полис, как после тридцати заводят детей многие одинокие женщины, – этого она просто не могла.
Но теперь-то все переменилось! Она ведь поняла наконец: лучше решиться хоть на что-нибудь, чем потом всю жизнь корить себя за то, что не решилась ни на что. Именно об этом говорил ей пан Серпиньски. «Я не угадал свою судьбу, и сквозь пальцы ушло мое жиче», – так он говорил. И смотрел – как из зеркала, даже страшно было встречать взгляд его печальных, с глубокой поволокой серых глаз. Ева только это – глаза своего отца – и вспоминала год назад, давая наконец согласие Льву Александровичу…
И если она решилась, если вышла замуж за единственного человека, который этого хотел, которому она была нужна, – зачем же откладывать остальное? Лева стал ей прекрасным мужем и наверняка станет прекрасным отцом ее ребенку.
Она почувствовала, что снова должна решиться – и… И что? Едва она сказала себе: «Теперь пора», – как тут же поняла, что эти патетические слова не имеют никакого практического смысла. Пора, не пора – какая разница, что она внушает себе, гуляя по милой сердцу Вене? Все равно, живут они с Левой вот уже год, а…
– К моему глубокому сожалению, мне пока нечем вас порадовать.
Голос врача был так же вежлив, как и взгляд – как, кажется, были вежливы и его руки во время осмотра. Ева поймала себя на совершенно идиотском желании: ей захотелось, чтобы доктор Вагнер расхохотался, или заорал, или упал на пол и как ребенок замолотил бы ногами о коврик у стола.
– Вы думаете, отсутствие беременности не… не случайно? – выговорила она. – Вы думаете, я… вообще не могу иметь детей?
– О, как можно делать такие выводы! – Доктор Вагнер, конечно, не упал на пол, но рукой все-таки взмахнул. – После одного осмотра – такие поспешные выводы, фрау Гринефф, это неправильно, уверяю вас! Я всего лишь сообщаю вам свои предположения, не более. Мне кажется, у вас непроходимость фаллопиевых труб. Но потребуются анализы, исследования, потребуется осмотреть также вашего супруга, и только потом я смогу дать квалифицированное заключение и свои рекомендации.
– Я понимаю, – кивнула Ева. – Извините, господин доктор, я слегка растерялась.
– Ну, разумеется, – доброжелательно улыбнулся он. – Женщин это часто пугает. Хотя на самом деле надо не пугаться медицинских терминов, а всего лишь набраться терпения – и все может быть в порядке. В Шотландии – вы, конечно, слышали? – успешно завершились грандиозные опыты по клонированию овец. Как знать, не станем ли мы вскоре свидетелями чудес! Наука совершает их, не правда ли? Счет придет вам на дом, фрау Гринефф, вы оплатите со своего конто, а потом направите в вашу страховую компанию копию оплаченного счета для возмещения расходов.
Ева вышла из университетской клиники.
Шотландия, овцы… Что там с ними делают грандиозное, забыла… Да, чудеса, наука… Придет счет…
Слово «счет» вывело ее из заторможенного состояния. Страховка у них с Левой была самая дешевая, от несчастных случаев и острых заболеваний. А что еще может понадобиться за границей? Плановый осмотр гинеколога в перечень страховых случаев не входит, так что копию с оплаченного счета делать ни к чему. Да и конто был у них открыт на Льва Александровича: на него приходила университетская зарплата, с него Лева платил за квартиру. Авторские за исполнение песен ему передавали из Москвы с оказией.
Еве счет в банке был просто ни к чему: все равно денег есть столько, сколько есть – впритык, хоть в банке держи, хоть в кошельке. А тот возраст, в котором интересно засовывать карточку в банкомат, она давно уже миновала.
Когда Ева вошла в квартиру, муж не вышел ее встретить. Не потому, конечно, что не хотел видеть, – просто не услышал. Их здешняя квартира была просторна, и ключ поворачивался в замке бесшумно.
Качество жилья в Вене, как и предполагал Лева, несравнимо было с Москвой. Квартира, в которой они жили вот уже полгода, считалась далеко не первым сортом и все-таки производила на Еву впечатление роскоши. Кухня отделена была от столовой барной стойкой и невысокой ступенькой в форме басового ключа. Спальня плавно переходила в гостиную, между ними высокой асимметричной дугой выгнулась арка. Окно занимало почти всю стену гостиной, и за ним на длинной лоджии росли цветы.
Все эти с живой неправильностью выгнутые линии, как и большие окна, создавали ощущение пространства, простора, свободы. Даже в мебели, которая никак не могла быть дорогой в казенной квартире, чувствовался стиль – неброский, но изящный.
Ева считала, что ей и делать-то ничего не пришлось для создания утонченного уюта, о котором говорил ее муж. Тем более что «утончать» приходилось из подручных материалов – то есть практически из ничего.
– Конечно, Евочка, – говорил Лева, когда они еще только въехали в эту квартиру, – если бы в твоем распоряжении были настоящие деньги, ты сделала бы дом таким, что… У тебя же прирожденный гармонический талант, ты для всего можешь найти единственно правильное место!
Насчет гармонического таланта – это он, пожалуй, преувеличил.
– Да в чем же талант, Лева? – смеялась тогда Ева. – Что горшок цветочный вместо свечки приспособила?
Эту композицию на мраморном столике она выдумала случайно, а получилось и вправду неплохо. Прозрачные стебли неизвестного растения свисали вниз, оплетая витую ножку старинного подсвечника. А когда растение неожиданно зацвело, вышло еще лучше: цветок казался теперь странным сиреневым огоньком несуществующей свечи.
Были еще какие-то мелочи, которым Ева тоже не придавала значения.
– Это потому, – объяснял Лева, – что ты недавно замужем. До сих пор у тебя не было стимула заниматься домом, вот ты и не знаешь собственных возможностей.
К университетским занятиям Лева обычно готовился в столовой. Ему нравилось, чтобы Ева была в это время поблизости – что-нибудь готовила, или гладила белье, или просто читала, сидя на высоком стуле, книжку положив на барную стойку и подперев рукой подбородок. Он говорил, что жена оказалась его талисманом: вон уже и твердая ставка маячит на его академическом горизонте, а там и вообще…
А стихи он всегда сочинял в спальне – лежал на кровати, смотрел в потолок, вскакивал, выходил на лоджию.
Оказывается, и сейчас Лева был на лоджии, потому и не слышал, как вошла жена.
– Евочка! – обрадованно произнес он, появляясь в балконных дверях. – Куда это ты пропала? А я, когда с работы шел, даже по кофейням пробежался на Стефанплатц, думал, ты с Габсбургом своим беседуешь.
– Ты обедал?
Ева прошла в комнату, села на диван, положила руку на подушку в ярком чехле. Ковер был в тон подушке – тоже яркий, в разноцветных пятнах. Пятна расплывались в ее глазах. Она тряхнула головой – что за глупости, при чем здесь ее глаза, они и так расплывчатые, эти пятна, просто ковер такой, дизайн…
– Что ты сказал? – переспросила она.
– Что не обедал. – Лева смотрел с недоумением. – Тебя ждал. Работал, новое написал – не для песенок, свое… Хочешь послушать?
– Потом, Лева. Я хочу поговорить с тобой.
Недоумение на его лице сменилось легким недовольством: наверное, обиделся, что жена так равнодушно отнеслась к его новым стихам.
– Так срочно? – поморщился он. – По-моему, утром новостей у тебя не было. Или за полдня что-нибудь случилось?
– Нет, – покачала головой Ева. – Или случилось? В общем, это неважно. Я к врачу ходила, в университетскую клинику.
– Господи, да что с тобой? – ахнул Лева.
Конечно, он испугался: страховка-то от несчастных случаев.
– Ничего страшного, – улыбнулась Ева. – Я просто так, провериться. Регулярный осмотр.
– У гинеколога? – догадался он. – А… на какой предмет провериться? Женское что-нибудь? Или, может, беременность?..
– Нет, – несколько секунд помедлив, ответила она. – Совсем нет.
– Ну, что ж тогда волноваться! – облегченно улыбнулся он. – Не больна, не беременна, все прекрасно. Конечно, тебе надо регулярно проверяться, а я как-то не подумал, когда страховку оформлял. Ну, ничего, оплатим. Давай пообедаем, Евочка, я же все-таки работал! Не дрова колол, конечно, но стишок накропал, и недурной, между прочим. Только уж теперь после обеда прочту. – Не дожидаясь, пока жена займется обедом, Лева сам обошел барную стойку, включил плиту. – Борщ у тебя вышел великолепный, я ложечку попробовал, не разогревая. По мне, Евочка, черниговские рецепты твоей мамы – это высший пилотаж, куда венскому шницелю!
Ева тоже встала, поднялась на ступеньку кухни, едва не споткнувшись о завиток «басового ключа».
– Лева, – повторила она, – я хочу с тобой поговорить. Ты понимаешь, врачу кажется, что это и невозможно…
– Что – невозможно?
Он нарезал хлеб, положил в большую деревянную миску.
– Невозможно, чтобы была беременность. Ему кажется, у меня непроходимость труб. То есть я не могу иметь детей.
Лева наконец обернулся к ней, подошел к стойке. Они стояли по обе стороны деревянного барьера; Ева опустила глаза.
– Ну, что ж… – услышала она Левин голос. – Это, конечно, неприятно, я понимаю. Ты же совсем молодая, Евочка, это я у тебя старичок…
Он ласково погладил жену по руке. От его ласковых слов, оттого, что он жалеет ее, пытается утешить, Ева почувствовала, как слезы подступают к горлу. Она подняла глаза на мужа, хотела сказать, что ему не нужно ее успокаивать, что она все сделает, чтобы… Но Лева продолжил фразу, и Ева не успела произнести ни слова.
– Положа руку на сердце, милая, я не скажу, чтобы очень уж расстроился, – так же ласково, успокаивающе продолжал он. – Ну, не можешь – что ж теперь, жизнь кончена? Я понимаю, для женщины это самая проторенная дорожка: пеленки – то есть да, теперь уже не пеленки, а памперсы! – игрушки, потом отметки в школе и все такое прочее. Но ведь ты… Евочка, разве ты из тех женщин, которые хотят идти проторенной дорожкой? Да я сразу в тебе другое заметил – твою душу особенную, такую глубокую, ни на чью не похожую! Меня это потрясло, восхитило, я понял: вот такая женщина мне и нужна, о такой я мечтал! Неужели ты думаешь, я женился на тебе, чтобы иметь детей? Я же не Габсбург, – не удержался он от усмешки, – чтобы так уж печься о наследниках.
– Но что же, Лева, – потрясенно выговорила Ева, – значит, ты и вообще… То есть вообще не хочешь иметь со мной детей? Или просто не думал об этом?
– Если честно – не хочу. – Это он наконец произнес твердым тоном. – Ева, ну подумай сама: почему я должен хотеть детей? Мне что, тридцать лет? Не тридцать, милая, и даже уже не сорок. И что такое дети, я хорошо себе представляю – двое выросли, как тебе известно. В моем возрасте снова ходить по стеночке, снова эти вопли по ночам, изрисованные обои, кошки и собаки в доме? Да ты что, дорогая моя, я же не сумасшедший! Ну, может, случись такое дело, я бы не стал требовать, чтобы ты убрала беременность, – несколько смягченно добавил он.
«А почему бы ему не смягчиться? – подумала Ева. – Уже ведь знает, что «такое дело» наверняка не случится…»
– В конце концов, – продолжал Лева, – твои родители не старше меня, ребенок вполне мог бы находиться у них. Хотя бы пока мы здесь, – поспешил он добавить, – а там видно было бы… Тем более Надежда Павловна не работает. Но если нет, то и суда нет! Извини мою прямоту, Евочка. – Он снова погладил ее по руке. – Не думаю, что ты хотела бы услышать от меня ложь.
«Я ничего не хотела бы от тебя слышать», – едва не вырвалось у нее.
Но, сдержав эти злые, резкие слова, она все-таки сказала, сама не понимая зачем:
– Это еще не окончательно. Неокончательный диагноз. Анализы нужны будут, обследования…
Что ж, Льву Александровичу невозможно было отказать в сообразительности.
– А вот это, пожалуйста, без меня, – отрезал он. – Анализы, обследования – этим я заниматься не буду. Я, солнышко мое, не сторонник феминизма, да и ты, мне кажется, тоже. И у меня есть четкие представления о том, что мужчина делать обязан, а что, извини, превращает его в бабу. Я обязан работать и обеспечивать нашу жизнь. По-моему, я делаю это неплохо. Притом, заметь, не превращаю тебя в домашнюю клушку, помогаю по хозяйству. Но таскаться по обследованиям, выслушивать душеспасительные лекции, сперму сдавать на анализ… Вот этого я делать не обязан, и делать это я не буду! Лучше тебе понять это сразу, Ева, чтобы не питать пустых надежд.
Про пустые надежды ей уже говорил Денис. Что ж, все закономерно, и случайностей в жизни не бывает. В ее жизни точно так же, как во всякой другой.
Не ответив мужу, Ева шагнула назад от кухонного барьера и, опять едва не упав со ступеньки, вышла из столовой.
Глава 6
Это была их первая ссора.
Лев Александрович с самого начала сумел поставить отношения с женой так, что никакая натянутость – а тем более со взаимными упреками, с прямым выражением недовольства – была между ними просто невозможна. Это не тяжело ему далось: Горейно не отличался взрывным темпераментом и умел уважать жену. Да и Ева не питала склонности к бурным сценам, и она предпочитала ровные, спокойные отношения.
Собственно, бурной сцены не было и теперь. Они просто не сошлись во мнениях, и Лев Александрович высказал свое вполне корректно. Его не в чем было упрекнуть.
Еве и не хотелось ни в чем его упрекать. Ей не хотелось его видеть.
Вся ее жизнь в последний год вдруг предстала перед нею так ясно, как будто она сняла наконец с глаз плохо подобранные очки, которые все-таки очень не хотелось снимать…
«Зачем я вышла за него замуж? – с холодным, для самой себя неожиданным спокойствием подумала она. – Я ни минуты его не любила, и я всегда это понимала. Но тогда зачем старалась убедить себя, что это может перемениться? Зачем так упорно взращивала в себе хоть какое-нибудь чувство к нему?»
Но, на поверхности души задавая себе эти вопросы, в самой ее глубине Ева знала, что их и задавать не надо… Надо было всего лишь не скрывать от себя то, что стало очевидным для нее сразу, год назад, в первую ночь с будущим мужем: свое полное нежелание ложиться с ним в постель. Какой еще знак, более простой и ясный, был ей нужен? Лева, к которому она чувствовала тогда приязнь и благодарность, в постели всего лишь не вызывал у нее отвращения. И она сочла, что уже и это неплохо, и сразу схватилась за соломинку взаимной приязни, чтобы укрепиться на ней и хоть как-то доплыть к берегу. Но к какому берегу, с кем, зачем?
И вот теперь она оказалась вдвоем с мужем на прочном берегу – в хорошем городе, в хорошей квартире, с хорошо устроенной жизнью, сравнительно молодая женщина. А настроение такое, что хоть прыгай обратно в море.
Тут Ева даже улыбнулась своим размышлениям, хотя ей было совсем не до веселья. Надо же, как образно она стала мыслить! Как пятиклашка в школьном сочинении. Эта случайная мысль сразу потянула за собою воспоминания: Москва, школа на Маяковке, семь как струны звенящих сосен на кратовской даче, бабушкины чашки «с хвостиками», поблескивающие за стеклом старого буфета, – настоящий авторский сервиз, когда-то подаренный Эмилии Яковлевне парижским авангардистом… Но тут же навстречу этим воспоминаниям вынырнули другие: одиночество, морщинки у нецелованных губ, и никому не интересно, как ты живешь, что тебя волнует и радует, у всех своя жизнь, и у друзей тоже, ни в чьей жизни нет места для посторонних.
И в этом смысле родная до последней улицы Москва ничем не отличается от Вены. Большой город, властно диктующий миллионам людей: занимайся собою сам, сам выстраивай свою судьбу, не жди к себе интереса, не жди манны небесной…
Ева вздрогнула от телефонного звонка. Лева еще на работе. Странно, уже три часа дня, обычно он возвращается не позже половины первого. Пережидает, наверное, пока жена успокоится.
– Это Ферваль, добрый день, Ева, – раздалось в телефонной трубке. – У вас все в порядке, не правда ли?
– Здравствуйте, Вернер. Конечно, все в порядке, – ответила она. – А почему вы спрашиваете?
– О, извините. Просто не встретил вас сегодня в кофейне в обычное время, вот и позволил себе поинтересоваться.
– У меня разболелась голова, – соврала она. – А сегодня жарко, и я решила не выходить в город.
– Да, июнь. Летом в Вене жарко, – согласился он. – Я стараюсь вообще не бывать в городе летом, к тому же туристы, толпы людей.
– Я тоже скоро… Мы с мужем тоже, вероятно, поедем… куда-нибудь. Он сейчас занят, но в уик-энд обязательно. Возможно, в Венский лес, там, я думаю, сейчас должно быть чудесно.
«В самом деле, – подумала она, – надо мне ездить за город одной, пока он в университете. Столько зелени кругом, и Венский лес совсем рядом, к вечеру можно возвращаться. Зачем я сижу здесь целыми днями?»
– Да, в Венском лесу прекрасно, – согласился Вернер; Еве показалось, что он улыбнулся. – Я в основном там и живу, так что могу утверждать со всей ответственностью.
Опять дурацкая неловкость! В Венском лесу – собственно, почти в самом городе, но уже на отрогах Восточных Альп – располагались аристократические виллы. Можно было и раньше догадаться, что слова: «Я живу за городом», – которые Вернер произнес в ресторане, относились именно к этой местности.
Словно почувствовав Евину неловкость, он тут же сказал:
– Собственно, я решился вас побеспокоить в корыстных целях, Ева.
– В каких же?
Она тоже не удержалась от улыбки.
– Помните, вы сказали, что не прочь посмотреть мои работы? И вот теперь меня снедает авторское тщеславие и мне не терпится воспользоваться вашим интересом.
Сейчас он предложит навестить его на вилле, отказаться будет неловко, она же сама сказала, что собирается в Венский лес…
Однако Вернер поспешил добавить:
– Раз уж я все равно пока здесь, вы можете посмотреть картины у меня на городской квартире. Конечно, мне хотелось бы привести вас для просмотра моих работ в городской музей, но, увы, там они не представлены! – засмеялся он. – Итак, вы позволите пригласить вас на чашку чая?
Отказаться было бы просто неприлично: приглашение являло собою предел вежливой предупредительности. Вернер словно прочел на расстоянии все возможные возражения и легко обошел подводные камни неловкостей.
– С удовольствием, – ответила Ева.
Он предложил посетить «мой домашний музей» уже завтра – если, конечно, она… Конечно, она не занята завтра. И не предвидит для себя занятий во все остальные дни. Впрочем, об этом Ева не стала говорить господину де Фервалю.
Оказалось, Вернер живет в маленьком переулке рядом с Кертнерштрассе. Ева долго стояла на тротуаре напротив старинного трехэтажного дома и не отрываясь смотрела на выложенный изразцами фасад. Майолика переливалась в лучах полувечернего солнца, и в этих чудесных переливах неуловимо менялись лица купидонов, богов, сирен на фронтоне…
– Я рад вас видеть, – улыбнулся Вернер, открывая ей дверь. – Вы выглядите чудесно, Ева. Надеюсь, голова больше не болит?
Он ни слова не сказал о своем подарке – льняном платье, которое она надела сегодня впервые. Но его взгляд, и тон, и весь его вид говорили об искреннем восхищении. Сам он был одет в темный костюм с «бабочкой». Значит, на чашку вечернего чая в своем же доме принято было одеваться именно так.
В дверях гостиной Ева остановилась перед картиной в золоченой раме, занимавшей чуть не всю стену большой комнаты. В серо-коричневом глубоком свете, словно льющемся изнутри полотна, тускло поблескивала неширокая река, вдалеке темнели плавные линии гор. Весь этот простой пейзаж был словно увиден какими-то другими, теперь уже невозможными глазами…
– Это не моя работа, – улыбнулся Вернер, останавливаясь рядом с гостьей и тоже глядя на картину.
– Я поняла, – засмеялась Ева. – То есть я, конечно, не слишком разбираюсь в хронологии, но ведь, кажется, это восемнадцатый век?
– Середина семнадцатого, – кивнул он. – Рейсдаль. Знаете, был такой голландец? Мне кажется, ему нет равных в речных пейзажах. Он один умел так передавать пленительное однообразие рек… А эта картина была единственным приданым моей матери – впрочем, очень недурным приданым, – когда она выходила замуж за моего французского отца. Все Шварценберги считали ее брак мезальянсом, – улыбнулся Вернер. – Были сомнения в истинности отцовского графства и этой милой частички «де» в его фамилии. То есть все, конечно, подтверждалось бумагами, однако для маминых двоюродных бабушек титул, появившийся всего лишь при Наполеоне, значил очень мало. Но что поделать – бедность, бедность! В сорок пятом году у мамы не осталось ничего, кроме генеалогического древа и вот этой картины, а отец вышел сухим из войны. Однако прошу вас к столу, милая Ева, вам наверняка скучно слушать эти династические бредни.
Он сделал приглашающий жест, и Ева подошла к столу, накрытому для чая. Фарфоровые чашки с вензелями казались такими же прозрачными, как облака на картине Рейсдаля, и так же, как река, серебрились на столе приборы.
– Почему же, мне вовсе не скучно, – возразила она. – Но это так странно! Современный город, современный ритм – и вдруг этот ваш дом, и вы рассказываете совсем о другой жизни: мезальянс, династии…
– Наверное, – пожал он плечами. – Любимый наш венский разговор – вот именно о мезальянсах, фамильных древах, былом величии империи. Усталый дух! А по сути, ведь все это ровным счетом ничего не значит. Мама была несчастлива с отцом совсем не потому, что его титул не восходил ко временам Бурбонов.
– Они разошлись? – осторожно спросила Ева.
– Да, – с улыбкой кивнул Вернер. – Она вернулась в Вену в пятидесятом году, мне тогда было два года. Так что это для меня совсем не болезненные воспоминания, Ева, – добавил он. – Вы зря так трогательно боитесь меня ранить вашим вопросом.
«Черт знает что! – сердито подумала она. – И когда только я научусь вести себя сдержаннее?»
После чая они еще немного посидели за столом. Вернер рассказывал о Провансе, куда каждый год ездил на старинное замковое кладбище, чтобы навестить могилу отца, о недавней выставке в вилле «Гермес» в Венском лесу, еще о каких-то милых и простых вещах…
– Да, мои работы! – вспомнил он. – Вы хотите на них взглянуть?
– Ну конечно, – кивнула Ева. – Я ведь для того и пришла.
– Да? – усмехнулся он. – Что ж, пойдемте.
Квартира была невелика, но отделана со всей тщательностью безупречного вкуса. Даже не отделана, а отреставрирована: в ней совершенно не чувствовался современный дух. Еве показалось вдруг, что они идут не по коридору, а прямо по ветви генеалогического древа.
Мастерская располагалась в небольшой, но самой светлой комнате.
– Ну вот, дорогая Ева, – сказал Вернер, распахивая резные дубовые двери, – вот и цель вашего визита.
Картин, как он и говорил, было немного: несколько холстов, офорты, рисунки, сделанные, кажется, темперой. Но и то, что она увидела, впечатляло.
Ева вглядывалась в очертания предметов на небольшой гравюре. Они были странными, похожими на виденья: человеческие силуэты как облака клубились в узких городских небесах, между шпилями соборов.
– Это Вена? – наконец спросила она, взглянув на Вернера.
Тот смотрел не на картину, а на нее.
– Да, – кивнул он. – Я бы сказал: человеческий дух в контурах венских улиц. Сгустки силы и сгустки усталости. Усталого европейского духа. Но я не люблю объяснять картины, – улыбнулся он. – По-моему, искусство не должно требовать комментария. Вы не согласны?
– Согласна, – кивнула Ева. – Я люблю, например, то, что делает Полина. Это моя сестра, она тоже художница, я вам говорила? Я не всегда понимаю ее картины, но комментария к ним все равно почему-то не требуется. И к вашим тоже, Вернер.
– Спасибо, – сказал он, помолчав; в его голосе не чувствовалось ни обычной его вежливости, ни иронии – только ясное, ничем больше не скрытое чувство. – Ева, я… Вероятно, я давно должен был сказать вам, но не решался. Поймите, я очень скован в сфере открытых чувств… Ведь вы, кажется, тоже?
Ей показалось, что Вернер задал этот вопрос только для того, чтобы отдышаться. Он побледнел так, словно они стояли не в комнате, насквозь пронизанной солнечными лучами, а в подземелье без воздуха и света.
– Да, я тоже, – произнесла Ева; мгновенно мелькнула жалость к нему, к этой впервые проявившейся, такой необычной для него беспомощности. – Не всегда, но… иногда.
Она боялась, что он спросит сейчас, что значит «иногда», и она не сможет ему ответить: вот сейчас как раз и есть тот случай, когда она чувствует себя скованно, потому что…
Но Вернер ни о чем не спросил. Вместо вопроса он произнес, прямо глядя ей в глаза:
– Я люблю вас, Ева. Это не вчера со мною случилось, и скрывать дольше… Зачем?
И вдруг она поняла, что впервые в жизни слышит признание в любви. Денис никогда не говорил ей о любви, а муж… Говорил ли муж? Кажется, сказал только – тогда, в первую ночь, – что она стала ему дорога, что он не мыслит своей жизни без нее и что это серьезно, он проверил свои чувства. И потом повторял не раз именно это: «Евочка, я не могу без тебя».
Но о Льве Александровиче Ева сейчас не думала. Она боялась поднять глаза на Вернера и понимала почему.
– Меня сдерживало, конечно… Я не мог позволить себе… – с невозможной в его голосе сбивчивостью произнес он. – Ваш супруг… И потом, я все время думал: связать свою жизнь со мной – это было бы для вас слишком большим жизненным поворотом, вас слишком многое привязывает к дому… О, мой Бог! – вдруг улыбнулся он. – Связать свою жизнь со мной! Моя самоуверенность вас не оскорбила?
– Н-нет… – с трудом выговорила Ева. – Дело совсем не в этом, поймите, Вернер, прошу вас, а только в том, что я…
И тут она почувствовала, что ничего не сможет ему объяснить. Да, дело не в том, что он кажется ей самоуверенным. Боже мой, да какая же самоуверенность, совсем наоборот, ведь он… И не в том дело, что… Мысли перепутались в ее голове, еще не успев сделаться словами.
Она не могла ему объяснить, что же сдерживает ее так сильно, так неодолимо! Нет, могла…
Она знала, что не любит его, и дело было только в этом.
Ева даже сомнений никаких не испытывала, хотя всю свою жизнь она всегда в чем-нибудь сомневалась. Она не любила этого умного, тонкого и талантливого человека, и необходимость вот сейчас сказать ему об этом приводила ее в смятение.
Впервые за все время знакомства с Вернером Ева обрадовалась, что он так легко читает ее мысли по лицу. Может быть, он сам все поймет и не надо будет…
– Помните наш разговор – тот, когда вы рассказывали мне о Пушкине? – вдруг спросил Вернер. – Я перечитал его роман, мне хотелось понять. Это почти невозможно – пробиться через перевод, я знаю. И все-таки… Вы знаете, мне кажется, что я все-таки понял, почему Татьяна осталась с мужем, в то время как любила другого. Она не создана разрушать, не правда ли? Сила созидания в ней слишком велика, она сильнее любви, если любовь требует разрушения. Извините меня.
Тут Вернер остановился, словно запнулся, сорвался на самой высокой ноте. На его лице обозначилась наконец улыбка, но Ева не обрадовалась знакомым ироническим морщинкам у его губ. Наоборот, неизвестно почему сжалось сердце…
– Я не жалею, что высказал свои чувства, – помолчав, сказал он. – Знаете, я заключил своего рода пари с самим собой. – Кажется, Вернер вполне овладел собою и говорил уже почти обычным своим тоном. – Сказал себе: я так хорошо знаю ее лицо, хотя мы совсем недолго знакомы, как странно узнать, почувствовать лицо женщины так быстро… Значит, я сразу пойму ее чувства, после первых же моих слов. И я их понял. По вашему лицу промелькнуло только смятение, Ева, одно только смятение. Я и прежде видел его промельки, но они сменялись то интересом ко мне, то улыбкой, почти веселой. А сейчас, после моего ненужного признания, – только смятение… Поэтому я прошу извинить меня и не требую ответа.
Он быстро наклонил голову, словно простился. Ева молчала. Оба они стояли в молчании посреди светлой комнаты. О чем было теперь говорить – о картинах, о красивом городе Вене?
Ева с детства знала, что ее аналитическое мышление оставляет желать лучшего. То есть, можно сказать, оно совсем у нее отсутствует. Математичка Галочка Фомина, школьная ее подружка, с которой потом вместе пришли на работу в свою же гимназию, не раз удивлялась:
– И как ты только, Евка, детей учишь? Конечно, литература – не математика, но все равно же на одних эмоциях далеко не уедешь!
А Ева и не считала себя образцовой учительницей. Дети любили ее – может быть, с беззлобной насмешкой, но любили, – а ей нравилось преподавать им литературу, только и всего.
Галочка любила повоспитывать Еву: чтобы правильно оценивала свои шансы на счастье; чтобы научилась ставить на место Дениса; чтобы, раз замуж не берет, хоть ребенка от него заимела – здоровый же парень, умница, от кого еще рожать? Толку из Галкиного воспитания не выходило никакого. Правда, она и воспитывала свою непутевую подружку в основном для того, чтобы поучиться самой: Галочкина личная жизнь тоже никак не складывалась.
Но разумное зерно она в Евину душу, кажется, заронила. Во всяком случае, теперь Ева пыталась это разумное зерно отыскать. Она поссорилась с мужем – это раз. Ей скоро тридцать пять – это два. Она почти наверняка не сможет родить – это три. Ее муж достойный, порядочный человек, он не придал ссоре серьезного значения, ведет себя с нею еще более предупредительно, чем раньше, – это четыре. Ее темперамент таков, что секс вообще можно вынести за скобки, – это пять.
Что следует из всех этих вычислений? Следует только одно: надо забыть глупую блажь и принимать жизнь такой, какая она есть.
Можно еще проанализировать, почему ее раздражает Лева. Впрочем, можно и не анализировать: серьезных причин для раздражения нет никаких.
Раздражает его житейская умелость, его интерес к мелочам? Что ж, устраивай жизнь сама! Свою, мужа, и чтобы вы оба были довольны. Не можешь, не знаешь, что надо делать, тебе хватит твоей школы и твоих книжек? А ему, мужчине?
Раздражают дурацкие песенки, которые он пишет для эстрады? Что и говорить, «Русская красавица» – образец пошлости, да и «Останься» не лучше: «Я полюбила Млечный Путь…» Но ведь он и сам это понимает не хуже тебя, и его тошнит от дурацких стишков! А что, лучше было бы, если бы он спивался потихоньку в буфете Дома литераторов, а ты бегала бы по урокам, добывая деньги детям на молоко и мужу на водку?
Детям… Это, конечно, самое тяжелое, что между вами возникло. Но и тут: разве он не прав? Ты думаешь о себе, хочешь использовать свой последний шанс. Но ему-то, отцу двоих взрослых детей, зачем в пятьдесят лет взваливать на себя такую ношу? Для него непосильны эти обязательства, и правильно, что он не хочет плодить детей с безответственностью пескаря!
О Вернере Ева вообще старалась не думать. Ей было так стыдно перед ним, что слезы выступали на глазах при одном воспоминании о нем. Хотя, если подумать, чего ей следовало стыдиться?
Назавтра после вечернего чаепития Ева получила письмо на знакомой бумаге с гербом. Граф де Ферваль еще раз просил извинить его бесцеремонность, заверял в глубочайшем своем уважении и расположении, надеялся на скорую встречу и всегда для него приятную беседу.
«Я не отказываюсь ни от чего, сказанного вам», – было написано после этих дежурных любезностей его твердым, колким почерком. Таков был итог утренних здравых раздумий.
Ближе к полудню Ева сидела в плетеном кресле на лоджии и допивала кофе. Вот уже неделю, после разговора с Вернером, она не отправлялась для этого на Стефанплатц.
Политые с вечера синие цветы еще не пожухли под утренним солнцем. Они вились по проволоке над балконом и даже давали легкую тень. Солнечные зайчики проскальзывали между вьющимися стеблями, плясали на подоле белого Евиного платья, прятались в дырочках вышивки ришелье. Занимался день, занимался июнь. Дверь хлопнула в глубине квартиры: Лев Александрович вернулся из университета.
– Ты дома? – Он заглянул на лоджию. – Что, лень по жаре в город ехать? Правильно, – кивнул Лева и продолжил, не дождавшись ответа от жены: – Зачем камнями дышать! Мы с тобой лучше искупаться выберемся на уик-энд. На Старый Дунай или на Инзель, тебе что больше нравится, а, Евочка?
– Вряд ли получится, Лева, – обернувшись к мужу, сказала она. – Я думаю поехать в Москву.
– В каком смысле? – не понял Лев Александрович.
– Ни в каком, – пожала плечами Ева. – Просто поехать в Москву. В каком смысле это делают?
За минуту до появления мужа она вообще не думала о поездке. Эти слова сорвались как-то сами собою, Ева даже сообразить не успела, почему их произносит. И вдруг, вслух сказав: «Я поеду в Москву», – она поняла, как сильно ей это было необходимо! У нее даже горло перехватило, ничего больше не хотелось говорить.
– Ничего себе… – растерянно протянул Лева. – Нет, погоди, Ева, я что-то не понимаю… Разве мы предполагали кататься из Вены в Москву? А виза? У нас же одноразовая виза! Ты что, опять хочешь ночевать в Москве у посольства или платить бешеные деньги?
Ева смотрела, как двигаются губы ее мужа, и не слышала его слов. Ей стало так легко, как будто ее наполнили каким-то особенным воздухом, и она едва сдерживала улыбку – глупую, беспричинную.
– Мы – не предполагали, – все-таки не сдержав улыбки, ответила она. – Но я – поеду.
– Нет, но ты отдай себе хотя бы отчет… – начал Лев Александрович.
«Господи, какая скука! – с невозможным, счастливым облегчением подумала Ева. – Какая же немыслимая, никчемная, смертельная скука!»
И засмеялась.
Она собиралась ехать в Москву автобусом. Получалось чуть не вдвое дешевле, чем добираться поездом, и уж вовсе несравнимо с самолетом. Но даже эти ее рассудительные планы полетели кувырком.
С той минуты как Ева решила, что поедет, и поедет обязательно, – с той минуты все, что она делала сама и что делалось вокруг нее, слилось в такой единый, такой направленный поток, в котором события происходили как будто бы помимо ее усилий.
Она уже обзвонила транспортные фирмы, уже почти договорилась о билете на неудобный, но дешевый ночной автобус, когда позвонил некто господин Мюллер и сообщил, что он вчера вернулся из Пресбурга – о, извините, из Братиславы, это наша старая венская привычка! – и должен передать деньги от господина Гринева. Да, от Валентин Гринефф, вы совершенно правы, мы виделись с ним в Пресбурге, он предназначил для вас гонорар за свое выступление на конференции, но, к сожалению, не знал номер вашего конто в Вене.
Неизменность папиных поступков была крепка, как скала. И, конечно, эти деньги Ева хотела потратить только на одно: на то, чтобы скорее вернуться к нему, ко всем к ним вернуться поскорее!
Багаж в Шереметьеве пришлось ждать так долго, как будто он летел другим самолетом. Ева нервничала, ходила туда-сюда между сувенирным киоском и обменным пунктом, проклинала все на свете, злилась на себя за то, что поддалась на Левины уговоры и взяла с собой все те вещи, которые, по его мнению, надо было срочно перевезти в Москву.
Но она ведь не поссорилась с мужем. Она просто объяснила ему, что соскучилась по родным, что ей бывает одиноко в Вене, надо ненадолго переменить обстановку… И постаралась, чтобы голос ее при этом звучал как можно более убедительно и спокойно.
– Но ты же только до осени, правда? – несколько раз переспросил Лева. – Действительно, жара здесь все лето невыносимая. Может, я тоже подъеду в августе, если меня не привлекут к летним курсам. Тогда съездим с тобой, Евочка, куда-нибудь отдохнуть! В Болгарию, например.
Лева выглядел таким потерянным, что у нее язык не поворачивался спорить с ним по таким пустякам, как багаж. Ну, отвезет его чемоданы на Краснопресненскую, это же нетрудно.
Стоило только подумать о том, что через четыре, три, два часа она будет в Москве, – и все, что прежде Ева сочла бы трудностями, становилось в ее глазах всего лишь мелкими неудобствами.
Но это радостное чувство собственных безграничных возможностей длилось ровно до той минуты, когда она вышла наконец из самолета, через «рукав» прошла в здание аэропорта, встала рядом с лентой транспортера – то есть выполнила последние мелкие дела.
И сразу исчезло радостное волнение, истаял нетерпеливый холодок в груди, ожидание из счастливого сделалось каким-то лихорадочным. Ева понять не могла, почему это произошло. Совсем другая женщина, чем та, что улетала несколько часов назад из Вены, – растерянная, едва ли не перепуганная, – стояла в зале шереметьевского аэропорта…
Когда ее чемоданы выплыли наконец из багажного отделения, она их чуть не пропустила.
И только когда Ева выбралась из-за всех этих стоек и контрольных пунктов, протиснулась сквозь узкий и шумный живой коридор встречающих, – только тогда она поняла: вот и все. Вернулась. Что теперь?
И тут же увидела Юру.
Ева не знала, кто приедет ее встречать, но почему-то не ожидала, что это будет он. Привыкла к тому, что брат всегда на работе, что ему и на полчаса трудно вырваться по каким-нибудь домашним делам. А может быть, просто не привыкла к тому, что он теперь в Москве, что три года разлуки позади и что это очень просто теперь, обыденно: Юра идет ей навстречу по гулкому залу аэропорта…
– Плачешь, рыбка? – заметил он еще на расстоянии. – А теперь-то о чем тебе плакать?
И обнял сестру, прижал ее голову к своему плечу.
Может быть, Юра имел в виду что-нибудь другое, но, уткнувшись хлюпающим носом в его шею, виском почувствовав его дыхание, Ева расслышала в словах брата только простое и ясное утешение: ты ведь дома, значит, и плакать теперь не о чем… И ее детское прозвище «золотая рыбка» прозвучало как самый верный знак возвращения.
Глава 7
Юра и представить не мог, что возвращение в Москву окажется для него тяжелее, чем трехлетней давности отъезд на Сахалин.
Внешних помех его возвращению было очень мало. Да их, можно сказать, и совсем не было. Конечно, никто в больнице не обрадовался тому, что Юрий Валентинович уезжает в Москву, да еще вот так, вдруг. Красивая рослая Катерина, медсестра из ожогового, даже всплакнула на прощальной гулянке, и завтравматологией Гена Рачинский тоже высказал свою опечаленность сим прискорбным фактом.
– Какие кадры теряем, товарищи! – поднял он первый тост. – Боевые, можно сказать, войной и миром проверенные!
Наверное, несмотря на расположение к Юре, в глубине души Генка все-таки вздохнул с облегчением. Что ни говори, а все понимали, что Гринев был лучшей кандидатурой на должность завотделением, и кто знает, как карта легла бы два года назад, не перейди тогда Юрий Валентинович на ставку дежуранта. Может быть, Генка не раз благодарил про себя и Юрин опыт Армении и Абхазии, и вообще склонность Валентиныча находить себе приключения в ущерб карьере. В МЧС, например, никто его палкой не гнал, сам пошел, и как раз когда решался вопрос о заведовании отделением. Так что Гена перед ним чист как стеклышко.
Юра только усмехнулся незаметно, когда Рачинский назвал его проверенным боевым кадром. В Абхазии-то он не воевал, а оперировал, а что до проверенности – можно подумать, это с Генкой они провели три месяца в ткварчельской блокаде под бомбежками!
Но вообще-то все прощальные переживания были искренними, несмотря даже на то, что отъезд Юрия Валентиновича в Москву едва ли стал полной неожиданностью для кого-нибудь из его сахалинских коллег и знакомых. Во всяком случае, отъезду здесь удивились гораздо меньше, чем приезду. Вот три года назад действительно никто в голову не мог взять, чего это не сиделось в столице тридцатилетнему, во всех отношениях перспективному товарищу и зачем ему было менять престижный Склиф на областную больницу в Южно-Сахалинске.
Расставание с Соной, невозможность оставаться в прежней жизни, как будто ничего не произошло, да что-то там не сладилось с коллегой… По отношению к нормальному, ни в чем судьбой не обиженному мужчине это кому угодно показалось бы таким же невразумительным объяснением, как если бы Гринев заявил, например, что приехал к самой дальней гавани Союза по зову неспокойного сердца.
Правда, он и сам очень сомневался в возможности что-либо объяснить в человеческой жизни. А от слов вроде «по зову сердца» его вообще тошнило. Поэтому он никому ничего и не объяснял три года назад. А теперь… Ну, что ж теперь! Теперь объяснять пришлось только Игорю Мартынюку, командиру поисково-спасательного отряда МЧС, в котором Гринев был главным врачом.
Игорь отпускал его мало сказать с неохотой.
– Ведь так и знал же, Юра! – возмущался он, подписывая последние бумаги. – Так и знал, что не зря ты погоны надевать не хочешь!
– Да я же тебя сразу предупредил, – взмолился Гринев, – что человек я по натуре не военный. Ну бывают же такие, Игорь, не смотри ты на меня волком!
Ему почему-то стыдно было перед Мартынюком, хотя стыдиться было вроде нечего: и Сахалин не передовая, и Москва не тыл.
– Бывают, – хмыкнул Мартынюк. – И с чего ты взял, что волком? По-человечески я на тебя смотрю! А вот был бы ты сейчас при погонах да рапорт подал бы по начальству, а я б его прямо со стола да в помойку, и все дела. И работал бы ты со мной, Валентиныч, до самой пенсии душа в душу, как сейчас.
С Игорем действительно работали душа в душу два года; может, потому и было стыдно.
Больше стыдиться было не перед кем. То, что Гринев испытывал к Оле, что почувствовал, прочитав ее прощальную записку: «Я не хочу, чтобы ты мучился из-за меня…» – не называлось даже стыдом. Это было какое-то очень сильное чувство, с которым невозможно было жить. Но жить было надо, и он уезжал в Москву.
Боря Годунов отнесся к приезду Гринева, как дети относятся к появлению новогодней елки: вроде так оно и должно быть, а все-таки не верится. Он только что руками не ощупывал Юру, чтобы убедиться в реальности его появления – здесь, в Москве, в тесной комнатке медпункта поисково-спасательного отряда Красного Креста.
– То есть все, значит? – со смешной осторожностью выспрашивал Борька. – То есть и документы у тебя на руках, и вообще все, да, Юра? Или еще за чем-нибудь смотаться придется?
Как будто смотаться на Сахалин за какой-нибудь недостающей бумажкой было так же просто, как на дачу в Кратово!
Смешно было видеть Борькины круглые, как орехи, коричневые глаза – смешно и радостно. Юра еще в Армении поразился странной, такой в том аду неуместной радости, с которой встречал он взгляд комсомольского начальника Бориса Годунова – одновременно хитрый и бесхитростный, веселый и печальный, суровый и детский взгляд. И в Абхазии не исчезла эта радость, с трудом пробивающаяся сквозь бешеную усталость: когда Борька двумя фонариками светил Юре на руки в темной и холодной операционной, а потом курили с ним последнюю сигарету на больничном крыльце, пять минут отдыхая до следующего раненого.
Переманивая Гринева из МЧС к себе в московский отряд Красного Креста, Борька объяснил, почти не смущаясь:
– Как же мне тебя не звать, Юра! На тебя же с утра только глянешь – как ста граммами похмелился, ей-Богу! Даже забываешь, сколько сволочей кругом.
Так что удивляться не приходилось ни одному из них, ни другому. И та тяжесть, которую Юра так болезненно ощущал в душе, не была связана ни с какими внешними обстоятельствами. Да и существовала ли для него вообще тяжесть внешних обстоятельств?
Его одиночество было таким полным, таким неодолимым, что Юра чувствовал его днем и ночью, как ноющий зуб. С той только разницей, что зуб можно вылечить или просто удалить, а одиночество – едва ли.
Однажды он даже с тоской вспомнил то время, когда собственное одиночество было для него привычным, само собою разумеющимся. Когда он знал, что ничем этого не избыть: ни работой, ни Олиной любовью. Когда он не знал Женю…
И тут же, при одной только мысли о времени, когда он не знал Женю, – неужели было такое время? – дрожь пробирала его и сжималось сердце.
Никакой душевный покой не мог заменить даже только воспоминаний о бесконечной, как отдельная жизнь, неделе на берегу залива Мордвинова, к которому прибило льдину с двумя случайно оказавшимися рядом людьми. И тем более ничто не могло заменить Жениного реального существования – ни работа, ни Олина любовь.
Чем заменить собственное сердце?
Но Жени не было, она исчезла в чужой для него жизни, и с этим ничего нельзя было поделать. Это казалось Юре еще более нереальным, невозможным, потому что Женя ведь просто уехала. И уехала в Москву – в родной его, единственный город, в котором ничто не могло быть ему чужим, потому что там он родился, и там полюбили друг друга его родители, и бабушка с дедом сбрасывали в сорок первом году «зажигалки» с московских крыш, а теперь лежали рядом на Ваганьковском кладбище. Ничего не могло ему быть чужим в Москве, кроме… Но об этом единственном «кроме» незачем было ни думать, ни тем более говорить.
К счастью, никто и не требовал от него пустых разговоров. Мама сказала в первый же вечер после его приезда:
– Давно пора, Юрочка, и сколько можно от себя да от дома бегать?
Папа вообще ничего не сказал по своему обыкновению, только посмотрел с детства любимым взглядом чуть раскосых черных глаз – немного исподлобья, как будто бы сурово, и вдруг расцветает улыбка…
Полинка чмокнула его в щеку и заявила:
– Юрка, у тебя стала очень содержательная внешность! Давай я твой портрет напишу?
– В виде треугольника? – засмеялся Юра, вспомнив абстрактные увлечения сестры, и тут же согласился: – Рисуй, мадемуазель Полин, хоть в виде пирамиды.
А Евы не было, и это было грустно. Почему-то не верилось, что она счастлива со своим Горейно, даже в таком прекрасном городе, как Вена. Слишком уж гладким, невыразительным показался Юре Лев Александрович при первом знакомстве – как бутылочный осколок, обкатанный морем. Впрочем, может быть, Юра просто ревновал к нему сестру, а это было, конечно, очень глупо.
– Нет, Юрка, ну ты скажи! – Годунов готов был взорваться от возмущения, как переполненный паром котел. – Это что, нормальное дело – пострадавших делить на дороге? По-твоему, нормальное?!
– Ненормальное, – согласился Гринев. – Но что поделаешь, Боря, не драться же с ними. Тем более, человеку все равно, кто его из машины раскуроченной вынимает.
– А что, не помешало бы и вмазать разок, – проворчал Борис. – И что значит «человеку все равно»? Видел ты, какая у них гидравлика? Доставали бы кошек из мусоропроводов и не лезли, куда не понимают!
– А что, кошки тоже люди, – улыбнулся Юра, глядя в годуновские возмущенные глаза. – Да ладно тебе, Боря, нашел конкурентов! Ну, приехали они сегодня раньше нас, что плохого?
Борькино возмущение относилось к новой спасательной службе. Она возникла в Москве совсем недавно, образовавшись из коммерческой фирмы, мгновенно разрекламировала себя как аналог американской «911» и даже успела каким-то боком пристроиться к городскому бюджету. Как будто нет годуновского спасательного отряда, который может работать хоть на землетрясениях, хоть в городских условиях! И кому нужна вся эта неразбериха?
Гринева тоже не радовала неразбериха и дурацкая конкуренция неизвестно в чем. Но, в отличие от Борьки, он мог себе позволить более философское к этому отношение. В конце концов, пусть бы это была главная неразбериха нынешней жизни, и пусть бы вся конкуренция шла за то, кому спасать попавшего в беду человека.
Конечно, Борька не мог быть так спокоен. Именно ему, командиру, приходилось доказывать в инстанциях, что стыдно требовать бесплатной работы от прекрасно подготовленных, обладающих огромным опытом спасателей, даже если они и не качают права. А когда речь идет о том, кого финансировать из городского бюджета, – это уж, извините, не просто профессиональная ревность!
Во все, что касалось денег, Гринев предпочитал не вмешиваться, тем более что это и не входило в его служебные обязанности. Он был уступчив в денежных делах и понимал, что во многих случаях такая уступчивость совсем некстати.
Просто он с самого окончания института поставил себя в условия, в которых ему надо было не много. Но ведь это вовсе не значит, что в таких же условиях должны были находиться люди, связанные с ним работой!
Отчасти Юра был поставлен в такие условия от рождения. Хорошее образование разумелось в гриневской семье само собою, никому в голову не пришло бы обсуждать, надо ли сыну после школы поступать в институт или лучше поискать денежную работу. Или хотя бы – надо ли поступать именно в медицинский, как он хотел с детства, или стоит заранее подумать о будущей зарплате.
Бабушка Миля прописала любимого внука к себе, как только он получил паспорт, так что и квартирный вопрос никогда не висел над ним дамокловым мечом.
Отношения с женщинами тоже складывались таким образом, что меньше всего зависели от денег и прочих житейских благ. С Соной, первой своей женой, Юра просто не успел понять, надо ли ему думать о какой-то другой организации своей жизни: слишком болезненны, слишком напряженны были их отношения. И слишком коротки… Можно было объяснять расставание чем угодно: Сониным посттравматическим синдромом, вечным следом армянского землетрясения – смертями родных, нервами, искореженными за те двое суток, которые Сона провела под руинами рухнувшего дома. Чем угодно можно было все это объяснять! Но наверняка не тем, что Сону не удовлетворяла его зарплата.
А Оля… Юра до сих пор не мог без боли вспоминать взгляд ее длинных корейских глаз – влюбленный, самозабвенный взгляд. И имя – Ок Хи, «мастер радости»… Какие уж тут деньги! Оля не оставила бы его, даже если бы обречена была всю жизнь провести в рубище и питаться древесной корой. Никогда бы она его не оставила… Вспоминать о ней Юра не мог. И не вспоминать не мог.
Он казался себе колобком, ушедшим от проблем, которые не дают покоя всякому нормальному мужчине. И нечем ему было гордиться.
Снег выпал рано, в середине октября. Не снег даже, а склизкая каша: и таять не тает, и белеть не белеет. Ветер сразу стал промозглым, ночью чудилось, будто он воет во дворах между домами, как в глухой деревне. Все это не поднимало настроения даже Юре, хотя он вообще-то почти не реагировал на погоду, да и к снегу октябрьскому привык на Сахалине.
В день первого снега дежурила годуновская бригада, экипаж из пяти человек. Утром, едва успели принять дежурство, их вызвали на Кутузовский проспект.
Каждый уважающий себя депутат или бандит осознавал свой новый жизненный статус как добытое кровью и потом право мчаться к себе на Рублевку по разделительной полосе, на красный свет, врубив сирену и мигалки. Поэтому правительственную трассу давно уже называли дорогой смерти, и вызовы на нее стали привычным делом для всех экстренных служб.
На этот раз столкнулись две машины. Водитель «Ауди» – той, что вылетела на встречную полосу, – возвращался под утро из ночного клуба, был вусмерть пьян и отделался, похоже, сломанной ногой. Он яростно матерился, когда его доставали из смятой в лепешку кабины, требовал покурить, орал на спасателей, чтоб не смели уродовать машину «своими блядскими ножницами», и здоровой ногой чуть не заехал в глаз Годунову. Благо Борька обладал хорошей реакцией и вовремя отбил рукой ногу пострадавшего, не удержавшись от удовольствия ударить посильнее.
Во второй машине спасать было некого: женщина за рулем «Шкоды» и девочка лет десяти на том месте, где было переднее сиденье, не подавали признаков жизни. И не могли они их подавать… Гринев стряхнул на асфальт остатки лобового стекла, просунулся в кабину, поставил обеим капельницы – понимая, что смысла в этом нет, – крикнул ребятам: «Готов, начинайте!»
Сзади «Шкода» была целехонька, на сиденье лежали пестрые пакеты и коробки. Один пакет, прозрачный, с огромной погремушкой-попугаем, вылетел через окно на тротуар.
– И не будет ведь ему ничего, – хмуро произнес Борис, когда «Скорая», забрав водителя «Ауди», отъехала от места катастрофы. – По две штуки баксов заплатит за каждую, и все дела. Ну, может, пять за двоих.
– Думаешь?
Юре трудно было говорить: двое накрытых черным полиэтиленом носилок еще стояли рядом с разбитой «Шкодой».
– А чего тут думать? – хмыкнул Годунов. – Вряд ли подорожало, пятью штуками отделается. Снег, дорога нечищена, колдобины. Главное, техническую экспертизу правильно организовать и кровь на анализ не сейчас сдать, а через сутки. Вот разве что муж у нее покруче окажется…
Случаев, когда справедливость торжествует, только если наводить ее берется «кто покруче», они с Борькой навидались достаточно. Особенно в Ткварчели – когда солярки для больницы хватало ровно на час в сутки, а родственники городского начальства гоняли по городу на «Жигулях».
Так что удивляться не приходилось. И чувство, которое Юра испытывал каждый раз, сталкиваясь со всем этим, невозможно было назвать удивлением. Удивляешься ли, понимая, что против лома нет приема? А идти к кому-нибудь за еще большим ломом не хочешь, потому что… Да потому что тебе не двенадцать лет, Робин Гудов не ждешь, и уже не обязательно все в жизни трогать руками, чтобы понять, как оно устроено.
Из-за этой аварии опоздали к обеду. Приехали продрогшие, хмурые, даже не голодные. Пока дежурный варил пельмени, купленные по дороге у Киевского вокзала, Борис включил телевизор.
– Только не «Дорожный патруль», – мрачно пошутил Андрей Чернов, согревая руки о стакан с чаем.
– Ладно, – от расстройства не уловив шутки, ответил Годунов. – Сейчас развлекаловку найдем.
Но вся развлекаловка, как назло, попадалась до того глупая, что ничуть не веселила.
– Да! – вспомнил наконец Борис, перебрав все программы. – Сейчас же «ЛОТ» пойдет, рекламу только переждем.
Сердце у Юры дрогнуло коротко и привычно. Он не хотел сейчас смотреть «ЛОТ», просто не мог видеть… Или наоборот – всегда хотел ее видеть?
«Она дневной эфир редко ведет, – мелькнуло в голове. – Может, не сегодня… Или попросить Борьку, чтобы выключил?»
Но на экране уже закружились студийные компьютеры и мониторы – и сразу же появилась Женя. Когда камера «поймала» ее, она еще допивала что-то из пестрой чашки, сидя на крутящемся стуле за своим столом, и даже замахала рукой: минуточку, мол, секунду еще подождите! Кажется, это была ее фишка – такая же, как у кого-нибудь другого паркеровская ручка, торопливо скользящая по бумаге, как будто ведущий делает последние заметки для памяти.
Уже через мгновенье Женя поставила чашку на блюдечко, улыбнулась и произнесла:
– Здравствуйте! Телекомпания «ЛОТ» и я, Евгения Стивенс, приветствуем в студии дневных новостей всех, кто не утратил интерес к жизни!
Хорошо, что ребята сейчас мало были расположены к разговорам. Никто не мешал Юре смотреть в Женины веселые холодноватые глаза, следить, как мелькает в уголках ее губ улыбка. Он забыл, как минуту назад хотел переключить программу, как час назад стоял на запруженном машинами Кутузовском рядом с накрытыми носилками, как снег стекал по черному полиэтилену… Он не слышал, о чем говорит Женя, и не успевал опомниться, даже когда шли сюжеты и ее лицо исчезало с экрана.
– Увлекся, Юр? – Борькин голос прозвучал так неожиданно, что Гринев невольно вздрогнул. – Думаешь, это правда?
– Что – правда? – кашлянув, переспросил он.
– Ну, про собаку, – удивленно пояснил Борис. – Будто бы она третий раз в жизни цвет меняет. По-моему, брехня, специально хозяйка перекрасила, чтоб телевизионщиков приманить.
– Но соседка же подтверждает, – вмешался Андрей. – Тоже, по-твоему, врет?
– Ты даешь! Да они ж с рожденья в одной коммуналке живут, неужто не договорятся? Соседка что, не человек, не хочет по ящику показаться? Бабульки эти – их же хлебом не корми…
– Хлопцы, кушать подано! – позвал Витя Лялько. – Кончай базар, пельмени стынут.
Видно, аварией на Кутузовском вычерпалась норма дневных бед в радиусе действия годуновской бригады спасателей. Дежурный весь день слушал эфир, трижды звонил пожарным, узнавая, не нужна ли помощь. Но выехать пришлось еще только раз: на проспекте Вернадского вскрывали металлическую дверь, пока милиционеры снизу заговаривали зубы мужику, стоящему в окне девятого этажа. Мужик, как позже выяснилось, прыгать из окна не собирался, а собирался только попугать жену, так что вызов получился бестолковый.
Ночь вообще началась затишьем, и Юра прилег у себя в медпункте, вытянувшись на панцирной кровати.
Ему казалось, что он засыпает, засыпает, вот совсем заснул… Но картины, которые мелькали, кружились под сомкнутыми веками, трудно было назвать снами. Слишком явственными они были, слишком походили на воспоминания.
Вот он сидит на топчане в рыбацкой избушке, Женя лежит рядом, голову положила ему на колени, снизу смотрит в лицо и о чем-то рассказывает. А он держит ее руку в своей и чувствует, что с каждым словом по-новому вздрагивают ее пальцы: легко сжимают его руку, отпускают на мгновенье, гладят ладонь… Женя говорит:
– А мне теперь кажется, что я без тебя как будто в пошлости купалась и даже не замечала совсем! Вот знаешь, как детей в дубовой коре купают? Нет, ты не думай, никакого тяжелого детства, и в жизни пробиваться мне не пришлось. Совсем другое… Отпусти руку, Юра, – вдруг просит она. – А то я сейчас заплачу и говорить не смогу.
Но она не плачет, а смеется, только глаза блестят ярче обычного, как мокрые агаты.
– Это ничего. – Он наклоняется к ее лицу, к самым губам. – Ничего, Женечка, дубовая кора здоровая, дети от нее только крепче становятся.
И в самом деле отпускает ее руку, но тут же вдевает пальцы в мелкие колечки волос, прилипшие к Жениному лбу; светлые пряди льнут к его ладони.
Был ли именно такой разговор в те дни и ночи на берегу залива Мордвинова, о другом ли они говорили, а сейчас снится небывшее? Но колечки, прилипшие ко лбу, были точно, полгода он их чувствует на своих пальцах. И глаза ее видит, похожие на светлые камни – с такими же узорчатыми прожилочками на поверхности, с такой же скрытой, невидимой глубиной…
– Вставай, Юра. – Борька приоткрыл дверь медпункта, свет пробился из коридора, исчезли русые колечки. – На Минской ДТП, поехали.
Глава 8
Никто и не понял, когда началась зима. Слякотный октябрь незаметно перешел в такой же слякотный ноябрь. В новогоднюю ночь вообще пошел дождь.
Утром первого января Юра обнаружил у себя в сумке зонтик: мама положила, чтобы сын не промок по дороге на дежурство. Наверное, из-за этого зонтика, который он так и не раскрыл, всю дорогу не покидало странное чувство: родной щемящей заботы и одновременно – неизбывного одиночества под серым зимним небом.
Было еще рано, темно, можно было не спешить, и от Киевской площади Юра пошел пешком – мимо «Рэдиссон-Славянской», мимо киностудии, мимо посольств на Мосфильмовской улице, совсем безлюдной в первый день нового года.
Он шел неторопливо и так же неторопливо думал: вот, нашел все-таки и в новой своей московской жизни обыденную колею, вписался в очередной поворот, да он вообще легко находит себе местечко в любых условиях, конформный в общем-то человек… Странное словечко «конформный», какое-то языколомное, где он его слышал, почему вдруг прилипло к мозгам? Вообще, голова набита черт знает чем, надо бы занять ее чем-нибудь дельным – записи сахалинские пересмотреть, что ли.
Папку с сахалинскими записями Юра еще ни разу не доставал из стола с тех пор, как приехал в Москву. Собственно, к Сахалину его заметки почти не имели отношения. Просто жил он в Южном довольно замкнуто, времени хватало, и как-то само собою, постепенно начал вспоминать все, что делал после института.
Сначала это было только описание его работы на армянском землетрясении: синдром сдавления, травмы, показания, ход операций, послеоперационный период у тех, кого наблюдал потом в Склифе… О Соне, конечно, он тоже писал – ведь это чудо было, что удалось сохранить ей руки, профессор Ларцев не зря потом студентов водил на нее смотреть.
Когда дошла очередь до Абхазии, медицинские записи незаметно стали перемежаться дневниковыми – конечно, без лирических излишеств. Просто более подробно стал записывать, кем и при каких обстоятельствах была получена травма, сколько времени ушло, чтобы доставить пострадавшего из горного села…
Однажды привезли на покореженных «Жигулях» семилетнего мальчика. Вся машина была изрешечена пулями, вместо перебитых газового троса и тяги сцепления привязаны были веревки. Дергая за них обеими руками, отец мальчика управлял «Жигулями». Как он умудрялся при этом еще и рулить, было совершенно непонятно.
– Дороги-то, Юра! – говорил потом Годунов, успевший получше разглядеть разбитые, с залитыми кровью сиденьями «Жигули». – Дороги-то горные, серпантин. Это ж пианистом надо быть, чтоб по таким без всего доехать!
По виду коренастого бородатого мужчины трудно было заподозрить в нем пианиста. Так же трудно было представить, что он способен смотреть на кого-нибудь как на Бога. Но на Юру он смотрел именно так.
– Сделай что-нибудь, доктор, – срывающимся голосом выговорил он.
Мальчика понесли в операционную, разбудили только что прилегшего после бессонной ночи Гринева.
– Хоть что-нибудь сделай, – с безнадежным отчаянием повторил отец вслед ему, уже взбегающему на больничное крыльцо. – Жена погибла, дочка, он один у меня остался, один…
«Хоть что-нибудь» было самым точным определением того, что Юра смог тогда сделать. Не смог спасти ребенку ногу, потому что для этого нужен был опытный специалист по сосудам. Не смог вовремя перелить кровь, потому что у пацана оказалась не отцовская группа и долго искали подходящего донора. Не смог избежать нагноения, потому что в ткварчельской больнице основным медикаментом была зеленка…
Причин для «не смог» хватало, но толку ли перебирать причины! За то, что мальчик все-таки выжил, оставалось благодарить главным образом природу, что бы ни говорил потом отец. Конечно, надо перечитать сахалинские записи – может, еще что-нибудь существенное вспомнится. Тем более что работы у него сейчас все-таки немного. Бригады спасателей работают поочередно, через четверо суток на пятые. И хотя у него в отряде две ставки и работает он, соответственно, вдвое чаще, это невозможно сравнить с полной ставкой клинического ординатора в Склифе.
Пока Гринев дошел до работы, дождь прекратился. На улице посветлело, и издалека были видны два мокрых флага на флагштоках у отрядных ворот – московский с Георгием Победоносцем и белый с красным крестом.
Назавтра утром дежурство собирались сдать прямо с колес: возвращались с последнего вызова ровно к следующей смене.
– Ну, сегодня как люди, – радовался Годунов. – Глянь-ка, тютелька в тютельку!
Через пять минут выяснилось, что Борькина радость была преждевременной.
Площадь Киевского вокзала была оцеплена милицией, движение остановлено. Машину спасателей, правда, готовы были пропустить на базу, но Борис уже и сам заинтересовался происходящим.
– А чего это народ тут толпится? – начал он выяснять у милиционеров из оцепления.
– А долбак какой-то «Славянскую» собрался взрывать, – доходчиво объяснил милицейский прапорщик. – Во-он, видишь, к водосточной трубе привязался на пятом этаже. Говорит, бомба за пазухой. Может, просто шизик, да кто ж его знает, теперь иди проверь! На всякий случай всю гостиницу эвакуируют.
Спасателей, правда, никто сюда не вызывал, но впечатление они производили внушительное: синяя форма, мощный красно-желтый «Мерседес»… Неудивительно, что Годунову не составило большого труда пробиться и сквозь толпу, и сквозь оцепление к самой гостиничной решетке. В отличие от многочисленных журналистов, которых к месту событий не пускали категорически.
– Пошли, пошли. – Борис дернул Гринева за рукав. – Мало ли что там, пока добежим, пока разберемся.
Однако, пока они добежали от забора до входа в гостиницу, разбирательство было окончено. Террорист, лежащий в луже на асфальте, выглядел даже жалостно: в какой-то вязаной шапочке, в грязно-серой болоньевой куртке, на запястьях защелкнуты наручники…
– Тьфу ты! – плюнул Годунов. – Зарплату ему, наверно, не платили в Пензе?
– В Саратове, – усмехнулся рослый мужик в камуфляже. – Возмещения требовал за моральный ущерб. А вместо бомбы будильник тикал.
– Ну ты тоже, Боря, – возразил было Гринев. – Легко, что ли, без зарплаты?
– Да пошел он! – возмутился Борис. – Тебе много платят? Давай-ка мы с тобой тоже на трубу залезем, а весь город нас пускай снимает. Заодно скажем, что жизнь потеряла смысл и даешь, мол, демократов под суд. Прямо ты, Юра, как маленький…
Толпа у ограды редела на глазах. Только оператор с телекамерой на плече доругивался с милицейским майором, да еще двое журналистов ждали его у машины.
– Поехали, Юра! – крикнул Годунов. – Ты чего опять тормозишь?
Гринев остановился у калитки, у черной высокой решетки. Он стоял, схватившись рукой за чугунный прут, как будто боялся, что вот-вот его унесет каким-то мощным течением. Стоял, смотрел – и не верил…
Кажется, ей надоела вся эта неразбериха. Она то и дело поглядывала на оператора, нетерпеливо и сердито, дожидаясь, пока он наконец выскажет майору все, что о нем думает. Она не то чтобы торопилась, а вот именно сердилась: Юре казалось, будто он видит, как светлыми звездами вспыхивают ее глаза… Хотя она стояла метрах в десяти от него, к тому же вполоборота, и глаз ее поэтому никак нельзя было разглядеть.
Вдруг она замерла, несколько долгих секунд оставалась неподвижной – и наконец медленно обернулась. Следующие секунды выпали из Юриного сознания – просто исчезли, не оставив по себе даже памяти. Хотя именно эти мгновения он боялся и все-таки пытался представить тысячу раз.
Представлял – а теперь не видел, не понимал: вскрикнула она, промолчала, что вообще сделала, перед тем как оказалась рядом с ним, на расстоянии вытянутой руки? И что делал в это время он сам – неужели так и стоял истуканом, вцепившись в гостиничную ограду?
Теперь они оба молчали.
– Юра… – первым прозвучал ее голос.
И тут же ему показалось, что ничего не было. Ни прощания с нею на берегу залива, ни бесконечного времени без нее, ни расстояния – когда все равно, тысячи километров от нее отделяют или десятки. Ничего не было – ничего, на что он сам, своей волей обрек ее и себя по какому-то безумному, мертвому расчету!
– Юра… – повторила Женя. – Что же ты молчишь, у меня сердце сейчас остановится.
А что он мог сказать? Только шагнуть к ней, обнять так крепко, что у самого чуть не остановилось сердце.
В то мгновенье, когда Женя спрятала лицо у него на груди и он почувствовал, как вздрагивают ее плечи, как вся она вздрагивает, все крепче к нему прижимаясь, – только в это мгновение Юра наконец понял, что вернулся домой.
Глава 9
Никогда прежде Жене Стивенс не казалось, будто она живет двойной жизнью.
Может быть, ее всегдашняя уверенность, что живет она именно так, как ей и надо жить, независимо от мнения на этот счет окружающих, – может быть, эта уверенность покоилась главным образом на ее самодостаточности. Женя с детства понятия не имела о том, что такое скука, растерянность, отчаяние и прочие смутные ощущения, с которыми так или иначе сталкиваются все молодые девушки. Особенно если родители, в силу ряда обстоятельств, не слишком о них пекутся.
А подобных обстоятельств в Жениной жизни хватало с рождения. Одного того, что мама была ведущей актрисой Театра на Малой Бронной, было достаточно, чтобы понять: времени у Ирины Дмитриевны никогда не бывало в избытке, и дочкино воспитание происходило как-то само собою – на репетициях, за кулисами, в актерских гримерках, за редкими, но доверительными разговорами с мамой… Чтобы не считать Женю заброшенным ребенком, следовало делать поправку на мамин легкий и ласковый нрав, на уступчивость, порой переходящую в самозабвенность, и на существование няни Кати с ее грубоватой, но точной житейской мудростью. Плюс неплохая домашняя библиотека, плюс Женин врожденный ум, здравый и живой. Плюс ее умение, тоже врожденное, предвидеть последствия каждого своего поступка.
Плюс папа, Виталий Андреевич Стивенс, главный объект маминой самозабвенности. Любить Виталия Андреевича Жене было совершенно не за что; будь ее воля, она вообще называла бы его по имени-отчеству.
Папочка появлялся у них в квартире на Большой Бронной нерегулярно, хотя и постоянно: то вечерами, то по субботам – в свободное от основной семьи время. Его посещения длились много лет, и Жене казалось, что она с самого своего рождения понимала: папа любит маму потому, что ему это приятно и удобно. И лестно, в конце концов! Ирочка Верстовская ведь не только милая женщина с чудесным характером, при одном виде которой всегда поднимается настроение, но и известная актриса, заслуженная СССР. Что ни говори, это тешит самолюбие, когда красивая и знаменитая женщина при всех смотрит на тебя влюбленными глазами.
И ради этого можно терпеть ее маленькие капризы. Например, желание во что бы то ни стало иметь от него ребенка, хотя ведь он предупреждал, что семейного воза, нагруженного двумя детьми, ему достаточно дома, а любимая женщина нужна не для этого.
Женя читала папочкины мысли так ясно, как если бы он высказывал их вслух. И относилась к нему соответственно – с таким же спокойным безразличием, с каким он относился к своей внебрачной дочери. У нее была папина фамилия, папина внешность и, как она с возрастом стала догадываться, почти в точности папин характер.
Что ж, жалеть обо всем этом не приходилось: стивенсовские гены воплотились в ней неплохо. Женя правильно оценивала свои светлые, со всегда непонятным и холодноватым выражением глаза, свою стать, за которую мама со смехом называла дочку аристократкой, свою походку – такую, что мужчины оглядывались ей вслед, хотя во всех ее движениях не было и тени вульгарности, – и прочие признаки сходства с отцом.
Особенно радовало, что Виталий Андреевич относился к тому типу людей, которых годы только красят. После его разрыва с мамой Женя не виделась со Стивенсом пять лет, а при встрече без особенного удивления убедилась: в свои неполные шестьдесят отец строен, изящен, без малейшего намека на животик, без отечных мешков под глазами.
Удивительно было другое… Женя шла на встречу с Виталием Андреевичем, по своему обыкновению заранее взвесив все варианты и его, и своего поведения.
Собственно, и взвешивать было нечего; все было ясно как Божий день. Женя отлично окончила иняз, была умна, красива, умела держаться и, как казалось, вправе была рассчитывать на приличную работу, которая давала бы столь ей необходимую независимость.
Очень скоро, однако, выяснилось, что все это ей только казалось. Первый же работодатель, директор преуспевающей компьютерной фирмы, к тому же давний Женин знакомый, четко дал понять: он не для того берет красивую женщину на хорошую зарплату, чтобы после работы бегать по проституткам. У женщин с такой внешностью, как у Женечки Стивенс, интим входит в служебные обязанности, и не надо делать вид, будто она этого не понимает.
Дожидаться, пока то же самое разъяснит следующий начальник, было ни к чему; Женя все прекрасно поняла с первого раза. И с первого же раза сделала правильный вывод: выбирать в жизни приходится не между хорошим и прекрасным, и даже не между плохим и хорошим, а главным образом между плохим и отвратительным. Во всяком случае, в ее жизни это будет именно так.
Просить о чем-то отца – это плохо. Потому что он никогда не любил свою дочь, потому что бросил маму после рождения второго, мертвого ребенка – как только та перестала выглядеть веселой, молодой и счастливой, потому что… Да потому что таких людей, как ее папочка, вообще неприятно о чем-нибудь просить!
Просить о чем-то совершенно посторонних мужчин – это отвратительно. Потому что можно спать с мужчиной из самых разных побуждений, хотя бы даже из любопытства, но нельзя делать это за деньги.
Значит, выбрать лучше плохое. С таким настроением Женя и шла на встречу с отцом, исходя из этого и просчитывала варианты.
За те пять лет, что они не виделись, Виталий Андреевич ушел из министерства культуры, в котором был начальником управления, и сделал стремительную карьеру на телевидении. Женя даже не знала толком, как называется его тамошняя должность, но зато знала, что ее отец – человек успеха. Мама всегда его так называла и добавляла еще, глядя на дочь своими ясными, беспомощными глазами:
– Ах, Женя, теперь мужчины такие вялые, слабые, а Витя… В нем есть самое главное: такая стальная твердость, к которой женщину тянет как магнитом! И при этом – какая-то мимолетность, почти снисходительность… Это будоражит, беспокоит, манит!
Женю ничто не манило к стальному папочке, пресловутая его снисходительность раздражала, а в чем заключается мимолетность, она вообще не могла понять. Но обо всем этом она думала меньше всего, особенно после долгой с ним разлуки, которую, кстати, и не сочла бы нужным прерывать, если бы не жестокая необходимость.
Жене нужно было, чтобы папаша помог с работой, и больше ей не нужно было от него ни-че-го. Она собиралась объяснить ему, чего именно хочет, на что рассчитывает, – и сделать ручкой до тех пор, когда он сможет сообщить конкретный результат.
И, наверное, так бы оно и произошло, если бы… Если бы Женя впервые в жизни не растерялась, увидев своего отца, стремительно идущего к ней по аллее вдоль Чистых прудов.
Жене казалось, что, несмотря на свою молодость, она все знает о мужском поведении. Во всяком случае, ни один мужчина до сих пор не демонстрировал ей никаких неожиданностей. Они даже проверяли однажды с институтской подружкой Ленкой Василенко, как поведут себя мужики, если общаться с ними точь-в-точь по журналу «Космополитен».
– Я, Женька, думала, в них хоть что-то есть от высокоорганизованных существ, – со смехом поведала ей разбитная Василенко. – А они же как импортный холодильник – точно по инструкции! Нет, ей-Богу, вроде как сами «Космо» начитались!
А Женя и не спорила.
И вдруг, глядя на своего отца, встречая взгляд его холодно-светлых глаз – взволнованный, растерянный взгляд, – Женя поняла: в жизни есть нечто большее, чем знание, чем проницательность, чем способность правильно устраивать свою судьбу… Какая-то необъяснимая сила, над которой человек не властен.
Уже в самом конце разговора, твердо пообещав дочери полную со своей стороны поддержку, Виталий Андреевич вдруг усмехнулся:
– Что ты на меня так смотришь, Женечка? Не узнаешь? Это ты выросла, поумнела, а я старый стал, вот и вся загадка. Раз жалею об ошибках, которых все равно не исправить, – значит, стал старый. Раньше-то чувства разумно дозировал…
Несомненно, он говорил правду. Хотя бы потому, что умение разумно дозировать чувства было фамильным стивенсовским свойством; Женя по себе это знала. Пожалуй, именно на таком вот умеренном эгоизме основывалось то, что позволяло маме называть отца человеком успеха и что так манило ее к нему много лет…
Впрочем, смутное, неясное и даже тревожное чувство, охватившее Женю при встрече с отцом, вскоре сгладилось, почти забылось. А осталось к нему нечто вроде неожиданной благодарности и даже приязни.
И оказалось, что этого вполне достаточно, чтобы работать с Виталием Андреевичем, и переживать за телекомпанию «ЛОТ» – любимое его, только что созданное детище, – и радоваться, подходя к светло-зеленому особнячку на Таганке, в котором оно размещалось.
После краткой запинки, которая, впрочем, оказалась хорошей жизненной школой, Женина жизнь снова потекла размеренно и ровно. До того дня, когда она почти что ни с того ни с сего оказалась на Сахалине…
Собственно, даже и эта поездка вполне отвечала обычному стилю Жениной жизни. Ну, захотелось вытворить что-нибудь нетрадиционное в любимом Василенкином духе! И чем плохо было собраться в полчаса и полететь в гости к подружке? Тем более что Ленка просто стонала от скуки на этом каторжном острове, где по зову родной фирмы вдруг оказался ее в поте лица добытый японский супруг.
Была для неожиданной поездки и еще одна причина, более серьезная, но о ней Женя теперь не хотела вспоминать…
Жизнь ее перевернулась после Сахалина.
В среду у Жени не было вечернего эфира, и она забежала на работу только потому, что именно сегодня костюмы для ведущих должны были привезти из нового бутика Сен-Лорана. Не то чтобы Женя была как-то особенно охоча до тряпок. Она давно уже поняла, что старая портниха из Театра на Малой Бронной, у которой они с мамой шили много лет, обладает ничуть не меньшим талантом, чем самый модный кутюрье. А уж в тонкостях обработки швов, в отделке, в подборе аксессуаров – то есть во всем, что придает одежде подлинное изящество, – Анна Петровна знала настоящий старый толк. В школьные годы все Женины подружки были уверены, что ее наряды привезены из-за границы, а она любила поиграть в загадочность и не выдавала их происхождения.
Взглянуть на кутюр от Сен-Лорана, однако же, хотелось. От Бронной до Таганки недалеко, даже приятно пораньше выйти из метро и пройтись тихим сентябрьским вечером по городу. И вообще Женя всегда с охотой приходила в зеленый лотовский особнячок, в котором всего за год стала чувствовать себя своею.
Тракт – быстрая репетиция ведущими сегодняшнего прямого эфира – должен был начаться через час, а пока Марина Соловьева и Нина Соколова с полной самоотдачей примеряли сен-лорановские платья. Ярослав Черенок уже был одет в ослепительно белую рубашку, галстук в размытых пятнах и неброский, но очень пижонский пиджак. Он, конечно, не принимал участия в пире дамского духа, а пока суд да дело, болтал по телефону – явно с существом противоположного пола, судя по его тону и выражению плутоватого лица.
Симпатичные, похожие, как сестрички, Марина и Нина всегда вели эфир вдвоем, и всегда с ними работал кто-нибудь из мужских звезд – на этот раз Ярослав. У Жени вечерний эфир строился прямо противоположным образом: она выступала в роли звезды, а с нею работали двое ребят. Кроме того, с ней любили выпускать новичков: считалось, что у Женьки легкая рука и что вокруг нее всегда спокойная аура, потому что она вообще не знает, что такое нервный мандраж.
Соловьева и Соколова обрадовались Жениному появлению. Они как раз не могли решить, кому сегодня быть в оранжевом, а кому в зеленом. Вообще-то при их сходстве это не имело никакого значения. Но не говорить же об этом девчонкам!
– Жень, глянь хоть ты! – взмолилась черноглазая Соловьева. – А то Ярик нас в упор видеть не хочет, прилип к мобильнику своему дурацкому!
Кареглазая Соколова бросила на Ярослава быстрый и демонстративно томный взгляд.
Женя была не больше чем на три года старше обеих, но ее ничуть не удивило, что девочки обращаются к ней за советом. Притом чувствовалось, что это связано даже не с ее телевизионным опытом, а с чем-то другим… Как бы там ни было, разрешить животрепещущую проблему платьев не составило для нее особого труда.
– Оранжевое – Мариночке, – смягчая притворную категоричность улыбкой, заявила Женя. – А зеленое – Ниночке.
Самое удивительное, что девчонки даже не спросили, почему она думает так, а не иначе. Нина тут же подхватила эфемерное зеленое облако из шифона и убежала переодеваться, а Марина перекинула через руку длинное, поблескивающее оранжевыми оттенками парчовое платье.
– Да, Жень! – вспомнила она. – Мы и для тебя такой костюмчик нашли – закачаешься. Пойди посмотри, мы его в шкаф отвесили. Если понравится, можно до завтра оставить. Цвет такой синенький, вроде строгий, а фасон, наоборот, легкомысленный.
Женя попыталась представить сочетание строгости и легкомыслия в отдельно взятом костюме и рассмеялась.
– Посмотрю, конечно, – кивнула она. – Спасибо!
Пока ребята в студии прогоняли эфир, Женя вытащила из шкафа отобранный для нее брючный костюм. Он действительно имел необычный цвет: очень темный, отливающий матовым загадочным блеском. Легкомысленность, о которой говорила Марина, создавалась за счет ткани – легкого переливчатого шелка. Невесомые складки и сборки трепетали от каждого движения и даже от колебания воздуха. Конечно, это было красиво, элегантно, и фасон ей понравился. Женя сразу решила, что оставит костюм до завтра и наденет к нему мамины серебряные серьги с александритами.
– Ну как? – Ниночка заглянула в костюмерную. – Правда, прелесть? Самый модный цвет в этом сезоне, – авторитетно заметила она. – Называется «нэйви блю».
– Как-как? – удивилась Женя.
И тут же поняла…
– Нэйви блю – синий морской значит, – разъяснила Ниночка. – Ну, видишь, такой синий, что даже не сразу разглядишь – кажется, как будто черный. А что, тебе разве не нравится? – удивленно спросила она, глядя на Женино застывшее лицо.
– Н-нет… – пробормотала та. – То есть да, очень понравился… Спасибо, Нина, попроси на завтра мне оставить, ладно?
– Хорошо, – так же удивленно кивнула Соколова. – Ты уже уходишь?
– Да. – Женя повесила костюм в шкаф, пошла к двери. – Я к Стивенсу еще загляну, он просил сегодня зайти. Счастливого эфира!
Она медленно шла по коридору к лестнице. Звуки шагов тонули в густом ворсе коврового покрытия, которым был застелен весь студийный этаж. Призраки другой, никому не видимой жизни обступали, не давали идти, не давали стоять и говорить, не давали дышать и жить…
Отец не просил Женю зайти сегодня, но, еще подходя к особняку, она заметила, что окно его кабинета на третьем этаже до сих пор светится.
Виталий Андреевич обрадовался ее появлению. И особенно тому, что Женя зашла вечером, когда основные дела окончены, люди разошлись и можно спокойно поболтать с дочкой. Тем более что в обычное дневное время Женя не очень-то любила появляться в отцовском кабинете. Делать вид, будто президент тебе посторонний, как-то глупо, а при всех держаться с ним по-родственному как-то неприлично.
– Заходи, Женя! – позвал Виталий Андреевич, через открытую дверь заметив ее в секретарском предбаннике. – Посиди. Выпьешь рюмочку со мной?
– Выпью, – кивнула она, входя в просторный, с заботливо сохраненным интерьером начала двадцатого века, отцовский кабинет. – Здравствуй, папа.
В сером, под цвет глаз и едва заметной седины костюме, стройный, высокий, Стивенс выглядел лет на сорок, не больше. Но при этом почему-то не казалось странным, что его называет папой не девочка с косичкой, а молодая, на него похожая женщина. Взрослая дочь молодого человека – это определение подходило к ним в полной мере.
– Что-то ты грустная сегодня, – словно мимоходом, почти не взглянув на нее, заметил Виталий Андреевич. – Здесь что-нибудь, по работе?
– Нет, – покачала головой Женя, успев удивиться, как быстро он уловил ее состояние.
Трудно представить, что много лет назад именно этот человек понятия не имел о подобных вещах и иметь не хотел! Впрочем, ей ли было удивляться тому, что жизнь меняется…
Отец достал из маленького зеркального бара «Кампари» для Жени и сувенирную, в виде кремлевского собора, бутылку кристалловской водки для себя. Женя бросала в свой бокал кубики льда и смотрела, как кружится над ними красноватая, кажущаяся маслянистой жидкость.
– Хватит, Женя, – заметил Виталий Андреевич. – Пятый кубик бросаешь, воду, что ли, пить собираешься?
– Да! – опомнилась она и ложечкой выловила лишние кубики. – Я лучше водки с тобой выпью, папа, можно?
– Можно, конечно, – пожал он плечами, придвигая ей рюмку.
Женя выпила одним глотком, не поморщившись. Правда, водка оказалась мягкая, не обжигала горло.
«Как будто на ореховых перегородках настояна, – вспомнила Женя. – Он говорил, если на ореховых перегородках водку настоять, получится мягкая. Мы с ним рыбацкую водку пили, просто ужасную, денатурат какой-то, и он сказал про эти перегородки…»
Она поморщилась, как от зубной боли, и налила себе еще рюмку.
– А я тебя порадовать хотел, – сказал Виталий Андреевич. – Нас на фестиваль зовут, «Лотик» наш показать. На Мальту. Поедешь?
– Поеду, раз зовут, – пожала плечами Женя. – Когда?
– Что это ты так? – Видно было, что он обиделся. – Как будто я тебя на каторгу отправляю! На Мальту, говорю, на фестиваль новостных телепрограмм. Да ты подумай, Женя, года ведь нет проекту, а уже…
Жене стало стыдно, что она так равнодушно встретила отцовское сообщение. За что его было обижать?
– Ну что ты, пап, это я просто от водки затормозилась слегка, – объяснила она. – И вообще, голова сегодня болит. Не обижайся! Конечно, здорово, что зовут. А кто еще поедет?
– Из наших? – уточнил Стивенс. – Еще не решено, я только сегодня факс получил. Ты – точно, еще кто-то из ведущих – возможно, Ярик. Из корреспондентов кто-нибудь. Посмотрим! А не из наших – да половина «Останкина» будет, это же дело престижное. Мальта опять-таки, не Колыма… О-о! – вдруг произнес он, глядя Жене за спину. – Какие люди и без охраны! Заходи, Олег, гостем будешь.
Женя даже не обернулась, чтобы проследить за отцовским взглядом. И так было понятно, кто пришел.
За год Олег Несговоров успел побывать в телекомпании «ЛОТ» и своим человеком, и гостем. Пока его еще можно было все-таки считать «гостем лучше татарина», но Женя знала, что отец относится к Несговорову с настороженностью. Сама она относилась к Олегу так, что лучше бы он вообще не появлялся…
Но он появлялся с завидной регулярностью, и Женя прекрасно понимала, для чего он приходит. Во всяком случае, производственной необходимости в этом не было никакой: деятельность Несговорова на телевидении протекала теперь таким образом, что не могла иметь отношения к телекомпании «ЛОТ».
Будучи человеком осторожным, Виталий Андреевич тщательно избегал вмешательства в большую политику. По идее, такое поведение не должно было принести солидных денег на телевидении. Но жизнь неожиданно опровергла идею, потому что, будучи человеком еще и талантливым, и интуитивным, Стивенс затеял новый проект – телекомпанию «ЛОТ».
«Народное телевидение» – так звучало его кредо, и именно эта ниша оказалась не занятой на рынке телепроектов. Образуйся «ЛОТ» не год, а, например, месяц назад, было бы поздно: едва ли такая ставка оказалась бы выигрышной. За год-то уже многие телебоссы сообразили, что электорату до смерти надоело ежедневно созерцать по всем каналам президента, премьера и думских лидеров – то вместе, то поврозь, а то попеременно. И что большинству населения куда интереснее смотреть «новости про самих себя». Да еще в исполнении людей молодых, современных, умеющих говорить без истерического надрыва и без ложной многозначительности. Да еще чтобы можно было позвонить им прямо в эфир и рассказать на всю страну, что произошло лично с тобой вот буквально полчаса назад, когда ты возвращался с работы.
Стивенс был отличным стрелком и всегда попадал в десятку. И, что не менее существенно, всегда делал это вовремя.
На помощь Несговорова, главной звезды и «лица» Российского телевидения, Виталий Андреевич рассчитывал мало, хотя в свое время и переманил Олега в «ЛОТ», умело воспользовавшись его амбициями, задетыми на предыдущей работе. Как выяснилось, он не зря придерживал год назад свою дочь, когда Олег предлагал ей войти в его команду.
– Погоди, Женя, – обычным своим мимолетным тоном объяснил тогда отец. – То есть в «Люди и судьбы» к нему, соведущей, – правильно, пойди, тебе полезно будет. Это авторская программа, каприз несговоровский, можно сказать. Ну, хочет имидж сменить, доказать, что задушевничать тоже умеет, а не только косточки перемывать политикам. Пожалуйста, пускай доказывает. Человек он предельно раскрученный, профессионал высокого класса. Вот пусть все это на тебя и поработает, – усмехнулся он. – Но в аналитику его не лезь! Помяни мое слово, надолго он у нас с этим делом не задержится.
Отец, как обычно, оказался прав. Он ошибся только в одном: надолго не задержалась у них не только несговоровская аналитическая программа, но и задушевные «Люди и судьбы». Правда, каждая из них канула в небытие по разным причинам.
С авторской программой все оказалось просто: Олегу не хватило вкуса, чтобы ее сделать. Это даже Женя сразу поняла, хотя и не стала тогда высказывать свое мнение. Кто она такая, без году неделя на телевидении! Мало ли что ей кажется пошлым и оформление студии, и костюмы ведущих, и Олегов нарочито проникновенный тон. Когда он вел ток-шоу о человеческих судьбах, не срабатывала ни одна его знаменитая фишка – даже мгновенный взгляд из-под надломленной черной брови, даже ироническая улыбка на красивом мужественном лице.
Правда, отец счел тогда, что Женя выглядит в роли ведущей отлично – несмотря даже на идиотское розовое платье «а-ля грек», которое, по мнению Несговорова, должно было создавать кичевый налет, необходимый для подобных программ. Но благоприятное впечатление от дочери не помешало Стивенсу категорически остановить проект после трех пилотных передач.
– У меня не собес, Олег, – без малейшей неловкости объяснил он. – Не берет ни первый канал, ни второй эту благость. Куда мне твои «Судьбы» девать?
Конечно, Олег был настоящим профессионалом – ни обид, ни возражений не последовало. Во всяком случае, Жене он ни о чем таком не говорил.
А когда отец еще более решительно прикрыл второй его проект – аналитическую программу, – Жене уже было все равно, что думает по этому поводу Несговоров.
Но ему-то далеко не все равно было, что она думает, говорит, делает… Как она вообще собирается жить дальше!
Если бы полгода назад Женя хоть сколько-нибудь могла обращать внимание на все, что снова как ни в чем не бывало окружило ее в Москве, – может быть, она даже порадовалась бы в душе и несговоровской растерянности, и невообразимому, заискивающему выражению его глаз. Не этого ли – щелкнуть по носу зарвавшегося любовника – она добивалась, так эффектно улетев на Сахалин?
И вот он идет рядом с нею по ночному Тверскому бульвару и говорит без умолку, на ходу пытаясь заглянуть ей в глаза.
Женя и раньше часто выходила вечерами погулять на Тверской – когда стихал гул машин, нескончаемыми потоками идущих к Никитским воротам и к Пушкинской площади, пустели аллеи, и можно было наконец почувствовать, что ты идешь по родному, тихому бульвару своего детства.
А теперь она бродила по Тверскому каждый вечер. Просто не могла оставаться дома, она и так никуда не выходила целый день… А здесь, на бульваре, каждое мгновенье той недели у сахалинского залива Мордвинова почему-то вспоминалось так ясно, как будто продолжалось, растягивалось до бесконечности, чтобы не кончиться никогда.
С ее возвращения в Москву прошло ровно сорок дней.
«Поминальный день, – с горечью подумала Женя, выходя из дому в темноте. – Улетает душа…»
И тут же вздрогнула, даже рот суеверно зажала рукой, хотя ни слова не произнесла вслух.
Меньше всего в этот вечер она ожидала увидеть Несговорова. Даже не заметила стоящую у подъезда машину – знакомую «вольвушку».
– Женя! – окликнул Олег. – Женя, на два слова, подожди!
Она не остановилась, чтобы подождать его, но и не сказала, чтобы он оставил ее в покое. И в первый-то день возвращения, когда Олег примчался к ней на Бронную, у нее не было ни сил, ни желания что-то ему объяснять. А теперь и подавно.
Они молча шли рядом по бульвару.
Женя ожидала, что сейчас он снова затеет выяснение отношений: что случилось, да почему так неожиданно, да, может быть, все-таки… Но Олег заговорил о работе. Кажется, он специально старался говорить невозмутимым тоном и старался заинтересовать Женю, привлечь ее внимание к своим делам.
– Не пошли мои «Доводы и выводы», – нарушил он молчание и, не дождавшись реакции, продолжил: – Сегодня со Стивенсом был разговор, довольно резкий, между прочим. Знаешь, что сказал твой папа? Чтобы я выбирал: или политику делать, или с ним работать.
– Странное название, – сказала Женя.
– Какое? – не понял Олег.
– «До-во-ды-и-вы-во-ды». Как будто из «Алисы в Зазеркалье».
– Почему? – удивился он.
Кажется, Олег обрадовался, что она наконец хоть как-то на него реагирует. Его темные, близко поставленные глаза блеснули на мгновенье, губы настороженно дрогнули. Женя вспомнила вдруг: вот точно так же блеснули и сощурились его глаза, когда он впервые предложил: «А ты оставайся у меня, раз понравилось». И так же вздрагивали тогда его губы – настороженно, нетерпеливо. Это предложение он повторял потом не раз, и она почти согласилась…
Женя вспомнила и то, как уверенно лежала на ее голом плече Олегова рука – широкая, красивая, грубоватой формы, но с аккуратно подстриженными ровными ногтями. Они тогда отдыхали после первой близости – оба усталые, довольные, насытившиеся друг другом.
От этих воспоминаний стало противно; ее даже передернуло, как будто паук пробежал по спине. Хотя в ту ночь, да и во все другие ночи с ним Женя питала к Несговорову какие угодно чувства, кроме физического отвращения. Наоборот, он был первым мужчиной, с которым она получила удовольствие в постели.