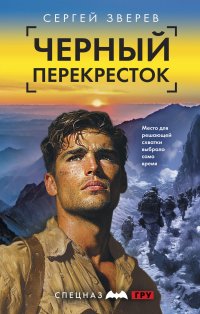Читать онлайн Этому в школе не учат бесплатно
- Все книги автора: Сергей Зверев
© Зверев С.И., 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
Часть первая. Московская осень
Глава 1
Сколько раз он убегал от нее, костлявой. И вот смерть опять стояла за спиной. А мысли метались в черепной коробке, как шарик пинг-понга, в поисках выхода.
Какой черт, спрашивается, приволок его в Минск? Думал, пробежится по старым знакомым, найдет родню. И схоронится до лучших времен, пока враги не устанут его искать. Вот только родственников найти не удалось. А кореша, которые клялись ему в верности… Ну что же, верность – она ведь как – до гроба. Вот кто-то из них и решил его в этот гроб загнать. И повязал его с утречка прямо на «малине» уголовный розыск – сонного и ничего не понимающего. А он даже за револьвер не успел схватиться. Да и хорошо, что не успел. Легавые злые были – по ним заметно, что ни секунды не думая, пустили бы его в расход, только повода ждали.
И вот следственная тюрьма на окраине Минска – старинная, напоминавшая средневековый замок. И с такими толстыми стенами, что никакие тараны и артиллерия не пробьют.
В камеру на двенадцать человек с высокими потолками и одновременно спертым воздухом, пронизанным тюремными запахами, Курган «заезжал» с опаской. За ним топор ходил – его воры на сходняке к смерти приговорили. В России в тюрьме могли запросто заточкой проткнуть, а при неимении оной ночью придушить подушкой. Но тут расклады другие. В камерах верховодили не закаленные в ГУЛАГе тертые воры в законе, а разношерстный уголовный элемент из Польши, Белоруссии и Украины. И особенно из Львова – это такой Ростов-Папа этих земель. И у них тут расклады свои.
Сокамерники начали было Кургана пробовать на прочность. Ему пришлось себя обозначить:
– Кровь у меня воровская, а что не ваш – так не взыщите. Но за свое право глотки выгрызу.
Неизвестно, чем бы дело кончилось, но его выручил Старый Амадей.
– А ну цыц! Раздухарились тут. Видно же, что наш человек.
Ну, наш так наш. Возражающих не было.
И потянулись тягостные тюремные месяцы.
Курган с его талантом втираться в доверие довольно близко сошелся со Старым Амадеем. Сперва, правда, думал, тот подсадной. Да только о делах они не говорили – так, все больше за жизнь да за свободу.
Сам Амадей все же проболтался однажды:
– Интересно товарищам следователям, кто я да откуда и как додумался вскрыть сейф с деньгами районной заготовительной конторы. Только ничего им не узнать. Для полицейского управления Варшавы, конечно, медвежатник по кличке Абрам – это фигура значительная…
– Почему Абрам? – не понял Курган.
– А как же еще, если мой папаша – сапожник из самого еврейского варшавского района? Но только Варшава ныне под немцами, и комиссарам туда хода нет…
Конвой за Курганом не высылали. Допросили его сотрудники угрозыска два раза, продемонстрировав, что знают все его имена и кликухи. Попытались примерить к нему несколько разбоев, но он стоял стойко на своем – не мое. И пока что от него отстали.
А 22 июня началась война.
Тюремная администрация настоятельно советовала следственно-арестованным не беспокоиться – немца скоро отбросят от границ, и все будет, как раньше. И народный суд всему антиобщественному элементу воздаст по заслугам. Только доходили слухи, что советские войска уже не отступали, а бежали. Вроде бы пал Вильнюс, и немцы стремительно надвигаются на Минск.
Старый Амадей становился с каждым часом все мрачнее.
– Что пригорюнился? – спросил его Курган. – Под панами жил. Под Советами жил. И под немцами проживешь.
– А ты слышал, что они с евреями делают?
– Что?
– Еврей для немца – хуже вши для солдата. Гетто и расстрел…
То, что дела на фронте совсем плохи, стало ясно, когда из тюрьмы в авральном порядке вывезли политических. Да еще прошел слух, что уголовников эвакуировать не успевают, поэтому их просто поставят к стенке. И Курган в это верил. Ждал, холодея, что скажут им однажды: «Стройся». И положат из пулемета.
Дни щелкали быстро – их нес бурный поток событий. Война теперь звучала в отдалении грохотом орудий. И этот грохот приближался.
Однажды в тюрьме стало совсем тихо. Стало понятно, что заключенных бросили. Больше никто не приносил еду и питье. Но камеры оставались закрытыми.
28 июня пришли немцы. Буднично так. Для них порядок – это святое. Поэтому воду и еду они заключенным раздали, как положено. И следующим вечером выстроили в тюремном дворе.
Перед строем чинно прогуливался новый комендант тюрьмы, а по совместительству царь и бог для всех ее постояльцев. Этот долговязый человек с тонкими руками и ногами, в идеально подогнанной и выглаженной как на парад серой форме с витыми серебряными погонами, напоминал болотную цаплю. К его длинному носу намертво прилипли круглые очки.
Его короткую, но емкую речь толстенький переводчик в серой мешковатой форме переводил тонким противным голосом на белорусский и русский языки. Притом его русский был с легким, но царапающим слух акцентом.
Со слов коменданта, гнусная сущность СССР вовсе не примиряет немцев с отбросами его общества и преступниками. Если Советы испытывают к таковым чувство, сходное с единением, то в Германии царит закон и порядок, а нарушители караются по заслугам. А ничего, кроме казни, бандиты и воры не заслуживают. Единственно, что может их спасти – это духовное преображение под сенью великого рейха. В общем, кто хочет в новую жизнь, должен зарекомендовать себя. Например, донести на политруков, жидов и большевиков.
Для убедительности немцы тут же в тюремном дворе расстреляли пару человек как пособников коммунистов.
Кургана сдавила жуткая мысль, что вот так запросто, без суда и следствия, могут пустить в расход и его. А на земле нет ничего более дорогого, чем собственная шкура.
И ее надо спасать!
Глава 2
– А нам все одно помирать! Ни немец не пожалеет, ни наш начальник! – кричал невысокий худощавый парень с острыми несерьезными усиками.
Под его мятым пиджаком – гимнастерка. Щеки тщательно выбриты. Он тяжело опирался на массивную палку и кривился от боли, если вдруг переносил вес на правую ногу.
Около магазина «Бакалея» в Пушкаревом переулке хромой парень собрал вокруг себя приличную толпу. И она возбужденно гудела – сочувствующе или протестующе.
Много лет я ходил этим маршрутом по моим московским, узким, по-домашнему уютным сретенским переулкам с вычурными дореволюционными домами, живописными двориками с колоритными обитателями. И в один день, 22 июня 1941 года, мой город стал иным. Здесь все так же ходили люди, мели улицы дворники, у кинотеатра «Уран» толпилась публика. Но на всех нас легла разлапистая уродливая тень войны.
В июле была первая бомбежка Москвы, и в небе повисли аэростаты противовоздушной обороны. На крышах дежурили добровольцы, туша падающие с фашистских самолетов зажигалки. Город поблек и потускнел, когда золотые купола храмов замазали черной краской, чтобы они не служили ориентиром для немецких пилотов. На улицах стало много военных. А в военкоматы стояли длинные очереди. Появились карточки на хлеб и крупу. Сначала будто нехотя, медленно, но все быстрее и быстрее город переходил на военные рельсы.
С давних времен неизменный признак войны в России – из магазинов сметают спички, мыло, керосин. А покупатели в тщетном ожидании товара толкутся у бакалейных магазинов в очередях по сто человек. Вот и у нашего бакалейного – постоянно толпа. Люди там обсуждают положение на фронтах, горячатся. Эти очереди стали своеобразным клубом, где можно унять свои страхи, набраться друг у друга уверенности в завтрашнем дне или вместе со всеми погрузиться в отчаяние.
Я остановился, вслушиваясь в спор, который заходил вообще не в ту степь.
– Наш человек так, пыль под ногами! – кричал хромой. – Солдатика или танк немецкий задавит, или комиссар в спину стрельнет за то, что тот погибать не хочет. Фронт – это верная погибель. И здесь погибель! Немец придет – нас жалеть не будет. Бежать надо!
– Да куда бежать? – слышались встревоженные голоса. – А квартира? А работа?
– Вот и будет тебе работа на Адольфа!
– Да уж лучше под Адольфом, чем с голоду сдохнуть или на фронте! – послышался из толпы звонкий мужской голос.
Ропот рос. Народ волновался.
– Тогда судьбинушку свою принять, – кивнул хромой. – Голову склонить. И ждать, когда Кремль с Берлином разберутся, кто из них важнее.
А люди стоят, уши развесили, внимают! Ну а что – война выводит психику людей из состояния равновесия. Страсти и чувства зашкаливают. Одни одержимы сладостно-мазохистским интересом к эпохальным событиям, других парализует ужас. Третьи бьются в слабоумном задоре – мол, одним махом семерых побивахом. Но у большинства на душе огромная тяжесть и осознание, что груз войны нести им – простому народу.
Эмоции на таких «митингах» вспыхивают легко, как сухой валежник. И я сам не исключение. Когда хромой начал талдычить о Кремле, для которого народ пушечное мясо, тут на меня нахлынула ярость. Это наша народная власть во главе с товарищем Сталиным у него просто Кремль?! А тогда в Кремле что сегодня коммунисты, что вчера цари – одно и то же? Вот же подлая морда!
– Это что же ты, прихвостень фашистский, сдаться нам предлагаешь? – выступил я вперед.
Хромой оглядел меня маленькими и злыми глазенками с ног до головы:
– Проходи, дядя, если неинтересно.
– Человек с фронта, – послышалось из толпы. – Раненый. Увечный навсегда.
– Ах, раненый! И призываешь под фашиста лечь? Тебя в голову ранили, а не в ногу, потрох сучий! – Страшная усталость, перемешанная с яростью, заварили в моей крови взрывной коктейль. И я шагнул вперед.
Хромой отпрянул и заорал:
– Вот, народ, наши начальнички-то! С портфелем! В галстуке!
Портфель у меня и правда был – обычно он набит тетрадями учеников, а сейчас разными документами. И одет я тоже аккуратно – в костюм и галстук. Школьный учитель всегда обязан являть собой образец опрятности и хорошего вкуса. Ну да, по виду чистый начальник.
– Чем больше народа русского в окопах танк германский гусеницами закопает, тем ему лучше! – не унимался хромой.
Тут черти меня толкнули – и ударил я его со всей дури. В последний момент чуть придержал удар, чтобы не прибить ненароком – рука у меня сильно тяжелая.
Хромой оказался верток и почти успел увернуться – вскользь ему прилетело. Но все равно хватило – отлетел шага на три и плюхнулся на мостовую. Головой трясет, пытается резкость в глазах вернуть.
И тут галдеж, крики:
– Убивают! Милиция!
Ну как обычно в таких случаях – ничего нового.
Шагнул я к поверженному противнику. Самообладание вернулось, и теперь я понимал, что негодяя нужно скрутить и сдать на руки ближайшему милиционеру или военному патрулю.
И тут на меня будто холодом повеяло. Краем глаза засек сбоку движение. Еще не понял, что происходит, но уже резко ступил на шаг вперед.
Почти успел… И тут в боку взорвалась страшная боль.
– Бежим! – послышался мужской голос. – Этого краснопузого я уложил!
Я осел на асфальт, шипя от боли. Хотя в тот момент не в ней было главное. Хуже всего, что я не задержал хромого.
Зазвучал в ушах отчаянный женский крик:
– Зарезали!!!
Глава 3
Подавленное состояние было в камере у всех.
– Выпустят. Мы им понадобимся, – убеждал сам себя Велислав – карманник из Бердичева.
– Ты понадобишься? – усмехался Старый Амадей. – Им не щипачи, а автоматчики нужны.
– Ну, так освою. Автомат не сложнее чужого кармана будет.
– Нет, братцы, – как-то обреченно сказал Курган. – Мы им не нужны. Им нужен их проклятый порядок. И они нас положат…
В подтверждение его слов во дворе послышались крики и прозвучала автоматная очередь.
«Моя пуля… Когда будет моя пуля?» – вращалось в голове Кургана.
Немцы пугали его до дрожи в коленках и пустоты в животе. Страшно было, как никогда ранее. Немецкая жестокая, нечеловеческая система порядка – куда до нее советскому ГУЛАГу, тоже не шибко доброму порой! У немца все механически, а с машиной не договоришься.
– Мои последние дни, – прошептал ему Старый Амадей.
– Да ты чего говоришь-то?!
– Чую, не выкарабкаюсь. Они же сказали – жиды и большевики под откос.
– А кто знает, что ты из евреев?
– Они узнают. Продаст кто-нибудь. Свою жалкую жизнь выкупая.
– Да не бойся. Ты и не такое, наверное, в жизни переживал.
– Переживал и пережил. А тут не переживу. – И старый вор-медвежатник, специалист по сейфам и железным ящикам, как-то внимательно, будто пытаясь просверлить насквозь, посмотрел на Кургана.
– Не бойся. Главное, не наделать глупостей, – беззаботно бросил Курган.
Полночи он не спал. Тревожно и напряженно думал, просчитывая свои перспективы. Надо что-то предпринимать. Если бы он по жизни расслаблялся, то и самой жизни у него уже не было бы. Но в нужный момент он всегда совершал нужный поступок. Вот и сейчас – дело осталось за поступком.
Под утро он заколотил в дверь камеры, требуя коменданта. Сокамерники с подозрением и изумлением смотрели на него.
– Ты что делаешь, пес?! – воскликнул Амадей, которого обожгла неожиданная догадка.
– Надо. Очень надо! – пробормотал, как пьяный, Курган.
И опять заколотил ладонью по двери.
– Что стучишь? – спросили на русском языке – немцы уже подобрали себе местных во внутреннюю охрану.
– Мне к коменданту! К коменданту давай!
Засов с лязгом отошел. У двери стояли двое дюжих охранников, у одного из них был автомат. При большевиках внутренней охране запрещалось ходить с оружием. Но у германца правила другие – если что не по ним, сразу стреляют.
– Выходи! – крикнул охранник. – Упаси тебя бог, если зря побеспокоил!
Отдельный кабинет раньше принадлежал начальнику тюрьмы. Там чопорный комендант, тот самый, похожий на цаплю, глянул на посетителя через свои круглые очки, как на насекомое – что, мол, нужно этой жужжащей мухе, и не стоит ли ее прихлопнуть?
– Я могу показать еврея, разыскиваемого в Варшаве и сочувствующего коммунистам.
Пухленький переводчик быстро заголосил, переводя коменданту эту весть.
– И кто он? – спросил комендант.
– Кличка Старый Амадей. Сидит со мной в камере.
– Очень хорошо. Ты разумный человек.
– Только не отправляйте меня обратно. Меня там убьют.
– Посмотрим. Может, ты будешь полезен, и твоя судьба изменится к лучшему…
Глава 4
– Не по-партийному это, товарищ Лукьянов, – занудствовал инструктор нашего райкома партии и мой старый добрый знакомый Алексей Дудянский, по габаритам похожий на одесского биндюжника.
– Что не по-партийному? – удивился я.
– Сразу бить человека в лицо.
– Еще как по-партийному! – Я потянулся к чашке остывшего чая, стоявшей на тумбочке около моей больничной кровати. – Что, смотреть надо было, как он народ баламутит?!
– А отойти в сторону, найти представителей власти и передать его в их руки?
Как лекцию читал по теме «Личностные недостатки учителя и члена бюро райкома ВКП(б) Лукьянова». Дудянский человек отзывчивый, дикой работоспособности и преданности делу, но педант, нытик и зануда. И вечно чем-то недоволен.
– Надо, надо! – выпалил я и скривился от резкой боли в боку.
– Что, болит? – искренне заволновался Дудянский, подаваясь вперед и пытаясь помочь незнамо чем.
– Да болит, не болит – какая разница! Чего я тут лежу, спрашивается?! Врач говорит, что жизненно важные органы не задеты! Удачно меня порезали. Хотя боль была такая, что я рухнул, как сноп, но последствий никаких. Кто за меня работать будет? Ну-ка, давай, жми авторитетом, чтобы меня отпустили!
– Это, товарищ Лукьянов, в компетенции врачей. И ты нам нужен живым, здоровым и активным. Что толку, если ты выйдешь и свалишься? Так что лежи.
Он откланялся. А я все не мог унять раздражение. И тем, что вынужден валяться здесь. И выговором, который сделал мне товарищ.
А ведь он кругом прав. Я должен долечиваться, чтобы потом всего себя отдать работе. И у магазина я сплоховал. Погорячился. В итоге провокатор сбежал. Хотя кто же знал, что его страховал сообщник в толпе? А ведь я должен был предположить. Тоже мне, бывший боец ЧОНа и сотрудник ОГПУ! Расслабился, перестал затылком опасность ощущать.
Но все же какая наглость! В центре Москвы вести подрывную агитацию. И языком своим грязным молоть всякие непотребства. Это какой же нахальной гадиной надо быть!
Интересно, вот из моих бывших учеников кто-нибудь способен продаться фашистам? Сомневаюсь. Даже пошедшие по кривой дорожке вряд решатся на такое. Вот только моя давняя педагогическая неудача – Тимофей Курганов. Человек в эгоизме и озлобленности, не знающий никаких пределов. Этот может… И что это я о нем вспомнил? Он уже, наверное, давно сгнил в мордовских лагерях…
Жалобами на то, как мне надоело лежать на больничной койке, я, похоже, прилично утомил моих соседей по палате. Их было трое: седовласый рабочий, получивший производственную травму на заводе «Серп и Молот»; студент – жертва дорожного происшествия; пожилой трамвайный вагоновожатый, сломавший руку при попытке ввинтить пробку в коридоре.
Рабочий сказал:
– Да куда ты все торопишься, учитель? На войну? Она сама нас найдет, не спеши…
Старший сержант госбезопасности, аккуратно положив на стол в ординаторской свою фуражку с синим околышком, взял с меня подробные показания. Был он усталый и неразговорчивый.
– Найдете этих сволочей? – спросил я.
– Найдем, – сухо произнес сотрудник НКВД. – Все получат по заслугам, товарищ Лукьянов. Выздоравливайте…
Скучать в больнице мне не приходилось. Постоянно появлялась Алевтина – моя благоверная. Она главный хирург этой больницы и теперь получила редкую возможность круглые сутки держать меня под неусыпным контролем. Она была измотана, сосредоточена и задумчива, а под глазами залегли тени. Пару раз приходила Танюша – моя ненаглядная дочура, которой для этих визитов с трудом удавалось найти просвет между лекциями в мединституте и работой в военном госпитале. Жалко не навестят меня старший сын Лева, ныне матрос Северного флота, и младший десятилетний Витька, которого в июне я отправил в Сибирь к дедушкам-бабушкам. Зато мне не давали никакого покоя мои ученики.
Конечно, заявились в полном составе «физики» – ребята из моего физического кружка. Их интересовало, когда мы вновь приступим к опытам. Я просто любовался ими. Многие из этих мальчишек и девчонок – будущее нашей науки. Если только их пощадит война.
Приходили и другие ученики, и даже их родители. Своим долгом посетить меня посчитали даже наши шпанята, многих из которых я, простят меня боги Педагогики, таскал за уши. Но мелкие хулиганы претензий не имели – знали, что всегда за дело получали. Все были страшно горды тем, что учитель не просто так болеет, а ранен, можно сказать, в бою с фашистскими наймитами. При этом у девчонок наворачивались слезы на глазах. А пацаны обещали с горячностью пятнадцатилетних пустить всех фашистов на колбасу.
– Хорошо еще, что комендантский час в Москве. А то они и ночью бы в нашу больницу лезли, – ворчала старшая медсестра.
В итоге она вынуждена была ограничить этот поток и по количеству, и по времени посещения.
А между тем прошли последние дни военного лета и настала тревожная осень. С фронтов приходили неважные вести, отдававшиеся болью в душе. Потеряны Латвия и Литва, Западная Украина и большая часть Белоруссии. Бои идут под Одессой. Фашисты рвутся к Киеву, грозят замкнуть кольцо вокруг Ленинграда. Но главная их цель – Москва.
Война дорожным катком катилась по стране. Большие начальники и мелкие служащие, рабочие и крестьяне, профессора и неграмотные – она не разбирала никого. Она для всех нас!
А я уже пятый день лежал на больничной койке и ощущал себя дезертиром.
Нет, так дальше продолжаться не могло!..
Глава 5
– Сегодня самый важный день в вашей никчемной жизни! – вещал на чистом русском языке, прохаживаясь перед строем новобранцев, гауптштурмфюрер СД Дитрих Кляйн – высокий, атлетически сложенный, голубоглазый – идеал истинного арийца.
Курган морщился – грубая шерсть серого полицейского кителя натерла шею. Ладно, уж это-то переживем. Главное, что выжил. За свои двадцать пять лет он научился одним деликатным местом чуять, когда настает пора забыть о дружбе и вражде, совести и правилах, и просто приходит время выживать…
После того как он сдал Старого Амадея, все пути назад ему были отрезаны. Он приговорен к смерти русскими ворами, а теперь и местный преступный мир жаждет его смерти. С НКВД тоже отношения далеко не теплые. Так что настала пора искать хозяина. Одному нынче не выжить. Потому первоначальная идея смыться, как только шагнет за пределы тюрьмы, виделась ему теперь не самой лучшей.
Он видел силу немцев. Как они гнали большевиков – вон, за неделю до Минска дошли. И они пришли навсегда. Ссориться с ними, опять стать изгоем? Может, стоит использовать шанс и пристроиться в новой иерархии?
Старого Амадея в тот же день под конвоем увезли в неизвестном направлении. И Курган легко вычеркнул его из своей жизни. Те добрые отношения, та помощь, которую ему оказал старый вор, не значили ничего. Это далеко не первый человек, которого он продал. Своя рубашка ближе к телу. Так что об Амадее он теперь вспоминал только со смехом – надо же, сбежал дурак от германца из Польши, а тот за ним в СССР пришел.
Курган быстро заслужил доверие не слишком далекого коменданта тюрьмы. Напел ему сладкие песни о том, что происходит из потомственных купцов, а позже – нэпманов, которых Сталин и его сатрапы лишили всего. Что преисполнен желанием отомстить, ради чего готов верой и правдой служить Третьему рейху. Когда было надо, он играл очень естественно. И в итоге был зачислен в создаваемую немцами вспомогательную белорусскую полицию.
И вот новобранцы выстроились на плацу в полицейском учебном лагере близ Минска, ранее принадлежавшем советскому танковому полку.
Гауптштурмфюрер Кляйн, как обычно презрительно выпятив нижнюю губу, обвел строй взглядом и коротко прокаркал о том, что доблестные и честные слуги Германии сыто едят и сладко спят. И долго, со смаком, расписывал, что ждет предателей, дезертиров и недисциплинированных солдат – полицаев он именовал исключительно «солдатами».
– Вы, отбросы общества, получили редкую возможность стать полноценными гражданами великого рейха. Так не упустите ее и не спешите под пули расстрельной команды!
Нет, Курган вовсе не собирался заканчивать свою жизнь под пулями расстрельной команды. Он не понаслышке знал, что это такое. Его однажды едва не положил расстрельный взвод НКВД на Колыме. С той поры он ненавидел духовые оркестры.
Сколько лет прошло? Шесть? А кажется – вечность. Отмотав срок по малолетке и пробыв всего полгода на свободе, он попался на краже. И поехал в снежные колымские лагеря. Там стал правой рукой вора в законе, усердно пополнял общак и добросовестно отрабатывал все поручения воровской братвы. Обоснованно надеялся сам скоро стать законником.
Для вора тюрьма – дом родной, а не место работы. Им работать запрещено – работают мужики. Кроме того, вор обязан ненавидеть советскую власть, а не добывать ей магаданское золото. Вот законники в колымских краях, где безраздельно владычествовал могучий Дальстрой, и стали саботировать работу на объектах ГУЛАГа, срывать производственные планы. В результате страна недополучала драгоценный металл. Большевики в таких случаях не церемонились. Прикинули, откуда ветер дует, да и собрали в одном месте всех, кто не желал ударным трудом крепить советскую экономику.
Выстроили самых активных саботажников в ряд в отдаленной зоне. Бродяги были расслаблены. Их советская власть еще в двадцатые годы назвала социально-близкими, и с тех пор чаще убеждала и перевоспитывала, чем карала. Поэтому и стояли они в строю – руки в карманах. Сплевывали презрительно сквозь дырки меж зубов, снисходительно слушая большого начальника из ГУЛАГа.
Начальник самозабвенно вещал о буржуях, сжимающих удушающее кольцо вокруг СССР. О том, что советские граждане самоотверженным трудом должны приближать торжество коммунизма.
– Ну и пускай приближают, – хмыкнул знаменитый вор-карманник Матрос. – Нам ваш коммунизм без надобности. Щипача его пальчики кормят неплохо!
А Кургану чем дальше, тем больше эта пропагандистская речь не нравилась. Особенно ее раздел про суровость к тем, кто не хочет вместе с народом идти в светлое будущее. Что делают с теми, кто не идет в будущее? Оставляют в прошлом?
Под конец чин из ГУЛАГа обвел внимательным взором выстроившуюся нестройной шеренгой братву, больше походившую на неорганизованную толпу.
– Последний раз спрашиваю, кто хочет ударным трудом искупить свою вину перед советским народом?
В ответ раздался дружный ржач и похабные комментарии – мол, все, что должны, мы этому народу прощаем. Но некоторые воры вышли из строя. Потом еще немного. Их сопровождали гвалт и ругань более стойкой братвы.
Уже потом Курган понял, что вышедшие из строя мыслили не штампами и настроениями, а задницей. Они ощущали мягким местом, где можно огрести. Он тогда ощутил то же самое. И шагнул вперед.
– Куда? – схватил его за рукав вор в законе Фартовый, можно сказать, его крестный отец.
Но Курган резко вырвал рукав и вышел из строя.
– Хорошо, – кивнул начальник вышедшим. – Отойдите в сторонку.
Братва вдруг замолчала, ощущая растущее напряжение.
– Ну что же, музыка! – с каким-то демоническим видом воскликнул большой начальник.
И заиграл духовой оркестр.
А вслед за этим заработал на вышке пулемет…
Сколько воров и козырных фраеров полегло там? Курган не считал. Немало. После этого на зонах появилось огромное количество желающих принять посильное участие в великих стройках страны Советов. Ортодоксальные воры, скрипя зубами, прекратили всякие попытки саботажа. Работать, правда, так и не стали, но по негласной договоренности с администрацией всеми способами стали шпынять политических и мужиков, чтобы те давали план. Время такое – огромных свершений. Выполнить и перевыполнить – главное. А какими способами – это дело десятое. Стране нужны было золото, каналы и тяжелая промышленность.
Конечно, Кургану этот шаг из строя вышел боком. Воры посчитали его отколовшимся. Но он с присущей ему пронырливостью стал бешено вращаться между администрацией и уголовниками. Даже пришлось работать собственными руками – стал передовиком производства и засветился в многотиражной газете: «Заключенный Курганов ударным трудом приближает освобождение».
Лавировать долго не удалось. Воры поставили вопрос ребром – или с нами, или против нас. И он задницей почувствовал – пора быть против. Втихаря вложил некоторых корешей по их старым делам и в итоге, как ему казалось, утряс опасную ситуацию. Только закончились эти интриги для него плачевно. Воры обвинили его в сотрудничестве с оперчастью и приговорили к смерти. Шрам через все пузо – это след заточки с тех времен. Хорошо, что в лазарете врач откачал.
Наверное, именно тогда, под звуки оркестра, начались те самые мытарства и скитания, которые в итоге привели Кургана на плац учебного полицейского лагеря…
После посвящения на плацу в слуги рейха началось обучение – уставы, права и обязанности полицая, владение оружием. И изматывающая строевая подготовка.
Курган быстро смекнул, что немцы боготворят подтянутость, дисциплину и четкие ответы на вопросы. Те вольные птицы, кто это не понял, быстро отправились за ворота или в концлагеря. Но большинство успешно закончили короткий курс обучения.
Потом Кургана распределили в карательный полицейский батальон. В его третьей роте собрались русские, литовцы, белорусы – прямо по заветам Ленина – истинный интернационал. Одни ненавидели большевиков. Другие были жадны до денег, жратвы и всякого барахла. Имелось несколько отпетых уголовников, от которых Курган сразу дистанцировался, демонстрируя, что преступная жизнь в прошлом. Разношерстных соратников роднило то, что немцы в равной степени считали их всех недочеловеками.
Наиболее рьяных службистов выделили в специальную группу из десяти бойцов. Там был белорус из националистической организации «Белорусский комитет самопомощи», надоевший своими завываниями о создании независимого национал-демократического белорусского государства, хохол, грезивший о свободной Галиции, и поляк, который смотрел на украинца зверем, а однажды между ними завязалась драка. Пресекли немцы внутренний конфликт жестоко – избили драчунов палками на плацу до синевы. Пообещали в следующий раз расстрелять, во что очень даже верилось.
Специальную группу прикомандировали к подразделению айнзатцгруппы «В» СД, которым руководил все тот же гауптштурмфюрер Кляйн. Перед ними стояла задача очищения завоеванных территорий от нежелательного элемента – то есть от большевиков и евреев.
И начали очищать. По Гомелю хорошо поработали. Там треть населения были евреями, которых новая власть сначала обязала носить на одежде желтые матерчатые отметки, потом запретила им появляться на улицах. А затем пошли массовые аресты.
Полицаи вместе с бойцами айнзатцгруппы вламывались в дома и уводили по списку людей: кого в концлагеря, кого – в Гомельское еврейское гетто. Кто-то пропадал навсегда.
Полицаев немцы из СД воспринимали как служебных собак. Кстати, овчарки у них тоже были – огромные, черные, готовые рвать людей на части.
Осуществлялись эти операции обычно без стрельбы и особых эксцессов. Полицаи просто приходили и забирали людей. Правда, Хохол иногда срывался и бил евреев смертным боем, притом женщины это или дети, ему было безразлично. Немцы его не останавливали. Считали это выражением истинных первобытных чувств.
В конце сентября гауптштурмфюрер Кляйн заявился на построение специальной полицай-группы и сказал:
– Разжирели как боровы. Только и знаете, что жратву жидовскую, что при обысках украли, уминать. Пора настоящей работой заняться!
В груди у Кургана закололо. Он знал, что у немцев начинаются большие проблемы с русскими диверсантами и партизанами. Те бились отчаянно, пускали под откос военные составы, нападали на комендатуры. И что, их бросят на партизан? Ох, как не хотелось!
Но все оказалось прозаичнее. Поздно ночью полицай-группу привезли на бывшее совхозное поле рядом с Гомелем. В свете фар стояло больше сотни изможденных, избитых людей. Не менее половины – женщины. Были и совсем маленькие дети. За спиной их зияли рвы.
– Ну, – насмешливо посмотрел на полицай-группу Кляйн. – Кто за пулемет?
У Кургана гора с плеч свалилась. И какая-то эйфорическая волна понесла его вперед.
– А давайте я, герр гауптштурмфюрер.
– Ну, давай! – усмехнулся тот.
Курган лег на землю, расставив ноги, как учили. Провел вспотевшей ладонью по гладкой поверхности пулемета МГ-42. От этого оружия веяло мощью, силой и смертью, пьянившими Кургана.
Он видел, как напряглись сопровождавшие их немцы, положив руки на свои автоматы. Боялись, что ли, что он повернется и даст очередь по ним? Смешные!
Курган тщательно прицелился и нажал на спусковой крючок. Фигурки, подсвеченные фарами, начали валиться на землю – прямо в ими же вырытый ров…
Глава 6
Сколько лет первое сентября было самым моим любимым праздником. После каникул я вновь с радостью встречал в школе моих учеников. В 1941 году праздник не состоялся.
Вообще для меня это было своеобразным потрясением. Это как уходит из-под ног пол, и ты летишь, не зная куда.
Здания московских школ были отданы под нужды войны. В некоторых развернулись госпитали, быстро наполнявшиеся ранеными. А в моей школе формировалась дивизия народного ополчения.
Я все же уломал врачей, и они выписали меня из больницы. Преодолевая слабость, я включился в работу. Фактически перешел в распоряжение райкома партии, в котором был членом бюро. И тут же понял, что двадцать четыре часа в сутках, – это очень мало.
Дети были встревожены войной. Теперь мы не виделись с ними на занятиях, но они все равно шли ко мне за советом, за объяснением происходящего.
– Хотим бить фашиста! – Теперь я часто слышал эти слова от своих учеников.
– Так все хотят, – отвечал я им. – Рано вам еще. Поймите, когда говорят «я хочу», – это гордыня. Нужно: «Я могу принести пользу». А какую пользу вы, необученные, принести можете? Да никакой, только проблемы создадите. Есть те, кто за вас думает, – это люди по возрасту и опыту более разумные и ответственные.
– Так и война закончится.
– Эх, вашими бы устами да мед пить…
Старшеклассники шли на заводы работать для фронта. Но большинство пытались любыми способами попасть на этот самый фронт. Приписывали себе возраст в паспортах, бежали в войсковые части.
Многие малолетние герои такие фокусы творили! Одного тринадцатилетнего «воина» отловили аж во фронтовой полосе.
Между тем столица все глубже погружалась в пучину войны, которая грозила войти в каждый дом – военкомовскими повестками, дурными вестями с фронтов. А иногда и похоронками.
Настю из восьмого класса я встретил около Сретенского монастыря. У нее был мертвый, застывший взгляд. Она вся будто окаменела.
– Что случилось, Настюша? – спросил я.
И она протянула мне похоронку на своего брата.
Я проводил Настю домой, бормоча какие-то пустые слова утешения.
А потом был еще тяжелый разговор с родителями, потерявшими сына, – серьезного паренька, тоже моего ученика, который мечтал стать мостостроителем. Не судьба. Он встретил немцев в числе первых, держа оборону на заставе погранвойск.
И это было только начало. Одна за другой приходили похоронки на моих бывших учеников. А я только и мог что утешать людей ни к чему не обязывающими словами.
Мне было стыдно. Я обивал пороги в райкоме, чтобы меня отпустили на фронт – хоть политруком, хоть рядовым. Смешно, но секретарь райкома, старый большевик, тормозил меня примерно теми же доводами, что и я учеников:
– Мы лучше знаем, где ты нужнее. Здесь работы хватает.
Жена сутками пропадала в больнице, которую окончательно отдали под эвакогоспиталь.
– Идут и идут эшелоны с ранеными, – изредка добираясь до дома, сообщала она. – Все больше.
– И как на фронте? Что говорят?
– Плохо, Сергей. Очень плохо.
Я знал, что плохо. И положение тыловой крысы меня раздражало. Но все же есть резон – старшие товарищи лучше знают, где я буду полезнее. И я старался быть полезным изо всех сил.
По заданию райкома помогал формировать ополчение, которому, возможно, предстояло встать насмерть на пути фашистских орд, задержать ценой своей крови их стремительное продвижение к столице – пока еще на дальних подступах. Организовывал вместе с чекистами добровольные истребительные батальоны – для борьбы с диверсантами, парашютистами. Под руководством МГК осуществлял объявленную еще в июле эвакуацию из Москвы женщин и детей – первым делом эвакуировали детские дома и интернаты.
Однажды прикомандированный к райкому сотрудник московского областного управления НКВД исчез по таинственным служебным надобностям. Нам сказали, что придет новый.
Как раз я сидел в кабинете Дудянского, когда вошел этот самый новый куратор от НКВД, отвечавший за наш район.
Я сначала прищурил глаза, пытаясь понять – не обманывают ли они меня. А потом вскочил и распахнул объятия:
– Товарищ Вересов!
– Комсомолец Лукьянов! Ох, каким ты стал матерым и важным, – улыбнулся довольно мой старый боевой соратник…
Глава 7
Курган метко отработал своим пулеметом и по приказу «отставить» послушно прекратил стрельбу.
А остальную группу погнали добивать недострелянных. Не мудрствуя лукаво – штыками. Нечего патроны тратить. Дорезал – столкни ногой в ров и иди дальше.
Даром это не прошло. Поляка рвало, и глаза его были безумные. Белорус молчал, тупо уставившись в одну точку.
После той расстрельной ночи в отдельной полицай-группе многое изменилось. Люди стали другими. Сделали страшную работу. Пришли в себя. И окончательно определились, что готовы поступать так и дальше. Уже с куда более легким сердцем.
А латыш сбежал – больше его никто не видел.
Через несколько дней полицай-группу привлекли еще к одному расстрелу. На этот раз днем. И фотограф тщательно снимал, как полицаи убивали евреев. Понятно, для чего – чтобы не было искуса переметнуться к красным. Большевики такого не прощают.
Потом Кургана, как самого смышленого и ушлого, поставили командиром этой небольшой команды. И больше их к расстрелам не привлекали.
Группа передислоцировалась в Минск. Там ей отвели отдельный кубрик в бывших казармах батальона НКВД, а ныне – в расположении карательного батальона вспомогательной полиции. Со временем обещали дать возможность расселиться по квартирам по своему усмотрению.
Кормили неплохо. Снабжали мылом, спичками, сигаретами и кучей вещей, которые кажутся второстепенными, но когда их нет, возникают большие проблемы, где их достать.
Гауптштурмфюрер Кляйн не уставал повторять, привычно выпячивая нижнюю губу:
– Вы не только руки рейха, пусть и испачканные в крови. Вы его глаза и уши. Не упускайте ничего. Собирайте информацию. По крупицам. Слухи, наговоры. Для полиции информация – это идол, которому мы все молимся. О большевиках, евреях, подполье, прячущихся красноармейцах, партизанах, агентах НКВД. И опять о евреях. Иногда, цепляясь за звено, можно вытащить длинную цепочку.
Работа шла как на конвейере, без остановок. Каждый день полицаи спецгруппы запрыгивали в приданный им грузовик «Опель» с брезентовым тентом. И вперед – по городским квартирам, по партизанским селам. Прочесывали населенные пункты. Вытаскивали из подвалов не вышедших из окружения красноармейцев.
В одной деревне вывели из хат всех до единого мужчин и расстреляли. В другой не пожалели и женщин. Никакого раскаянья по этому поводу Курган не испытал. Наоборот, содеянное грело душу.
После таких вылазок он размышлял о том, что его воровская масть домушника, оказывается, вовсе не для него. По своей сути он чистый мокрушник – безжалостный убийца. Стыдно? Да нисколько. Просто одному в этой жизни суждено быть волком, а другому – овцой. Быть волком лучше – ешь ты, а не тебя.
Он часто засыпал, сладко грезя, как, имея не жалкую финку за сапогом, а пулемет МГ-42, рассчитался бы со своими недругами. И с Барином, и с Колдырем. Пуля в лоб – вот вам и все воровские понятия, и советские законы. Пришло время штыка и пули, ибо ныне только они порождают власть.
Эх, мечты. Слишком далеко его недруги. Но есть и те, кто близко. Кто-то же его сдал уголовному розыску, в результате чего он попал во всю эту ситуацию. Кандидата два – Рыжик и Чумной. Как узнать – кто?
Однажды он решил – а чего голову морочить? Пусть отвечают оба. И подошел на плацу к приехавшему по делам в батальон гауптштурмфюреру Кляйну. Резко отдал честь и четко доложил:
– У меня имеется информация о двух агентах НКВД.
– Я весь внимание.
– Они сотрудничали с советскими органами. Донесли на меня, в результате чего я попал в тюрьму. Уверен, что сотрудничество продолжается и сегодня. НКВД не выпускает из своих лап никого.
– Что же, весьма своевременно, – кивнул Кляйн, которого руководство айнзатцгруппы «В» утром распекало за недостаточно активную работу по выявлению агентуры врага. – Арестовывайте своими силами.
В результате полицаи прибыли в деревню в пригороде Минска. Рыжик пытался бежать огородами, и Курган с удовлетворением засадил ему из винтовки пулю в спину. А потом подошел и перевернул тело.
У Рыжика изо рта шла кровавая пена. И он обезумевшими глазами смотрел на Кургана.
– Ну что, стукач, пришла расплата, – нагнувшись, улыбнулся Курган.
– Я не… Я тебя не сдавал… – Рыжик заплакал.
Курган жадно смотрел, как душа из последних сил цепляется за изувеченное и становящееся ненужным тело.
– Врешь, собака!
– Я тебя не сдавал. – Глаза раненого закатились, судорога.
Курган пнул тело сапогом. Ну, не сдавал так не сдавал. Ошиблись немножко. Бывает…
Кляйн устроил Кургану головомойку за убийство неприятельского агента, который мог бы поведать много чего интересного. Так что следующего в списке – Чумного – пришлось непременно брать живым.
Взяли его на квартире под Минском. То, что он и есть тот самый дятел, который стучал в уголовку, было видно по его заискиванию и неискренним оправданиям.
– А это, паскуда, ты не мне будешь объяснять! – гаркнул Курган, сожалея, что нельзя шмальнуть.
Но изметелил задержанного он основательно. Так, чтобы ничего не повредить, но болело бы все.
Дознаватели СД, большие специалисты в допросах, выбили из Чумного все, что тот знал и не знал. Дальнейшая его судьба не интересовала Кургана. Один долг он взыскал и был вполне доволен собой. А дальше посмотрим…
Глава 8
Окна были плотно заклеены картоном – в моей квартире строго соблюдался режим светомаскировки.
В любой момент могла взвыть сирена, и пришлось бы топать в бомбоубежище. Но пока фашист решил дать нам передохнуть и посидеть-поговорить со старым боевым товарищем, с которым мы не раз спасали друг друга в то бесшабашное и горячее время.
В большой комнате на столе мерцала свеча. В чашках чернел чай. Я выставил все, что было, на стол – печенье, хлеб, кусок колбасы, припасенную бутылочку «Московской» водки.
Мы с Вересовым были вдвоем. Мои драгоценные жена и дочка пропадали в своих госпиталях – теперь они по три дня не появлялись дома.
К еде гость почти не прикасался. Но стопочку опрокинул, закушав юбилейным печеньем. А я смотрел на него, и у меня было какое-то чувство ирреальности происходящего. Иногда с лязгом смыкается прошлое и настоящее. Так происходит, когда приходят люди из молодости, и ты понимаешь, что эта ниточка твоей судьбы еще не обрезана.
Шестнадцать лет не виделись. Сколько сейчас Вересову? Под пятьдесят. А выглядит бодро. Изменился мало. Только волосы стали пожиже – нет уже той черной копны, а так – седые кустики. И очки на носу. Вообще, из нас двоих он куда больше походил на учителя – худощавый, с утонченным, благообразным лицом, изрезанным морщинами. И форма как всегда на нем сидит слегка неказисто, вроде как и не военный вовсе. Только обманчиво это впечатление. В сабельном бою он был неплох. Однажды спас меня, срубив на лету бандита, примерившегося обрезать казачьим клинком линию моей тогда еще только начинавшейся жизни.
В первый раз я увидел Вересова, когда с направлением Губкома партии переступил порог губернского ВЧК – здания, имевшего зловещую славу.
Какая такая нелегкая привела в это здание меня, ровесника века, третьего сына сибирского потомственного кузнеца? История – типичная для того времени.
Когда мне исполнилось четырнадцать, отец понял, что сына с таким темпераментом и стремлением в большой мир в селе не удержать. И отправил меня к своему старшему брату в Воронежскую губернию. И стал я подручным в вагоноремонтных мастерских.
Тогда шла Первая мировая война, уносящая миллионы русских жизней за интересы французских и русских капиталистов. Это мне объяснили в подпольном марксистском кружке, к которому я примкнул с готовностью. Участвовал в рабочих стачках и подпольной партийной работе. Был бит жандармами и порот казацкими нагайками.
Эх, времечко было. Страна бурлила. Потом рванула, как перегретый паровой котел – сперва половинчатой Февральской революцией, когда у власти остались те же дворяне и буржуи, только порядка окончательно не стало. А потом пришли Советы рабочих депутатов и скинули гнилое Временное правительство, не способное управлять даже своими заседаниями.
30 октября 1917 года наши рабочие дружины разоружили офицеров гарнизона, взяли почту, телеграф и провозгласили советскую власть в Воронеже. Помню, с каким энтузиазмом мы постигали тяжелую науку управления городским хозяйством, продовольственного обеспечения.
Мы все готовы были защищать революцию до последней капли крови. И в 1918 году я добровольцем вступил в Красную армию, попав в кавалерийский полк.
Воевал против Краснова и Деникина. Был ранен. Служил в Воронежском губернском комитете комсомола. Командовал отрядом продразверстки. И вот теперь направлен в распоряжение Губчека.
Меня провели в тесный, заваленный папками кабинет в мансарде. Я представился:
– Комсомолец Лукьянов по заданию губкома партии прибыл в ваше распоряжение.
– Из красноармейцев, значит, – насмешливо посмотрел на меня хозяин кабинета, это и был Вересов. – Только здесь не война. В бою ясно, где свои, а где чужие. А в нашей службе порой нет. Да и своих, и чужих в ежовых рукавицах надо держать. Потому что порой свои вдруг становятся чужими… Справишься?
– Я же комсомолец, без пяти минут коммунист, – пожал я плечами, впрочем, без особой уверенности. Не любил я неопределенностей и хитростей в жизни.
– Послужи-ка пока в ЧОНе. Поглядим, каков ты в деле, растудыть твою гармонь, – хмыкнул Вересов, всегда любивший по делу и не по делу вставлять витиеватые словесные загогулины – то ли ругательства, то ли похвалу.
Части особого назначения были созданы при губернском комитете партии для борьбы с расплодившимися бандами и шайками. И пошла у меня веселая жизнь – до сих пор порой в холодном поту просыпаюсь.
Та война давно закончилась. Настала новая. И опять я с Вересовым…
Я отхлебнул водочки и схватился за бок – рана вдруг запульсировала.
– Что, болит? – сочувственно спросил гость, уже бывший в курсе произошедшего со мной.
– Ну да. Деклассированный элемент постарался, – хмыкнул я.
– Э, нет, браток. Это не деклассированный элемент. Это профессиональный враг.
Он опустошил рюмку. Зажмурился. И продолжил:
– Думаешь, на обычных паникеров нарвался? Это немецкая военная разведка. Наскребает по всем сусекам шпионов. Вот уже и наших ненавистников – белогвардейцев-эмигрантов – подтянули. Может, и тебя кто-то из бывших белых офицериков подрезал.
– Контра, одно слово.
– Дураки говорят: мол, чекисты сами шпионов выдумывают, сами арестовывают, а на деле больше страху нагоняют. Страх – да. Только он не в наших чекистских головах. А на улицах – с револьверами, листовками и ракетницами. И имя ему – немецкий диверсант.
Он побарабанил пальцами по столу и произнес резко:
– Абвер! Это похлеще, чем танковые дивизии, растудыть их тройным захватом через гнутый коленвал! А ты на него с кулачками.
Мы помолчали. Потом я сказал:
– Знаю, что дураком был. И что надо было аккуратно того хромого проводить и задержать, а не устраивать мордобой.
– Вспомни Феликса Эдмундовича: у чекиста должна быть холодная голова.
– Давно я уже не чекист.
– Э, не зарекайся…
– А как ты жил, Аристарх Антонович, все эти годы? Где служил, если не секрет?
– Для тебя не секрет. Поносило по свету. Дальний Восток. Северный Кавказ. И с басмачами дрался в Узбекистане. А с 1938-го в центральном аппарате НКВД в отделении контрразведки по посольствам. Как раз по немцу работали.
– Что-то неважно вы работали, если он так нежданно по нам врезал! – не выдержал я, забыв вовремя прикусить язык.
Ожидал взрыва – мой товарищ вполне способен на такие эмоции. Но он лишь пожал плечами:
– Не от нас зависело, Сергей Павлович. Не от нас… Вон, я день нападения точно знал. Но нам не поверили.
– Не поверили, – удрученно кивнул я, пытаясь осознать, сколько же нам стоило это неверие.
– Были на то причины, – отмахнулся Вересов. – А после начала войны посольств, с которыми мы боролись, не стало. Разбросали наших сотрудников по районам Москвы – организовывать ПВО и истребительные батальоны. А меня в самое пекло послали – на Западный фронт, представителем наркомата. Считай, с первых дней там. Вот вернулся. И сразу к тебе.
– И как там… – Я запнулся, простые слова неожиданно не давались мне, будто я боялся услышать ответ на свой незатейливый, но очень важный для меня вопрос. – Как там, на фронте?
– Эх, дорогой мой человек… Как бы тебе сказать… Гораздо хуже, чем ты можешь себе представить. Что хуже землетрясения и других природных катастроф? Это катастрофа военная! – Вересов хлопнул ладонью по столу, и взгляд его стал каким-то отсутствующим, а щека дернулась.
– И как дальше?
– А никак. Будем биться за Москву…
Глава 9
Еще только получив форму и винтовку, Курган сразу понял, что получил к ним в придачу ту власть над людьми, к которой всегда стремился. Это власть страха. Власть над жизнями. Власть над имуществом.
Винтовка – власть. А пулемет – непреодолимая сила. Поэтому он любил работать именно с пулеметом, не гнушаясь самых грязных дел.
Проходили неделя за неделей, а работы не убавлялось. Курган и представить себе не мог, что вокруг столько пособников большевиков и евреев. Когда повязали явных, остались скрытые. Немцы работали методично и не упускали ничего. День перерыва – и опять обыски в городах. Броски на деревни.
Из подвала дома в Минске извлекли израненного красного командира. Из квартиры в Гомеле – скрывающегося коммуниста.
Нищие и богатые, образованные и невежественные – всех их объединяло одно. Отныне они – цель айнзатцкоманды и специальной группы полиции. Они жертвы. Так написано им на роду – хрустнуть костями на зубах боевых псов Третьего рейха…
Полицаи спецгруппы жгли хаты. Расстреливали местных жителей. Давно уже привыкли к своей грязной работе. Выезжали на мокрые дела с шутками и прибаутками. Юмор – вещь полезная в жизни. А смешнее всего унижать беспомощных людей, которые находятся в твоей власти.
По деревням Курган работать не любил. Леса рядом. А где лес, там и партизаны. Их не раз обстреливали – одного полицая убили, другого ранили. На место убывших пришли другие.
В кандидатах на работу в полицию недостатка не наблюдалось. Как и в рабочих местах для них. По Белоруссии как поганки росли еврейские гетто и концлагеря. Наполняли их, охраняли и массово расстреливали заключенных немцы и специальные батальоны полиции. Притом полицаев было куда больше, чем бойцов немецких зондеркоманд. Так что работа находилась для всех желающих.
Новенький в спецгруппе оказался одесским уголовником по кличке Буржуй. Он сразу стал давить на воровскую общность, чтобы набрать очки у Кургана и поиметь преференции, а то и закрутить с командиром свои дела. Когда он в кубрике наедине снова начал гнать про то, что бродяги должны держаться друг друга, Курган кивнул:
– Верно говоришь, брат!
Обнял его крепко. И неожиданно дал ладонями по ушам с такой силой, что Буржуй потерял ориентацию. Подножкой сбил его с ног, несмотря на то, что тот габаритами был больше раза в два. И стал охаживать ногами, приговаривая:
– Тут ни блатных, ни фраеров нет. Мы – полиция рейха. Власть на оккупированной территории. Если не понятно, то вперед – в тюрьму. Я посодействую. Там будешь блатной закон наводить!
– Понял, господин командир, – скрючившись на полу, прохрипел Буржуй.
Больше всего Курган любил акции в больших городах – Минске, Гомеле, Могилеве. Там еврейская интеллигенция, хорошие квартиры – представители этой нации умели устраиваться. И в результате работы полицаям всегда что-то перепадало – вещички, золотишко.
Тут Курган нашел полное взаимопонимание со своими подчиненными. Они все оказались прирожденными мародерами. Глаза каждого загорались фонариками, как только впереди маячило золотишко.
В первые дни совместной работы Курган провел что-то вроде профсоюзного собрания. Даже голосование было по принципиальным вопросам существования этой небольшой общности – специальной группы вспомогательной полиции. Порешили – брать на вылазках кто что может, а потом делить поровну. Притом командиру доля тройная. И пока все строго соблюдали это правило. Ведь на том же собрании постановили – кто укрыл от своих братьев хоть что-то, будет казнен. Благо возможность незаметно застрелить соратника при такой активной боевой работе была всегда.
С профессиональными убийцами из айнзатцкоманды СД совместная работа была просто праздником взаимопонимания. Богатые дома немцы и сами были не дураки пограбить, но смотрели сквозь пальцы, если полицаям тоже что-то достанется. Круговая порука.
Специальная группа полиции вскоре заработала авторитет. Она колесила по всей Белоруссии на своем грузовике «Опель», приводя жителей сел и городов в неописуемый ужас. Поставила себя так, что ее боялись порой больше, чем немцев.
И все было бы хорошо. Пока не понесла нелегкая спецгруппу в ту проклятую польскую деревню…
Глава 10
Виделись мы с Вересовым теперь практически ежедневно. Вместе формировали истребительные батальоны под крылом НКВД. Подбирали специальные отряды для заброски и диверсий в тылу врага – из добровольцев, даже не военнослужащих. Меня это смущало: диверсии – работа для профессионалов.
– Эх, – отмахивался Вересов. – Свою задачу при постоянном обрушении линии фронта они выполняют – беспокоят немцев, особенно прорвавшихся вперед. Сейчас для нас главное любой ценой выиграть время и приостановить движение врага. Мы должны успеть зализать раны от потерь первых дней войны. Напитать Красную армию техникой и подготовленными людьми. А для этого хороши все средства…
Осень кружила желтые листья по мостовым. В уютных сретенских дворах все реже играли радиолы и все чаще воцарялось молчание. Напряжение в городе росло.
Мы привыкли к новым реалиям. К тому, что в нашем кинотеатре «Уран» теперь крутят оборонно-обучающее кино: «Индивидуальный санхимпакет», «Простейшие укрытия от авиабомб», «Светомаскировка жилого дома» и «Боевые киносборники». И к тому, что все меньше на улицах людей в гражданской одежде, и все больше – в военной форме. К чеканящим шаг, уходящим на передовую батальонам, к реву танков и мотоциклов. Да ко всему мы привыкли, кроме одного – к жестоким вестям с фронта.
Мы оставили Киев и Смоленск. А из Москвы отправлялись эшелоны с эвакуированными. Вот уехал в Алма-Ату «Мосфильм», а в его помещениях на Воробьевых горах теперь делали снаряды. Вот эвакуировались заводы. И железной дорогой, судами вывозились люди. Для этого использовали даже речные прогулочные трамвайчики. Счет эвакуированных уже превысил миллион человек – четверть города. Москвичи уезжали в глубь СССР – в Среднюю Азию, Башкирию, Сталинград.
А оставшихся все чаще одолевали сомнения в том, что город удастся отстоять. И эта неуверенность, все больше походящая на истерику, росла с каждым днем.
Враг приближался к столице. Мы боялись, что он возьмет ее в клещи, как Ленинград. Все чаще взвывали сирены воздушной тревоги, и мы прятались в бомбоубежищах и метро. Сыпались с неба бомбы и пропагандистские нацистские листовки.
У магазинов выстраивались длинные очереди. Люди боялись отойти хоть на минуту, чтобы не выстаивать вновь, и плевали на воздушную тревогу. В соседнем районе такую очередь накрыло бомбой. Москвичи еще не осознали в полной мере жестокой ценностной иерархии войны, гласящей, что главное – это найти укрытие и уберечься от пуль. Остальное – имущество, продовольствие – все вторично. Покойникам они не нужны. Главное – жизнь.
Не дремали диверсанты. Они пытались поджигать склады с продовольствием. И обозначали для фашистских бомбардировщиков сигнальными ракетами замаскированные цели в городе. Маскировка была всюду. Даже Кремль был раскрашен под жилые дома с нарисованными окнами, а на Москве-реке возводились ложные объекты и мосты с использованием барж и дебаркадеров.
– Направь меня с группой в тыл врага! – чуть ли не тряс я за плечи Вересова, когда мы сформировали очередную добровольческую группу для заброски в тыл немцев. – Молодых ребят посылаешь, а я что, хуже? Так и просижу под райкомовским зонтиком до конца войны, пока мои ученики гибнуть будут?!
– Да не суетись ты, комсомолец Лукьянов. Найдется и для тебя горячее дельце. Все только начинается…
Заканчивался сентябрь. Однажды вечером я вернулся из-за города, где руководил командой из служащих, рабочих и университетских преподавателей, рывшей окопы и оборудовавшей укрепления. К этой работе москвичей стали привлекать еще в июле, но редко, от случая к случаю. Сейчас это приобрело массовый характер. На ладонях моих появились мозоли – пришлось вспомнить, что такое работа руками. Благо руки у потомственного кузнеца крепкие. И все же так хотелось верить, что мы работаем зря, и эти укрепления под Москвой не пригодятся. Только вот с каждым днем верилось в это все меньше.
Вересова я нашел в моем школьном классе, на стенах которого до сих пор висели портреты Менделеева, Ньютона и других великих естествоиспытателей, а на полках стояли физические приборы, которые я многие годы добывал всеми правдами и неправдами. Теперь у нас здесь своеобразный штаб – на партах лежат стопки бумаг, в углах стоят железные ящики со списками добровольцев.
Всегда энергичный и полный сил Вересов сегодня был измотан вконец. Мы сидели в полутьме и молчали довольно долго. Потом он неожиданно сказал:
– Ты представить не можешь, сколько боевых товарищей я потерял за месяцы боев. Эта чертова война как ластиком стирает людей из моего окружения, а я остаюсь.
– Да, война как Молох пожирает людей, – кивнул я. – Так было всегда. Но нынешние масштабы противостояния и потерь невиданные – счет уже на миллионы.
– Знаешь, кого быстрее всех выбивают в боях?
– Кого?
– Младших командиров и особистов… Бежать для армии – это самое страшное. Вынужденное отступление – это нормальный маневр. Но драпать – нет… А знаешь, какой последний рубеж, который не дает подразделению превратить отступление в драп?
– Какой?
– Оперативник особого отдела НКВД. Со своим ТТ, особыми полномочиями и беззаветной убежденностью чекиста. Мы – последний рубеж против трусости и предательства. И мы гибнем.
– Я понимаю.
– Ничего ты не понимаешь! За первые месяцы войны выбиты почти все профессиональные чекисты в войсках. Они дрались в окопах наравне с солдатами, выводили части из окружения, расстреливали паникеров и предателей. Держали фронт, как могли. А теперь их почти не осталось. И кто должен заступить на их место?
– Кто?
– Ты, учитель. Ты!
– В смысле?
– Мы мобилизуем всех, кто имел хотя бы косвенное отношение к чекистской работе. Короткое обучение – и на фронт, растудыть его через загибулину тройным переворотом! Ты ведь о фронте мечтал?
– Ты меня что, агитируешь?
– У нас тут не стачка, чтобы агитировать.
– Я просился в строевую часть. Пусть простым красноармейцем. Забыл я эти чекистские дела.
Действительно, радости особой перспектива не вызвала. Выявлять предателей – оно, конечно, важно. Но душа рвалась в бой – рвать на части немецкую нечисть.
– Э, брат, отвертеться не получится. Это партийным заданием называется. А партия лучше знает, где тебе надлежит быть. Все согласовано.
Мне оставалось только кивнуть.
Впереди меня ждали краткосрочные курсы особистов…
Глава 11
Когда зондеркоманда подкатила к большому селу, и Курган уже готов был размяться, неожиданно последовал приказ:
– Стоять!
Легковой армейский кюбельваген «Хорьх», полугусеничный бронетранспортер с крупнокалиберным пулеметом и грузовик специальной полицейской группы застыли, перекрыв грунтовую дорогу, ведущую в село. Вдали дымились трубы аккуратных белорусских хат – видать, богатый здесь был до войны колхоз.
Худощавый, похожий на борзую собаку унтерштурм-фюрер СД, трое здоровенных немецких солдат и переводчик пешком отправились в село.
Немцы в БТР тем временем расслабились. Зазвучала губная гармошка. Курган уже знал большинство мелодий, и от них у него ныли зубы. Все время немцы на отдыхе теребят этот свой проклятый народный инструмент. И ржут, как лошади, отпуская соленые шуточки по поводу и без такового. Но, надо сказать, службу знают. Пулеметчик в БТР вроде бы и не напряжен, но окрестности оглядывает зорко. Автоматчики на дороге тоже расположились правильно. Немцы есть немцы.
Вернувшись через полчаса, унтерштурмфюрер отдал приказ через переводчика:
– Операция отменяется. Возвращайтесь в Минск!
– Есть, господин офицер! – щелкнул каблуками Курган.
Унтерштурмфюрер благосклонно кивнул и направился к машине. Его «Хорьх» тронулся с места. За ним пристроился бронетранспортер. Вскоре они скрылись из виду, оставив полицаев одних.
– Тьфу на вас. – Курган сплюнул на размытую осенними дождями дорогу.
Да, жалко. Деревня хорошая. Можно было бы славно поживиться. А теперь – возвращаться в батальон несолоно хлебавши. Когда настроился на подвиги, трудно приземляться на твердую землю.
Вокруг него сгрудилась разочарованная полицейская команда в составе одиннадцати человек, включая его. Неожиданно подал голос Белорус:
– Знаю одну неплохую деревню. Партизанам, люди говорят, там всегда рады. Помогают врагам рейха.
Курган заинтересованно посмотрел на него. Кровь еще бурлила в жилах и требовала действия.
– Что за деревня? – спросил он.
– Польская, – сказал Белорус.
Услышав это, Поляк поморщился, а Хохол жадно потер руки. Но все промолчали, то есть согласились.
Курган усмехнулся. Белорус был фанатичным националистом и на этой почве вечно спорил с великополяком и великоукраинцем – кто более великий. Но это не мешало всем вместе выгребать ценности что у белорусов, что у украинцев, что у поляков. Золото национальности не имеет.
Правда, все вместе и почти одинаково они ненавидели русских. Постоянно разгорались дискуссии, стоит ли убить всех москалей или кого-то все-таки оставить на развод. Горячились, махали руками, потом косились на своего предводителя, который все же наполовину был русским.
Иногда Кургану казалось, что он имеет дело с малыми детьми. У них в голове какие-то государства, славная история. Все это давно мхом поросло и никому не нужно. Прошлое – удел ученых и неудачников. И еще способ оболванивания населения: «У нас великая история, поэтому мы должны всех убить и одни остаться». На дураков действует. Умные убивают из прагматичных соображений. Вон, немцы не скрывают, что пришли за территориями и рабами. Большинству из них все эти Нибелунги и славная арийская история до лампочки, зато земельный надел в Белоруссии вполне себе ощутим. А дураки грезят славой новой Украины и Литовского княжества, и как они их обустраивать станут. Дураки всегда что-то хотят обустраивать. А умные мечтают только обустраиваться…
Выслушав предложение, Курган прикинул, что и правда можно сделать небольшой крюк и устроить проверку. Не в первый раз такая самодеятельность. Он кивнул Белорусу:
– Давай в кабину. Покажешь путь.
Добрались до цели часа за полтора. Дорога виляла, пронзая окрасившиеся в осенний багрянец дремучие леса, откуда вполне могли шмальнуть партизаны. Но обошлось.
Польское село состояло из аккуратных белоснежных домиков. Участки не такие большие, как в белорусских селеньях, но очень ухоженные. Сады на окраине. Огороды. Лесополоса.
У команды была отлаженная схема: выбираешь самое богатое домовладение и ищешь там партизан. Что, нет партизан? Как же – должны быть! Можно пострелять немножко. И убить кого ненароком – это только на пользу. И вот хозяева уже ползают в ногах, умоляют. И платят…
«Опель» тормознул около добротной усадьбы. Полицаи перекрыли все подходы к ней и вломились в просторный кирпичный дом с криками:
– Партизаны! Выходи! Быстро, быстро!
Семейство в домовладении было большим – женщины, молодые парни, мелкие детишки. Полицаи распихали их по углам. И начали работу.
Еще недавно важный и вальяжный хозяин дома в меховой безрукавке вскоре униженно кидался в ноги гостям с криками:
– Нет партизан! Мы за Германию!
Все это сопровождали женские визги и причитания. Селяне всегда кричат. Не понимают, что эти крики ужаса и боли – нет для бойца специальной полицейской группы музыки прекраснее на свете.
Обычно во время таких визитов быстро появляются вещи, продукты, табак. И золото. У поляков всегда есть золото или еще что-то ценное. Пусть не так много, как в городских еврейских квартирах. Но тоже лишним не будет.
На этот раз все пошло криво. Хозяин упирался и кричал, что неделю назад сам сдал полиции двоих партизан. Голосил, что ничего ценного в доме не закопано. Еще что-то твердил, упрямился, цеплялся за рукав Кургана. И вывел его из себя.
– Разберись, – кивнул командир команды Хохлу, и тот потащил хозяина дома во двор.
Видимо, Хохлу недостаточно хорошо объяснили, что надо делать. Во дворе раздалась короткая очередь. Когда Курган выскочил на порог, польский пан уже отдал богу душу.
Еще громче резанули слух женские причитания и проклятия. Последовали звуки ударов прикладов – наконец-то полицаи удосужились уложить на землю все семейство.
Вот только в неразберихе дочь хозяина умудрилась сбежать. Ну, сбежала и сбежала – и ладно. Но это была та роковая случайность, которую не предусмотришь.
Женщина выбежала на околицу, к дороге. А тут мимо проезжала пехотная рота танкового полка.
Беглянка заголосила, что верных фюреру простых польских селян убивают партизаны. А в роте оказался переводчик, который дословно перевел слова командиру.
Колонна свернула в деревню. Немцы выскочили на ходу из машин, взяли «партизан» на прицел. Сгоряча прострелили ногу стоявшему у ворот Хохлу.
– Мы специальная команда полиции! – закричал Курган, подняв руки и опасаясь спровоцировать новую стрельбу. – У меня в кармане все необходимые документы о наших полномочиях!
Переводчик добросовестно все перевел. Обер-лейтенант подошел к Кургану, буравя его подозрительным взором:
– Что вы здесь делаете?
О том, что тут делают полицаи, было видно по безжизненному телу поляка у ворот.
– Проверяем партизанское гнездо на предмет врагов рейха! – отчеканил Курган.
– Копия приказа? Кто сопровождает вас из немецких командиров?
– Мы проводим самостоятельные мероприятия, господин обер-лейтенант, – брякнул Курган.
– Тогда вы бандит, а не полицейский.
– Но мы работаем в команде СД.
– Да? – растянул губы в улыбке обер-лейтенант – судя по всему, СД он сильно не любил. – Вот пусть СД с вами и разбирается. А я подам соответствующий рапорт, чтобы тщательно разобрались по сути дела.
– Но…
– Арестовать! – кивнул обер-лейтенант своим солдатам.
Полицаев немцы увезли под конвоем. А заодно для порядка прихватили двух сыновей убитого хозяина дома. Таков славный германский Орднунг…
Часть вторая. Ни шагу назад
Глава 1
Бандиты загружали последние мешки с сахаром в реквизированный грузовичок «ГАЗ». На земле хрипел, пуская ртом кровавые пузыри, порезанный сторож продовольственного склада.
Я встал перед бампером полуторки с работающим двигателем. Вскинул автомат ППШ – его ствол теперь смотрел прямо в лоб водителю. У того отвисла челюсть, он замер, не отваживаясь дать по газам.
– Стоять на месте! – Младший лейтенант госбезопасности, командовавший нашей патрульной группой, дал короткую очередь вверх. И она охладила пыл пытавшихся броситься наутек бандитов.
И вот вся эта густо татуированная троица стоит у стены склада. Такую публику я знал, как облупленных – наглые, готовые на любую подлость и подвох, опасные, как скорпионы.
С ними все было ясно. Факт налицо.
– Согласно постановлению Государственного комитета обороны «О введении в Москве осадного положения» за мародерство и бандитизм приговор приводится в исполнение на месте! – отчеканил младший лейтенант НКВД строго и четко, будто гирьки ронял на весы правосудия, которое он сейчас воплощал в своем лице.
Они что-то кричали, умоляли. Но это уже не имело никакого значения. Рявкнули автоматы.
Жалости у меня к этим мерзавцам не было никакой. Кому война, а кому – мать родна. Кому-то хаос, а кому пожива. Так что теперь пусть не обижаются!
Середина октября. В Москве второй день царила полная неразбериха. Троллейбусы не ходили. В метро не пускали. Ветер гнал по асфальту бумаги – еще недавно важные документы из эвакуируемых конторок, а теперь никому не нужные скомканные листы. То здесь, то там возникали человеческие водовороты. Народ волновался. Поднимался крик, сопровождаемый порой откровенными обвинениями в адрес руководства страны. Город стал неузнаваемым.
За две недели перед этим, 2 октября, немцы начали операцию «Тайфун», двинув на Москву группу армий «Центр». В их планах значилось полное уничтожение города вместе с населением – в назидание. Пали Киров, Орел. Под Вязьмой попали в котел, пленены и уничтожены сотни тысяч наших бойцов, в том числе и дивизии народного ополчения, которые я помогал формировать и в которых было столько знакомых и дорогих мне людей. Волком выть хотелось, но вот только некогда нам голосить на луну.
Немец стремительно приближался к столице. И было принято решение ГКО об эвакуации правительственных учреждений и заводов. Что не успевали эвакуировать, заминировали. Закрылось московское метро, тоже подготовленное к подрыву. И вслед за этим начался неорганизованный драп из города.
Ведущие из Москвы в глубь России дороги были запружены людьми, автобусами. А еще грузовыми машинами с таким жалким на фоне разворачивающейся трагедии скарбом в кузовах.
Бежали все – и работяги, и начальники. Не отставали и партийные работники. Секретарей нескольких московских райкомов нашли в Горьком и тут же вернули самолетом обратно. Первый секретарь МГК Щербаков выкинул их с позором с постов, а на их место поставил сотрудников НКВД.
Секретарь нашего райкома, старый большевик, в его вечной военной гимнастерке, на которой алел орден Красного Знамени, врученный ему лично Буденным, при случайной встрече со мной ругался в голос:
– Это не партработники, а стервецы и трусы! Товарищ Сталин сказал, что из Москвы не уйдет. А нам бежать?! Мы отстоим город или погибнем. Другого не дано!
Как ураган пролетело по Москве провокационное:
– Начальнички Москву Гитлеру сдают!
И к бегству прибавились паника и мародерство. Иные руководители расхищали кассы своих учреждений и материальные ценности. Рабочие растаскивали деньги, имущество собственных заводов и грабили машины, на которых начальство вывозило свое добро. Стихию толпы было не остановить. Паника, жажда наживы и разрушения царили в городе. Милиция и войска не справлялись. Да часто просто не знали, что делать.
Вылезли на свет уголовники всех мастей. В Котельниках разбежалась охрана, оставив без присмотра целый эшелон заключенных. Те тоже внесли свою лепту в московские беспорядки.
Вчера мы задержали на Казанском вокзале «молодого папашу» с коляской. Когда проверили, оказалось, что коляска заполнена драгоценностями, – это рецидивист ограбил ювелирный магазин.
Война проклятая. У нее свойства прожектора – она высвечивает в людях все героическое и низменное. Усиливает и страх, переводя его в панику, и готовность к самопожертвованию, творя из нее героизм. Одни бежали прочь, потеряв человеческий облик. Другие шли в ополчение, копали траншеи и готовы были погибнуть, но не пропустить немца в Москву.
Сталин сказал, что не оставит столицу. Город был объявлен на осадном положении. Нас, слушателей краткосрочных курсов подготовки оперативных работников при Высшей школе НКВД СССР, кинули на наведение порядка – самыми строгими мерами, включая расстрел на месте.
Впрочем, нас еще с начала октября постоянно кидали ловить парашютистов, паникеров и провокаторов. Я даже не предполагал, что их такое количество.
Однажды мы взяли агитатора, распространявшего брошюры «Союза спасения Родины и революции», призывавшие к свержению «жидомасонской клики Сталина». Перепуганный до потери человеческого облика мужчина, уже в возрасте, упал перед нами на колени, крича, что не виноват. Доставили его куда надо.
Под впечатлением от этого инцидента я приехал к Вересову – тот меня пригласил в свой кабинет на Лубянке. Выслушав мой эмоциональный рассказ о предателях и агитаторах, он кивнул:
– Народ распускается. Паникует. А многие наоборот сидят спокойно. Ждут.
– Чего ждут?
– Немца. Ты теперь мой коллега, имеешь право знать. – Вересов вытащил папку с докладной.
В документе описывались настроения нестойкой и враждебной части населения столицы начиная с июня 1941 года.
«Через три дня Гитлер будет в Москве, и интеллигенция заживет по-хорошему» (Данилов – служащий райдортреста Сталинского района)…
«Победа СССР в этой войне сомнительна. Советская власть довела народ до крайнего озлобления» (Курбанов – начальник стройуправления «Интурист»).
«Крестьяне с радостью встретят весть о войне, так как она освободит их от ненавистных им большевиков и колхозов. Россия хоть и сильна, но не для Германии, которая разбомбит ее мимолетно» (Мауритц – по национальности немка, арестована).
«В тылу СССР много людей, которые ждут только сигнала к выступлению и окажут Гитлеру большую помощь внутри страны» (Островский – педагог Института иностранных языков).
«Я рад этой войне с Германией, которая, безусловно, окажется победительницей. Не проводите светомаскировку – немцы и без того хорошо осведомлены обо всем» (Базанов – работник завода № 46).
«Гитлер свой народ бережет и рабочих не губит. Всех победит, и тогда мы ему расскажем, как народ жил при советской власти» (Крюгер – механик райпромкомбината».
– Вот же жуки навозные, – покачал я головой. – И что с ними делать? К стенке?
– Кого как. Некоторых, которые в душе враги, под суд. А других простить можно. Трусость – она такая, человека разума лишает. Кто-то ее преодолевает. А кто-то остается мокрицей до конца своих дней…
Помимо патрулирования мы еще и учились. Месячные курсы – больше не было возможности.
Занятия проходили в здании, расположенном в самом начале Ленинградского проспекта. В общих чертах я чекистскую «кухню» знал – в курсе, что такое агентура и как с ней работать. Но надо было получить представление о законодательстве, особенностях действий особистов во фронтовых условиях, ведении дел оперучета и обеспечении режима секретности. Давали нам также общие знания по вооружению, организации РККА и правоохранительной системы.
Премудростям прифронтовой работы учил нас худой, с обожженным злым лицом и рукой на перевязи капитан госбезопасности, воевавший с первого дня войны. Он был циничен и не стеснялся в выражениях. Говорил, что особисты обязаны знать истинное положение вещей и не испытывать иллюзий.
– Вы думаете, ваш главный враг – немецкий диверсант. Ничего подобного! Наш главный враг – это красный командир! Что, уши режет? А кто не выполнил приказ Москвы и не привел войска в боевую готовность перед началом войны? Кто разместил нашу авиацию в пределах досягаемости немецких бомбардировщиков, и мы остались без самолетов в самые тяжелые дни? Кто оставил танки без боеприпасов и горючего, так что мы бросали бронетехнику? Кто? Это разгильдяй и саботажник с командирскими петлицами. А кто позабыл сразу все, чему учили в военных академиях? Кто показал неспособность управлять войсками? Кто, черт возьми? Лентяй, карьерист и пьяница… Зря, что ли, командование Западного особого округа к стенке поставили? Да их десять раз за то, что они сделали, расстрелять надо было! А кто драпал первым, подавая пример красноармейцам? Трус-командир. Вот с них и надо начинать. За ними надо приглядывать. Как ни чистили мы армию, троцкистский дух в ней еще не изжит! Многие затаились и мечтают о нашем поражении!
Он сжимал кулак на здоровой руке:
– У вас есть уши – это агентура. У вас есть право – закон. У вас есть сила – особисту приданы вооруженные бойцы. И именно вы обязаны сразу выявлять и пресекать даже малейшие попытки проявлений командирских трусости, неграмотности.
Наливал после этого из графина воду, жадно проглатывал.
– Разгильдяй хуже шпиона. Необразованный и слабовольный командир – хуже диверсанта. Помните об этом всегда… А немецкие агенты – их на ваш век хватит…
Принятыми жесткими мерами порядок в Москве был быстро восстановлен. А я 20 октября получил со складов НКВД офицерское вещевое довольствие, в том числе зимние вещи. Мне вручили пистолет ТТ, удостоверение оперативного сотрудника госбезопасности. И предписание – прибыть в распоряжение Особого отдела Западного фронта.
Добрался до цели – провинциального русского городка Кушнино. Приняли меня в покосившемся двухэтажном особнячке в центре, где располагался особый отдел фронта, как родного. Это и понятно с учетом того, что от личного состава у них осталась треть, да и то с некоторыми связи нет. А сколько останется завтра – никто не знает.
Начальник окружного отдела – сухощавый, с волевым лицом, в ладно сидящей военной форме, серьезный и собранный комиссар госбезопасности третьего ранга Роман Терентьевич Буранов пожал мне крепко руку и удовлетворенно кивнул:
– Взрослый человек, не мальчишка зеленый. Воевал. Служил. Сегодня это уже много…
А через пять дней я зарылся в окопе, и на меня пер немецкий танк, которому оставались считаные секунды, прежде чем вмять меня во влажную землю…
Глава 2
Бойцы особого полицейского отделения, конечно же, объявили, что выполняли приказ командира, и все свалили на Кургана. Того арестовали.
Он честно изображал дурака, настаивая на том, что получил информацию о пособниках партизан и отработал ее. Номер не удался. Все его доводы разбивались о простой вопрос: «Почему не доложил и не согласовал?» Он совершил страшное – пошел против Орднунга.
И опять Курган в минской тюрьме. Правда, уже в камере-одиночке – тесной, влажной, где через узкое окно едва пробивался свет. Кормили скудно, строгим режимом не надоедали. В камере советской тюрьмы сидеть и лежать до отбоя нельзя, зато на прогулки выводили. Здесь – просто кинули и забыли.
Один раз его вызвали к офицеру полевой жандармерии. Этот унылый тип допросил дотошно по второстепенным подробностям. Машинистка заполнила протокол. На этом дознание закончилось.
Курган метался по камере, как тигр в клетке. И не видел никакого выхода.
Обидно же. Вся эта самодеятельность вполне могла бы сойти ему с рук, если бы не тот напыщенный командир роты. Он составил возмущенный рапорт о произволе со стороны уголовников, набранных в полицейские отряды. Видимо, он был на хорошем счету, поскольку к расследованию немцы отнеслись со всей тщательностью и дело на тормозах спускать не захотели. Да еще убитый поляк действительно за три дня до этих событий сдал немцам двух партизан, за что заслужил благодарность со стороны органов немецкого управления.
В общем, Курган отдувался за всех в этой истории. Сперва была у него идея «утопить» своих подельников. Но он от нее отказался. Если начать их «топить», то следствие, конечно, затянется, зато наружу полезут такие подробности из жизни полицейской спецгруппы! В итоге СД арестует всех, потом выбьет, где хранятся заначки с награбленным имуществом, – а там накопилось немало. И по совокупности смертных грехов поставят всех к стенке. Нет уж, лучше пусть будет на нем один неверный приказ в неправильно понятой ситуации.
– Это была ошибка. – На этой версии он стоял, как на последнем рубеже, понимая, что отступать нельзя.
Ну и достоялся на своем.
Вечером конвоиры вывели его во двор и передали на руки гауптштурмфюреру Кляйну. Тот смотрел на своего бывшего подчиненного, привычно выпятив нижнюю губу. За его спиной стояли трое солдат с автоматами наперевес.
– Жаль, ты подавал надежды. Но эту дикую русскую азиатчину, нежелание подчиняться законам и регламентам из всех вас не вытравить, – презрительно процедил Кляйн. – Хочешь сказать последнее слово?
Ноги у Кургана подкосились, и он чуть не упал:
– Последнее?
– Не хочешь? Тогда к делу.
Кургана грубо толкнули к стенке.
– Но я… Я все расскажу. Не надо, господин гауптштурмфюрер! Я искуплю!
– Спохватились вы поздно, господин Курганов. – Кляйн поднял руку и опустил ее резко: – Пли!
Загрохотали автоматные очереди.
И свет померк в глазах Кургана…
Глава 3
Я встряхнул головой, прогоняя муть от взрывной волны. Уши были как ватой заложены. Рядом рванул снаряд. Но и без него канонада стояла такая, что барабанные перепонки еле выдерживали.
– Давай, красноармеец! – толкнул я бойца – второго номера пулеметного расчета. – К пулемету!
Бесполезно. Он был в шоке – выпученными глазами смотрел на меня и только шептал какую-то молитву. Солидный вроде мужчина, по виду степенный рабочий с завода. И парализован ужасом боя. А первый номер только что убит осколком.
Немецкая пехота перла на нас умело, под прикрытием танков. И патронов не жалели, паля из винтовок и автоматов.
Я ударил по крышке пулемета, передернул затвор. Что-то там перекосило. И я никак не мог привести его в рабочее состояние.
Враг все ближе. А наши траншеи перепаханы артиллерией и бомбардировщиками. Я не знал, остался ли в них кто живой. Может, мы двое – последние. Но это не значит, что мы должны пропустить этих, которые навалились на нас…
Двое? Да я сейчас один! С размаху звонко хлестнул красноармейца ладонью по щеке. Он мне нужен в сознании и решимости, чтобы исправить заклинивший пулемет.
Нет, бесполезно. Я и правда один. Точнее, со мной еще старая знакомая – винтовка Мосина. Ну что же, послужила ты мне в гражданскую, помогла бить бандитов в Воронежской губернии. Не подведи и сейчас, в последнем бою. «А коль придется в землю лечь, так это только раз», – так сейчас поют? Ляжем. Но главное, унести с собой побольше фрицев. Чтобы смерть не была напрасной.
Я переместился немного вправо, благо траншеи хорошие – глубокие, с брустверами. Выглянул. Прицелился. Нажал на спусковой крючок.
Есть! Ссадил одного фрица. Рухнул как миленький.
И тут же по мне заработали автоматчики.
Я сделал еще один выстрел. Попал не попал – не знаю…
А потом вдруг справа заработал пулемет. Красноармеец очнулся, привел оружие в состояние боеготовности! И срезал пару серых фигур! Движение цепочки замедлилось. Немцы стали залегать.
Справа заработал еще один пулемет. Зазвучали ружейные выстрелы.
Нет, не один я. И нас даже не двое! Выстрелил еще раз.
Слева жахнула пушка. Жива еще наша оборона!..
Как я оказался в этом окопе? Меня оставили при фронтовом отделе. А его начальник Буранов, въедливый и вдумчивый, привык все щупать руками. У него была в целом здравая идея – чтобы поддерживать порядок в войсках, мы должны знать, что творится на передовой. Понять, что на душе у солдата, на которого прут немцы. Что думает командир.
Вот и отправились мы вчетвером, во главе с комиссаром госбезопасности, прямиком на передовую. Сто тридцатый стрелковый полк истекал кровью, держа оборону. И подоспели мы как раз тогда, когда немцы начали новую атаку. Были массированные артподготовка и авианалет. И теперь я в окопе. Интересно, сам Буранов жив?
А, некогда думать. Из лесочка выкатил немецкий танк и попер прямо на наш окоп.
Ну и что делать? Мой пулеметчик, заслышав угрожающий моторный рев, снова скрючился на дне окопа, и никакая сила не могла его заставить шагнуть навстречу стальному чудовищу.
Танки. Что я знал о борьбе с ними? Что их можно остановить противотанковой миной, бутылкой с горючей смесью – коктейлем Молотова, если попасть в смотровую щель или моторный отсек. И связкой противопехотных гранат. У меня минута до того времени, как танк проедет по мне. И несколько связок тех самых гранат.
Собрался я, как перед прыжком в ледяную воду. И шагнул из окопа. Навстречу стальной махине.
Сорвал кольцо на одной гранате – остальные сдетонируют. Бросил под гусеницы. И повалился на влажную осеннюю землю, расставшись мысленно с жизнью.
Грохот. Когда я открыл глаза, то увидел, что танк замер – у него сползла гусеница. Как слон он начал водить хоботом своей пушки. Ухнул пушечный выстрел, но как-то невпопад.
Дополз я до окопа и повалился в него.
Получилось! Душа запела торжествующей струной. Не было у меня теперь страха смерти – он растворился с первыми раскатами канонады, уступив место ожесточению и неизбежному фатализму боя. Не было боли в поврежденных барабанных перепонках. А было ликование – я ранил это чудовище. Не добил, но остановил его неумолимый ход.
Потом была опять канонада. Я стрелял. Перемещался в траншеях. И опять стрелял. А потом все кончилось – немцы отступили!..
Покачиваясь, я доложил начальнику особого отдела фронта:
– Держал оборону. Повредил один немецкий танк. Нанесен урон живой силе противника.
– Молодец! – похлопал меня по плечу Буранов. – Хорошо держался!.. Понял, что такое эта война?
– В общих чертах.
– Теперь ясно, откуда паника и предательство?
– От страха.
– Страх. Это не то слово. Это ужас, который парализует трусов. А смелых заставляет действовать четко и разумно.
Вскоре выяснилось, что мы потеряли оперативника. Перед гибелью тот поджег зажигалкой немецкий танк. Так они и успокоились рядом – почерневшая стальная махина и изломанное человеческое тело.
Буранов горько вздохнул:
– Эх, Саша. Геройски жил, геройски погиб. На Халхин-Голе пули его не достали, а здесь нашли.
После этого боя я понял главное, почему в Особом отделе вечная нехватка кадров. Да, так долго не протянуть. Ну и ладно. Такая наша судьба…
В рабочий ритм я вошел моментально. Вспомнились чекистские премудрости шестнадцатилетней давности. И учился я на лету. Вскоре на своем опыте прочувствовал, что такое молниеносные вербовки и получение информации из источников в полевых условиях. Как провести заградительные мероприятия. И вообще, что такое фронтовая чекистская работа.
Я двигался по обстреливаемым траншеям. Трясся на «газике» Особого отдела и попутных машинах по порядкам отступающих войск, над которыми висел черный призрак окружения.
Четвертого ноября ударили морозы. Земля замерзла, что дало возможность вязнущей в грязи немецкой бронетехнике поползти вперед, делом подтверждая тезис, что идет война моторов.
Наши войска продолжили отступать к Москве, попадали в котлы, рассеивались. Но и немцы несли тяжелейшие потери – силы их тоже были не бесконечны. Их хорошо потрепали под Мценском и под Тулой, которую они так и не смогли взять.
В те дни одни наши воины являли образцы невиданного героизма и стойкости. Другие проявляли малодушие, отступали, а то и просто драпали. Главная задача, которая ставилась перед нами: предотвращать оставление позиций без приказа и неорганизованное бегство – самый страшный бич с начала этой войны.
– При прорыве обороны противником и вынужденном отходе оперработник обязан предотвратить панику, бегство, разброд, – твердил нам наш начальник Буранов. – Он имеет право лишь на организованный отход в боевых порядках. В любом случае он должен показывать личный пример мужества и стойкости. Армейский чекист в критический момент боя должен заменить выбывшего из строя командира, не говоря уже о политруке.
Вот мы и заменяли.
Немцы знали цену нерешительности и сомнениям противника, всячески давя на этот фактор. Разбрасывали листовки с пропусками созревшим для плена красноармейцам, орали в мегафоны на передовой: «Русский солдат, убивай комиссаров и сдавайся, тебе будет предоставлена горячая еда и теплая одежда». Многие потерявшие надежду наши бойцы уже не верили, что измотанная в боях Красная армия сможет сдержать поступь несокрушимого вермахта. И шли в плен.
Сдавались добровольно и рядовые, и полковники. Все это было…
Я прибыл на передовую линию, только что пережившую авианалет. Красноармейцы сбились в кучу, совсем не опасаясь фашистских пуль. А немцы и не стреляли – ждали.
Какой-то ушлый, похожий на амбарную крысу сержант орал:
– О нас забыли! Где командиры? Где наши танки и авиация? Нет ничего! Бери, братва, немецкие листовки – вон, есть у меня. И белый флаг. Немец не обидит простого солдата!
Эта рота осталась без командиров. Комиссар роты лежал неподалеку с дыркой в спине. Это его не фашист подстрелил, а свои.
Сержант так самозабвенно пел, что не заметил меня с тремя автоматчиками особого батальона военной контрразведки фронта.
А у людей уже руки тянулись за этими листовками. И глаза очумелые – массовый психоз.
– А мне листовочку, – сказал я.
И увидел, как изменилось лицо сержанта. Он указал на меня пальцем и что-то хотел проорать. А вокруг – несколько десятков вооруженных бойцов, кто-то деморализован, кто-то уже созрел для предательства.
– Комиссарская сволочь! – наконец выкрикнул сержант. – На убой нас!
Тут я ему и засадил из ТТ в грудь. А потом добил. Мои бойцы стояли с автоматами на изготовку, готовые стрелять в своих. В своих, которые едва не стали чужими.
– Так будет с каждым фашистским пособником! – крикнул я. – Есть желающие оспорить?
Молчание в ответ.
– Что, к фрицам на поклон собрались? Иуду послушали? А о семьях своих думаете, которые за вашей спиной? Коли умереть суждено, так с честью, сохранив жизнь нашим близким! А не как этот!
Толпа переменчива. Послышались голоса:
– А, все равно подыхать, пошли в окопы.
– Не подыхать, а выживать и бить врага! – воскликнул я.
В общем, распихал я их по окопам. Судя по всему, немцы в курсе были, не стреляли по «митингу», ждали массового перехода. Как увидели, что не вышло, так врезали из орудий, а потом двинулись в атаку.
Тяжелый был бой. Мы дрались вместе с солдатами. И отбились. А потом подошло подкрепление.
Рота ушла на переформатирование и под присмотр особиста. Может, не вся зараза вышла оттуда.
А мне – благодарность от начальства. И опять на передовую…
Глава 4
Курган очнулся от потопа. Точнее, ему только казалось, что он тонет. Его просто окатили из ведра холодной водой.
Он, покачиваясь, поднялся, держась за кирпичную стену.
– Я не знал, что вы настолько чувствительны, – засмеялся гауптштурмфюрер Дитрих Кляйн.
– Живой, – прошептал едва слышно Курган.
– Ну, живой ты пока условно.
Кургана трясло мелкой дрожью. Нервы. И холод – дул пронизывающий осенний ветер.
– Думай, как будешь реабилитироваться перед рейхом, – сказал Кляйн. – Мы предоставим возможность поразмышлять в спокойной обстановке…
А потом был концлагерь в Витебске. Полуразрушенные, практически непригодные для жилья бараки, обнесенные колючей проволокой, три вышки с пулеметами. И бесконечный лай собак.
Курган видел концлагеря с высоты вышек. И не представлял, что своей шкурой будет впитывать весь ужас и безысходность этого места. Иногда он думал, что лучше бы его расстреляли. Потому что таких мучений не испытывал никогда.
Он прошел через Магадан, великие стройки СССР. Но такого не было нигде. Здесь целенаправленно изживали из людей все человеческое.
В жуткой скученности находились десятки тысяч людей – в основном военнопленных. Изможденные голодом, теряющие способность к сопротивлению и связным мыслям люди.
Время от времени немцы кого-то показательно расстреливали. Но это даже не воспринималось пленными как наказание, а виделось освобождением.
Что делать? Бежать? К этому Курган привык. Последний раз он рвал когти из советского лагеря. Смешно получилось. Подбил братву на побег и подставил под автоматы конвойных войск НКВД, а сам ушел другой стороной. Подельников поубивали, а он живой. Потом на «малине» воры его на перья хотели поставить за это, а он подрезал двоих. После шатался по всему Союзу неприкаянный, пока не добрался до Минска.
Но с немцами такое не прокатит. Уж насколько вертухаи в ГУЛАГе не склонны были медлить, прежде чем начать стрелять, но с немцами их не сравнить. Те порой расстреливали просто для удовольствия.
А еще Кургана терзал страх разоблачения.
Гестаповец Макс Фишер, который встретил его в лагере, говорил по-русски с акцентом, но очень правильно и литературно – видимо, перечитал всех русских классиков в подлиннике:
– Знаете, сколько вы проживете, если местный контингент узнает о вашем прошлом в качестве сотрудника вспомогательной полиции? Думаю, следующего утра вы не увидите. Несмотря на наши самые строгие меры, они всегда находят способ разделаться с неугодными. Так что отныне вы пехотинец двести сорок восьмого полка, попали в окружение под Киевом, из роты остались один. Это ваша возможность выжить.
– Спасибо, господин офицер. Я готов…
– Меня не волнует, на что вы готовы. А готовы ли мы?.. Пойдите прочь, господин Курганов. Вы утомительны…
Курган качнулся и, согнувшись, побрел к выходу.
– Да, если будет что сказать, передайте через рядового Ховенко, – сказал вдогонку гестаповец. – Это мой человек…
Потянулись серо-сумрачные, болезненные дни и ночи. Немцы гоняли на непосильную работу, заставляли бегать во дворе до изнеможения, разнашивая для немецких солдат жесткую обувь. Кормили все хуже, появились смерти от истощения.
Концлагерь – это вообще царство смерти. Притом смерти голодной. Голод изнуряет, вызывает апатию, лишает людей человеческого достоинства, превращает их в послушную массу, не способную к объединению.
В лагерь пригоняли все больше военнопленных. И, несмотря на страдания, на периферии сознания Кургана тлела торжествующая мысль – а большевикам на фронтах приходится несладко. И это единственное, что грело.
Однажды Курган подошел к рядовому Ховенко:
– Я готов работать.
– Многие готовы. Есть что сказать? Нет. Возвращайся в барак.
Итак, нужен товар, чтобы выкупить свою жизнь. Какой? Информация. И Курган делал то, что умел отлично, – входил в доверие, слушал и мотал на ус. Он стал исповедником для отчаявшихся военнопленных. И ждал своей минуты.
Однажды один из узников разоткровенничался с ним:
– Ты парень хороший. И здоровый. Может, выживешь. Прошу, передай семье, что я погиб. И погиб с честью, никого не предав. Скажи, что комиссар Фатьянов бился до последнего…
В тот же вечер Курган нашел Ховенко и сказал:
– Я кое-кого нашел. Господин Фишер будет рад. Но скажу об этом ему лично…
Глава 5
Холодная осень заканчивалась. А битва за Москву была в самом разгаре. Враг стоял около столицы. Пали Клин, Солнечногорск.
Я оперативник Особого отдела фронта, ведущего кровопролитные бои и трещащего под натиском противника. И устремления каждой частички этого огромного фронтового механизма – от солдата до генерала, от стрелка до политрука и особиста посвящены одному – остановить врага на подступах к столице. А он все пер напролом.
На моих глазах, как снег на горячей сковородке, таяли полки и дивизии. Они героически или позорно растворялись в кипящем вареве невиданной бойни.
Любая война очень быстро разделяет командиров на тех, кому дано одерживать победы и умело командовать в самые тяжелые моменты, и на паркетных шаркунов, которые до войны только и умели выслуживаться и заставлять солдат мести территорию части. Первые наносили немцу урон и героически выполняли боевую задачу. Вторые гробили свои подразделения, то бросая их в самоубийственные контратаки, то доводя до бегства.
Оборона Москвы. Это время слилось в моем сознании в тяжелую скомканную холодную массу. Я вечно в пути. Передо мной бесконечные траншеи и противотанковые ежи, командные пункты. И леса, пролески, дороги, по которым отступали деморализованные части.
Много я повидал. И то, как страх гнал людей с хорошо подготовленных позиций. И как остатки практически уничтоженных подразделений вгрызались в мерзлую ноябрьскую землю и непреодолимой преградой вставали на пути врага.
Проклятый хаос отступления был главным нашим внутренним врагом. Многие отходили организованно, с техникой, артиллерией. Другие драпали, бросая документы, винтовки, пулеметы, орудия. И главной нашей задачей было помочь командованию вернуть управление войсками и сбить отступающую массу в боеспособные подразделения, которые насмерть встанут на рубежах.
Важнейшая работа в этом направлении – заградительные мероприятия на путях отступления. Для этого в нашем распоряжении были специальные части НКВД и мотострелков. Позже появились заградительные отряды, подчиненные армейскому командованию. А иногда сами заградотряды становились последней линией обороны.
Масштабы бегства были ужасающими. Только на участке Можайского укрепленного района задержано более двух десятков тысяч красноармейцев, которые поодиночке и группами отходили от линии фронта в тыл и не имели при себе необходимых документов.
В этих условиях нужна была не просто крепкая, а стальная рука. Сантименты кончились. На кону стояла столица СССР. И такая стальная рука явилась в лице ответственного за оборону Москвы маршала Жукова.
По его указанию безжалостно расстреливали на месте трусов, отошедших без приказа. Били сильно. На пользу? Наверное, да. Вдалбливали – ни шагу назад, за нами Москва!
Может, и шлепнули кого-то зря. Порой путали в то сумбурное время отступление с бегством и для острастки ставили к стенке. Но тут перегибали палку по большей части заградотряды под руководством политработников. У особистов было куда больше понятий о законности. Мы тщательно разбирались, прежде чем расстреливать перед строем.
Лично я после того случая, когда застрелил предателя, к счастью, сам никого к стенке не ставил. По моему глубокому убеждению, слишком большая роскошь стрелять по своим, когда на тебя прут чужие. Поэтому большинство беглецов загонял обратно на позиции, создавал новые команды, пополняя пустеющие траншеи. Или отправлял на пункты сбора.
Пункты сбора являлись фильтрационными пунктами при заградительных отрядах. Двенадцать часов давалось на проведение следствия и принятие решения. За это время особисты проводили проверку и отправляли задержанных – кого в пункты формирования воинских частей, таких было большинство, кого в распоряжение военных комендатур, а кого и под суд.
Выявляли на фильтрах и фашистских агентов. Германская разведка не зевала и умело внедряла в ряды отступающих профессиональных диверсантов из батальона «Бранденбург» и абвера. Этих по приговору трибунала сразу ставили к стенке. Тогда была такая установка – фашист, предатель, так умри, сволочь. Не было времени играть с ними в сложные оперативные игры.
Странное состояние одержимости и дикой усталости владело мной, когда ты в полуобмороке валишься с ног. А потом приходит третье, четвертое дыхание. И ты снова не спишь по три дня, колесишь по дорогам, разбираешься с дезертирами, вправляешь мозги деморализованным командирам.
Эмоциональное отупение. Я совершенно перестал бояться за свою жизнь. Ее ценность съежилась до совсем незначительных размеров. Зато в душе холодным комом засел страх – даже не страх, а животный ужас перед тем, что мы можем сдать Москву. И он толкал меня снова вперед – под обстрелы, на передовую. Нельзя сдать столицу. Нельзя!..
К концу ноября немцы вышли на расстояние меньше тридцати километров от Москвы и уже могли увидеть колокольню Ивана Великого в бинокль. Они форсировали канал Москва – Волга – последнее крупное препятствие перед столицей. Их продвижение было остановлено сбросом воды из Истринского и Иваньковского водохранилищ.
А передо мной опять – дороги, траншеи, перелески. Заградмероприятия. Сбор оперативной информации.
Вести оперативную работу в таких условиях – это адский труд. Не успеваешь завербовать агента, а его уже убили – вербуй нового. Взял подписку о сотрудничестве с нового завербованного – и едешь дальше. И никуда не денешься, агентура – наши глаза и уши. А еще – разговоры с людьми, от которых на передовой я порой получал информации больше, чем из агентурных донесений.
По полученной информации мною готовились докладные на имя начальника Особого отдела фронта. Принимались меры. Иногда летели головы. А другие буйные головушки порой мне приходилось спасать.
В тот день меня занесло в полк, державший оборону рядом с берегом реки с ничего не значащим и мало кому знакомым названием. Закрепились вроде крепко, но силы таяли, а помощи все не было.
На передовой, в траншеях народ был усталый, измотанный до последней стадии и озлобленный. Смотрели на меня, как на особиста, волком, и это было опасно. Случалось, нашего брата под шумок могли и пулей угостить – война все спишет, поди, разбирайся потом.
Тут и шепнул мне агент, которого я завербовал две недели назад, что сейчас полковой особист перед строем расстреливает пулеметчика Сидора Заречного. А мужик геройский, позавчера роту спас, когда немец в атаку пошел. Если бы не его точная стрельба, прорвали бы гансы оборону. Он последний человек, которого в симпатиях к немцу и трусости упрекнешь. И вот надо же – нашли у него листовку «Бей жида, политрука» с пропуском для добровольного перехода к немцам.
Народ здесь был войной закаленный, немца ненавидящий, так что над этими листовками только смеялись. А чаще на самокрутки использовали. Вот и застукал политработник из дивизии пулеметчика с этой листовкой, на которую тот уже табачок насыпал. Шум, гам, появился особист – такой ершистый, молодой и сильно строгий. При этом сам он в окопах редкий гость – больше на КП полка отирается. И решил дело об измене сшить, особо не вслушиваясь в оправдания. А без такого пулеметчика трудно будет в следующий раз немца сдержать. Так и ляжет рота.
Нам еще в июле Государственный комитет обороны предоставил право внесудебного расстрела за измену, дезертирство и неисполнение приказа. Расстрел на месте, лучше перед строем. Не злоупотребляли мы им, но иногда выхода другого не было.
Я ситуацию понял предельно ясно. Теперь главное было успеть.
Добрался я на «газике» до деревни, где располагался командный пункт полка, вовремя. Там уже на деревенской площади расстрельный взвод выставили, бойцов в шеренгу построили. И молоденький особист, весь такой отутюженно уставной – и как только умудряется перышки в такой обстановке чистить – зачитывает свое высочайшее решение. Долдонит что-то о предательстве и трусости, переходе на сторону врага. Я рядом остановился, выслушал внимательно, и когда уже готова была прозвучать команда «огонь», крикнул:
– Отставить!
Особист зло зыркнул, но противоречить оперативнику из Особого отдела фронта, да еще в сопровождении трех автоматчиков, не рискнул.
Потом, когда мы остались наедине, он пробурчал, что вынужден будет доложить наверх о мягкотелости и попустительстве.
– На кого ты доложишь, щень ты неразумная? – с интересом посмотрел я на него. – Да я тебя на передовую пошлю с винтовкой, и там посмотрим, чего ты стоишь. Или в штрафбат за то, что выбиваешь опытных бойцов во время тяжелых боев. Ты своей глупостью чуть оборону роты не сломал! На плечах Заречного она держалась! Ты это знал? К немцам пулеметчик, оказывается, собрался. Человек, у которого родню в хате немцы на Украине заживо сожгли!
– У него обнаружили листовку.
– Листовку? Бумагу для самокрутки ты у него обнаружил! Прежде чем пистолетом махать, разберись, что за человека расстрелять хочешь!
– Но…
– Мы не для того, чтобы расстреливать. А для того, чтобы боевые части выполняли боевые задачи. Ты все понял, мальчишка?
– Так точно!
Меня нешуточная злость разобрала. Заигрался пацан. Я всегда считал, что чекистская работа не для молодых и горячих. Слишком высока цена слова и дела.
В общем, еще попинал я морально этого хлыща. И дальше, в путь. На передовые рубежи. К паникерам и дезертирам.
Интересно, что до этого момента шпиона живого мне так и не удалось увидеть. Нет, конечно, особисты выявляли немецких агентов. Но те как-то проходили мимо меня. Я усмехался, думая, что мы победим, а я агента немецкого так и не увижу. Тоже мне, контрразведчик.
Но я ошибался. Уж что-что, а шпионов вскоре предстояло мне насмотреться вдоволь…
Глава 6
Несколько раз немцы выстраивали весь лагерь и по громкоговорителю сообщали, что Москва вскоре падет. Сейчас разворачивается победное шествие на столицу СССР, которая находится в кольце немецких войск. До ее падения остались считаные дни.
И какая-то томная, ленивая радость растекалась по телу Кургана. Вроде бы чего радоваться за тех, кто гнобит его в этой вонючей дыре? Но радовался. Да, пока он здесь. Но все меняется. И он сделает все, чтобы победителем, чеканным шагом верноподданного рейха ступить на мостовую родной Сретенки.
Воспоминания об оставленном доме, о Москве у него были какие-то смазанные и злые. И все время лез в голову тот проклятый учителишка Лукьянов. Большевик такой пламенный и беззаветно верный делу Ленина – Сталина, то есть круглый дурак, не видящий ничего вокруг. Эх, не дорезал его тогда Курган. Но теперь даже был рад этому. Теперь Сергей Павлович не просто так сдохнет, а видя, как подыхает вместе с ним и его родная Совдепия, будь она неладна!
И чего зациклило его на этом учителе? Дело, видимо, не только в проблемах, которые тот ему доставил. Курган прекрасно понимал, что эти проблемы в его жизни возникли бы в любом случае. Те, кто в СССР не шагает со всеми радостно в ногу, уже сами по себе проблема. Просто он ощущал между ними какое-то непримиримое внутреннее противостояние. Их отношение к жизни было диаметрально противоположным. И пока такие гады, как этот Лукьянов, живут на белом свете, ему, Кургану, покоя не будет.
«Ничего, со всеми посчитаемся!» – Курган счастливо зажмурился.
Хоть сейчас он и в незавидном положении, но все изменится. Он вывернется, выслужится перед немцами, заслужит прощение и войдет с ними в Москву, лучше на танке! Только бы успеть!
Но он успеет. Он уже начал работать. И пока фортуна благоволит ему.
Тогда рядовой Микола Ховенко не подвел – передал весточку куратору. В тот же день под благовидным предлогом Кургана вызвали в здание администрации. И там гестаповцу Фишеру он выложил все, что узнал о прятавшемся под чужой личиной полковом комиссаре. И испытывал при этом легкость необыкновенную. Так же легко ему было, когда в минской тюрьме он вкладывал Старого Амадея.
Схожие чувства посещали его и тогда, когда он стучал на своих братьев-воров сотрудникам НКВД. Ни с чем не сравнимая радость, когда дирижируешь чужими жизнями, притом не прикладывая к этому никаких усилий, если не считать энергии, затраченной на производство звуков. Слова, колебания воздуха – это же нечто совершенно эфемерное. А вот их результат в виде допросов, дознаний, расстрелов – они очень даже вещественны и зримы. В этом есть своя сладостность.
– Вижу, вы начинаете что-то понимать. – Фишер положил на стол перед заключенным буханку хлеба и шоколад.
А потом был еще кофе с волшебным ароматом. Но аромат – как это глупо и второстепенно. Главное – это была еда.
В концлагере Курган понял, что основная потребность человека – это жрать. Пусть даже не вкусно и совсем не изысканно. Просто жадно набивать брюхо, чтобы восстанавливать свои тающие силы и оставаться жить.
– Ну что же, можно сказать, экзамен вы выдержали. – Гестаповец дежурно улыбнулся. – Теперь должны оправдать мои надежды. Будем взаимодействовать… Пейте кофе, пейте.
Он брезгливо и вместе с тем с интересом смотрел на жадно жующего заключенного.
– Итак, ваша задача, господин Курганов: изобличение комиссаров, евреев и большевиков. И красных командиров. Как вы уже поняли, многие из них скрывают свою дьявольскую сущность, представляясь другими именами, выдумывая биографии, пользуясь документами погибших однополчан.
– Найдем, от нас не спрячутся, – продолжая жевать, заверил самодовольно Курган.
– А еще предотвращение побегов и актов неповиновения. Проникновение в подпольные организации заключенных. Вам понятно?
– Предельно, господин офицер.
– Не менее важная задача – выявление среди контингента людей, не поддерживающих советскую власть. Представителей угнетенных общественных слоев. Это могут быть бывшие купцы и нэпманы, как ваша семья. И раскулаченные крестьяне. И бывшие царские чиновники и офицеры. Родственники репрессированных. Просто те, кто понял всю богомерзкую суть большевистского еврейства… Ну, и ищите просто людей, склонных к сотрудничеству.
– Уяснил.
– Еще их проверка на лояльность. В каждом таком случае вам будет даваться конкретное задание. Все понятно?
– Точно так.
– Информацию будете передавать через того же связного – красноармейца Ховенко… И будьте усердны. Мы найдем чем вас отблагодарить… Еще кофе?
– Не откажусь…
Он вернулся в барак. Своим похожим на высохшие ветки истощенным сокамерникам выдал легенду:
– Гоняли на хозяйственные работы за оградой концлагеря вместе со специальной командой. Кусок хлеба дали, чтобы мы в голодный обморок не попадали и копали глубже.
– Эх. – При упоминании о хлебе кто-то застонал…
Выявленного Курганом полкового комиссара тихо перевели куда-то, и больше его в лагере не видели. Что с ним сделали и как – не важно. Главное, никаких подозрений у сокамерников на Кургана не пало.
После добросердечного разговора с гестаповцем Курган успокоился. Он выберется из этого чистилища. Он возьмет свое. И небеса еще ужаснутся от того, что он будет творить на этой планете.
Но работы предстоит много. Он уже вошел в контакт с группой заключенных, которая задумывается о побеге…
Глава 7
5 декабря наши войска, получившие серьезные подкрепления, в том числе с Дальнего Востока, перешли в контрнаступление по всей линии фронта от Ельца до Твери. На протяжении последующих недель немца откинули от Москвы на десятки километров.
Чего это стоило – знают все. Это не просто сила нашла на силу. Это неутолимая алчность тевтонского завоевателя, явившегося за жизненными пространствами, натолкнулась на несгибаемую стойкость русского духа.
Не знаю, были ли в истории примеры такого самоотверженного героизма. Люди бросались под танки с голыми руками, и те пробуксовывали на раздавленных телах. Бойцы забыли и о заградотрядах, и об угрозе расстрела на месте оставивших свои позиции. Они просто окончательно решили для себя, что нет силы, которая выбьет их живыми с последнего перед Москвой рубежа.
А еще мы учились воевать. Наконец командиры начали ощущать ткань войны, внятно распоряжаться ресурсами, умело выстраивать оборону, работать засадами и ловушками, в которых гибнет хваленая немецкая бронетехника.
Начало контрнаступления 5 декабря было объявлено днем победы над фашистами под Москвой. И у нашего народа душа будто встала на место. Теперь мы были уверены, что произошел перелом, и отныне погоним немца до Берлина.
Две гигантские силы на короткое время ослабили напор, переводя дыхание и зализывая раны. Но мы продолжали отжимать немецкие войска от столицы. В некоторых местах установилась стабильная линия обороны. Однако иллюзий никто не питал. Германец был слишком силен и не настроен отступать.
Справили мы Новый 1942 год узким коллективом Особого отдела. У нас теперь был новый начальник – старший майор госбезопасности Алексей Еремин. Неплохой руководитель, с пониманием и богатым чекистским опытом, но своего предшественника комиссара ГБ Буранова, погибшего под Тулой, заменить он не мог. Жалко, хороший Буранов был мужик – суровый, но беззаветно преданный Родине и отважный до полной потери чувства самосохранения. Иногда надо сдавать назад, но он этого не знал…