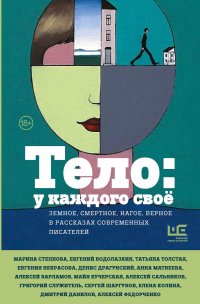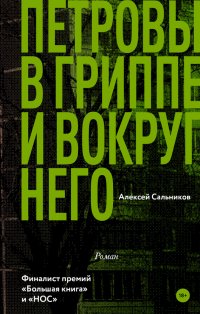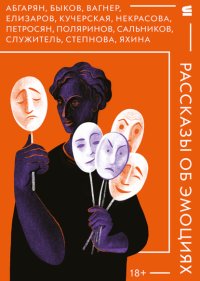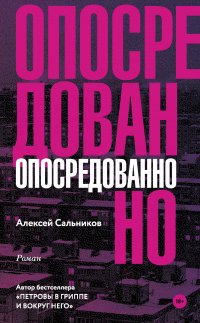
Читать онлайн Опосредованно бесплатно
- Все книги автора: Алексей Сальников
«И даже сочинения стихов на тему, никак не связанную со строительством, чего-то такое: “Птичка прыгает на ветке, на небе солнышко блестит… Примите, милая, привет мой… И что-то такое, не помню – та-та-та-та… болит…”»
Михаил Зощенко «Мелкий случай из личной жизни»
Глава 1
Воздух, содрогнувшийся вместе с составом
При всей своей нелюбви к учебе двоечники всегда знали, когда будет урок биологии о размножении человека и урок литературы о поэзии. Были бы у трудовика темы, отдельно посвященные растворителю и клею «Момент», они бы и эти уроки посещали, похихикивая и переглядываясь.
Елена была хорошисткой, из тех, кто учится ближе к тройкам, нежели к пятеркам, безоговорочно благополучно у нее складывалось только с алгеброй и геометрией. Поэтому урок о поэзии она пропустила мимо ушей. Уяснила только, что это пагубное пристрастие, но им увлекался и родоначальник русского авантюрного романа – Александр Сергеевич Пушкин, и лауреат Нобелевской премии Бунин, а принес всю эту заразу в Россию не кто иной, как великий русский ученый Ломоносов. Что прежде чем поэзия доросла наконец до пригодных к употреблению здоровыми людьми песен и произведений советских поэтов, она прошла долгий путь, берущий начало еще в первобытное время, потом превратилась в античный театр, где греки и римляне предавались коллективному наркотическому безумию под ритмизованные произведения тогдашних авторов, под целые поэмы, которые были длиннее даже, чем «Василий Теркин», впадали в экстаз, длившийся много дней. Еще Лена запомнила, что когда учительница литературы заговорила про античность, то приняла позу, похожую на ту, в какой замерла «Статуя оратора» на картинке в учебнике истории; только тогда Лена поняла, откуда у литераторши такое необычное прозвище: Клепсидра.
Через варваров, которые использовали свои саги, мешая их эффект с химическим безумием отвара из мухоморов, через средневековые поэтические секты учительница стремительно шагнула в девятнадцатый век. Иллюстрируя приличную поэзию, прочитала басню Крылова. Двоечники со своих задних парт стали задавать неудобные вопросы про состояние поэзии в настоящее время, про то, что если официальные религии вполне себе используют стихи, пробуждая в пастве религиозное чувство и экстаз, почему же нельзя легализовать остальное стихосложение, а не только безобидное для психики.
Хулиганам интересно было задавать подобные вопросы. Им почему-то казалось, что они первые додумались до этих вопросов, им в голову не приходило, что учитель отвечает на них каждый год, причем несколько раз, по количеству классов в потоке. Клепсидре, впрочем, стоило отдать должное. Она не раздражалась видом ехидных подростковых рожиц, тем более ехидных, что подростки считали, будто они оригинальны в своих попытках поддеть ее. Они даже спросили, не баловалась ли сама училка стишками на первых курсах (ходили такие легенды про филфак). Хулиганов интересовало многое, например, почему алкоголь и сигареты, несущие реальный вред здоровью, не запрещены, а за распространение стишков можно загреметь на пять лет, а за написание и распространение – на все десять. Где справедливость?
Елене этот разговор показался неинтересным и не имеющим к ней никакого отношения (потому-то, собственно, и неинтересным). Она невольно отвлеклась на апрельские окна, где улица зеленела и блистала, где было уже очень жарко. Тогда, на уроке, она прослушала, что говорила учительница, но потом, сама уже работая в школе, узнала все эти отработанные педагогические ответы, где говорилось, что помимо вреда здоровью есть вещи более ценные, которые невозможно поймать рентгеном и анализом крови, что есть этика, и именно этикой регулируется в обществе множество отношений. Что же до монополии государства и церкви на использование стихов, то это по всему миру именно так, кроме, разве что, Голландии и нескольких штатов в США, но это уж их личное дело, в России хватает пока и других проблем. Кайф, появляющийся из коверкаемой речи, совершенно аморален. Обязательно приводился в пример эксперимент с крысой, которая, пока не сдохла, давила на кнопку, стимулирующую центр удовольствия, давались примеры из жизни, следовал рассказ про нескольких знакомых, которые увлеклись когда-то стихами и это разрушило их жизнь: кому-то для того, чтобы низко пасть, хватило и стихов, кто-то вырос из литры и закономерно перешел на более тяжелые наркотики. Из года в год повторялись вопросы и ответы, но всё было тщетно. Как и в случае с другими неполезными и даже опасными для здоровья вещами, все рано или поздно принимались в той или иной степени злоупотреблять чем-нибудь вредным. Как-то это само собой получалось, как-то действовала местная флора, фауна, пейзажи, погода, что людям становилось скучно жить и нужно было взвеселить свое существование.
Елена считала, что никогда не будет курить, пить, а сексуальную жизнь начнет в первую брачную ночь. В отличие от многих сверстниц, которых современные нравы толкнули на стезю вполне здоровой девичьей активности с частыми влюбленностями, отслеживанием последней моды по журналам и ТВ, подростковым бунтом, Елена не перечила матери и бабушке, не увлекалась косметикой, не начесывала себе «Карлсона», идя на школьную дискотеку. Происходило это вовсе не из врожденного послушания или строгости и закостенелости старшей половины их половинчатой семьи (где мужчин не было уже почти десять лет), просто Лене было не интересно закатывать сцены, как-то особенно стричься и краситься для дискотеки или школьного фото. Закостенелой была скорее Елена сама по себе, она уже видела себя женщиной-математиком, млела почему-то от вида «мымры» из «Служебного романа», представляла, что именно так у нее все и будет.
Впрочем, не совсем была она чужда и некоторых школьных склок. В год, когда необязательной объявили школьную форму, в девятом классе, Лена стала одеваться в одежду собственного пошива. Некоторые вещи остались незамеченными прекрасной половиной класса, но всё же короткое платье, скроенное будто из красно-черной клетчатой диванной обивки, и бежевый кардиган с большими синими пуговицами и выпуклым узором в виде ромбов подверглись девичьим насмешкам. Особенно развлек одноклассниц кардиган, который показался им старушечьим, они не уставали спрашивать, не из бабушкиного ли сундука она утянула такую замечательную обновку. Упрямая Лена старалась надевать эти предметы одежды как можно чаще. Ей было интересно, когда же девочкам наскучит эта игра, но девочкам игра не наскучивала, и если Лена надевала что-нибудь другое, они нарочито удивлялись тому, что в ее гардеробе есть еще что-то не менее смешное. Кажется, ей даже дали кличку, только Лена ее не запомнила, вроде бы даже ее и травили, порой и некоторые пацаны втерлись в эту травлю, но Лене класс был настолько неинтересен, что она этого не заметила. Вообще, дети из школы № 50, куда бабушка устроила ее по знакомству, настолько отличались от детей из ее района, что казались иностранцами, разве что разговаривающими на том же языке, иногда существами настолько чужими, что обижаться на них было просто грешно. Да, школа № 1 на Оплетина не особо славилась своими выпускниками, а кварталы вокруг Пароходной улицы считались инкубаторами всякого мелкого криминала (и это было странно, потому что после перестройки мелкой и крупной уголовщины хватало и в других районах), но Лена не могла найти той разницы, что отличала бы «своих» ребят от тех, кого она друзьями не считала. «Свои» относились к ней хорошо, несмотря на то даже, что она порой, если было тепло, устав от запахов многочисленных бабушкиных мазей и лекарств, выходила делать алгебру и геометрию во двор и сидела за столиком, где тут же играли в карты, домино или рассказывали анекдоты.
Можно было списать эту терпимость на ее показное ботаничество, на то, что в старших классах она помогала делать математику паре молодых дворовых авторитетов, которые закономерно пошли в ПТУ, но ведь и раньше никто под нее не подкапывался, даже местные девочки. В среде «своих» тоже, конечно, попадались местные парии, и как Лена умудрилась не стать изгоем и там и там было непонятно даже ей самой. В детстве естественно воспринималось то, что где-то ее не очень любят и даже говорят об этом в открытую, а где-то есть место, где не только терпят, но и даже есть друзья. Но, когда на нее, уже взрослую, накатывало воспоминание из той поры, она почти ужасалась тому, насколько всё могло быть плохо.
Не являлись ее воспоминания ностальгией. Это была скорее попытка найти корень своей зависимости, не попытка найти даже, а больше стремление хотя бы перед самой собой перевалить ответственность за то, что с ней случилось, на неблагополучное окружение, на равнодушие, которое проявляли в воспитании мать и бабушка: им ведь важнее было, чтобы она была накормлена и одета, – то, что творилось у нее в голове, их как будто и не интересовало вовсе, лишь бы пришла домой до того времени, когда они начнут беспокоиться (причем время это сильно разнилось в зависимости от того, были ли они сами у кого-нибудь в гостях, шло что-то интересное по телевизору или им было скучно).
Но Нижний Тагил в то время, когда она заканчивала школу, когда училась в институте, вообще не являлся очень уж спокойным городом, какой район ни возьми. Действительно, кто-то из ее знакомых подсел на иглу или спился, кто-то оказался за решеткой, в конце девяностых пацаны из соседнего двора, гуляя по улице Фрунзе, умудрились до смерти избить своего ровесника, шарахавшегося возле ДК «Юбилейный», а ровесник возьми и окажись подававшим надежды хореографом, который приехал погостить к родителям и заодно решил в одиночестве ностальгически подышать красноватыми и белыми дымами металлургического комбината. Из этого почему-то раздули скандал городского масштаба, будто они запинали фигуру едва ли не уровня Солженицына (хотя попался бы им и Солженицын…). Но такие вещи, пусть и не вызывавшие большого отклика в газетах, происходили повсюду. Где бы ни родилась Лена, не подсесть на стишки ей стоило бы огромного труда, раз уж у нее оказались предпосылки. Но тут все еще и совпало: дружба с Ирой, ее старший брат, успешное поступление в институт, скука и волнение в ожидании учебы и то, что Михаил Никитыч жил совсем недалеко и пользовался благосклонностью участкового.
С Ирой они начали дружить еще в детском саду. Редко такая дружба переживает пубертат: слишком быстро с началом учебы накапливаются различные интересы и складываются разные компании, но вот что-то было между ними, что заставляло их год за годом ходить друг к другу в гости и бродить по округе. В основном они, правда, не бродили, а сидели на спортивной площадке школы № 1, где болтали о всякой ерунде, вроде последнего выпуска КВН или обсуждения сериала «Богатые тоже плачут», сплетничали в меру своих заучных сил. Ирина ушла из школы в девятом классе и поступила в художественное училище, поэтому сразу показалась Лене старше, но на самом деле не изменилась совсем, разве что стала гораздо веселее и разговорчивее.
Лена предполагала, что в том, что ее так и не начали травить во дворе, была заслуга именно Ирины, точнее, ее старшего брата Олега – сутуловатого, вечно какого-то недовольного крепыша, занимавшегося боксом. Он был старше Ирины и Лены на девять лет, поэтому мог влиять на отношение к Лене местного хулиганья там, где не помогли бы мать и бабушка, их интеллигентные призывы к совести. Бывало, что, когда мелкая Елена засиживалась в гостях, Олег молча вел ее через темный двор до самой квартиры, ждал, остановившись площадкой ниже, чтобы дверь открылась, и только тогда уходил. Он появлялся у Елены, если Ирина слишком увлекалась и застревала допоздна, отвергал приглашения Лениных бабушки и мамы тоже посидеть и выпить чаю и почему-то всегда стеснительно усмехался в пол, когда ему это предлагали.
Увидев себя в списках поступивших в НТГПИ, Лена не смогла довезти до дома эту радость, поэтому первым делом нашла телефон-автомат и позвонила сначала матери на работу, затем домой бабушке, а потом Ирине.
Подруги дома не оказалось, она укатила в Екатеринбург к родственникам, чтобы пополнить ряды абитуриентов архитектурной академии. Лена знала о планах подруги, просто забыла за своими собственными хлопотами, а теперь еще раз узнала от Олега, который к тому времени, как обе девочки успели вырасти до студенток, сам уже закончил местный филиал политеха, отслужил в армии, работал на заводе, женился. Отношения с женой складывались не очень, Олег приехал переждать семейный скандал под родительской крышей, именно поэтому оказался у телефона. Первым делом Олег ревниво поинтересовался, почему, собственно, пединститут, если уж Лена не гуманитарий? Почему не УрГУ, не что-нибудь другое? «Уж я дуб-дубом, а отучился», – пояснил он свою претензию. Лена и сама не понимала, почему пошла в педагогику. Детей она не любила, общаться с людьми – тоже. Это было глупо, но она боялась, что ее знаний недостаточно для поступления в более престижный вуз, что преподаватели начнут смеяться над ее знаниями прямо на экзаменах, как-то так она считала, а Олегу стала объяснять совсем другими причинами и, не в силах оправдаться перед ним, перед уверенным взрослым угуканьем, каким Олег сопровождал каждую ее фразу, Лена торопливо попрощалась с ним и бросила трубку.
После этого разговора от радости не осталось и следа. Лена стала завидовать Ирине, которая точно знала, чем хочет заниматься всю свою жизнь. Вообще, все вокруг, судя по всему, знали, чем хотят заниматься. Пока Лена ждала электричку до железнодорожного вокзала, она успела достать зеркальце из потертой сумочки (доставшейся ей от мамы и спустя год еще пахнувшей пудрой, которой пользовалась мать), полюбоваться своим несчастным видом, понаблюдать за путейщиками, которые вразвалку прошли мимо по шпалам, совершенно очевидно довольные своей жизнью, подслушала веселые разговоры на перроне, где ее ровесники обсуждали случаи своего невероятного везения во время экзаменов. Лене вовсе не повезло. Она свое поступление высидела над учебниками и художественной литературой, последнюю она читала едва ли не со слезами ненависти на глазах, потому что совершенно не понимала ни самих школьных классиков, ни этого обязательного сочинения при поступлении. Но даже профильные экзамены дались ей не так просто. В школьных математических олимпиадах она пару раз выходила на область (правда, никогда не могла прорваться дальше), а тут обычные, в принципе, задачи, казавшиеся при взгляде на них элементарщиной, поставили ее в тупик. С первого захода она не смогла решить ни одной из пяти. Только поборовшись какое-то время с отчаянием, Лена собралась и разглядела, где она ошиблась сначала. Но на этом ее страдания не закончились. Вечером после экзамена Лене придумалось вдруг, что она не поставила «плюс-минус» в одном из ответов, – это была мука, которой нельзя было поделиться ни с кем из близких: мама стала бы упрекать Лену в том, что она рассеянна, а бабушка принимала все Ленины неприятности слишком близко к сердцу и могла разыграть целую драму, мастерски используя в качестве реквизита и валерьянку, и валокордин, и еще какие-то таблетки, и стакан с водой в трясущейся от волнения руке.
Усталая и пришибленная, Лена села в электричку, затем на автопилоте перебралась в трамвай на вокзальной площади. Женщина – водитель трамвая – объявляла остановки веселым голосом. Летняя жизнь внутри трамвая и снаружи него казалась Лене похожей на карнавал из песни Леонтьева: девушки были завиты и накрашены, некоторые мужчины как будто пьяны, на девочках были разноцветные лосины, на голове каждого третьего мальчика была синяя или камуфляжная бейсболка с надписью «USA». Весь проспект Ленина – от огромного «Дома быта» до поворота на Островского – был заставлен различными комками с видеокассетами, едой, трикотажем, игрушками. Было невыносимо светло, шумно, пыльно и очень жарко.
Только позже, когда шла уже к дому и при этом идти домой не хотела, Лена немного успокоилась, однако не настолько, чтобы не быть слегка оглушенной и не заметить Олега, который сидит на лавочке возле ее подъезда. Когда он поймал ее за ремень сумочки, Лена вспомнила, что ее действительно кто-то окликал, а она решила, что обращаются не к ней. Выдергивая руку, она не услышала, что он говорил, не сразу узнала его, потому что он отпустил что-то вроде бороды и усов, состоявших из щетины, которая, будь длиннее, являлась бы уже неаккуратной небритостью. Моду на такую частично еловую физиономию подхватили многие мужчины, подглядев, как хорошо смотрится она на Брюсе Уиллисе, без его примера трудно было догадаться о привлекательности такого бритья, потому что до какого-то из «Крепких орешков» с подобной шершавостью лица щеголяли только местные алкоголики. И прическа у Олега была другая – раньше он стригся очень коротко, почти наголо, теперь, внезапно для Елены, аккуратно оброс волосами, отчего лицо его стало совершенно чужим.
«Не хочешь сходить куда-нибудь? Отпраздновать», – когда вопрос этот дошел до Елены, та не смогла ответить сразу, а внимательно посмотрела на Олега, пытаясь понять, не клеится ли он к ней случаем. Он вовсе, кажется, не клеился, но совместная прогулка все равно что свидание, он сам выбрал ее для этой прогулки, такое внимание ей польстило.
Фраза из «Чужих» (этот фильм она посмотрела в видеосалоне три раза, потому что ей показалось, будто она походит на девочку оттуда): «Ты выглядишь так, как я себя чувствую», – очень смешная, по мнению Лены, однако не прижившаяся на местной глинистой почве, не ставшая общеупотребительной, – как нельзя лучше описывала внешний вид Олега. В своей чистой футболочке, подпираемой изнутри мускулами, джинсиках, белых кроссовках, облившийся одеколоном перед прогулкой Олег, тем не менее, являл собой довольно жалкое зрелище: какая-то нехорошая усталая улыбка была на его лице.
Им, очевидно, двигало ностальгическое желание иллюзорного, короткого путешествия в прошлое, где все в его жизни было гораздо проще. Окажись дома сестра, он, скорее всего, поволок бы куда-нибудь ее, потому что Ирина, несмотря на всю свою серьезность, не растеряла пока непосредственности и веселости; за неимением же сестры годилась и Лена. Это было не очень красиво с его стороны, но Лена, даже догадавшись о своей роли эрзаца, почувствовала, что внутри у нее что-то приятно зашевелилось, ей пришлось сдержать себя, подавить улыбку и не сразу согласиться, а сделать вид, что она думает. Со стороны, наверно, это выглядело очень смешно.
«Ну, я переоденусь, наверно, – сказала Елена. – Целый день по жаре таскалась. Ты подождешь?» В ответ Олег только развел руками, дескать, куда я денусь.
Лена, конечно, не только переоделась, не просто сменила платье с белого на более короткое синее, она и умылась, и причесалась, и помазалась мамиными духами, и отбилась от бабушки, которая уже пекла торт, разбавив запахами какао и ванили обычные квартирные ароматы бумажной пыли, мази Вишневского и валерьянки.
В итоге Лена вернулась на улицу только спустя полчаса. Олег за это время успел уже найти себе занятие: надевал цепь на звездочку велосипеда, принадлежавшего какому-то мелкому пацану; двое других велосипедистов, бросив свои машины прямо на дороге, стояли тут же. «Тебя там на понос пробило, что ли?» – через плечо поинтересовался Олег свойским, даже несколько игривым тоном: этим он намекал, больше самому себе, что предстоящая прогулка вовсе никакое не свидание. «Дебил», – стандартно ответила Елена, как делала много лет подряд, переняв это слово у Ирины – та довольно часто награждала им брата, если он влезал каким-нибудь комментарием в их игру или разговор.
Глядя на склоненные к павшему велосипеду пыльные детские головы и могучую шею Олега, Лена невольно радовалась, что окна их квартиры выходят не к подъездному крыльцу, что у бабушки не возникнет муторных вопросов по поводу этой прогулки. Двор тоже почти пустовал, поскольку многие местные дети были заточены в пионерских лагерях, а взрослые еще не вернулись с работы. Но дело шло к вечеру, мать уже могла начать собираться домой, и пересекаться с ней, да еще в такой компании, совсем не хотелось. Олега, очевидно, это совсем не беспокоило; когда велосипедисты, блестя одним и тем же повторенным на спицах нескольких колес бликом солнца, удалились наконец с глаз, Олег остался сидеть, задумчиво разглядывая руки, измазанные маслом, опасливо держа их подальше от футболки и джинсов. «Вот ведь скотина», – почему-то с удовольствием подумала Елена и полезла в сумочку за салфетками, но Олег уже встал и кокетливо потолкался в Елену бедром, показывая, что у него в кармане есть платок, который она должна была достать. Она смерила его взглядом, к ее удивлению, их глаза оказались почти на одной высоте – настолько Елена выросла за то время, пока Олег не появлялся и околачивался в других местах, до этого она смотрела на него только снизу вверх. Он, кажется, тоже удивился, но ничего не сказал. Лена, помедлив, оттолкнула его и передала ему сначала одну салфетку, затем протянула всю упаковку.
Закончив чистить перышки, Олег, опять же молча, подставил Елене локоть, за который она должна была уцепиться, как любая гуляющая с парнем девушка, но Лена, опять же помедлив, оттолкнула и локоть. Они оба помнили, как поздним вечером Лена собиралась из гостей, как Олег сварливо говорил «давай руку» и волок ее до дома, обводя мимо грязи и луж, если дело происходило весной-осенью, а зимой они специально шли мимо раскатанных на тропинках мест, где Лена изображала бег на коньках, а Олег тянул ее вверх, не давая рухнуть, если она поскальзывалась, и говорил: «Хорош дурковать».
Идя бок о бок, будто сослуживцы, они отправились сначала в парк Горького, но там было скучно, тогда дворами они вышли к прибрежной части улицы Аганичева, а оттуда, по Фрунзе, мимо молочного магазина доползли до кафе на горке. Сначала, в парке, разговор не очень клеился; они вежливо поинтересовались делами друг друга, вежливо поотвечали, затем беседа раскрутилась, Лена стала рассказывать, смеясь над собой, об экзаменах, потому что только о них и могла пока говорить, так свежо и сильно было впечатление о пережитом страхе. Олег тоже стал делиться своими былыми экзаменационными переживаниями: как и у многих других, но не у Лены, его поступление было исходом целого множества счастливых случайностей. Билетов по физике он выучил только половину, да и ту кое-как. Крайне мала была вероятность того, что во время подготовки Олег заинтересуется подробностями экспериментов при измерении скорости света и как раз про измерение скорости света возникнут дополнительные вопросы у экзаменатора. А ведь именно так и произошло. И остальные предметы он сдавал так же, надеясь, как оказалось не напрасно, на везение.
В кафе Олег попытался напоить Лену, а она отказалась, тогда он принялся себя наполнять молочными коктейлями, поглядывая на блеск Тагилки сквозь прибрежную зелень. Лена, в свою очередь, смотрела на далекий пешеходный мост за плечами Олега: по мосту двигались туда и сюда обычные одетые граждане и голые купальщики (лето в том году затянулось едва ли не до сентября).
После кафе Олега и Лену понесло на Лисью гору, затем они постояли на плотинке, сначала с одной стороны, где можно было понаблюдать за лодочками на обширной поверхности пруда, затем с другой, где возле полудохлой воды стояли черные чугунные агрегаты завода-музея.
И разговор, вроде, клеился на протяжении всего пути и во время стоянок то там, то сям, и был даже весел, Лена сумела слегка развеяться, и все же ей заметно было, что Олег хочет говорить совсем о другом, но почему-то не может или не желает. Его наверняка подмывало рассказать о каких-то настоящих, взрослых причинах того, почему он позвал ее, Олег выжидал момента, когда сможет поудобнее вывалить на Лену все свои неприятности или сомнения, которые посетили его с того момента, когда они виделись в последний раз. Лене тоже зудело рассказать ему о том, как она видит свое будущее (она надеялась, что сможет стать преподавателем, что, именно учась в институте, сможет совершить какое-нибудь математическое открытие), и при этом она понимала, что говорить про такое – это совершенно то же самое, что признаться, будто до сих пор верит в Деда Мороза. Порой они замирали друг против друга, как для поцелуя, а на самом деле, оценивая друг друга, прикидывая: можно ли уже начать говорить о том, ради чего они и двинулись в этот неторопливый обход жарких августовских улиц. Совершенно детская прогулка должна была казаться Олегу еще более нелепой, нежели Елене, хотя бы потому, что он сам все это начал; что был старше; что отчаяние, которое на него накатило, невозможно было убрать таким образом; что это нелепее, чем если бы Олег потащил Лену на эту неумную экскурсию ради того, чтобы с ней переспать.
Так и не сподобясь скатиться до откровенности, пробродили они до самой темноты и опять остановились в парке Горького. Физическая усталость и комары, от которых нужно было отмахиваться отломленной веточкой, уже пересиливали в Лене мрачные мысли, она рада была, что скоро попрощается с Олегом и будет сначала медленно ужинать, а потом ляжет перед маленьким телевизором в своей комнате и будет смотреть «Горячую десятку» с Васей Куролесовым; музыку Лена не любила, ей нравилось, что каждый клип сделан, как маленький фильм.
«Чё-то не получилось праздника для тебя, извини», – Олег сказал это для того, чтобы Лена его хотя бы немного начала опровергать, или правда хотел придумать по пути что-нибудь феерическое и так и не придумал. «Да нет, весело, – на всякий случай утешила Елена. – Нет, правда», – пытаясь добавить голосу убедительности повторила она, когда заметила, что Олег вглядывается в ее лицо. Если бы Олег стремился к некому нагнетанию лирического момента, время и место он выбрал хуже некуда. Окружающая тополиная темнота полнилась звуками, которые слабо способствовали сгущению амурчиков вокруг парочек: неподалеку две громкоголосые барышни делили между собой молодого человека; еще рядом пели под гитару песенку из детского фольклора, где герои сказки «Буратино» оказывались связаны диковинной кукольной оргией; за спиной Олега и Лены некто, отделенный от них не слишком большим расстоянием и несколькими рядами акации, удивительно долго исполнял что-то вроде номера художественной рвоты: так экспрессивно, так долго и так обильно его выворачивало. В моменты относительной тишины шарканье гуляющих по парковым тропкам людей было похоже на звуки тапочек в ночном больничном коридоре.
«Может, литры попробуешь, раз все так получилось?» – Олег спросил особенным тихим голосом, каким с Леной никто никогда не заговаривал. Она слегка отшатнулась, не столько от неожиданного предложения, сколько от такой необычной для нее интонации. Олег махнул рукой, в голосе его была досада на самого себя: «Ну это не винище, не косяк, даже не сиги, пахнуть не будет, даже Ирка уже пробовала – и ничего. Палёнка и то опаснее». Лена помнила, что Ирина рассказывала, как пробовала стишки, которые кто-то притащил на одну из многочисленных пьянок юных художников. «Ну ничего так, все странное вокруг становится», – поведала Ира без сильного восторга.
НТВ изобиловал такими историями про наивных молодых людей, которых добрые знакомые сажали на иглу или еще какую дрянь, а заканчивалось все кражей вещей из дома либо проституцией ради очередной дозы. О стишках плохого почти не говорили, трава или контрафактные сигареты волновали создателей криминальных сюжетов на телевидении гораздо больше, а если стишки и упоминали, то в том ключе, что это верная дорога к более тяжелым наркотикам или опробованный многими поколениями способ скатить свою жизнь на дно. При этом Ирина что-то не скатилась на дно, а уехала в Екатеринбург. Лена тоже могла уехать, у нее в Екатеринбурге жили дядя и двоюродная сестра, они бы помогли, если бы возникли трудности с деньгами, с жильем. Лена могла поступить и на заочку – армия-то ей не грозила.
Покуда Елена переживала разлитие желчи по организму в досаде на саму себя, Олег рассказывал, что стишки им давал тренер перед важными соревнованиями и не сказать, что возникла сильная привычка. «Я в армейке закурил, и то труднее было отвыкать, – сказал Олег. – Ты же так с ума сойдешь или сделаешь с собой чё-нибудь, как первокурсники с философского».
«У вас родители нормальные, – отвечала Елена. – А у меня папа алкоголик был. Пойду по его стопам, не дай бог». «Да ну, глупости всё это», – горячо кинулся разубеждать Олег. – Ты сильная же, тем более девка, лет через десять, даже если захочешь – у тебя просто времени не будет на стишки, на другую херню постороннюю». Она уже готова была согласиться, а он сам дал заднюю: «Хотя, нафиг, действительно. Всё, забудь». «Да нет, даже интересно», – просто чтобы потравить Олега, Лена, что называется, полезла ему под шкуру, всячески изображая энтузиазм. «Не-не-не-не-не. Проехали, – отрезал Олег. – Хватит глупостей на сегодня. Пошли уже по домам. Тебя там уже потеряли, наверно». «Тогда через Быкова, – предложила Лена. – Так дольше немного».
«А давай», – попросила она, когда были они уже недалеко от ее дома, под фонарем, среди протянутой вперед и назад улицы с блестящими трамвайными путями и фигурно растрескавшимся асфальтом. «Решила все-таки побунтовать? Восстание ботаников?» – в голосе Олега были усмешка и некое сочувствие. «Ты зато не ботаник», – ответила Елена. Олег выковырнул блокнот из заднего кармана джинсов, у блокнота была черная пластиковая обложка, в обложке была щель, куда Олег полез пальцем, выуживая клочок бумаги – сложенный до размеров почтовой марки обрывок тетрадного листа в клетку. На раскрытых страницах блокнота, шевелящихся, как таблицы в справочном вокзальном автомате, виднелись черные в фонарном свете имена и номера телефонов. «Можешь себе оставить, – сказал Олег, вкладывая бумажку в ладонь Лены. – У тебя эпилепсии, кстати, нет?» «А надо, чтоб была?» – спросила Елена, раскрывая бумажку, будто упаковку ириски.
«Тебе не надо?» – спросила Лена, мельком взглянув на три четверостишия, записанные столбиком. «Я его и так помню. На меня уже не действует. Надо забыть сначала и потом, через год где-то, прочитать», – Лена посмотрела на Олега, проверяя, врет он или нет, боится ли читать сам или просто издевается и шутит, как в американской комедии, где наивным молодым людям подсунули аспирин, а они, придумав, что их накрыло, натворили множество глупостей в своем городке. Лена решила, что ни за что не поддастся эффекту стишков, если таковой будет. «Читай давай, а то передумаю», – шутливо и в то же время явно колеблясь, пригрозил Олег.
Стихи начинались словами: «Будто большой стеклянный предмет с пузырьком внутри», следом шло описание зимнего вечера, улицы – ничего особенного, но с последней строчкой: «Этот вощеный свет», – Лена почувствовала почему-то ком в горле и слёзы на глазах. Это было странно, потому что ничего грустного в стишке не было, в середине упоминался даже Новый год. Через некоторое время Лена обнаружила, что смотрит уже не на листок, а себе под ноги, где сухая соломинка, черные камешки асфальтовой шкуры, осколки бутылочного и автомобильного стекла, обрывок пивной этикетки, лежа вместе, казались продолжением только что прочитанных четверостиший, просто не обретшим еще словесную форму. Лена огляделась по сторонам, наслаждаясь новым своим зрением. Деревья стояли совершенно неподвижно, но при этом издавали вкрадчивый шум, чем-то похожий на змеиное шипение; всякие там городские огонечки и окошечки, располагавшиеся на разном расстоянии от Лены (умом она это понимала), лежали на воздухе, как на плоском экране, при этом казалось, что каждое пятно света как-то шевелится внутри себя самого. Все окружающее было полно деталями, совершенно осознанно пригнанными одна к другой: Олег стоял в таком месте сетки дорожных трещин, словно это трещины, сбежавшись вместе, взрастили его, как какой-нибудь гриб с внимательными глазами. Лена невольно рассмеялась этому его взгляду.
«Чё-то я жалею уже, – ответил на ее смех Олег. – Как-то тебя довольно сильно… Ты хоть не спалишься перед родаками? У тебя аж колени подкосились слегка». Лена вместо ответа продолжила с удовольствием оглядываться по сторонам, в одном из окон близкого к ним дома горел свет, сквозь щель в желтых шторах за Олегом и Леной подсматривал телевизор, цветные пятна на видимой Лене полосе экрана то замирали, то медленно двигались, то принимались роиться; на подоконнике лежала высокая стопка газет, на ней сидела маленькая плюшевая горилла в боксерских перчатках, возле стопки газет стояли спортивная гиря и утюг. «Вы не родственники с этим подоконником? – спросила Лена у Олега. – Прослеживается какое-то сходство». Олег ничего не ответил, но, кажется, слегка улыбнулся.
«А это надолго вообще? Вот это вот чувство», – спросила его Лена. «Не увлекайся, – сказал Олег. – На пару дней. Потом, если перечитаешь, почти так же будет, только слабее, а потом никакого толку». «Я перечитаю», – призналась Лена. «Не сомневаюсь, – сказал Олег. – Надо было тебе сразу стишок отдать и не ходить никуда». «Нет-нет, хорошо было, даже если бы и без стишка, – честно сказала Елена. – Только надо было из парка никуда не уходить, просто сидеть, болтать… не знаю».
Олег смотрел, как она прячет бумажку со стишком в своей сумке, прилаживая ее так и эдак к продранной подкладке, к зеркальцу, тетрадкам с билетами, которые она так и не удосужилась вытащить. Эта ее попытка перехитрить любопытные умы бабушки и матери не могла от него укрыться. «Тебя ревновать никто не будет? Никто потом меня не будет во дворе подкарауливать с серьезным разговором?» – спросил он, зачем-то интересуясь, есть ли у нее ухажер, почему-то решив, что если сумку Лены обыскивают, значит, на то имеются некие причины, помимо дремучей подозрительности, воедино связывавшей Ленин возраст и приключения, в которые попадали ее ровесники. «Было бы неплохо, конечно, но – нет», – призналась Лена.
Не доверяя сумке, Лена понесла стишок в руке, а затем, когда Олег оставил ее у подъездного крыльца, на чем она сама настояла, перепрятала бумажку в лифчик. В том состоянии, которое на нее нашло, она, разумеется, не сразу полезла за ключами. Первый раз в жизни она заметила, что желтоватый кафель, которым была выложена лестничная площадка, точно такой, каким были покрыты стены и пол в ванной; слабый свет лампочки на длинном шнуре кипел в воздухе, будто водяная пыль. Счетчик электричества ее квартиры крутился медленно, непрерывно, счетчик одного из соседей останавливался на какое-то время, потом начинал катать длинную красную отметку на неторопливой карусели диска. «Холодильник», – догадалась Лена.
Поступление Лены, совершенно очевидно, переместило ее на следующую ступень взрослости на некой умозрительной лестнице, существовавшей в головах мамы и бабушки, поэтому никаких лишних вопросов задавать они не стали, они, вообще, и без Лены прекрасно отметили ее успех, распив пару бутылок винца, и начали уже третью. Бабушка впала в состояние умиления и хулиганства, несмотря на возражения дочери и внучки, налила Елене алкоголя в чайную кружку и буквально заставила чокнуться и выпить. На маму накатила сентиментальность: отодвинув в сторону салаты, кружки, тарелки, она разложила на кухонном столике семейный фотоальбом и, посыпая табачным пеплом одной за другой прикуриваемых сигарет тонкие снимки и страницы из толстого фиолетового картона, ударилась в нежные воспоминания. Часть экскурса в прошлое была посвящена почему-то тому, какая была когда-то у Елены большая задница: как шестилетняя Лена умудрилась, неаккуратно двинув бедром, сломать подлокотник кресла; сдвинуть с места шкафчик с книгами, махнув крупом; выбить очки из рук бабушкиной гостьи, и другим подобным историям. Последовал закономерный рассказ о появлении Лены на свет; о том, как маме пришлось бросить курить на некоторое время; как Лену впервые поднесли к груди, а мама ужасалась ее волосатости. Елена думала, что если у нее появится молодой человек, то было бы неплохо, чтобы каждый раз, когда он будет приходить в гости, мама и бабушка встречали его с кляпом во рту. Но как-то незаметно, после нескольких тостов за здоровье, за будущую учебу, за будущую взрослую жизнь, она сама попала на ту же волну и едва сдержала слёзы, когда бабушка стала говорить, как они ее всегда любили и любят, а когда бабушка тихим голосом запела: «Оглянись, незнакомый прохожий», – чуть не стала подпевать, но помешало ей то, что слов песни, кроме припева, она не знала. Мама попыталась спеть после бабушки. Ее любимой песней была «В полях под снегом и дождем», Лене эта песня тоже нравилась, но бабушка сказала, что это совсем уж тоска и грусть, поэтому не надо.
О стишке Лена не забыла. После того как старшее поколение, вымыв посуду и вытерев стол, оставило ее над куском торта, она достала бумажку и принялась разучивать текст наизусть, причем с таким даже мускульным усилием мозга, будто все еще училась в школе и только в последний момент перед отходом ко сну вспомнила про заданное на дом. На безымянного человека, написавшего стих, она злилась, как на классиков русской литературы во время подготовки к сочинению, строчка «Деревья выдвигаются из воздуха, как ящики из стола» показалась ей совершенно бессмысленной и неправдоподобной даже под кайфом, именно слово «деревья» вываливалось из ее памяти, когда она повторяла стишок, проверяя, правильно ли всё запомнила, доходя до этой строки, упорно пыталась начать ее словами «шкафы», «столы» или «тополя».
Боясь, что перепутает слова утром, она спрятала стишок среди тетрадей в столе, затем повторяла в течение нескольких дней и, убедившись, что совершенно точно знает, в каком месте текста находится каждое из его слов, утопила подаренную Олегом порцию литры в унитазе.
* * *
Особой ломки Лена не заметила, хотя желание увидеть все мелочи вокруг какими-то более внимательными глазами у нее осталось, но оно было не сильнее, чем, например, желание сходить в кино. Другая идея захватила ее. Она почему-то решила сама сконструировать стишок, а потом показать его Олегу, чтобы он удивился ей, похвалил ее. Почему он должен ее похвалить, она бы и сама не взялась объяснять, но Лена хотела его удивления и одобрения.
Однако, с чего начать, Лена не знала. Крутя стишок в голове так и эдак, записывая его на листочке и неторопливо убирая под учебник или тетрадь, если кто-то из родных, стукнув разок, врывался в комнату, она пыталась подступиться к своему собственному, которого не было еще и строчки, потому что Лена не понимала, как она должна начать, как должна угадать, та ли строка первая, как эта строка должна привести к финалу, чтобы в голове что-то ожило.
За ответами она полезла в семейную и институтскую библиотеки, рассудив, что если стишки по форме напоминают поэзию, то должны у них быть и еще какие-то общие моменты, которыми она могла бы воспользоваться, при этом Лена точно не знала, нужно ли соблюдать именно тот ритм, который попался в стишке, подаренном ей Олегом, или это необязательно – в поэзии Асадова, Евтушенко, Высоцкого, Сосюры, Бедного и уймы других поэтов размеры были другие, но они и не откликались приходом – их действие было чисто эмоциональным, подчас до слёз («Ведь может быть тело дворняги, / А сердце – чистейшей породы», «На земле уже полумертвый нос / Положил на труп Джек, / И люди сказали: “Был пес, / А умер, как человек”», «Значит, нужные книги ты в детстве читал!») – это было совсем не то, чего Елена ожидала. За неимением других стишков ей пришлось предположить, что они отличаются от поэзии лишь качественно, при этом набор формальных приемов остается прежним. Тот стишок, что был у нее на руках, и книжная поэзия состояли как будто из одних и тех же деталей: были рифмы, были всяческие сравнения, завязка – кульминация – развязка, обилие одинаковых гласных или согласных, зачем-то кучковавшихся в одной части текста.
Ее внезапный интерес к поэзии не остался бы незамеченным, если бы на первых курсах действительно не преподавали уйму ненужных, как ей казалось, предметов, где вдогонку к литературе имелись лекции по философии (уж она-то была Лене точно до фонаря), информатике, немецкому языку. Все это вываливалось на головы первокурсников; они, взмыленные, набегали на библиотеку, хватали груды книг, распихивали по цветным пластиковым пакетам, что внезапно пришли на смену «дипломатам» и сумкам, растаскивали их по своим норкам. Лекции по литературе начались с широкого охвата русских писателей, баловавшихся рифмой. Пожилая полноватая женщина-преподаватель, чередуя восторги с неожиданным для ее уютной внешности медицинским цинизмом, рассказывала о традиционных поэтах, оставивших свой след, золотыми буквами вписавших и т. д., и в ноль раскатывала двуличных литераторов, которые, помимо писания для широкой публики, баловались стишками или даже в открытую злоупотребляли ими. Тут не было уже школьных увещеваний о вреде стишков, преподаватель констатировала, что люди в аудитории уже взрослые и сознательные, сами вольны выбирать, как уродовать свою жизнь, и поведала несколько историй о своей младшей сестре, которая имела троих детей от четырех разных мужей – и ничего, была вполне себе образованна, успешна и счастлива. Большое внимание обращала преподавательница, отчего-то, на романиста начала века Александра Блока, она не уставала приводить его как пример того, что делают с людьми несколько вышедших из-под контроля страстей, сконцентрированных в одном теле. Беда Блока, по ее словам, была в том, что он пытался отойти от стихов в наполненные порнографией прозаические вещи, которые были бы очень хороши, если бы не болезненный эротизм и чистая безыдейная литературщина большинства текстов, где видна талантливая, даже порой гениальная попытка переложить наркотические переживания на язык прозы – но, к сожалению, ничего более.
Такие заявления педагога очень заинтересовали Елену. В институтской библиотеке Блок уже был разобран, в центральной, напротив театра и тоже чем-то напоминающей театр, неуловимый Александр оказался на руках, только в библиотеке возле дома ей удалось взять пару нужных томиков, изданных в 1989 году, но невинных еще до такой степени, что неразрезанными оказались даже страницы вступления за авторством какого-то профессора, который долго и муторно разбирал блоковский символизм, всячески прячущийся в плотских сценах, сравнивал Блока с импрессионистами и пытался навести на мысль, что смелость Блока, подчас весьма провокационная и спорная, сильно повлияла, тем не менее, на последующую прогрессивность авторов социалистического реализма.
Осторожные слова ученого мужа про забытых авторов начала века – трудной эпохи, которая «платоновским паровозиком» (так он и написал) прошлась по многим судьбам, его осторожный оптимизм, что литературоведение еще ждет множество новых имен и открытий, нейтральная надежда, что творчество Блока будет понято правильно, предваряли начало романа, который открывался сценой в семейной купальне, где человек восемь взрослых и детей заняты были неким безобидным разговором, но как-то подозрительно подробно был обрисован загар или отсутствие такового на разных частях их обнаженных тел, особенное же внимание было уделено почему- то подмышкам матери семейства, «которые по густоте волос и темноте их даже превосходили а-ля капуль в паху ее супруга и, казалось, могли таить каждая по такому, как у него, органу».
Текст настолько расходился с когда-либо читанным Леной до этого, что она, открыв рот для долгого слезного зевка, которые раз за разом приходили к ней во время предисловия, не сразу вспомнила сомкнуть челюсти. Двести страниц из семисот были прочитаны за один присест. Помимо того, что каждая из них содержала плотное, очень остроумное и даже смешное описание человеческих фигур, их различного взаимодействия, окружающей обстановки, взгляд, коим Блок, останавливаясь в некоторых уголках, скользил по своим героям и предметам вокруг них, несомненно, был преломлен призмой стишка. В те несколько дней, что Лена была накрыта дурью, она смотрела на все совершенно так же, правда, не так интенсивно сосредотачивалась на сексуальных образах, которые появлялись и у нее, однако были не так многочисленны.
Попалось в романе и то, что заинтересовало Елену больше остального. Одним из членов веселой семейки был семнадцатилетний юноша: крайне порочное создание, баловавшееся алкоголем, морфием, кокаином и стишками. Стишки он писал сам, а процесс этого писания излагался чрезвычайно подробно, и пускай не подавался в виде поэтапной инструкции, что-то полезное для себя Лена оттуда почерпнуть сумела. Во-первых, молодому человеку нравилось, что в стишке, который он писал, был ритм, который он до этого никогда не использовал, – из этого Лена сделала вывод, что размер и ритм все же не имеют сильного значения, что это величина для стишка не каноническая. Во-вторых, для молодого человека было важно, чтобы рифмы не только хорошо накладывались друг на друга фонетически, – он желал, чтобы между рифмованными словами пробегало «дополнительное электричество смысла, похожее на полторы сажени напряженного воздуха между скучающей вдовушкой и ее верной болонкой». Прочитав это, Лена кинулась перебирать в памяти строчки подаренного ей стишка и увидела, что там правда всунута, сознательно или нет – неизвестно, своеобразная ловушка для читателя: в стишке говорилось про холод и зиму, а среди рифм попадались слова, имеющие отношение к огню, теплу, свету: «не гори», «зола», «стеарин», «фонарь». Неопытную в этих делах Лену такая изобретательность безымянного наркоизготовителя весьма впечатлила. Эта рифма с «не гори» была еще интересна и тем, что, вопреки озвученному приказу прекратить горение, слово «гори» стояло в самом конце строки, на самом заметном ее месте, и будто велело делать совершенно обратное тому, что как бы заявлялось автором, словно переча ему.
И при этом ответа, как начать стишок, как определить, что он закончится приходом, Елена не получила; так ей показалось вначале. Из романов Лена почерпнула только, какие бывают виды прихода, а именно: скалам – восходящий и нисходящий, в зависимости от возникшего восторга, похожего на взлет или пикирование; будда, превращающий голову в спокойного наблюдателя за окружающим; ривер, делающий так, что мир втекает в тебя, как воздух; и тауматроп, необъяснимо и прекрасно совмещающий речь и ее изнанку в одну притягательную картину.
Спустя несколько лет, уже будучи обладательницей полного собрания сочинений Блока и заядлой изготовительницей стишков, она увидела, что подсказки разбросаны буквально по всему тексту, в каждом из романов, но для того, чтобы их понять, нужно самому написать хотя бы один стих.
Единственное кайфоносное стихотворение, что было в ее памяти, постепенно истерлось при автоматическом повторении, потеряло смысл для Лены, превратилось в чередование слов. Стишок стал похож на готовое решение системы уравнений. В начале были заданы определенные условия, а в конце все сводилось к сокращению всего и вся, к неожиданному, но при этом закономерному выводу. Лена решила, что путем подбора сможет поменять одни элементы на другие, не затрагивая при этом рифмы, и получит нужный ей приход. Часть каждого вечера была занята у нее этой игрой с поиском существительных и прилагательных с тем же количеством слогов и теми же ударениями, что в образце. Извела она на эти упражнения несколько общих тетрадей, а толку все не было. Понятно, что бессмысленная забава постепенно стала вытесняться более важными или интересными занятиями, затем настал день, когда Лена и вовсе забыла достать очередную тетрадку, чтобы продолжить перебирать слова в попытке выжать из них хоть что-то похожее на то летнее ночное чувство.
Глава 2
Красный, но из него не делают флаги
Закрывшая первую свою сессию и приглашенная на вечеринку новыми друзьями (в институте они у нее неожиданно появились), Лена, совершенно счастливая, влезла в электричку, в неотапливаемый вагон, где было холоднее, наверно, чем на улице. Пока одни ее товарищи курили в тамбуре, а другие болтали о всяком, предлагая найти вагон, в котором можно было бы проехаться, не застудив почки, она села на скользкий пластмассовый диванчик в стороне ото всех, не задев, впрочем, ничьих чувств. Та нелюдимость Лены, что в школе принималась другими за высокомерие, институтскими друзьями не замечалась. Дружелюбные одногруппники каким-то образом все равно постепенно стягивались в то место, куда Лена уходила, какой бы тихий уголок ни выбрала, будто она каждый раз могла рассказать им что-нибудь интересное. Им хватало даже ее молчания во время общего разговора, и при этом ее не считали угрюмой и нелюдимой. Ребята подтягивались не сразу, будто ждали, когда тронется электричка, а та стояла с открытыми дверями, усугубляя холод. Снег, налипший на подошвы ботинок, не таял на линолеуме, которым был покрыт пол в вагоне. Было слышно, как под беспокойными переступаниями веселящейся в тамбуре компании хрустит снег. Внезапно все замолкли, пытаясь услышать, что доносит динамик диспетчера с соседней станции, кто-то неудачно шагнул, не шагнул даже, а перенес вес тела с одной ноги на другую, отчего снежный хруст, особенно заметный в такой тишине, перешел в долгую дверную ноту.
Солнце уже садилось, и цвет его был как у поношенного пионерского галстука, или пионерского знамени: между красным, оранжевым и розовым. Были в жизни у Лены и другие похожие предметы того же оттенка, например, грейпфрут иногда был таким, либо алый наряд модели на обложке «Бурды» становился таким, если журнал оставляли летом на подоконнике на несколько дней, но мысль про грейпфрут и обложку не сразу пришла в голову, а сравнение с флагом и галстуком уже находилось в памяти, готовое к использованию.
В этом свете, похожем на свет в фотолаборатории, куда внезапно открыли дверь из соседней, освещенной яркими лампами комнаты, сиденья в вагоне казались белыми, тени от сидений – синими, а пар Лениного дыхания – красным, будто она действительно долгое время пробыла в некоем помещении, полном стягов, вымпелов, как тряпка была уже напитана пылью, в которую они (флаги, вымпелы и сама Лена) постепенно превращались.
Предупредительно прогудев, на соседний от электрички путь налетел товарняк, груженный чем-то сыпучим, потому что через сдвоенный грохот проходящего по рельсовым стыкам металла и сплошной железный шум всего поезда, быстро прокапывавшего тоннель внутри холодного воздуха, Лена услышала, как песок скребется о бок и окна вагона. Вот так же Лена с мамой ехали однажды в Москву, к маминой подруге, так же шел товарняк и скребся песок, Лена со своей верхней полки глядела наружу, а потом треть поездки мама вымывала из Лениного глаза соринку: колючую, каменную, огромную (судя по ощущениям), оказывавшуюся то под верхним веком, то под нижним, то где-то прямо на глазу, но при этом не видную ни самой маме, ни соседям по купе. Помня о том случае, Лена опустила лицо и невольно прищурилась, но при этом все равно видела, как свет, попадавший в промежутки между идущими вагонами, скользящий вместе с ходом товарняка, кратковременно освещает ее слева.
Первые две строки стихотворения сами собой возникли у Лены в голове, причем Лена даже удивилась тому, что они не пришли раньше, таким они были естественным продолжением ранних ее наблюдений, того, что происходило вокруг, но не казалось чем-то интересным: настолько было привычно, что солнце бывает красным во время заката или что от длинного тяжелого поезда, проходящего мимо, исходят громкие звуки. Но раньше такие наблюдения не были заключены в какие-то определенные слова. Именно эти-то слова и выдергивали обыденные вещи из других, таких же незаметных повседневных вещей и делали их событием. Две фразы были далеки от всегдашнего говорения Лены, однако при этом она чувствовала их естественность, она ощутила, что это начало стишка, который должен закончиться приходом, будто это было стихотворение, от которого она уже когда-то получила свое, а теперь подзабыла, и оно снова попалось ей на глаза.
Само наблюдение про слова при этом вовсе не было для Лены заключено в окончательную формулировку, а открылось больше как ощущение, схожее с ощущением правоты. Если бы Лену спросили, чем же литра отличается от привычного ежедневного говорения, вряд ли она смогла бы сказать что-то определенное, а скорее показала бы что-то беспомощной, но при этом восторженной жестикуляцией.
Стишок пришел сам, незаконченный, но уже хищный в своей незавершенности, Лена почувствовала, как он роется в ее памяти, пытаясь дополнить две свои строки еще двумя зарифмованными. Он одновременно был и тем, что Лена придумала сама, и тем, что Леной как будто и не было вовсе. У него имелось чувство самосохранения: Лена почувствовала его страх исчезнуть, будто это был ее собственный страх смерти. Стишок повторял сам себя, даже когда Лена, опасливо оглянувшись на приятелей, так и стоявших в тамбуре, вытянула из своей сумочки первую попавшуюся тетрадь, карандаш и записала две строки на одной из последних страниц (сначала схватила шариковую ручку, но, хоть паста там явно была замерзшая, Лена все равно, прежде чем выковырнуть карандаш, проверила стержень – несколько раз чиркнула по кончику подушечкой большого пальца).
Электричка тронулась, будто этакий горизонтальный лифт, везущий Лену в совсем другую жизнь. Отчасти даже первый кайф от первой дозы не впечатлил ее так, как эти две строки. Она поняла, что означают все многочисленные обмирания в романах Блока, поняла, что происходило, когда молодой человек из романа «все еще взбегая по лестнице совокупления, отвлекся вдруг на тусклый отблеск чайной ложки, лежавшей на столике, на то, какой необычайно яркий блик давала она в побеленный потолок, как серповидный свет этот подрагивал совместно с похожим на часовой ход движением двух человек; текст заметался, еще ни имея в себе ни звука, но уже чувствуя, что будет состоять из этого подрагивающего пятна, жадно приискивал к этому еще что-нибудь: андреевские кресты узора на скатерти, нательный крестик, утекший Мише в подмышку».
К ней подсел одногруппник, который считал, что обязан мутить хотя бы с одной девушкой, раз уж попал в такое место, где девушек этих самых было много. Функция активного самца его явно и весьма тяготила. Лене, в свою очередь, было тягостно, что объектом своих неохотных, но усердных попыток однокурсник избрал именно ее. У многих уже были свои пары, необязательно из институтских знакомых, но одногруппник, которого звали Сережа (все звали: и друзья, и преподаватели, даже из самых суровых), решил с чего-то, что обязан отыскать пару именно на первом курсе. Много у него было книжного, запланированного, правильного, разве что он картавил, но тоже как-то довольно мило, на французский манер. Когда девочки необидно подкалывали Сережу, что он девственник, Сережа покрывался прекрасным румянцем и становился похож на карапузов с поздравительных открыток авторства Владимира Зарубина. Вряд ли, конечно, сами девчонки были умудрены таким уж прямо опытом, но, если начинали смеяться, их было не остановить. Лена сочувствовала Сереже и при этом поделать с собой ничего не могла, если разгорался смех, она тщетно пыталась сдержаться.
С первых дней Сережа подался в студенческую самодеятельность: он пел и играл на гитаре. Увидев его однажды на сцене, где он, с экспрессией, изображающей экспрессию Высоцкого, как бы разрывал головой паутину между собой и микрофоном во время припева, Лена, стыдясь себя, подумала: «Какое “любить – так любить”, какое “стрелять – так стрелять”, господи».
Без спроса взяв ее руки в свои, Сережа спросил: «Не замерзла?» – и улыбнулся замечательной своей улыбкой, подышал Лене на пальцы, то есть, получается, сначала дыхнул ей морозным паром с запахом «Стиморола» в лицо, а потом на костяшки пальцев. Когда он опять поднял к ней взгляд, проверяя, правильно ли упражняется в ухаживании, Лена, в рассеянности даже не сразу выдернувшая свои ладони из ледяных рук Сережи, подумала: «Улыбку, что ли, вставить». Она прикинула рифму «рыбка – улыбка», что, конечно, не подходило к тем первым двум строкам, что уже придумались, но там можно было что-нибудь накрутить во втором четверостишии про рыбий блеск снега. Потом ей вспомнилось, что в местной газете «Консилиум», которая покупалась ради телепрограммы, едва ли не каждую неделю выходил разворот с литературными выкрутасами тагильчан, были даже поэтические подборки (Лена проверяла – вдруг торкнет, но понятно, что такое редакция бы не пропустила, поэтому не торкало). Как правило, каждый раз на литературной страничке этой светились два автора – Олег Романчук и Роман Белоцерковский. Оба они томно писали о любви и женской красоте, оба из раза в раз не уставали пользоваться рифмами «сердце – скерцо» и «улыбка – зыбкий». Белоцерковский, помимо стихов, писал еще и рассказы, которые начинались примерно так: «Молодой, но уже успешный композитор…». То есть автор показывал, дескать, вот смотрите, молодой, успешный, а еще чего-то не понимает, но я его сейчас прокручу через выдуманную мной историю, и он изменится. Герой, правда, менялся от начала рассказа к концу, но вся история казалась наивной даже Лене, которая, можно сказать, сама еще по колено стояла в наивности, чуть ли не Зайцем была из «Ну, погоди!», который там с барабаном и шариками по ночному парку. Текст же, который у нее крутился, был будто бы старше этого всего: Лены, газеты, авторов этой газеты, – посему улыбка Сережи, с ней и рыбка, и зыбко, и зыбкий, может быть, даже зыбка, оказались отброшены, руки вежливо, тихонько, однако настойчиво (Сережа их пытался как будто удержать, но вот в том-то и дело, что пытался, а не удерживал), оказались вынуты из его нежных, розовых почти до лиловости лапок; руки его при этом так скользнули, будто Сережа пытался запомнить, какова на ощупь Ленина кожа. Лена подумала, что в те моменты, когда Сережа смотрел и прикасался к ней, сама становилась чем-то вроде стишка: попадала к пареньку в голову, эта ее проекция жила потом у Сережи в голове своей жизнью. Очередными взглядами и прикосновениями Сережа уточнял и дополнял образ воображаемой Лены, пытался придать ей больше деталей. Любопытно было бы заглянуть ему в голову, посмотреть: насколько эта придуманная Лена, дополненная всякими деталями, служила Сереже как объект его онанизма, была ли она, вообще, таким объектом, потому что на курсе имелись девушки и покрасивее Лены, что было совсем не трудно, и тактильные подвижки Сережи мог дополнять вовсе не ее образ, а перекладываться на образы Вики или Саши. Вообще, девчонки решили между собой, что если на кого Сережа и передергивает, то сугубо на себя, когда представляет себя на сцене, с летящими в него букетами от восторженно беснующейся публики.
Сама Лена не с потолка взяла такой интерес, не извне он возник у нее. Голова Лены во время одиноких поездок в трамвае, маршрутке или перед сном, если сам сон не шел, подсовывала то один, то другой образ знакомого ей человека. Это было совершенно произвольно, будто мозг, если считал какую-то беседу не совсем завершенной, пытался доиграть разговор до некого необходимого успокоительного для самого себя финала. Так вот мысленно поговорив, Лена считала вопрос решенным, скуку по человеку развеянной, и потом, встретив его, уже и не беседовала с ним особо, потому что, ну что уж тут разговаривать, если столько уже переговорено. Сексуальных идей воображение Лены тоже не было лишено. Несмотря на то что в определенном смысле свидание с Олегом было совершенно невинным, позже оно превратилось в несколько ярких, обрывочных сцен, сначала в неких местах, каких в жизни Лены и не существовало вовсе: в белой, стерильной комнате, наполненной белой мебелью, или на каком-то острове, под шум океана, в невероятной зелени и синеве, позаимствованной, наверно, из рекламы «Баунти», и Лена в этой сцене была тоже вроде модели оттуда, такая вся с длинными волосами, с мелкими капельками прибоя и пота на загорелой коже, и Олег там был с капельками прибоя и пота. Первоначально мысль о том, что все может происходить у нее дома, в ее постели, и без того подвижной в плоскости x-z, или на диванчике в гостиной, под звяканье хрусталя в серванте, вызывала у Лены неприятие, однако позже стала даже слегка заводить. И это были только фантазии из последних, более крупных, более-менее проработанных. При этом, если кто-нибудь из парней шутил на эту тему, Лена негодующе фыркала, как фыркали и другие девочки; Лена пыталась угадать, кто из них фыркает искренне, хотя и сама фыркала искренне, потому что в момент шутки была немного не той Леной, какой была дома – в туалете, когда крутило живот, или в ванной; тех Лен как бы и не существовало для других людей, с какого-то времени даже для родных они были как бы пьющими близкими родственниками, о которых неудобно говорить, если они не творят чего-нибудь по-настоящему забавного.
Так избирательно слепа она была не только к тому, что считала своими недостатками, у близких людей подчас отказывалась их видеть. Был ведь, например, у бабушки и мамы вибромассажер, в детстве ей объясняли, что он неплохо лечит спину, при этом не видела ни разу, чтобы кто-нибудь лечился этим вибромассажером. С другой стороны, был же в доме и напольный вращающийся диск, который предназначался для некой особенной гимнастики, упражнения для которой Лена даже видела в журнале «Здоровье»; на диске этом тоже никто никогда не занимался, на нем и ради развлечения покружиться было трудновато, стояла на нем Лена или сидела по-турецки, стоило вертануться как следует, и центростремительное ускорение легко, будто даже за шкирку взяв, швыряло ее куда-нибудь вбок. Был еще в доме гимнастический снаряд, похожий на мочалку с пружинами, он тоже валялся то там, то сям бессмысленный и неупотребляемый.
Почти бесполезной была домашняя библиотека. Ряд томов Дюма и шестнадцать толстых книг «Современного американского детектива» просто занимали полки, откуда их, кажется, ни разу не брали с тех пор, как туда водрузили. Ладно бы часть библиотеки и ненужные предметы были из тех, что могли когда-нибудь пригодиться, нет, совершенно они были бесполезны. Никто больше не собирался читать трилогию про мушкетеров, вычленив ее из ряда плотно стоявших одинаковых книг. Лена попробовала в детстве, но как- то ей не зашло – детективы никто не то что не читал, но даже и не пытался начать хотя бы из любопытства. Так же пылился Вальтер Скотт. Спортивные снаряды не имели шанса, что о них вспомнят, как вспомнили о засохшем шланге от стиральной машины, когда оказалось, что им прекрасно можно прочищать засор в сливе кухонной раковины. Лена спокойно мирилась с обилием лишних вещей в доме, она привыкла, что ее окружают бесполезные предметы, она закрывала глаза на то, что мама и бабушка не хотят избавиться от хлама. У нее самой стоял на полке пластмассовый красный гном, появившийся после поездки в Москву: конфеты, которым гном служил упаковкой, были давно съедены, а он остался. Лежала в нижнем ящике стола большая яркая коробка из-под конфет, тая́ внутри аккуратно разглаженные утюгом фантики, – выкинуть все это добро не поднималась рука; там же находилась довольно большая коллекция открыток, в основном праздничных, но было и несколько наборов серьезных народных артистов.
Стишок тоже оказался в ее голове, как она в родительской квартире, – большая часть хлама, что его окружала, была ему совершенно не нужна. Пока Лена катилась до дома, нареза́ла салат, жарила кусочки батона, чтобы потом на месте уже намазать их шпротным паштетом, потом ехала с увесистым пакетом на Гальянку, где назначено было место сбора, – стишок перебирал в ее памяти случайную ерунду и наконец выбрал неожиданно воспоминание о том, как она с забытой уже целью вырезала из журнала цветные красивые фотографии женщин, пытаясь резать по контуру, но поскольку не нашла нормальных ножниц, резала огромными портновскими, орудовать которыми было не ахти (еще Лена досадовала тогда, что, вырезая фигуру с одной стороны страницы, теряет фигуру по ту сторону, жадничала, что нельзя без потерь вырезать как-нибудь обе).
Выбрал он и случай в ноябре, о котором Лена думать-то забыла, не могла предположить, что такое вообще запоминается. Она шла домой, увидела жестяную крышку от пивной бутылки на тротуаре со слежавшимся уже снегом, вдавила эту крышку каблуком и отметила про себя, что крышка похожа на рождественскую звезду из какого-то мультфильма, вроде бы из «Супер-книги». Эта мысль как влетела в ее голову, так, казалось, и вылетела из нее; стишок же высветил ее, как спичкой на антресолях, будто разыскивая свечи при внезапно сдохшем электричестве. «Смотри, что я нашел», – как бы сказал стишок прямо посреди беседы со встреченной по пути до нужного дома одногруппницей. Хорошо, что не было у Лены при себе ни тетради, ни блокнота, иначе она кинулась бы записывать, будто конспектируя слова подружки о блузке, которая была такая вот и такая, но на нее был пролит вишневый сок, на такую часть груди, что даже ничем не завесить, никакими бусами, о салате из чеснока, морковки, сыра и майонеза («Его много получается, хотя вроде и сыра – всего ничего, и морковка одна»).
И без того несколько рассеянная, Лена перестала подавать признаки хотя бы какой-то активности и принялась просто ходить за одногруппницей меж высоких зданий четной стороны Уральского проспекта, тогда как с нечетной находилось огромное снежное поле, терявшееся во мраке и холоде. Они выглядывали номера домов, пытаясь найти нужный, потому что потерялись, как в лесу: время было довольно позднее, народ во дворах по причине холода особо не развлекался, а подходить к тем немногим, кто все же кучковался под сумрачными козырьками подъездов, было боязно. Подружка почему-то решила, что она главнее беспомощной Лены, что обязана довести Лену до места, поэтому, видно, опасалась, что Лена обидится на нее за то, что она не может сделать это быстро, что они обошли зачем-то кругом школу, стоявшую на возвышении, наткнулись на собачника, чей черный пес перебежал им дорогу, и подружка сказала, что ладно не кошка. Собачник слабо ориентировался в районе, мог назвать только номер своего дома, при этом честно сказал, что не помнит, как номера убывают-прибывают, но махнул рукой наугад, потому что помнил что-то такое вроде, когда в магазин ходил за лампочками.
Они оказались не самыми последними из прибывших гостей и не последними, кто спросил собачника о дороге. Последней пришла Вика со своим парнем, оба словно веселые оттого, что продрогли и потерялись. Кроме Вики, парней привели еще две девушки. Чувство некоторой неловкости от присутствия незнакомых людей в уже как бы сложившейся компании слегка скрадывало ушибленное, более чем обычно, состояние Лены, но не настолько она была все же в задумчивости, чтобы не следить с определенной степенью ревности за тем, как ребята едят приготовленные ею бутерброды и салат, больше ли им нравится ее еда, нежели другие салаты и бутерброды. Потом она вызвалась помочь хозяйке дома наре́зать еще колбасы, а когда они вернулись к столу, гости уже были очень пьяные, либо притворялись таковыми, рисуясь друг перед другом. Сереже не дали достать гитару из чехла, да еще со словами «Сколько можно-то уже про уток, про плот!», так что он даже поскучнел и начал собираться прочь, его стали уговаривать остаться, отчего он заметно повеселел, Лена подумала, что не одна она тут такая сумасшедшая – жадная хотя бы до какого-нибудь внимания.
Временно самоустранившиеся родители хозяйки дома не курили, посему хозяйка приказала ходить на балкон, даже не в подъезд, потому что на лестничной площадке были очень раздражительные соседи. Лена увязалась за курильщиками, не столько затем, чтобы подышать дымом, конечно: среди курящих разговоры были интереснее, чем за столом, табак, видно, как-то действовал, делал их чем-то вроде пифий, накладывался на опьянение и еще более развязывал воображение и языки. И еще это, наверное, было нечто бессознательное, ведь когда мама курила на кухне, она была интереснее и казалась Лене красивее и серьезнее, внушительнее, чем обычно, ее паузы в словах во время затяжек порой завораживали Лену, мама в эти секунды молчания становилась похожа на Каа из советского мультфильма. Имелась и вторая причина, которая влекла Лену на балкон, – высота. Сама Лена всю жизнь видела свою улочку со второго этажа, да и то не круглый год: когда на акации и тополях возле дома появлялась зелень, дорога и нежилое здание напротив ее окна полностью скрывались за листьями.
Подружка жила на десятом этаже, при этом дом ее стоял несколько выше, поэтому с балкона были видны плоские крыши остальных девяти и десятиэтажек. Глядя сверху на крупные темные пятна зданий с вкрапленными в них огнями мелких окон, вслушиваясь в приятельскую болтовню, удивляясь, что эти люди, обсуждающие фильмы ужасов, станут учителями и будут с серьезным видом день за днем входить в класс, борясь со страхом, что тело на пару секунд перестанет слушаться ее и само как-нибудь перевалится через бортик балкона, Лена хотела текста, который бы вместил вот эту вот высоту, темноту и то, что балкон находился почти на углу дома, так что при взгляде налево стена, об которую терлись наждачные снежинки, обрывалась и как бы кренилась навстречу практически неподвижным тучам.
Может, это стояние на балконе, и вся вечеринка, переросшая в пение под гитару песен «Агаты Кристи» и «Наутилуса», медленные танцы, где Сережина прилипчивость пришлась как нельзя кстати, хотя бы тем, что Лене, в отличие от некоторых, было с кем потанцевать, было кому ее проводить, отвлекли Лену от ее первого стишка, потому что он в итоге не получился таким, как она хотела, то есть вроде и вышел, и логически закончился, все в нем Лене нравилось, но прихода от него не было. Она его изредка перечитывала, прежде чем забросить и забыть, пробовала понять, в каком месте ошиблась, и помнила о том вечере, точнее, уже о том, как она шла последние метров триста до дома, радостная, хотя никаких особенных поводов для радости не было, полная ощущением прожитого большого события, которое совершенно не являлось, ведь, замечательным.
Гораздо больше на нее в ту зиму должно было, вроде бы, повлиять то, что она переспала с Сережей, перешагнула еще один этап своего взросления. Но дело было, видно, в том, что она, переступая этот этап, будто на руках перенесла с собой и Сережу, который в первый свой раз на его территории (что было бы с ним у нее дома, где он нервничал бы от каждого лишнего шороха, боясь быть застигнутым родственниками Лены) откровенно не блистал. И не мог блистать, потому что близость не перенесла Лену и его ни в белую комнату с белой мебелью, ни на кокосовый остров, не превратила его в загорелого красавца или хотя бы в Олега. Умом-то Лена понимала, что подобные телепортация и превращение невозможны в принципе, но обида на Сережу осталась. У него тоже, скорее всего, были некие представления о сексе, от которого он ждал гораздо большего, и Лена его тоже чем-то разочаровала.
После того, как Лена вышла из детского возраста, ее дома особо никто не тискал; она открыла для себя, что вообще отвыкла от прикосновений, что любой поцелуй ниже лица вызывает у нее либо дикий смех, либо попытку оттолкнуть или даже ударить. Ленин пинок коленом в печень вряд ли оставил у Сережи приятные воспоминания, наверняка ни о чем подобном он и мечтать не мог, когда воображал близость с Леной или с кем он там ее себе представлял. Лена тоже не предполагала, что в самый неподходящий момент отметит, что у Сережи чудовищно большая голова, он и сам был не маленький, но само отношение головы к туловищу один к пяти превращало Сережу в глазах Лены во что-то вроде гигантского пупса. У него и прическа походила на пластмассовую челочку бывшей у нее когда-то куклы, и даже глазки синели так же ярко. Пупс был чем-то даже лучше, цветом, например. И Лена, и Сережа в голом виде были до отвращения для Лены белы, с красноватыми кистями рук и лицами. На фоне простыни эта бледность оборачивалась желтоватостью жира или серостью теста. Лена зачем-то поцеловала Сережу в шею, и он кончил, так ничего толком и не начав.
В перерыве у Сережи хватило ума не брать гитару, хотя начало песни «Как бы крепко ни спали мы, нам подниматься первыми» было бы в тему. Ну, по крайней мере, он сделал виноватый вид, а Лена сделала вид, что сочувствует. Кажется, Сережа боялся, что Лена расскажет об этом конфузе, а сам уже еще задолго до этого наболтал дружкам, что у него с Леной было чуть ли не как в «Девять с половиной недель».
Она позволила ему второй заход и, глядя на его физкультурное усердие, слегка маялась совестью за то, что использует Сережу для того, чтобы не облажаться, если ей когда-нибудь подвернется действительно кто-нибудь интересный.
Думая, что новый опыт как-то на нее повлиял, она попробовала литературно обработать свои ощущения. Стихи, как и секс, получились не очень. Особенно Лена стеснялась, что в семи с половиной текстах четыре раза повторялось словосочетание «светлая грусть», даже раздеваться и начинать с Сережей было не так неловко, как натыкаться на эти слова. Она присматривалась к Сереже: изменился ли он после той их встречи? Обидно было, что его тоже, кажется, никак не коснулось это их телесное взаимодействие. Лену подмывало сказать Сереже, что она залетела, что его сперматозоид, видно, махнув здоровенной головой, как сам Сережа перед микрофоном, прорвался через резинку. Ее интересовало, как Сережа отреагирует: будет ли рад; начнет ли уточнять: от него ли. Впрочем, эту выходку, при всей забавности самого эксперимента, Лена отмела, потому что это было слишком безумно.
Конечно, они сходили еще на несколько свиданий, однако в Сереже не находилось прежнего пыла, с коим он добивался постели; даже Лена была в большей степени не прочь повторить, по крайней мере ей так казалось, может, если бы Сережа принялся настаивать, она бы еще порисовалась, прежде чем согласиться. И Сережа, выполнив некий пункт, который себе наметил в жизни, заскучал при Лене, хотя попыток завести подружку поинтереснее не предпринимал, и Лена, когда не получила того, чего хотела, а чего хотела, и сама не знала, при встречах с Сережей говорила коротко, откровенно показывала, что ей с ним скучно. Никто никого не бросал: они просто перестали встречаться, да и все. Так быстро это произошло, что за букетиком, который Сережа подарил Лене на Восьмое марта, сексом и расставанием март не успел даже закончиться. Лена потом думала, что, если бы и правда забеременела, Сережа обязательно переключился бы на какой-нибудь запасной план, который у него был наверняка набросан, обязательно бы женился на Лене, если бы поздно было что-то менять, и стали бы они жить, как папа Лены с мамой Лены, два скучающих друг от друга человека, с редкими приступами праздничного веселья, или показной, при походах в гости, если уж не любви, то симпатии.
Если Сережа после отношений с Леной прекратил всматриваться в людей противоположного пола, делал суровое лицо, когда его спрашивали, что это с ним, а в присутствии Лены совмещал ответ на подобный вопрос с быстрым взглядом в Ленину сторону, то Лена и рада была остановиться, но не могла. Она запала на этот раз не на одногруппника, потому что одногруппники от близкого знакомства казались придурковатыми, либо если не отличались придурошностью, то были заняты; ее заинтересовал однокурсник. Любовь ее, впрочем, носила платонический характер, потому что Лена не знала, как подступиться к совершенно дикому с виду высокому молодому человеку, ездившему в институт откуда-то из пригорода. Обычно он сторонился компаний, но, если уж оказывался в толпе, его лохматая голова высилась над другими, как голова коня. Он и вел себя, как пугливая лошадь, каким-то образом оказавшаяся внутри аудитории: сторонился других, осторожно ходил по лестнице, слегка шарахался, если к нему обращались. Люди тоже старались держаться от него в стороне, будто боясь, что он может лягнуть. Ходил он всегда в черном костюме и черной рубашке с расстегнутой верхней пуговицей («Ему бы галстук», – еще до того, как заинтересоваться этим молодым человеком, думала Лена). Кто-то с курса предполагал, что парень когда-нибудь придет в институт с автоматом или ружьем, или пришел бы уже, если бы они все жили и учились в Америке. Преподаватели относились к этому молодому человеку с гораздо большей симпатией, чем студенты; то ли было за что, то ли знали про него что-то, что вызывало эту симпатию, потому что учился он, не особо выделяясь среди других.
Так или иначе, на одном из семинаров, Лена услышав, как он дрожащим голосом зачитывает свой рефератик, держа тетрадку в трясущихся от волнения руках, внезапно оказалась охвачена чем-то вроде приступа жалости, такой силы, какой не испытывала никогда до этого; особенно грустно ей стало от перхоти, заметной на плечах его пиджака. Парень по-деревенски окал, торопливо пробегался по длинным словам и коротким предложениям, как бы выбрасывая гласные. «Лучше бы он заикался», – шепнул кто-то из девчонок, оформив в слова неловкое неопределенное чувство Лены, вызванное его чтением.
Парень очень бы удивился, если бы узнал, как много о нем Лена думала еще несколько недель после его выступления. Он поразил ее так, как поразил лет в десять мальчик с фрески Васнецова «Крещение Руси»: несмотря на то что сама фреска была наполнена фигурами, как утренний автобус или трамвай, Лену тогда привлек только он; его макушка торчала из нижнего края, из-под головы старика мальчик вопросительно смотрел в лицо наклонившегося священнослужителя, державшего книгу. Маленькая Лена томилась, не зная, как мальчик оказался в воде, что стало с ним потом, тогда ее это очень волновало по непонятной причине, еще она не могла разобраться: мальчик это или девочка, и это волновало ее тоже. Таким же томлением неизвестности полнилось и ее чувство к парню в черном. Только в детстве это была тоска по тому, что она узнать никогда не сможет, а тоска по однокурснику была сродни самоистязанию: Лена почти ничего про него не знала, но и знать не хотела, боясь, что это разрушит ее чувство тоски по нему.
Появления стишка она в этот раз просто не заметила, не обратила внимания, что в голове ее сами собой между делом крутятся две строчки, похожие на слова услышанной где-то попсовой или полуроковой песенки. Первая строка была такая: «Ты говоришь “Волколамск”, чувак, “Волколамск”». Никак не вязалась эта строчка с однокурсником, никогда он при ней не пытался произнести слово «Волоколамск», хотя если бы попытался, у него бы получилось именно так. Слово «чувак» она тоже никогда не употребляла, из ее друзей тоже никто не пользовался этим словом.
К «Волколамску» хорошо прилегла рифма «волопас». Этот стишок не был таким осторожным и привередливым, как первый, он с легкостью нагреб недавних впечатлений, буквально выпал на тетрадный лист в количестве пяти четверостиший, на несколько минут, прежде чем Лена смогла прийти в себя от неожиданности, пригвоздил ее к стулу внезапным приходом. Благо, стул находился в ее комнате, а Лена как раз была занята своими студенческими бумажками: ковырялась в конспектах по математической логике, готовясь к завтрашнему занятию.
Накрыло ее не так сильно, как в самый первый раз, но радость, что у нее получилось сделать свой первый настоящий, пробирающий стишочек, отчасти усилила эффект. Стёкла в окошке ее комнаты как бы исчезли, отраженная в стекле настольная лампа и там же отраженная Лена с вопросительным взглядом переместились на улицу, в уже раскрывшиеся, большие и пыльные тополиные листья. Взгляд потусторонней Лены был настолько внимателен, что Лена в неловкости поправила халатик на груди. Настольная лампа, склонив пластмассовую шейку, недвижно пялилась на свое отражение в мутном листе оргстекла, которым была покрыта столешница. Отражение лампы в столешнице, в свою очередь, как-то даже осмысленно глядело на Лену.
Лену ненадолго отпускало, и тогда ей казалось, что никакого прихода нет, что она сама себе все напридумывала, отражения в окне и столешнице становились неживыми и плоскими, ничем не могущими удивить, затем, вместе с ощущением телесной карусельной или качельной жути опять приходило одушевление: снова Лена смотрела на Лену, лампа смотрела на Лену, лампа смотрела на себя, отражение лампы смотрело на Лену, при этом самой Лене то казалось, что она никуда не смотрит, а просто оказалась в точке пересечения нескольких взглядов, то – что она способна фиксировать своим взором сразу несколько точек в разных частях комнаты.
Веселье от стишка не продержалось и суток. Еще с утра, по пути до института, Лена получила некий объем интересных впечатлений, по-новому чувствуя разнонаправленные взгляды прохожих, отражения в витринах и окнах, вздернутость носов двух пушек возле обелиска боевой и трудовой славы, взгляды пассажиров трамвая, высунутые наружу, как вёсла из галеры. В электричке присутствие стишка перестало чувствоваться совсем, зато в институте она встретила мрачного высокого однокурсника и смогла посмотреть с благодарностью на его пыльный, лохматый затылок, думая, что из чувства к этому нелепому кентавру сможет выдавить еще несколько текстов.
* * *
У нее появилось, наконец, то, чем она могла похвастаться перед Олегом, другое дело, что Олег во дворе не появлялся: со времени их последней летней встречи семейные дела его, может, и не наладились, но сбегать к родителям после ссор он перестал. Меньше года прошло, всего пару раз у Лены было, а она уже видела, как нелепа была его попытка утешиться в Лениной детской компании. Лена боялась признаться себе, что Олег ей нравится, но даже то, что она относилась к нему по-родственному, знала, что он женат, видела его нелепым, беспомощным, то, что он, не зная куда себя девать от неловкости, предложил ей наркоту, – все это лишь слегка смущало Лену, когда она думала об Олеге. Больше всего ее коробило, что не только она относится к нему, как к члену семьи, – он тоже. Из всего, что Лена могла вспомнить как проявление симпатии к ней, – это пара тычков пальцем под ребра, да то, как он, когда она собиралась домой от Ирины, с восклицанием «Шляпа!», натягивал Лене шапку на глаза. Это было как-то далеко от предвестника будущих отношений, от фундамента, на котором строится долгая совместная жизнь; от «Поющих в терновнике» это было тоже далеко, да.
Только летом, ближе к концу июля, мама, бабушка и Лена оказались приглашены на день рождения Вадима – папы Олега и Ирины. Лена успела написать еще три стишка к тому времени, цепляли эти тексты не сильнее, но и не слабее майского.
Праздник проходил прямо во дворе, немногочисленные гости и рыжая дворовая собака (что появилась из ниоткуда, а потом так же ненавязчиво исчезла) терлись возле столика под кустом акации, рядом со столиком сам виновник торжества жарил мясо на небольшом, красном от ржавчины мангале, но, по сложившимся у Лены ощущениям, все больше пили, чем ели. То, что Олег приехал и не взял с собой жену (она сама отказалась), слабо утешало Лену, потому что Ира тоже не приехала, занятая уже каким-то проектом («Здравствуй, укол зависти», – с торжеством самоуничижения подумала Лена).
Олег пил коньяк и казался чужим, Лена не знала, как подступиться к нему, после того что он просто задал ей вежливые вопросы о прошедшем первом курсе и принялся остервенело тискать собаку. Праздник явно не задался, разве что мама Ирины и Ленины мама и бабушка прекрасно набирались винищем из коробок, дымили сигаретами так, что Лене казалось уже, будто бабушка курит тоже. Отец пробовал заговорить с Олегом, но тот не отвечал, с Леной он тоже только перекинулся несколькими скучными словами, похвалил за успехи в учебе, как третьеклассницу. Два листка со стихами, лежавших в кармашке Лениного платья, просились на угли – принесла она их зря, если бы мама была трезвее, она давно бы уже заметила и спросила, что это за бумажки Лена прячет.
Лена попробовала изобразить приступ мигрени и уйти домой, но мама сказала тихо: «Фу, как некрасиво так делать». Лена и сама знала, что некрасиво, а разве красиво было сидеть, не зная, чем себя занять, кроме выпивки, портить своим видом праздник. Лене казалось, что, если она уйдет, все как-то разговорятся, но мама или бабушка говорили бы потом, что зря Лена ушла.
«Вадик, салют! – возле столика появился еще один гость, Лена заметила, как симпатичное даже без косметики лицо Ириной мамы перекосило, а отец Ирины, наоборот, заметно оживился и с готовностью обернулся к пришедшему. – Я не с пустыми руками!»
«Кто бы сомневался, что не с пустыми», – утяжелив иронию скепсисом, сказала мама Ирины.
Новый гость жил в соседнем дворе, Лена часто его там видела играющим в домино или выпивающим. Он будто пропадал куда-то, когда наступала осень, зима, но стоило потеплеть, он снова появлялся, одетый в серую майку, тренировочные штаны и шлепанцы, в которых ходил даже в магазин или киоск. Еще в детстве Лена поражалась волосатости этого человека: казалось, он прячет пекинеса в декольте своей майки. От него за два метра пахло, как от собаки, которую облили пивом и продержали в тепле пару дней. Лена даже предположить не могла, что может быть общего между этим алкоголиком и серьезным, аккуратным папой Ирины, который умудрился разжечь мангал, не замарав ни ру́ки, ни одежду.
Новый гость был толст, лыс и напоминал продавца комиксов из «Симпсонов», только еще более обрюзгшего, потому что был гораздо старше.
«Что-то давно тебя видно не было, – продолжила мама Ирины, – я уж надеялась, что ты…»
Она была культурной женщиной, поэтому сдержалась под коротким, с упреком, взглядом мужа, мелькнувшим из-под очков в толстой пластмассовой оправе.
«Думала, что ты переехал», – закончила она.
«В больничке я лежал на Тагилстрое», – без обиды ответствовал гость.
«Не с циррозом», – добавил он тут же, видимо, угадав следующий вопрос Ириной мамы.
«Ой, Миша, вот всегда у тебя так», – сказала мама Ирины.
Лена заметила про себя, что в таких случаях обычно принято допытываться, чем болел человек, раз уж он упомянул о больнице. Когда бабушка разговаривала с подругами по телефону, так оно и было. Правда, бабушкины подруги и сама бабушка охотнее делились между собой рассказами о своих болячках, однако порой находили время и для легкого кокетства, что всё пустяки, ну давление и давление, уже двадцать лет давление. Мама Ирины не стала утруждать свое любопытство, отец Ирины, было видно, не стал задавать вопросы, потому что и так все знал.
«Я зато подарки умею неожиданные делать», – гость пошуршал черным пакетом.
«Книга – лучший подарок», – не без яда прокомментировала мама Ирины, когда гость, протиснувшись между женщинами, выложил на стол потрепанный томик болотного цвета. Буквы на старой обложке невозможно было разобрать, книга лежала от Лены достаточно далеко, но она все равно почувствовала запах сырости, бумаги и табачного дыма. Отец Ирины, лишь покосившись в сторону подарка, стал заметно веселее.
«Преимущество спонтанной коммуникации с различными маргиналами в других частях города, – сказал гость. – Первое издание».
Лена очень не любила людей, которые выражались вот так – излишне замысловато и как бы умно, при этом напуская на себя вид юмористический, ей было видно, что люди эти не умны, не смешны, лишь замысловаты, да и то для себя самих, будто замысловатость носят всегда с собой, как зеркальце, в которое то и дело поглядывают, или принимаются пускать солнечного зайчика в глаза другим. Лена поймала себя на том, что уже сама смотрит на гостя, как остальные женщины за столом, и некая мысль промелькнула, скорее эмоция, но будь она словами, то звучала бы так: «Да алкаш ты обычный, что же ты из себя корчишь-то?»
«И о дамах я не забыл», – пакет снова зашуршал, а на столе оказалась длинная прозрачная бутылка с жидкостью, чья зелень казалась и ядовитой, и нежной.
«Это что за бормотуха такая?» – спросила мама Ирины, взяла бутылку за горлышко и стала, прищурившись, разглядывать этикетку.
«Стыдитесь, Ольга Сергевна, – деланно оскорбился гость, его продолжило корчить в спазмах игривости. – Это абсент, “безумие в бутылке”, прерафаэлиты, импрессионисты, Париж, Дега».
«Ну какой Дега, Миша, тут семьдесят градусов», – вмешалась мама Ирины.
Последовал известный в таких случаях обмен репликами насчет того, что понижать градус не рекомендуется, а вот повышение такового ничем абсолютно не грозит, если осторожно. Буквально через час утомленные бабушка, мама Лены и мама Иры были разведены по домам. На саму Лену, которая из любопытства пригубила принесенного Михаилом напитка, абсент подействовал ободряюще, даже возбуждающе, внутренне она жаждала какой-то деятельности, но подниматься на ноги не хотела, поэтому единственное, что она придумала нахулиганить – это вытянуть из забытой мамой пачки «Балканской звезды» одну сигарету и попробовала покурить, благо, зажигалку мама оставила тут же. Прибывший на место происшествия Олег даже слегка остолбенел.
«Я только пробую, – пояснила Лена. – Все понемногу пробую», – добавила она зачем-то и со значением посмотрела на Олега.
Для чего она это сделала (сказала и посмотрела), она и сама не могла понять, просто барьер между желанием сказать и посмотреть и самими этими действиями будто совершенно исчез.
Олег не обратил внимания на двусмысленное высказывание Лены, глянул на часы, сказал, что едет домой, и ушел. «Осталась одна Таня», – подумала Лена и кощунственно усмехнулась. После первых затяжек кашель прошел. Такая сомнительная победа над табаком не могла, конечно, улучшить настроение, но Лена, тем не менее, ощущала себя гораздо бодрее, чем в начале праздника. Это не помешало ей, облокотившись на столешницу, закурить вторую сигарету, чтобы проверить, затошнит ли теперь; при всем этом, она погрузилась в свое переживание дыма и одну какую-то мысль, у которой не было внятного словесного выражения, мысль эта походила на момент между погружением в сон и той секундой, когда, дернувшись, просыпаешься. Так же, дернувшись, как ото сна, она вдруг обнаружила сидящими напротив нее отца Ирины и Михаила, они расположились, каждый подперши подбородок ладонью – добрые и умиротворенные, было в них что-то от Анастасии Зуевой из самого начала фильма «Морозко».
Лена припомнила, что подсели они довольно давно и даже о чем-то говорили друг с другом, а она, получается, пялилась сквозь них и задумчиво курила, они, насколько она поняла, пошутили над ее ступором, кто-то из них даже спел: «This Is The End Beautiful Friend», покрутил пальцем и пофыфыкал, изображая лопасти вертолета.
«Будешь еще?» – спросил Лену Михаил, держа пластиковый стаканчик с плещущейся на дне зеленью.
Лена молча протянула руку.
«Чё грустная-то такая? – осведомился Ирин отец, пододвигая к ней пластиковую же тарелку с шашлыком посередине и несколькими листочками акации по краю. – Ты закусывай давай».
Лена выпила, отдышалась, принялась послушно огрызать кусок мяса, который подняла ко рту на белой пластмассовой вилочке с гибкими зубчиками, и тут Михаил задал вопрос, от которого Лена замерла, и тот хмель, что был у нее и еще проникал вместе с выпитым недавно, казалось, полностью выветрился из головы: «А чё у тебя за листочки в кармане? Это то, что “у головы в голове”? Или так, Олегу записочка?»
Лена сглотнула. Про залезание в голову головы, то есть про попытку понять, как работает мысль при делании стишка, было у Блока. Да и то, что Михаил разглядывал ее так, что заметил бумагу в ее кармане, было не очень приятно.
Оба мужика засмеялись, радуясь разоблачению. Затем папа Иры стал серьезным и сказал, слегка давя интонацией в заботу: «Завязывай, Ленка, не надо тебе этого».
Лена хотела ответить, что сама как-нибудь разберется, что ей нужно, а что не совсем; например, советы ей не требовались. Оставшаяся еще с детства пионерская вежливость удержала ее от попытки надерзить.
«А чё не надо-то? – спохватился Михаил. – В чем вред, собственно?»
«Миша, – покривился папа Иры, – я к тебе нормально отношусь, но вот не нужно этого вот опять. Я тебе друг, конечно, но сам-то посмотри, во что тебя за столько лет все это превратило».
«В сто с лишним килограммов натренированного холестерина?» – шутя спросил Михаил в ответ, хотя было понятно, что он вполне себе соображает, о чем это папа Иры, и потому и съезжает в хохму, что разговор начал его задевать.
«Миха, ну елки-палки», – папа Иры несколько взвился.
«Да что ты переживаешь-то, господи, – Михаил беззаботно почесал щетину на втором подбородке, выпятил на Лену голубые, почти белые глаза и спросил: – Мои тебе Олег дал или где купила? С Олегом меняешься?»
«Ладно бы сама зарабатывала, – тут же влез Ирин папа со своим честным и справедливым возмущением, – так деньги матери же тратишь на эту пакость».
«Я сама написала, – ответила Лена. – Ничего я не трачу».
«Да не пи…ди! – с уверенным недоверием воскликнул Михаил. – Чё у тебя может там быть? У меня в твоем возрасте еще даже и намека не было на что-то такое, хоть я и пытался лет с шестнадцати. Сама себе, небось, придумала, что пробирает».
Такое сомнение было и у самой Лены, она, в принципе, могла себя накрутить до такой степени, что радость перед законченным текстом выливалась в определенную эйфорию, казавшуюся ей приходом, в конце концов, она же сама не могла разобраться, насколько непридуманным было ее чувство к мрачному однокурснику. Лена заметно замялась, не зная, что отвечать, она могла дать Михаилу свои клочки со стишками, только не знала, уместно ли, вообще, вот так вот, во дворе, делиться наркотиками на виду у всех. Но Михаила, видно, мало что смущало, он требовательно постучал пальцами по столу, будто отмечая то место на столешнице, куда Лена должна была выложить бумажки. Лена выдохнула, по-детски надув щеки, потянулась за третьей сигаретой, только тогда папа Ирины спохватился: «Ирка, тьфу, то есть Ленка, ты куришь, что ли?»
«Только когда выпьет», – ответил за нее Михаил и без спросу тоже хватанул себе «Балканки».
Лена выложила стишки на стол, Михаил быстро сгреб их, чуть ли не в кулак, развернул под столом и, щурясь то ли от табачного дыма, попадавшего в глаза, то ли близоруко, принялся читать.
Лена заметила, что не только она ждет вердикта этого толстого человека, но и папа Иры косится на лицо Михаила сбоку тоже вопросительно.
Михаил протянул низкое, носовое, одобрительное «ага-а-а-а», видно, удовлетворившись прочитанным.
«Ну, первое точно работает, – сказал он листочкам у себя в руках. – Такой будда в треть накала, если не в четверть».
Михаил игриво протянул листочек Ириному отцу: «Будешь? Это не как мои, сильно не заберет. Чисто для бодрости, м-м? В честь праздника. А то, я смотрю, не все как-то задалось».
«Да без тебя тошно. И без чернил, – отпихнул стишки Ирин отец. – Эта не приехала. Этот приехал, чтобы побыстрее смотаться. Эта вон курит чё-то, пишет еще».
«Да чё она там пишет», – отвечал Михаил, махнув рукой на Лену.
При этом он уже успел коротко завалиться на один бок, чтобы спрятать листочки в сомнительный и ненадежный задний кармашек своих треников, выглядело это, как подтирание. Кажется, Михаил сделал так, чтобы это походило на подтирание, потому что смотрел он на Лену в этот момент почему-то с издевкой. Не исключалась возможность, что он видел несколько фильмов про кунг-фу и теперь разыгрывал из себя седого учителя какой-нибудь школы, который игнорирует гордость ученика.
«Она на один прием напирает, – сказал Михаил. – Даже видно, как это все сделано. Вот понравилось ей созвучие, спотыкание между словами, где согласных много, – и пошло-поехало через весь текст».
Михаил кинул на Лену взгляд: «В остальных так же? На чем-нибудь одном замешано?»
Лена не успела кивнуть, потому что за нее вступился отец Иры.
«У тебя не так, – сказал он иронично. – Сравнение через сравнение раньше было, сейчас-то что-нибудь поменялось?»
«Смотря что за сравнение считать», – заметно вспыхнув, и во время этой краткой вспышки будто помолодев лет на двадцать, быстро заметил Михаил.
«Ну вот эти вот все твои летние вещи…» – отец Ирины завертел в воздухе рукой, будто силясь припомнить.
«Сравнение и есть кровь стишка, – горячо воскликнул Михаил, затем, когда увидел, что отец Иры поморщился от того, что говорил он слишком громко и услышать их могли не только за столом, убавил звук. – Перекладывание свойств одной вещи на другую, поиск их сходства в самых неожиданных местах. Без этого ни одна шестереночка там с места не сдвинется, пока не найдется какое-нибудь сравнение, ничего не работает. Притом сравнение сравнению рознь, это же не только то, что разделяется словами “будто”, “как”, “словно”, другие вещи есть, которые позволяют вот это вот делать. Ты раньше, может, и не замечал их вовсе, когда читал. И через звук тоже можно сопоставлять предметы. И через положение их в строке. И как только нельзя. Да, вообще, нет для стишка слова “нельзя”, в этом-то прикол их».
Лена знала это и без него, так что Михаил зря старался. Она просто не понимала, как можно впихнуть в стишок так много всего, да чтобы это еще и работало.
«А у нее не только это, – продолжил объяснять Михаил, – она не дает стишку свободу, он у нее больше про нее саму и есть, про ее какое-то переживание. Любовь какую-то неразделенную, которую она и разделять не собирается, так я понял. Это прямо видно, прямо прет из нее».
Настал черед вспыхивать уже Лене, только если Михаил быстро покраснел и быстро остыл, да и покраснел-то он не особенно заметно, поскольку лицо у него и так было красное, румянец Лены сначала медленно охватил ее лицо, а затем стал сползать с лица отдельными фрагментами – по крайней мере так она ощутила. Лена захотела встать и уйти, однако поняла, что опьянение не позволит ей сделать это эффектно, а получится скорее забавно, посему она сдержала себя.
«Вообще, об этом нужно много и долго говорить, – сказал Михаил. – И не здесь, а где-нибудь в более укромном месте. Дома у меня, например».
Отец Иры хмыкнул, как подпрыгнул.
«Именно ПОГОВОРИТЬ», – неожиданно озлобился Михаил.
«Да я не об этом, – сказал отец Иры. – Сейчас я Ленку с тобой не отпущу, хоть ты тут изойди. А так она тебя ловить будет до осени. Да и не об этом я тоже. Она не в Олега ли втюрилась? Нашла тоже. Ему бы на мамке жениться, во-о-от была бы парочка, не разлей вода, бля».
* * *
Отец Иры оказался прав. Не насчет своего сына и своей жены, конечно, а насчет того, что Михаила трудно будет поймать для разговора. Лена довольно быстро махнула рукой на попытки вытянуть местного стихотворца из компашек, пьющих там и сям. Лена научилась находить их по вороньим громким возгласам. Михаил только отмахивался от нее, а порой делал вид, что не узнаёт. Его можно было понять: не каждый день на тебя наседает девица с просьбой научить ее правильно изготавливать наркоту. Но для Лены это была не только попытка получить знание, которое сделало бы ее стишки более забористыми. Она подозревала, что изготовителей стишков было не так много, ей хотелось общества такого же, как она, как бы живого Блока, возможности поговорить с человеком, который интересовался тем же, что и она. Уж наверняка знакомства самого Михаила в среде литрадельцев были вполне обширны, чтобы испытывать дефицит в общении подобного рода. Михаил продолжал отмахиваться, не замечать, не открывал дверь своей квартиры, когда Лена решалась-таки прийти и позвонить.
Михаил позвонил сам, спасибо, что не в дверь, а по телефону, и спасибо, что мама и бабушка уж с десять лет как доверили Лене роль автоответчика, крича, в случае, если телефон принимался трезвонить в прихожей: «Ленка, возьми трубку!». Притом что звонили-то обычно вовсе не Лене.
«Здорово, Волколамск, – сказал Михаил, когда услышал голос Лены. – Не занята?»
«Кто там?» – крикнула бабушка из прихожей.
«Да так просто, – крикнула Лена в ответ. – Не тебя!»
«Я у Вадика, когда телефон твой выяснял, так и не запомнил, как тебя зовут. Таня? Оля?»
«Лена меня зовут».
«А, ну точно, как реку, да».
Лене такое сравнение, в принципе, пришлось по душе. Если бы Михаил принялся запоминать ее имя через Елену, похищенную Парисом, в этом был бы элемент флирта, который Лене показался бы неловким (Сережа весь мозг ей когда-то вынес Парисом, проводя некие малоочевидные параллели между судьбой Париса и своей). Телефонный голос Михаила был гораздо приятнее того уличного, который Лена слышала: гораздо моложе, ниже, без съезжания в сиплость. Было бы неплохо, если бы телефонный голос Михаила оказался внутри мрачного однокурсника.
«Нового ничего нет? – поинтересовался Михаил. – А то у меня есть».
«Не, мне завтра в институт», – отказалась Лена.
«Ну, давай тогда расскажи, как дошла до жизни такой», – с добрым смешком предложил Михаил.
«Тоже идея так себе», – ответила Лена.
«Дома кто-то?»
Лена утвердительно мыкнула.
«Значит, Блока ты читала? – тут же нашелся Михаил. – А что читала? Этот трехтомник, который в конце восьмидесятых издали? Это, кстати, заметно. Там выхвачено из середины его творчества, а ранние и поздние его вещи уже обойдены стороной, потому что очень уж отмороженные. Сейчас-то стесняются издавать, не говоря уж… А Пастернака ты читала? У него все безобидно, но там есть одно “но”».
«Это которого Нобелевской премии лишили?»
«Да, буквально на полпути до церемонии, а потом из Союза писателей вышибли за этот позор, что он стране нанес, за скандал, что у него к роману прилагается подборка стишков, написанных поэтом, про которого роман. Когда оказалось, что он не поэзией занимался, а литрой. А потом еще и фильм сняли в США по роману, так там для него вообще ад начался. Читала?»
«Нет, не читала», – сказала Лена, потому что решила уже про себя, что лучше Блока все равно никого нет.
«Зря, – сказал Михаил с осуждением. – Раз уж ты в тему начинаешь потихоньку проникать, то стоит прочесть. Но дело-то, вообще, не в этом. У меня есть подборка из этого романа самиздатовская, там не все стишки, но то, что осталось, просто даже не могу сказать, что это. У тебя видно, что ты ищешь эффекта, у меня тоже, наверняка. У него это – естественно совершенно. Наши хитрости видно, даже отмечаешь про себя: “Ага, вот тут хорошо! Как необычно, но точно! Больше угрей, чем самого лица”».
Это ее Михаил процитировал, и Лена попыталась сдержать польщенную улыбку, затем поняла, что телефон ведь.
«Или это вот, – продолжил он. – “Валидный инвалид. Айболит говорит: «Квирит»”. И думаешь, ах, какая умная девушка, зря на это поколение наговаривают, а она в следующем четверостишии путает клепсидру с амфорой. А потом школьников в стишке называет “пуэйри мейритории”. Это что вообще?»
«Это ругательство какое-то, наверно, – ответила Лена. – Это дедушка, когда в маразм впал, а потом ногу сломал, лежал в больнице. Что-то его там не устраивало, он так на соседей ругался. Он латынь преподавал где-то, пока у него кукушка не поехала».
«О! – почему-то одобрительно отозвался Михаил, будто это Лена сама была знатоком латыни. – Но я не об этом. Ты вот, кстати, Айболита упомянула, а ты в курсе, что Чуковский Блока знал и сам стишки писал? Не только пересказал Марка Твена и других, не только вот эту вот историю накатал про мальчика Пенту, сову Бумбу и доброго доктора. Он, правда, не от хорошей жизни начал их писать: у него дочка от туберкулеза умирала, он, чтобы ей легче было, сочинил довольно объемный корпус текстов. Когда попытались на него позже давить, вспомнили про эти стишки, а их уже тю-тю. Не зря он до старости дожил, Корней Иваныч. Мощные всё же люди были, как нас так перемолотило, что не можем быть такими же? Ты-то еще ничего, а вот я иногда оглянусь или мимо зеркала пройду, или стекла… Вот мы, в общем, нас видно, мы как фокусники, чьи фокусы всем известны, мы, вроде, хорошо их исполняем, но все уже знают, в чем секрет. А у него там – текст. Просто перечисление, по сути, давно известных вещей, особенно уже теперь известных, когда все прониклись духом всяких праздников, которых раньше не отмечали, а теперь отмечают с такой силой, будто соскучились и пытаются наверстать».
Лена рассмеялась. Уж она-то могла рассказать о таком множество всяких историй: бабушка ее – до перестройки – член партии, да и мама – комсомольская активистка, разве что пост не блюли, а вот вербочки ездили освящать, с удовольствием отмечали Рождество и Пасху, что-то там мутили со святой водой на какой-то из праздников (банка с этой водой стояла на подоконнике кухни, ветки вербы в вазе под стеклом серванта).
«Ну, вот, значит, знаешь, о чем говорю тебе! – сказал Михаил. – Могу тебе его по телефону прочитать или переписать к субботе, потому что раньше его читать не стоит. Это очень сильный текстик».
Да, читанула Лена Пастернака. Она не сильно поверила в восхищенные отзывы о стишке, но все равно подступилась к нему не раньше субботы, вняв предостережениям старшего товарища по несчастью. По его же совету она дождалась, когда все дома уснут: чтобы не помешали внезапным стуком или внезапной просьбой (все равно могли помешать, но вероятность была уже поменьше). Начинался текст действительно просто: «Стояла зима. Дул ветер из степи». Лена скептически хмыкнула: она уже успела обрасти жирком стихотворческого снобизма, уже знала, примерно какой ее текст должен, пусть слабо, но – сработать. Если бы она сама начала так – никакого прихода бы не было. Она уже привыкла, что первая строка должна захватывать и тащить через текст, чтобы мозг не успевал сообразить, куда его тащат, и не мог опомниться до самого конца, где закономерно стояли две оглушительные и оглушающие строчки.
Здесь же все начиналось исподволь, Лена будто восходила по стихотворению, но не успела зайти слишком далеко, в стишке упоминалась «оглобля в сугробе», и Лене вдруг показалось, что вокруг этой торчащей оглобли начал вращаться весь мир: сначала неспешно, локально, а потом все более ускоряясь и захватывая все больше места, так, что Лена даже ухватилась за край постели, чтобы не упасть, хотя и лежала на спине. На словах «И ослики в сбруе, один малорослей» неостановимые слёзы восторга перед чем-то необъяснимым потекли у нее по вискам, и, казалось, с такой неестественной обильностью не могут они течь долго, слёзы вроде тех, что могут нахлынуть, если в фильме происходит что-то печальное, но вместе со строками:
- Весь трепет затепленных свечек, все цепи,
- Всё великолепье цветной мишуры…
- Всё злей и свирепей дул ветер из степи…
- Все яблоки, все золотые шары.
Слёзы потекли с удвоенной силой и не останавливались до самого конца текста. То, с чем Лена встретилась, ей самой совестно было назвать приходом, стишком, она не могла представить, что это вообще написал человек, живший когда-то, гулявший по бабам, бухавший. Лена оказалась будто перед огромной, гладкой каменной стеной, которой не было конца ни справа, ни слева, ни сверху. Она почувствовала то, что, наверно, по мысли Кубрика, чувствовали обезьяны перед обелиском в «Космической Одиссее». Лена не смогла удержаться, чтобы не прокрасться в прихожую и не позвонить Михаилу. Он взял трубку тотчас.
«Только не кричи, тебя услышат, – сказал он, действительно предупредив ее восторженное восклицание. – Это не стишок, да? Это что-то большее гораздо, хотя так вроде скалам восходящий обычный. Но тут прямо крутость ступеней невероятная и необъяснимая. Сколько лет пытаюсь что-то похожее повторить, но так и не смог. И, поздравляю, ты тоже скорее всего не сможешь. Настолько “скорее всего”, что честнее было бы сказать, что ты не сможешь так же, хотя и будешь пытаться, а остановиться пробовать не сумеешь, если окончательно не спрыгнешь с этого дела или если “холодок” не схватишь. Издержки профессии».
«Что-что не схватишь?» – спросила Лена.
«Ну, есть такая штука. “Холодок”. Видимо, текст такой, который настолько сильно берет, что сразу кранты наступают».
«А что, и такое бывает?» – забеспокоилась Лена.
«Ну, мне такое точно не грозит, – с непонятным для себя самоуничижением констатировал Михаил. – А насчет тебя не знаю. Это как бы такой стишок, видимо, который еще мощнее вот этого».
«Да куда уж мощнее».
«Вот неизвестно куда, но вот, видимо, есть, хотя может и брехня все это. Вроде как сразу человек отключается полностью, да и все, во время придумывания. Хотя, как об этом узнали, если никто не выживал? Может, со стороны увидели, не знаю. Не инфаркт, не тахикардия, не припадок, не кровоизлияние в мозг, просто, хлоп, как рубильник выключается – и нету Пети. So it goes. Но вот даже Ефремов в “Часе быка” про него, кажется, упоминает в одном эпизоде».
«А как узнать, что это именно “холодок” пишется, а не что-то другое?»
«Знал бы, давно бы уже сам написал, – честно ответил Михаил. – Каждый раз надеюсь, что это именно он и есть. Потому что, если ты не заметила, жизнь моя довольно безрадостна. Да и не только моя. Дай волю народу вырубать себя таким быстрым и безболезненным способом – улицы Тагила топтать некому будет. Японцы, говорят, раньше этой штукой неплохо владели. Опозоренный самурай писал стишок и откидывался. Потом пошло уже, что откинулся – не откинулся, будь добр – умри, и без тебя народу на островах хватает, очередь из зачатых подпирает живущих».
Благодаря приходу мрачный монолог Михаила казался шутливым и даже забавным, Лена не смогла сдержаться и в паре мест (про улицы Тагила и про «будь добр») довольно громко и басовито хохотнула. Бабушка зашевелилась и вышла посмотреть, что это так веселит Лену во втором часу ночи. Она так долго шаркала в Ленину сторону в своих шлепанцах, будто не квартирка у них была, а целый английский особняк, так что Лена ожидала уже увидеть чепец на голове бабушки и фонарь со свечой в ее поднятой руке.
«Чего ты тут гогочешь? – шепотом спросила бабушка. – И так сна нет, еще и ты тут».
«Да я так, – сказала Лена, – с другом разговариваю».
«За неделю, что ли, не могли наговориться», – махнула рукой бабушка и отправилась на кухню.
«У тебя там хоть свет выключен? – обеспокоился Михаил. – А то дело такое, у тебя сейчас зрачки не очень нормального размера. По себе знаю. А вообще, как ощущения? Здорово, да?»
Лена согласилась, что ощущения, правда, прекрасные. Это было что-то вроде чувства сопричастности со всем вокруг, с полным осознанием того, что Вселенная необъятна в обе стороны: астрономически и квантмеханически; Лена будто стояла в центре всего этого мира и понимала, что она не одна такая, и от этого родства с людьми и предметами была у нее невероятная эйфория. Михаил предостерег ее, что эффект продлится несколько дней, что не стоит все это время счастливо улыбаться. Потом предложил, чтобы она теперь, после всего, была с ним на «ты». Лена так не могла, даже «после всего». Человек старше нее, будь то и бомж, казался ей выше настолько, что пересилить себя и «тыкнуть» ему у нее не получалось. Некоторые подруги переходили на «ты» с кондуктором, когда возникала проблема с проездным, или с продавщицей киоска возле института, если мелькало подозрение на обсчет; «тыкали» пресловутому бомжу в электричке, когда он просил мелочишку – Лена так не могла совсем.
«Да ну тебя, – Михаил вроде как обиделся. – То-то я смотрю, ты меня по имени вовсе не называешь. Подозреваю, что тебе и “Михаил” сказать трудно, тебе с именем-отчеством надо. Ты смотри, в учителя пойдешь, там будет много старших товарищей, многих такое отношение обижает».
«А многих наоборот».
«Меня Михаил Никитович зовут, если тебе так уж важно. Но это коряво как-то звучит, как по мне. Никогда такого не любил, но меня так никто и не звал. Так что мне почти так же будет неловко слышать это, как тебе меня по-простому звать. Такие неловкие отношения».
«Они и так не слишком ловки», – нашлась Лена.
«Ловки, как акробат», – возразил на это Михаил.
Говоря о ловкости их отношений, он явно преувеличил, потому что, когда их знакомство выплыло наружу, что произошло довольно быстро, благодаря маминым и бабушкиным знакомым, которые заметили девицу и мужчинку встречающимися на улице, Лена получила такой нагоняй, какого не было у нее со времен начальной школы. Благодаря невниманию мамы и бабушки, то, что Михаил занимается стишками, как-то осталось упущено, главное, что они не обнаружили, так это Лениных текстиков на страницах конспектов, когда перерывали ее комнату в поисках неизвестно каких улик. Ну что они могли отыскать, подозревая страшный разврат? Трусы он мог оставить, что ли, или один из шлепанцев – вот этого Лена не понимала. Бутылку водки? Пачку из-под сигарет «Опал»?
Основной родительский гнев исходил от бабушки и падал сначала на маму, потом на Лену. «Я второй раз такое не переживу!» – утверждала бабушка. «Еще одна такая же!» – утверждала бабушка. Маме было что возразить бабушке, она и возражала, затем обращала свою ярость Лене: «Мама, ну какой еще второй раз! Мы с Виктором хотя бы ровесники были! Мне было уже двадцать четыре года, а эта ведь только-только восемнадцатилетие отметила, уже пошла шлындать! Да с кем! Это же уму непостижимо! Это же как должно зудеть в одном месте, чтобы на такое пойти!» Лене хватало ума не возражать, чтобы мама и бабушка не заподозрили ее в том, что она делала на самом деле. Свою досаду она не могла ни на кого обратить, находясь как бы в самом низу пищевой цепочки. Конечно, сбегано было в милицию, Лену тоже туда отвели, чтобы она написала заявление об изнасиловании. Лена отказалась писать и подписывать что-либо, члены семьи тут же, при участковом, обругали ее, чуть ли не побили на месте, но подергать подергали и даже пару раз ущипнули. Участковый – такой же лысый и толстоватый человек, как Михаил, только младше – кажется, знал, что связывало Лену и Михаила, но тоже особо распространяться не стал, а только смотрел на Лену внимательно, с грустью и, вроде, с благодарностью.
Бабушка дошла до того, что собиралась провожать Лену на занятия, чтобы нигде у Лены не получилось пересечься с Михаилом. Запала ее хватило на пару походов до трамвая с утра. Затем лень и возраст стимулировали ее здравомыслие; она рассудила, что ничего не мешает Лене выйти на следующей остановке и отправиться куда угодно, в чью угодно компанию, если уж она такая уродилась. Женщины: что старая, что помоложе, погрузились в мрачную уверенность, что Лена со дня на день выполнит известное и печальное действие, какое производили все нехорошие девочки в таком раннем возрасте, то есть принесет в подоле. Каждый вечер в течение пары месяцев Лену ждал допрос, что она делала в институте, почему задержалась, как добиралась туда и обратно. Сор из избы (Лена и правда почувствовала себя живущей в избе девятнадцатого века, только что не занимали ее ремеслом при лучине, какими-нибудь кружевами) решено было не выносить, в институт ни мама, ни бабушка не звонили, не выясняли, сколько у Лены пар, как она себя там, вообще, ведет. Вечера, в основном, проходили в мрачном молчании, говорил, смеялся и плакал только телевизор в гостиной. Затем всё как-то постепенно успокоилось само собой. Похоже, мама и бабушка оказались даже разочарованы, что никакого ребенка нет, хотя и не признавались в этом ни себе, ни Лене. Был у них какой-то азарт во время семейных скандалов, когда они говорили о грязных пеленках, бессонных ночах – такого азарта не бывает, если не хочешь, чтобы в доме были пеленки и бессонные ночи. Больше всего огорчалась бабушка, потому что, похоже, вовсе не надеялась дождаться правнуков при обычном, ботаническом поведении внучки еще лет двадцать, а столько бабушке было бы не протянуть. Однажды бабушка ляпнула маме в перепалке: «Он, по крайней мере, не такой идиот, как Витенька твой». «Да уж! На кое-что у него ума хватило!» – отвечала мама в запале. «А что “кое-что”? У нас с Феликсом чаще было, чем у вас, даже когда вы молодые были! Это тоже, знаешь, показатель!» «Мама! Мама! Ну что ты несешь, мама! Как ты вообще можешь в таком солидном возрасте о таких вещах!» «О нормальных вещах я говорю, Витя не был состоятелен ни в чем. Единственное, что он сделал, – женился из своих каких-то представлений, всю жизнь быть ему благодарным за это, как-то, знаешь, глупо».
Бабушка сильно удивила Лену во время этих событий. Она, бывало, хваталась за сердце, когда узнавала о школьных неприятностях Лены, а тут проявила удивительное присутствие духа, даже бодрость, первая стала подавать признаки здравомыслия; это если учитывать, что, вспоминая о своем детстве и юности, она говорила Лене, что так грубо отвечать своей маме она бы не то что не посмела бы, ей бы даже в голову это не пришло, рассказывала, что до конца жизни обращалась к родителям на «вы», а они ведь простыми людьми были совершенно, прабабушка даже читать так и не научилась. «А все равно я ее уважала, а все равно она мне казалась умнее порой, чем некоторые профессора, просто жизнь у нее была тяжелая», – говорила бабушка.
После того как аффект у старших в семье прошел, то есть они перестали по десять раз за вечер врываться к Лене в комнату с вопросом «что делаешь?», прекратили первыми бежать к телефону, к двери, устали выяснять, где и как долго пропадала Лена, тем более что нигде она особо не пропадала, а рассказы ее были такими скучными, что слушать их раз за разом не было, видно, никаких сил даже у самых бдительных родных; когда перестали мама и бабушка ругать Лену за то, что она, возможно, беременна, одновременно завуалированно досадуя, что это вовсе не так, – Лена оказалась внезапно предоставлена сама себе. Некое отчуждение пролегло между нею и родными. Иногда Лена чувствовала себя едва ли не в школе, будто снова оказалась в своем классе. Хуже ей от этого не было, главное, что основное осталось незамеченным. А ведь она однажды, во время скандала, едва не выпалила правду, лишь бы от нее отстали, потом очень долго переживала, что едва не раскололась. Ей даже представить было страшно, что бы тогда произошло; мама, наверно, даже решетку бы на ее окно повесила и заперла Лену под замок.
Вообще, если бы не стишки, – а их написалось несколько штук, – если бы не утешение, исходившее от них, Лене пришлось бы гораздо тяжелее. Ей нравилось, что как сильно ни пытались бы контролировать ее мама и бабушка, чуть ли не на цепь могли посадить, – залезть в ее голову они не могли. От речи, беспрестанно двигавшейся в ее голове, как кинопленка, не могли они ее избавить никак.
Глава 3
При этом он обладает правом
Позже эти два-три года слепились для Лены в единый эпизод, так что она не могла припомнить, в каком порядке, когда по времени происходило то-то и то-то. Было в этом времени нечто от романов Джона Ирвинга, тех сумбурных, но хорошо подготовленных мест в книге, где он авиакатастрофой, автокатастрофой избавляет читателя от определенных героев или торопится к точке в конце, разбрасывая в могилы тех персонажей, что успели дотянуть до финала. Начался этот новый этап ее жизни, несомненно, свиданием с Михаилом Никитычем. Лена совершенно не помнила потом, как оказалась в его неожиданно чистенькой квартирке, в его кухоньке, где возле батареи под окном стояли в два ряда до блеска отмытые пивные бутылки. Не помнила совершенно, а ведь сама как-то просто пошла, пошла, позвонила в дверь, он молча открыл, снял с нее пальто и ушел ставить чайник. Когда Лена, разобравшись с замочками на сапогах, проследовала на шум горящего газа и греющейся воды по рыжей краской выкрашенным доскам пола, Михаил Никитыч уже дымил за столом и виновато смотрел на холодильник, гудевший, как стиральная машина.
«Даже спрашивать боюсь, как тебе досталось, – сказал Михаил. – Крепко я тебя подставил, конечно. Мне племяш рассказал, как тебя тиранили твои мамки и няньки. Мне он тоже бока намял за тебя, но тут заслуженно все, конечно».
Лена сидела на невероятно твердом табурете, чья твердость была будто выпрессована многолетним сидением на нем тяжелого Михаила, и понимала только отчасти, о чем это Михаил Никитыч говорит.
«Ну, племяш мой, участковый. Ты уж, наверно, заметила фамильные наши черты в нем. Лысина там, толстота».
Он повернул к ней улыбавшееся половиной рта лицо, и Лена увидела, что глаза у Михаила темные из-за расширенных зрачков.
«С такой фамильной чертой много кто, – ответила Лена. – У нас такой черчение преподавал и военруком был по совместительству».
«В пятидесятой школе? Так это Серега, мой брат двоюродный, – скучно сказал Михаил. – Говорю, это фамильное».
«Его в школе Фокусником звали, – улыбнулась Лена. – От него на уроках черчения спиртом не пахло, а на уроках НВП – пахло».
Михаил замялся, потом сказал кухонной клеенке на столе: «И фокусы у нас в семье в принципе…»
Затем опять поднял на Лену свои казавшиеся диковатыми глазищи: «Но ты ведь не о фокусах пришла говорить? Написала что-то? Или завязать решила?»
А Лена вместо ответа смотрела на окно кухни, верхняя половина его была прозрачной, а нижнюю покрывала белая водяная испарина, на фоне этой белизны стояла на подоконнике очень зеленая герань, чьи сочные листья покрывала заметная растительная шерстка, между листьями гроздьями висели яркие цветы. Дома герань была чахлой, хотя как ее только не поливали, куда только не ставили – никогда не цвела, а тут, под открытой форточкой, была настолько мощной, что казалась чуть ли не ростком баобаба, или триффидом, способным вылезти из горшка. Запах герани перебивал даже пивной запах Михаила. Тот понял Ленино завистливое молчание по-своему. Он сказал: «В любом случае…» Удалился, зашевелил ящиками в соседней комнате, а вернувшись, застал Лену стоявшей возле окна и трогавшей листья герани.
Лена ничего не поняла, когда Михаил положил на середину стола несколько крупных купюр. Затем она поняла деньги как плату за молчание, отчего сразу же захотелось уйти: она-то считала, что от чистого сердца молчит, хотя молчала во избежание большего нагоняя, но было в этом ее утаивании стишков от матери и бабушки некое чувство, которое Лена считала благородным, и когда оказалось, что оно стоит вот этих вот нескольких бумажек на кухонном столе, что-то в ней вспыхнуло гневное, так что она застряла в прихожей, не в силах застегнуть трясущейся, скользкой от волнения рукой заедавшую молнию на сапоге.
«Дура, – уверенно сказал Михаил, угадавший мысли своей юной подельницы. Но при этом он сам явно разволновался до транспортного дрожания в голосе. – Это же не просто так. Это же за стишки за твои. Не просто так же ты их пишешь, должно тебе что-то быть от этого полезное».
Такое заявление еще больше взбеленило и без того рассерженную Лену. Она не для того писала стишки, чтобы их продавать. Она просто хотела узнать, как они работают, она хотела о них говорить, она хотела ими меняться и опять говорить о них с человеком, который их тоже пишет. Вот и все, чего она хотела. Вместо перечисления того, чего она желала от стихов, она просто дергала молнию и готова была разрыдаться.
«Художники же продают, – оправдался Михаил. – Ну, расцени это как выставку, где кто-то что-то купил. Так на это посмотреть нельзя? Никак? Поэтам же платят. Романчуку этому в “Консилиуме” за его развороты, Белоцерковскому. А там же ад голимый. Ты рассказ “Наркоманка” читала? Баба какая-то написала. Будто хтоническое что-то открывается со страниц».
Лена рассмеялась сквозь слезы, потому что читала, но остановиться в плаче уже не могла.
«Музыканты, вон, вообще чужое херачат иногда год за годом, и ничего: совестью как-то не сильно колеблются. Тоже не забесплатно».
«На пианиста нужно чуть ли не с четырех лет учиться, – огрызнулась Лена. – А стишки каждый может, если захочет разобраться».
Михаил оскорбленно рассмеялся: «“Рождественскую звезду” каждый может? Вот так вот сядет и напишет?»
Вообще-то Михаил сам признавался, что не смог за всю жизнь написать ничего подобного и, видимо, не сможет, – свою жизнь он уже попусту истратил на стишки, да так и не нашел ничего по-настоящему оглушительного.
«Это как охота, – медленно сказал Михаил, помолчав. – На какого-нибудь небывалого зверя. А для этого в лес надо ходить. А люди не то что в лес не желают идти, они даже не знают, где этот лес находится, принимают за лес то, что лесом не является. Удобный парк принимают за лес. Даже если мимо пройдет стадо небывалых зверей, люди не заметят и не захотят замечать».
Лена вытирала слёзы articulatio radiocarpea, то внешней стороной, то внутренней, и думала, что Михаил, по сути наркоман, слишком много накручивает вокруг своей зависимости, чересчур много дает стишкам значения, что она и сама тоже слишком много себе навоображала.
Со стишками было все не так романтично, как расписывал Михаил, а как-то гораздо жестче, безжалостнее, проще. Стишки были чем-то вроде оживших бронзовых или мраморных статуй откуда-то из античности, каким-то образом незаметные и бесшумные при всей своей тяжести и величине, они передвигались по городу и отлавливали людей по одному. Кто-то научился их избегать, а кто-то нет. Не было у множества людей вины в том, что они не желали упарываться стишками. Она сказала про невиновность людей Михаилу.
«Виновны, – убежденно сказал Михаил. – Каждый по отдельности невиновен, а все вместе – да. Вся культура – это игра в человечество такая. Почему стишкам нельзя участвовать в этом, а сигаретам можно? Алкоголю – можно?»
Он в запальчивости едва не перешел на некий интеллигентский пафос, в коем был бы не совсем прав, зато праведно гневен и обличающ, но как-то сумел сдержать себя, что далось ему с явным трудом: даже некий спазм прошел по всему его бегемотьему телу. Михаил сказал после тяжелого вздоха: «Но говорим-то мы совсем не об этом, мы говорим, чтобы ты деньги взяла и не чувствовала себя проституткой какой-то, не знаю. И не оскорблялась этим».
Искренне и одновременно веря во множество взаимоисключающих вещей, вроде того, что в СССР было лучше и совок убил всех нормальных людей, а оставшихся загнал на кухни, умея при этом аргументированно доказывать каждую из своих многочисленных точек зрения, Михаил сумел убедить Лену взять деньги, хотя, в общем-то, особых навыков риторики это не требовало. Лена сама порой начинала уставать от того, что в случае семейных споров ее начинали тыкать в то, что она не зарабатывает, инициатива же пойти работать в ночной комок пресекалась на корню недавно увиденными новостями о продавцах, убитых за пару бутылок, или сожженных заживо во время конфликтов с покупателями, масса была примеров неудачного исхода товарно-денежных отношений, и один ужаснее другого: что коммерческие киоски, что продавцы, что ночные покупатели с криминальными намерениями, что примеры из новостей или слухов.
Кстати, в том, что он не мог написать свою «Рождественскую звезду», тоже, по мнению Михаила, был виноват режим, при котором он прожил самую обширную часть жизни. Он так это объяснял: «В звезде чувствуется искреннее восхищение Рождеством, настоящая вера, которую отняли, и вряд ли можно такое уже вернуть, чтобы человек честно восхищался приходом праздника. Это все же не Новый год. А нынешний человек, и я тоже, привык за время, что ему с детского сада вдалбливали, как бы восхищаться вещами, за которыми для него ничего не стоит. Портретом Ильича, портретиком маленького Ильича на октябрятской звездочке. То есть вроде чувствуешь восхищение перед гением, рождающимся раз в сто лет, потому что вякни только, что тебе похеру галстуки трепещущие, кучерявый мальчик – даже непонятно, что будет, потому что никто и не вякал на этот счет. Деланое восхищение и убило настоящее, потому что не знаешь уже: правда ли тебя впечатляет что-то, или так просто в голову вдолбили, что и подумать не можешь, что тебя может это не восхищать. Или стихи мамам на Восьмое марта, папам на Двадцать третье февраля, так ли на самом деле дети чувствуют, так ли их родные мамы восхищают, или это опасение, что в детском доме вообще кранты; таким уж ли папа защитником кажется, или даже вся армия, о которой у детей довольно абстрактное представление? И позже такая же петрушка: шедевры того, шедевры сего, красо́ты родной природы, “Вспоминаю неспроста заповедные места”».
Михаила Никитыча невозможно было бы слушать, не зевая (не совсем таких разговоров, но в том же ключе, могла наслушаться Лена и дома), если бы не азарт рассказчика, прерывавшийся ядовитым, восхищенным смехом в самых неожиданных местах. Его восхищало то, что происходило в литературе, к которой он считал себя почему-то причастным, точнее, не в самой литературе, а скорее в ее финансировании. «Прикинь, эти жопы всегда знали, что писать, навык у себя выработали, могли вообще не писать, а только тереться там правильно, все эти дачи, творческие командировки, семинары таких-сяких молодых, подающих надежды, а тут разом все накрылось! – Он весело хохотал. – Ни одно еще поколение горя хапнет от того, что они хапали в свое время, с брезгливым …балом решали, кого принимать, кого исключать, приезжали свою херотень читать на заводы и птицефабрики».
Это вовсе не мешало Михаилу выражать сочувствие по поводу прозаиков, забытых еще в то время, наверно, когда сам Михаил был ребенком. Названий любимых книг Лена не запомнила, как и авторов этих книг, в памяти осталось только то, что две из них были про попадание на необитаемый остров, а еще две – про дрессировщиков собак. Помимо книг Федора Михайловича и Льва Николаевича находились в списке любимчиков Михаила такие экзотические, но, наверное, нормальные в его возрасте книги, как «Огни на реке» и «Мишка, Серёга и я», которые что-то, видно, будили в его душе. Лена и не такое могла ему простить за особенное его общество, прощала и эти странные литературные пристрастия. Стерпела ведь она как-то вечер в компании его собутыльников, которых всего-то было трое, не считая Михаила. Гам они производили за десятерых, а приветственным хриплым окликом стали ее узнавать едва ли не в половине города (не в половине, конечно, только во дворе и окрестностях). Отрекомендована она была как племянница, пившие с Михаилом сделали вид, что поверили, отчасти это были невероятно деликатные люди, чья деликатность была выстрадана годами постреливания сигарет и мелочи у соседей – граничившая с навязчивостью и давлением на жалость без причины, но тем не менее, это была все же деликатность, не больше, но и не меньше.
«Интересные товарищи, – сказал потом как-то Михаил Никитыч, я их люблю, они меня любят, причем искренне, а не будь у меня племяш участковым со знакомствами, давно бы уже сдали за пару бутылок, если бы план надо было поправить. Думаю, даже пары бутылок не стою. Какой-нибудь фанфурик попроще, да сигареткой поделиться. А ведь я столько и стою, если подумать». Он рисовался отчасти, чтобы Лена принялась его разубеждать, а Лена и возразить на это ничего не могла, почему-то для нее он состоял из двух различных людей. Один был умен, зол, остроумен, второй – неприятен, неопрятен внутренней какой-то неопрятностью, которая выступала изнутри него, словно росинки жира на подсыхающих кусочках копченой колбасы. Казалось, дотронься до него, и он окажется мягким, как подпорченный помидор. Одной только похабщины в нем не было почему-то, с того раза в день рождения Ириного отца Лена ни разу не заметила, чтобы Михаил смотрел на нее как-нибудь не так, опустил взгляд ниже ее лица. О Блоке он говорил с удовольствием, но и только. Лена списывала все на его атрофированное этилом половое чувство. Прямо спросить не решалась, потому что ответил бы он, что она его волнует, и что дальше? Она-то любила в нем того человека, которого мучила долгими бессонными разговорами, у которого не имелось тела, тем более такого тела, как у Михаила Никитыча, а только его телефонный голос, его улыбка одной половиной рта.
Можно было подстегнуть воображение видами молодого Михаила, Лена даже завела об этом шутливую беседу, изображая любопытную до семейных фотоальбомов девицу, на что Михаил ответил проницательной кривой своей улыбкой и соврал, было видно, что врет, будто никакого фотоальбома у него нет; сказал, что фотографий не хранит, есть только на семейных снимках у брата и сестры, но они у брата и сестры, эти фотографии, и лежат.
«Тебе зачем, вообще? Что за причуда?» – спросил он.
«Просто», – ответила Лена, а сама покраснела, потому что однажды в беседе с Михаилом поделилась одной своей находкой насчет того, что, когда люди говорят «просто» – ничего не просто, что человеку как раз очень важно что-то узнать или что-то получить, что это почти мольба.
Практически не связаны были разговоры Лены и Михаила со стишками, касались больше литературы вообще, но это общение подстегнуло непонятным совершенно образом ее мастерство в изготовлении того, что можно было «пустить по башке», как выражался Михаил Никитыч. Их встречи после перерыва оказались действеннее, чем вся телефонная и уличная болтовня до этого, хотя встреч этих набралось за несколько лет не столь много: какое-то время ее наставничек пил по друзьям, какое-то лежал в больничке. И о том и о том сообщал с удовольствием, как о вещах равнозначных, будто и там и там его лечили.
«Но записала ты – просто огонь. Даже страшно представить, что будет, когда ты совсем повзрослеешь», – Михаил честно радовался ее поделиям, при этом как бы обидно утверждал ее детскость, но детьми он считал всех, кто младше него, даже тридцатилетних. «Жалко даже, что не доживу, чтобы увидеть, что ты там напишешь, когда до моих лет дорастешь. Откуда что берется? У тебя ведь родители скучнейшие люди, так я понимаю?» Это была сомнительная похвала, конечно, учитывая, какую веселую жизнь вел сам Михаил Никитыч, и в чем это веселье заключалось. Лена мирилась и с таким пренебрежением к ее родным.
Ей казалось, что Михаил подтолкнул ее к тому, чтобы она ухватила за хвост способ писания сильных стишков, изредка к ней приходила мысль, что она, возможно, понимает что-то в стишках даже больше, чем сам Михаил, но прямо ему об этом сказать она не решалась.
Со времени написания одного из стишков у нее был, в принципе, повод для таких мыслей. Однажды она придумала, что ее мрачный однокурсник такой же интересный, как Михаил, она совместила их у себя в голове в некий призрак – стоящую в уголке сознания тень. Через день-два придумались такие четыре строчки:
- Нет ни семьи, ни фотоальбома,
- Нет нихера,
- А у кого-то Свема и Ломо,
- Лисья гора.
И так легко скатилась через несколько четверостиший в жесткий какой-то безжалостный приход, будто упала, что сама себе удивилась. С такой силой ее еще не поражали ни свои стишки, ни стишки Михаила. Ей было интересно, как оценит все это Михаил, но показывать именно этот стишок ему она не решалась. Внутри текста легко угадывалось, про кого он. Такой стишок Михаил имел полное право написать про себя сам, со стороны Лены подобный поступок выглядел не очень хорошо. Стишок был простой, без сложных, с поскальзыванием в изыск метафор Михаила, не было в стишке ничего того, что он советовал Лене, и это было бы, наверно, вдвойне обидно для него.
Не успела Лена тихо порадоваться своему несравненному мастерству, а мрачный однокурсник перестал появляться на лекциях, затем дошли вести, что он повесился. Кто-то пошутил: «На чем повесился? На фонарном столбе, что ли?», а сердце Лены екнуло, она себя почувствовала чуть ли не ведьмой, накликавшей все это, потому что были у нее такие строки:
- Тень уменьшается, будто проходишь
- Под фонарем.
Она заразилась двоемыслием от Михаила, поэтому одновременно чувствовала гордость за однокурсника, за то, что он, несмотря на всю свою нелепость, решился прекратить таскать свое продолговатое тело по земле, и как за свое, гордилась жизнелюбием Михаила, который продолжал цвести и пахнуть, не особо оглядываясь на мнение окружающих и стыдные, но наверняка имевшие место расчеты родственников, насколько его хватит при такой жизни, как скоро смогут некоторые из его племянников и племянниц улучшить свои жилищные условия. Сама же и думала, что будет, если и Михаил как-нибудь, не дай бог, вывалится из ее жизни, уснув в сугробе, захлебнувшись в блевотине или что там еще случается с такими людьми.
Как бы ни винила себя Лена, однокурсник, видно, вины за ней не ощущал: приснился лишь однажды, тоже как-то мельком, в компании других людей, так что Лена даже не вычленила его во сне, не поняла, что он уже мертв, а вспомнила об этом только утром.
Искушение отдать Михаилу свой самый сильный стишок было тем больше, чем сильнее он хвалил ее обычные стишки: «И ведь спрос на них сумасшедший. Мое-то уже примелькалось, пробирает-то пробирает. Но я больше по тауматропам, а ты в будды и риверы хорошо зашла», – говорил он, и Лена каждый раз сдерживала себя. Ей хотелось заявить, изображая его же веселый смех: «А у меня вот еще что есть! Интересно, что на это люди скажут?» Люди были бы не против, если Лена правильно их тогда понимала. За стишки платили неплохо. С первых денег Лена купила новое пальто, платье, смогла наконец избавиться от маминой сумочки, приобрела новое собрание сочинений Блока, исправленное и дополненное.
Мама и бабушка не могли не видеть перемен в ее гардеробе, но решили, похоже, что Лена совсем пошла по рукам. Несколько сломленные предыдущей схваткой, они не решались задавать ей вопросы. Лена самокритично думала, что не так уж они были и неправы в своих догадках, она, в каком-то смысле, действительно была нарасхват. Со вторых и следующих денег она начала покупать сигареты. Ей стало интересно, что скажет мама, когда найдет синий «Пэлл Мэлл» и зажигалку, если полезет шарить по ее вещам в поисках, там, случайной бумажки из КВД, положительного теста на СПИД, подписанного согласия на отказ от ребенка, какой-нибудь справки про аборт.
Однако на маму ее курение не произвело того эффекта. Бабушка тоже только махнула рукой: «Лучше бы правда родила».
* * *
Это не были последние слова, которые она сказала при Лене, но запомнились они именно как последние. Отрезок времени с того момента, как Лена узнала о самоубийстве мрачного однокурсника, и дальнейшая пара смертей напоминали потом ей эпизод из «Шахматной школы», в котором один из игроков теряет ход за ходом несколько фигур. Сами шахматы Лена не любила: отец-перворазрядник, пока был жив, каждый раз, когда обыгрывал ее, обидно посмеивался, с такой радостью, будто клал на лопатки гроссмейстера, а не дошкольницу. Но Лене нравились в передаче одновременно плоские и тяжелые с виду ладьи, ферзи, слоны, пешки, отлепляемые и прилепляемые в другом месте к настенной магнитной доске. Толстоватый лектор очень спокойно объяснял, по какой причине была потеряна та или иная фигура (Лене казалось, что она умерла бы от счастья, если бы ей дали подержать в руке белого ферзя в черной окантовке или черного короля – в белой, или же любую из этих фигур, которые, казалось, могли существовать только в черно-белом телевизионном мире). И лектора было бы неплохо тогда вытащить за шкварник в настоящую жизнь, чтобы он с тем же спокойствием и логикой пояснил, почему так вышло. Нет, не то, что парень повесился, бабушка умерла, Михаил умер, а почему вышло именно так, что это произошло в близкие друг к другу месяцы (какие именно, Лена, к своему стыду, не помнила). Кажется, было уже очень тепло, так что батареи отключили, когда у бабушки началась простуда, какую приняли за аллергию на цветение чего-то такого городского, от которого аллергия у нее была всю жизнь. Затем это очень быстро перешло во что-то вроде гриппа, которым в семье никто больше не заразился, оказалось пневмонией, вызвали уже скорую, а потом сообщили, что бабушка всё.
Лене временно стало не до стишков. Дома наступила еще большая тишина, чем обычно, тишину эту Лена старалась не тревожить лишний раз, хотя по большей части оставалась по вечерам одна. Мама говорила, что не может сидеть в духоте, и отправлялась куда-то по своим подругам, возвращалась, когда Лена уже спала. Лена помнила, что сидела с тетрадями или перед телевизором, чувствовала, как время вытекает, будто расплавленный гудрон из ведерка, – больше от этого пустого времени не осталось в памяти ничего. То, что Михаил не звонил, казалось Лене проявлением его тактичности, он, в конце концов, мог знать от Ириного отца, что случилось в ее семье. Взаимное их молчание становилось уже не совсем вежливым, Лена помнила и это, даже, кажется, беспокоилась, но позвонить ему, зайти к нему почему-то не решалась. Такой вот пришибленной, задумчивой, не понимающей, что происходит, и выловил ее однажды у дома участковый, и сообщил о том, что Михаил умер у себя дома, что его никто не хватился, соседи по запаху не опознали мертвечину, а почему-то решили, что тот без устали травит тараканов, которых в доме временно не было (был как раз такой период, когда пруссаки будто покинули Тагил в массовом порядке). Затем окружающие обратили внимание на отсутствие местной достопримечательности у себя во дворе, подключили милицию и ЖЭК. «При нем про Лисью гору было», – сказал участковый. Лена с ужасом вспомнила, что за недостатком других текстов в последнюю их встречу сунула ему на продажу и этот стишок.
«Он так-то сердечник был, – с тоской сказал участковый. – Нельзя уже ему было этой ерундой заниматься. Ты тоже хороша. Снаруж говорит, что эту заклинашку человеку подсовывать, все равно, что хмурым обколоть человека, который до этого только шмалью баловался». Участковый сидел на лавочке, задумчивый, в джинсовом костюме, который был модным когда-то в восьмидесятых, в клетчатой китайской рубашке, которая вышла из моды, даже не входя туда. Лена стояла перед племянником Михаила и не знала, куда себя девать, только лицо опустила, чтобы слёзы не текли по нему, а капали на землю. «Да», – скорбно сказал участковый, зачем-то теребя толстое обручальное кольцо на толстом пальце.