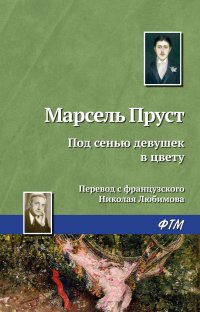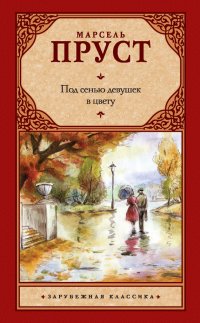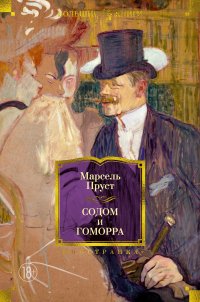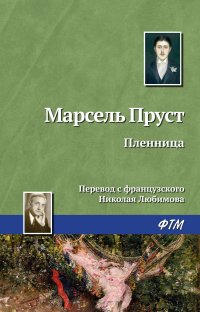Читать онлайн Под сенью дев, увенчанных цветами бесплатно
- Все книги автора: Марсель Пруст
© Е. Баевская, перевод, статья, примечания, 2016
© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016 Издательство Иностранка®
От переводчика
М. Лермонтов. Сон
- Меж юных жен, увенчанных цветами,
- Шел разговор веселый обо мне.
Из первого тома «Поисков» мы узнали о детстве Марселя, из второго узнаём о его отрочестве и юности. Кстати, то, что героя книги, рассказчика, зовут Марсель, – не совсем точно. В рукописи романа Пруст назвал его так только два раза в тех томах, которые не были напечатаны при его жизни, и никто не может сказать наверняка, в самом ли деле писатель дал главному персонажу свое имя, или оно промелькнуло случайно. Как мы видим, при всем обилии имен собственных в романе Пруст не сказал нам, какую фамилию носит семья мальчика, как зовут отца, мать и его самого, но почему-то мы замечаем это далеко не сразу.
После публикации первого тома – «В сторону Сванна» (1913) – читателям пришлось ждать продолжения романа пять с лишним лет: книга «Под сенью дев, увенчанных цветами» вышла из типографии лишь 30 ноября 1918-го, а поступила в продажу только 23 июня 1919 года. Виновата в этом война, которую теперь мы называем Первой мировой.
Между тем за год, прошедший с момента публикации «Сванна», отношение издателей к роману полностью переменилось: те самые издательства, которые категорически отвергали «Сванна», теперь соперничают за право публиковать второй том. В марте 1914 года к Прусту обращается с предложением публикации издательство «Фаскель». Сам Пруст поначалу не желал расставаться с Грассе, издавшим первый том, но тут предложение поступает от НРФ (вскоре это издательство получит свое нынешнее название «Галлимар», по имени основателя) – и после сложных переговоров и колебаний автор передает рукопись в НРФ. Но, к сожалению, пока шла война, издавать ее было невозможно, и публикация отложилась до мирного времени. Зато было решено, что в 1919 году одновременно с «Под сенью дев» будут выпущены переиздание «Сванна», а также томик «Пастиши и смесь».
Когда второй том «Поисков» наконец выходит из печати, Пруст недоволен: слишком мелкий шрифт, слишком много опечаток… И критики поначалу встречают «Под сенью дев, увенчанных цветами» не слишком благожелательно: да, роман «умный», «проникнутый чувством», «написан с душой», но автор явно не владеет техникой романа, да и стиль нехорош. Настоящий авангардизм всегда застает публику врасплох. Как замечает по совершенно другому поводу Марсель, «современникам недостает необходимой дистанции – недаром же, если стоишь слишком близко к картине, невозможно ее оценить по достоинству: произведения, написанные для потомства, должно читать потомство». Но тут происходит нечто неожиданное: 10 декабря 1919 года второй том романа удостоен Гонкуровской премии. Обычно эту самую престижную литературную премию Франции присуждают более или менее молодым авторам, а Прусту уже 48 лет. К тому же он не участвовал в только что закончившейся войне, а его соперником оказался Ролан Доржелес, молодой (33 года) автор романа «Деревянные кресты», вернувшийся с фронта. И все же с перевесом в шесть голосов побеждают «Девы, увенчанные цветами». Сам Пруст не ожидал такого триумфа; он пишет Гастону Галлимару: «Не думал, что „Под сенью дев, увенчанных цветами“ будет иметь успех. Если помните, я говорил вам, что мне немного стыдно публиковать отдельным томом эту вялую интермедию». Впрочем, несмотря на премию и на многочисленные поздравления от друзей и поклонников, книга Пруста осталась чтением для элиты, массового успеха она не имела, и тиражи романа Доржелеса втрое превысили тиражи «Дев».
Почему же писатель назвал свою книгу «вялой интермедией»? И откуда, кстати, взялось это несколько манерное название второго тома?
Пруст был очень привязан к родителям, особенно к матери, но довольно рано их потерял: в 1903 году умер отец, в 1905-м – мать. Следующие два года он тяжело проболел, настолько, что почти не вставал с постели (с детства у него была тяжелая астма). И вот в 1907 году он уезжает летом в Кабур, курортный городок в Нормандии, где как раз построили у самого моря огромный комфортабельный отель. И здоровье его чудесным образом стало поправляться. К счастью, и в самом Кабуре, и в окрестностях у него оказалось немало знакомых и друзей, а также завязались новые дружбы и знакомства. До самой войны Пруст возвращался в Кабур каждое лето. Последний раз он был там в 1913 году.
Возможно, этим перерывом в два года, с 1905-го по 1907-й, когда Пруст сражен горем, болеет и ничего существенного в его жизни не происходит, объясняется несколько необычная (хотя не «вялая», конечно) композиция книги и отсутствие в ней сюжетного единства (отсюда словцо «интермедия»): между двумя частями, на которые разбит второй том, – «Вокруг госпожи Сванн» и «Имена мест: место», – проходит два года, о которых мы никогда ничего не узнаем. В первой части мы расстались с Марселем-подростком, который все еще ходит играть на Елисейские Поля, а во второй он уже юноша, проводит вечера в ресторане и тому подобное. Что же произошло в промежутке? Об этом сказано только в одном месте, вскользь, намеком: «Уже не первый год я изо дня в день не допускал никаких перемен в области своих чувств и переживаний….Поездка в Бальбек (разумеется, Бальбек – это трансформированный воображением писателя Кабур) была для меня словно первый выход на улицу после болезни, когда выздоравливающий вдруг замечает, что поправился».
А в Кабуре, в 1908 году, Марсель Плантвинь (новый друг, с которым Пруст познакомился предыдущим летом) шутливо посоветовал Прусту написать «роман с продолжениями для мидинеток», то есть что-нибудь простенькое и сентиментальное, и назвать его «Под сенью дев, увенчанных цветами»[1]. И впоследствии Пруст последовал совету, хотя совершенно не так, как имел в виду Плантвинь, рассказавший об этом эпизоде в воспоминаниях[2].
Судя по всему, в Кабуре Пруст не столько отдыхал и поправлял здоровье, сколько собирал материал для второй книги. Как человек благовоспитанный, он не сплетничал, конечно, с другими постояльцами, зато подружился с обслуживающим персоналом и поздним вечером, когда курортники уже спали, приходил поиграть в шашки с кем-нибудь из прислуги, накрепко усваивая то, что при этом говорилось[3]. Прямо в отеле вокруг писателя роились прототипы, просились в книгу; так, одна и та же актриса, с которой Пруст познакомился в 1907 году, мадемуазель Лантельм, послужила моделью сразу для двух героинь второго тома, также актрис, – Рашели (подруги Сен-Лу) и модницы Леа. Чтобы намекнуть на это внутреннее родство между двумя персонажами, Пруст весело дает им имена двух библейских сестер, двух жен Иосифа, – Лии и Рахили. В Кабуре же в романе появилась Альбертина: считается, что одним из прототипов для нее послужил Альфред Агостинелли, шофер (тогда еще не говорили «шофер», профессия называлась «механик»), с которым Пруст также познакомился летом 1907 года и совершал автомобильные экскурсии по окрестностям Кабура.
В Кабуре же в 1907 году Пруст сблизился с художником Эдуаром Вюйаром (с которым был поверхностно знаком и раньше, с 1904 года). Пожалуй, то, что спустя годы написал о Марселе Прусте Вюйар, вполне мог бы написать персонаж романа художник Эльстир о юноше Марселе: «Под светскими манерами, нисколько не вредившими его обаянию, вскоре я распознал в нем искренний интерес к искусству. Думаю, что живопись он любил не только как литератор. Мне кажется, что он по-настоящему ценил Вермеера, и из нескольких записок, которые он мне написал, у меня сохранилось впечатление о человеке внимательном, который стремится не столько иронизировать, как его друзья и знакомые, сколько знать и понимать»[4]. Эльстир напоминает Вюйара даже манерой выражаться: «Он говорит с нажимом: „Этот тип, Джотто, или тот, другой тип, Тициан, – эти ребята понимали свое дело не хуже Моне, правда же, или еще такой тип, как Рафаэль, и т. д.“ Он три раза в минуту говорит слово „тип“, но это необыкновенный человек»[5].
А кроме того, книга «Под сенью дев», пожалуй, самая поэтическая во всем романе (кроме разве что «Комбре») и самая насыщенная мифологическими мотивами: Марсель еще не утратил детского, сказочного восприятия жизни, и уже зреет в нем литературный дар. Пытаясь осмыслить то, что видит и чувствует, он то и дело перебирает разные образы, ощупью ищет самый точный: «Карета свернула на другую дорогу, деревья остались позади, г-жа де Вильпаризи допытывалась, почему у меня такой задумчивый вид, а я был печален, словно потерял друга, или сам умер, или отрекся от мертвого, или не узнал Бога». Впрочем, таким же методом перебора вариантов идет и поиск психологических мотивировок: «он и не пытался ее поправлять – не то из остатков нежности, не то по отсутствию уважения, не то просто от лени»; «но он промолчал – не то пораженный вниманием к его работе, не то из уважения к этикету, из почтения к традиции, из послушания директору, а может, просто не расслышал, или чего-то опасался, или был туповат»; «они предпочитали оставаться дома, из любви не то к родному городу, не то к безвестности, не то к известности, не то потому, что они были реакционерами, не то потому, что им нравилось соседство замков и знакомство с их обитателями»…
Пока шла война и опубликовать написанное было нельзя, Пруст писал дальше, но в 1915 году еще раз вернулся к «Под сенью дев» и значительно переработал книгу; к 1919 году уже в основном готов весь роман. Автору оставалось жить чуть меньше трех лет, которые он употребит на доработку и отделку всех книг «Поисков».
Напомним читателю структуру романа «В поисках потерянного времени» в ее окончательном виде:
Книга 1: В сторону Сванна (опубликована в 1913 г. у Грассе).
Книга 2: Под сенью дев, увенчанных цветами (опубликована в 1918 г. в «Галлимаре», так же как и все последующие).
Книга 3: Сторона Германта (1-я часть опубликована в 1920 г., 2-я – в 1921 г.).
Книга 4: Содом и Гоморра (1-я часть – в 1921 г., 2-я – в мае 1922 г., еще при жизни автора; Пруст умер 18 ноября этого года).
Книга 5: Пленница (1923 г.).
Книга 6: Исчезновение Альбертины (1925 г.).
Книга 7: Обретённое время (1927 г.).
Напоследок переводчику остается приятная обязанность поблагодарить тех, без чьей помощи этот перевод не мог бы состояться. Благодарю за консультации и поддержку Отдел Пруста в Институте текстов и манускриптов (Эколь Нормаль Сюперьер, Париж) и его документалиста Пиру Вайз; моих редакторов Елену Березину и Алину Попову за самоотверженную и строгую правку; моего учителя и коллегу профессора Жозефа Брами за постоянную помощь в работе над французским текстом; всех друзей, помогавших искать скрытые и явные цитаты, в частности Евгения Витковского, приславшего мне подготовленную им замечательную книгу Шарля Леконта де Лиля[6], которого много раз цитирует Пруст, и многих, многих других.
Елена Баевская
I. Вокруг госпожи Сванн
Когда родители впервые собрались пригласить на обед г-на де Норпуа[7], мама огорчалась, что профессор Котар в отъезде, а со Сванном она совершенно перестала общаться: ведь и с тем и с другим бывшему посланнику наверное было бы приятно побеседовать; отец однако возразил, что такой выдающийся сотрапезник и знаменитый ученый как Котар за столом и впрямь всегда кстати, а вот Сванн с его хвастовством, с его манерой трубить во всеуслышание о своих самых ничтожных знакомствах – вульгарный зазнайка, и маркиз де Норпуа счел бы его «надутым» (это было любимое словечко маркиза). Такие слова отца требуют некоторых пояснений, ведь кое-кому, вероятно, Котар запомнился как посредственность, а Сванн – как человек необычайно деликатный во всем, что касалось его связей в высшем свете, скромный и сдержанный. Но вышло так, что к «сыну Сванна» и к Сванну из Жокей-клуба, старинному другу моих родителей, добавился новый человек (а в дальнейшем, возможно, добавлялись и другие), муж Одетты. Приспособив к ничтожным притязаниям этой женщины все свои прежние инстинкты, устремления, ловкость, он исхитрился создать себе новое положение в обществе, которое было куда ниже прежнего, но зато приличествовало и ему, и спутнице его жизни. Вот так и появился другой человек. Он продолжал встречаться со своими личными друзьями, но не хотел навязывать им Одетту, если они сами об этом не просили, а тем временем у него началась вторая, общая с женой жизнь, в новом окружении; и можно было бы еще понять, что, желая оценить положение этих новых людей в обществе и, соответственно, как-то польстить своему самолюбию, раз уж приходилось их принимать, он сравнивал их не с теми блистательными знакомыми, которые составляли его круг до женитьбы, а с прежними знакомствами Одетты. Но даже зная, что теперь он хочет дружить с нескладными чиновниками да с иссохшими царицами министерских балов, трудно было не удивляться, что он, когда-то, да и теперь так изящно умалчивавший о приглашении в Твикнхэм или Букингемский дворец[8], теперь бил во все колокола, если г-же Сванн наносила визит жена заместителя начальника какой-нибудь канцелярии. Наверно, на это можно было бы возразить, что простота у великосветского Сванна была всего-навсего более утонченной формой суетности; подобно многим другим иудеям, старинный друг моих родителей поочередно воплощал все стадии, через которые прошли его соплеменники, начиная с самого наивного снобизма и самой грубой наглости вплоть до самой изысканной любезности. Но главная причина перемены состояла в том, что наши добродетели – и это относится ко всем людям вообще – не витают в воздухе, доступные нам в любую минуту; у нас в голове они в конце концов оказываются тесно связаны с теми нашими поступками, которые мы совершили под их влиянием; а случись нам заняться чем-то другим, и вот мы уже сбиты с толку и понятия не имеем, что и в этом случае мы могли бы опереться на те же самые добродетели. Угодничая перед своими новыми знакомыми, Сванн напоминал тех великих художников, которые под конец жизни хватаются то за кулинарию, то за садоводство и при всей своей скромности не в силах скрыть простодушную радость, когда посторонние расхваливают их стряпню или клумбы; здесь они не потерпели бы критики, хотя легко примут ее, если речь идет об их шедеврах; или, при всей щедрости, бесплатно уступая кому-нибудь картину, не могут сдержать раздражения, когда проиграют сорок су в домино.
Ну а с профессором Котаром мы еще долго будем встречаться у Хозяйки в ее замке Распельер, но это будет гораздо позже. Теперь же ограничимся по его поводу только одним замечанием: пожалуй, перемены, совершившиеся в Сванне, могут показаться неожиданными: я сам о них не подозревал, встречая отца Жильберты на Елисейских Полях, хотя, впрочем, он со мной и не разговаривал, а значит, не мог обнаружить передо мной свои политические связи (а даже пускай бы и обнаружил, я бы, наверно, не сразу заметил его суетность, потому что когда составишь себе о ком-нибудь мнение, становишься глух и нем: мама три года не замечала, что ее племянница красит губы, словно помада у той на губах незаметно растворялась без следа; но в один прекрасный день не то дополнительная порция помады, не то другая причина привела к тому, что мы называем перенасыщением; вся доныне незамеченная помада кристаллизовалась, мама, потрясенная этим внезапным буйством красок, объявила – в добрых традициях Комбре, – что это стыд и позор, и почти прервала отношения с племянницей). Для Котара же, напротив, эпоха, когда он был свидетелем первых шагов Сванна в доме у Вердюренов, уже отодвинулась в прошлое; а с годами к нам приходят почести и официальные титулы и звания; кроме того, можно быть необразованным, отпускать дурацкие каламбуры, но обладать особым даром, которого не заменит никакая общая культура, – например, даром великого стратега или великого клинициста. Теперь собратья Котара признавали, что этот безвестный лечащий врач постепенно становится европейской знаменитостью. Более того, наиболее умные молодые медики объявляли – по крайней мере, в последние несколько лет, поскольку новые моды рождаются именно из потребности в новизне, – что если они когда-нибудь заболеют, то не доверят свою жизнь никому, кроме Котара. Вероятно, общаться они предпочитали с более просвещенными старшими коллегами, более эстетически развитыми, с которыми можно было поговорить о Ницше, Вагнере. В те вечера, когда г-жа Котар в надежде, что когда-нибудь ее муж станет деканом медицинского факультета, принимала его коллег и учеников, сам доктор, как только начинали музицировать, уходил поиграть в карты в соседней гостиной, вместо того чтобы слушать. Но все хвалили быстроту, глубину и надежность его суждений, его диагнозов. И наконец, о поведении в целом, которое доктор демонстрировал окружающим, в частности, моему отцу, заметим, что не всегда во второй половине жизни наши врожденные свойства остаются при нас, пускай развиваясь или тускнея, становясь крупнее или мельче; нет – иногда наша натура словно выворачивается наизнанку, как перелицованная одежда. Пока Котар был молод, его неуверенный вид, застенчивость, преувеличенное дружелюбие навлекали на него бесконечные насмешки повсюду, кроме как у Вердюренов, которые были от него в восторге. Какой милосердный друг посоветовал ему напустить на себя ледяной вид? Теперь ему это было нетрудно, потому что он занимал важное положение. Так вот, теперь только с Вердюренами он вновь инстинктивно становился самим собой, а в остальное время держался холодно, предпочитал молчать, а если нужно было высказаться – говорил безапелляционно, и не забывал прибавить что-нибудь неприятное. Он, вероятно, испробовал эту новую манеру на пациентах, которые раньше его не знали и не могли сравнивать, так что их удивило бы, узнай они, что от природы грубость была ему не свойственна. Главное, он следил за тем, чтобы всегда оставаться невозмутимым: даже на работе, в больнице, когда он выдавал свои каламбуры, которые у всех, от директора больницы до самого юного экстерна, вызывали смех, бывало, ни один мускул у него не дрогнет в лице, которое, кстати, неузнаваемо изменилось с тех пор, как он сбрил бороду и усы.
Наконец объясним, кто такой маркиз де Норпуа. До войны он был полномочным министром, во время событий 16 мая посланником[9], и, несмотря на все это, к великому удивлению многих и многих, ему поручали представлять Францию по всяким исключительным поводам – даже быть контролером государственного долга в Египте, где благодаря своим великим финансовым талантам он оказал стране важные услуги; причем эти поручения давали ему радикальные кабинеты министров, которые не приняли бы на службу реакционера, даже если бы он был простым буржуа, а уж прошлое г-на де Норпуа, его связи и образ мыслей должны были, казалось, тем более внушать им подозрения. Но эти передовые министры, по-видимому, понимали, что таким назначением докажут широту взглядов во всем, что касается высших интересов Франции, и проявляли ни с чем не сравнимую политическую изощренность; за это они удостаивались от газеты «Деба» титула «государственных деятелей» и в конечном счете извлекали пользу из блеска, неотъемлемого от аристократического имени, а также из любопытства, которое пробуждает у публики неожиданный выбор, поражающий ее, как внезапная развязка в пьесе. Причем министры знали, что, обращаясь к г-ну де Норпуа, могут получить все эти выгоды, не опасаясь подвоха с его стороны: происхождение маркиза не только не вызывало у них опасений – оно даже служило залогом его лояльности. И в этом правительство Республики не ошибалось. Прежде всего потому, что определенная часть аристократии с детства приучена воспринимать свое имя как врожденное преимущество, которого ничто не может у нее отнять (и цену которому точно знают те, кто от рождения так же знатен или еще знатнее); поэтому аристократ понимает, что может, ничего не теряя, избавить себя от усилий, которые предпринимают буржуа, стараясь высказывать только правильные суждения и встречаться только с благонамеренными людьми, – усилий, которые, кстати, в дальнейшем почти не приносят им ощутимой пользы. Зато, стараясь возвыситься в глазах королевских и герцогских родов, превзошедших ее на иерархической лестнице, аристократия понимает, что для этого ей непременно нужно прибавить к своему имени то, чего ему еще не хватает: политическое влияние, славу в мире литературы или искусства, огромное состояние. Аристократия пальцем не шевельнет ради бесполезного захудалого дворянчика, чьей дружбы домогаются буржуа, ведь члены королевской фамилии не скажут ей спасибо за это бесплодное знакомство; но зато уж она расстарается ради политиков, будь они хоть масоны, – ведь политики могут и в посольство ввести, и на выборах помочь – и ради людей искусства или ученых, чья поддержка помогает «прорваться» в те круги, где они царят, короче, ради всех тех, кто поможет блеснуть или заключить выгодный брачный союз.
Но главное, г-н де Норпуа во время своей продолжительной дипломатической службы проникся тем неодобрительным, рутинным, одним словом, «правительственным» духом, что присущ на самом деле всем правительствам и, в частности, канцеляриям, существующим при каждом правительстве. На служебной стезе опорой ему служили отвращение и презрение к тем более или менее революционным или по меньшей мере некорректным приемам, которыми пользуется оппозиция; такие приемы внушали ему страх. Если не считать неучей, разночинных или великосветских, для которых разница в стиле – пустой звук, людей объединяет не сходство убеждений, а духовное родство. Академик вроде Легуве, поборник классиков, скорее станет восторгаться похвалой Виктору Гюго из уст Максима Дюкана или Мезьера, чем восхищенным отзывом Клоделя о Буало[10]. Национализм Барреса привлекает к нему избирателей, для которых нет большой разницы между ним и г-ном Жоржем Берри[11], но не собратьев по Академии, у которых политические убеждения те же, а общий строй мыслей совершенно другой, поэтому им милее даже такие противники Барреса, как г-н Рибо и г-н Дешанель – а правоверные монархисты в свой черед тянутся скорее к Барресу и Рибо, чем к Моррасу или Леону Доде, хотя эти последние тоже хотели бы возвращения короля[12]. Г-н де Норпуа был скуп на слова не только по профессиональной привычке к благоразумию и сдержанности, но и потому, что немногословные замечания звучат более веско, передают больше оттенков, особенно на вкус людей, у которых десять лет усилий по сближению двух стран, в речи ли, в протоколах ли, выражаются и запечатлеваются в виде какого-нибудь простого прилагательного, на первый взгляд банального, но для них-то в этом слове воплощен целый мир; поэтому маркиз слыл весьма холодным человеком в той комиссии, где заседал рядом с моим отцом, которого все поздравляли с тем, что он приобрел дружбу бывшего посланника. Этой дружбе мой отец удивлялся больше всех. Вообще отец был человек не слишком любезный, поэтому он привык, что к нему не очень-то тянутся люди за пределами кружка самых близких, и сам простодушно в этом признавался. Он чувствовал, что знаки благоволения дипломата – результат совершенно индивидуальной точки зрения, которую каждый из нас вырабатывает сам для себя, решая, кто ему симпатичен; ведь если кто-нибудь раздражает нас или наводит на нас скуку, то этого не искупят никакие сокровища ума и доброты: мы всегда предпочтем ему другого, искреннего и веселого, пускай эти качества многим кажутся пустяковыми, ничтожными и несущественными. «Де Норпуа опять пригласил меня на обед; чудеса, да и только; все в комиссии изумлены, ведь он ни с кем там не сближается. Я уверен, что он опять будет рассказывать захватывающие подробности о войне семидесятого года»[13]. Отец знал, что г-н де Норпуа был чуть ли не единственным, кто предупредил императора о растущей мощи и воинственных намерениях Пруссии, и что его умом восхищался Бисмарк. Совсем недавно газеты отметили, что в Опере во время гала-представления в честь царя Теодоза[14] государь удостоил г-на де Норпуа долгой беседы. «Я непременно должен выяснить, в самом ли деле этот визит имеет такое значение, – сказал нам отец, питавший огромный интерес к иностранной политике. – Я знаю, что папаша Норпуа весьма сдержан, но передо мной он так мило раскрывается».
Маме, вероятно, больше нравился в людях иной склад ума, чем у бывшего посланника. Замечу, что разговор г-на де Норпуа представлял собой необыкновенно полное собрание устаревших форм языка, присущих определенной профессии, определенному классу, определенной эпохе – эпохе, которая для этой профессии и этого класса еще не вполне отодвинулась в прошлое, – и я подчас жалею, что не запоминал в точности его тогдашних речей. Овладев его словарем, я бы достиг без особых затрат и хлопот того самого эффекта старомодности, что актер Пале-Рояля[15], у которого спросили, где можно найти такие потрясающие шляпы, как у него, а актер ответил: «Я не нахожу свои шляпы. Я их храню»[16]. Словом, думаю, что мама считала г-на де Норпуа несколько «несовременным»; против несовременных манер она как раз не возражала, да и понятия г-на де Норпуа были как нельзя более современные, но вот от его лексикона она была далеко не в восторге. Зато она чувствовала, что тонко льстит мужу, говоря с восхищением о дипломате, который выказывает ему столь редкостное предпочтение. Она подтверждала хорошее отношение к г-ну де Норпуа, сложившееся у отца, а тем самым укрепляла его в хорошем отношении к себе самому; и она сознавала, что исполняет таким образом свой долг, состоявший в том, чтобы украшать жизнь мужу; во имя того же долга она следила, чтобы еда была вкусная, а прислуга расторопная. А поскольку она была неспособна лгать отцу, то сознательно упражнялась в искусстве восхищаться посланником, чтобы хвалить его со всей искренностью. Впрочем, ей в самом деле нравился его добродушный вид, его несколько старомодная учтивость (настолько церемонная, что, когда он шагал по тротуару, выпрямившись во весь свой немалый рост, и замечал маму в экипаже, то прежде чем приветствовать ее взмахом шляпы, отбрасывал далеко прочь только что раскуренную сигару), его неторопливый разговор, в котором о себе он говорил как можно меньше и никогда не забывал о том, что может быть приятно собеседнику, его поразительная пунктуальность в переписке: бывало, отец едва отправит ему письмо и уже узнаёт его почерк на только что полученном конверте, так что первым делом ему приходит в голову, что их письма разминулись: казалось, для г-на де Норпуа заведена на почте особая ускоренная доставка. Мама восторгалась тем, что он так точен, хотя очень занят, и так дружелюбен, хотя окружен множеством людей, и ей не приходило в голову, что «хотя» – это всегда скрытые «потому что» (не случайно старые люди бывают поразительно молоды для своего возраста, короли исполнены простоты, а провинциалы в курсе всех новостей) и что одни и те же привычки позволяют г-ну де Норпуа успешно заниматься столькими делами и так аккуратно отвечать на письма, пользоваться таким успехом в обществе и проявлять такую благожелательность по отношению к нам. К тому же мама впадала в заблуждение, свойственное всем скромным людям: ставила себя ниже других, а потому упускала из виду общую картину. Превознося друга моего отца, обремененного ежедневной обширной перепиской, за то, что он мгновенно отвечает нам на письма, она отделяла наше письмо от груды остальных, хотя оно было лишь одним из многих; точно так же она не понимала, что обед у нас в гостях был для г-на де Норпуа одним из бесчисленных элементов его светской жизни: ей в голову не приходило, что посланник с незапамятных времен привык на своей дипломатической службе считать обеды вне дома частью своих служебных обязанностей и расточать на этих обедах издавна усвоенную любезность, а ждать от него, чтобы он был как-то по-особенному любезен у нас в гостях, было бы слишком самонадеянно.
Впервые г-н де Норпуа пришел к нам обедать в тот год, когда я еще ходил играть на Елисейские Поля; этот обед остался у меня в памяти, потому что в тот день я наконец пошел на дневной спектакль слушать великую Берма[17] в «Федре»[18], а еще потому что, беседуя с г-ном де Норпуа, я внезапно и совершенно по-новому осознал, насколько мои чувства к Жильберте, Сванну и всей их семье отличаются от тех чувств, которое вызывает эта самая семья у всех, кроме меня.
Наверное, мама заметила, в какое уныние повергло меня приближение новогодних каникул, на которых я не смогу видеться с Жильбертой, о чем моя подруга сама меня предупредила; и вот в один прекрасный день, желая меня развлечь, мама сказала: «Если тебе по-прежнему так хочется послушать Берма, я думаю, что отец тебе разрешит: бабушка готова пойти с тобой в театр».
Не кто иной, как г-н де Норпуа, сказал отцу, что нужно сводить меня на Берма: это, мол, будет одно из тех впечатлений, которые навсегда должны остаться в памяти у молодого человека; и вот отцу, до сих пор и мысли не допускавшему, что я буду терять время и рисковать здоровьем ради того, что он, к негодованию бабушки, называл пустяками, теперь уже, после рекомендации посланника, этот спектакль смутно представлялся чуть ли не одним из драгоценных рецептов блестящей карьеры. А бабушка уже успела во имя моего здоровья мысленно пожертвовать всей той пользой, которую, по ее мнению, я получил бы от выступления Берма, и теперь удивлялась, каким образом по одному слову г-на де Норпуа жертва оказалась ненужной. Теперь бабушка, вооружась рационализмом, твердо уповала на предписанные мне свежий воздух и ранние укладывания в постель; заранее оплакивая предстоящее мне нарушение режима, она с сокрушенным видом говорила отцу: «Как вы легкомысленны!» – а он яростно отбивался: «Я просто ушам своим не верю! Вы же сами все время твердили, что это пойдет ему на пользу, а теперь не хотите его пустить!»
Между тем г-н де Норпуа повлиял на намерения моего отца в еще более важном вопросе. Отец всегда хотел, чтобы я стал дипломатом, а для меня была невыносима мысль, что даже если какое-то время я буду связан с министерством, то потом все равно меня, скорей всего, назначат посланником в какую-нибудь иностранную столицу, где не будет Жильберты. Мне бы больше хотелось вернуться к прежним моим литературным планам, которые я вынашивал на прогулках в сторону Германта и от которых потом отказался. Но отец постоянно сопротивлялся моему желанию избрать себе поприщем литературу: он считал ее гораздо ниже дипломатии и вообще отказывался видеть в ней «поприще», однако г-н де Норпуа, не любивший дипломатов новейшей формации, сумел его убедить, что писатель может пользоваться таким же уважением, таким же влиянием, как дипломат, и при этом сохранять бóльшую независимость.
«Вот уж никогда бы не подумал! – сказал мне отец, – папаша Норпуа ничего не видит страшного в том, чтобы ты занимался литературой». Сам обладая некоторым весом, он верил, что любое дело может устроиться и разрешиться наилучшим образом, если поговорить о нем с влиятельным человеком: «Как-нибудь на днях после заседания комиссии я приведу его обедать. Ты с ним немного побеседуешь, чтобы он мог составить о тебе мнение. Напиши что-нибудь такое, чтобы не стыдно было ему показать; он в прекрасных отношениях с директором „Ревю де Дё Монд“[19], он может тебя туда ввести, он что угодно уладит, это такая голова! А сегодняшнюю дипломатию он, кажется, не слишком-то жалует…»
Я жаждал не разлучаться с Жильбертой и во имя этого счастья хотел, но не мог написать что-нибудь воистину достойное, что можно было бы показать г-ну де Норпуа. После первых же страниц мне становилось скучно, перо выпадало из рук, я плакал от ярости при мысли, что у меня нет таланта и я настолько бездарен, что даже не могу воспользоваться шансом, который сулит мне скорая встреча с г-ном де Норпуа, и навсегда остаться в Париже. Меня утешала только мысль о том, что скоро мне разрешат послушать Берма. Но точно так же как бурю я мечтал увидеть непременно на том побережье, где она бушует сильнее всего, так и великую актрису мне хотелось бы видеть в одной из тех классических ролей, о которых Сванн говорил, что в них она не знает себе равных. Ведь впечатлений от природы или искусства мы жаждем в надежде открыть для себя нечто важное; поэтому мы сомневаемся, стоит ли вместо этого пробавляться более мелкими впечатлениями, которые исказят для нас истинный смысл прекрасного. Мое воображение манили знаменитые роли Берма в «Андромахе», в «Прихотях Марианны»[20], в «Федре». Тот же восторг, что в день, когда гондола принесет меня к стенам церкви деи Фрари, где таится Тициан, или к Сан Джорджо дельи Скьявони[21], ждал меня, если я услышу, как Берма декламирует стихи:
- Сказали мне, что вы собрались в дальний путь,
- Мой принц…[22]
Я знал их по простому черно-белому воспроизведению типографским способом; но сердце мое билось, когда я думал, что наконец они предстанут мне омытые воздухом и светом серебристого голоса: это было бы словно воплощенное в жизнь путешествие. Шедевры драматического или изобразительного искусства – Карпаччо[23] в Венеции или Берма в «Федре» – были в моем воображении окружены ореолом, сообщавшим им такую цельность, что если бы я увидел Карпаччо в зале Лувра или Берма в какой-нибудь пьесе, о которой никогда не слыхал, я ни за что не испытал бы восхитительного изумления, с которым сознаешь, что вот наконец видишь своими глазами нечто непостижимое и единственное в своем роде, именно то, о чем без конца мечтал. А кроме того, от игры Берма я ожидал откровений о природе благородной скорби, и мне казалось, что эта приподнятость, эта истинность явятся в ее игре с особенной полнотой, если актриса вложит их в произведение воистину достойное, вместо того чтобы вышивать перед нами прекрасные и правдивые узоры на пошлом, в сущности, и посредственном фоне.
И наконец, если я пойду слушать Берма в новой пьесе, мне нелегко будет судить о ее искусстве, совершенстве ее декламации, потому что, не зная заранее текста, я не сумею отделить его от того, что добавят ему интонации и жесты актрисы, слившись с ним воедино; а классические произведения, которые я знал наизусть, представлялись мне огромными полотнищами, словно специально отведенными и предназначенными для того, чтобы я мог легко и свободно оценивать открытия Берма, расписавшей их, словно фрески, бессмертными находками своего вдохновения. К сожалению, в последние годы она покинула более знаменитые подмостки и блистала в одном театре на бульварах[24]; классики она больше не играла, и напрасно я смотрел афиши: там объявлялись всегда только совсем новые пьесы, сочиненные специально для нее модными авторами; но вот как-то утром я искал в колонке театральных анонсов, какие будут дневные спектакли на неделе после Нового года, и увидел впервые, в конце представления, после одноактной пьески, скорее всего неинтересной, с невразумительным, на мой взгляд, названием, отражавшим какие-то частности неведомой мне интриги, – два действия из «Федры» с мадам Берма, а на следующих утренних спектаклях «Полусвет»[25], «Прихоти Марианны», – названия, которые, так же как имя Федры, были для меня прозрачны, наполнены только светом, ведь сами произведения я знал вдоль и поперек, и до самого дна озарены улыбкой искусства. А потом, когда я увидел в газете программу этих спектаклей и прочел, что мадам Берма решила вновь показаться публике в своих старых ролях, это еще больше возвысило ее в моих глазах. Значит, артистка знала, что некоторые роли интересны не благодаря своей новизне и не потому, что их возобновление может принести успех; собственная трактовка этих ролей была для нее чем-то вроде музейных шедевров, которые полезно было бы вновь представить взорам того поколения, которое ими восхищалось раньше, и того, которое их уже не застало. Объявляя вот так, среди пьес, годных только на то, чтобы вечер провести, «Федру», чье название было не длинней других и набрано было таким же шрифтом, она словно вкладывала в это имя особый смысл, как хозяйка дома, которая знакомит вас с остальными гостями перед тем, как идти к столу, и среди имен обыкновенных людей, таким же тоном, каким она называла всех, произносит: господин Анатоль Франс[26].
Врач, который меня лечил – тот, что запретил мне все путешествия, – не советовал родителям пускать меня в театр; я, дескать, вернусь оттуда больной и, возможно, надолго расхвораюсь, одним словом, испытаю не столько удовольствие, сколько новые страдания. Такое опасение могло бы меня остановить, если бы я ждал от этого спектакля только удовольствия, которое последующие страдания могут, в сущности, свести на нет: одно компенсирует другое. Но – так же, как от поездок в Бальбек и в Венецию, столь для меня желанных, – я ждал от спектакля не удовольствия, а совсем другого; я жаждал истин, принадлежащих миру более реальному, чем тот, в котором я жил; если я овладею этими истинами, никакие превратности моего праздного существования, пускай даже мучительные для тела, уже не смогут лишить меня добытого знания. А главное, мне казалось, что для того, чтобы воспринять эти истины, мне необходимо вот именно насладиться спектаклем; я только мечтал, чтобы хворь, которую мне предрекали, не испортила мне зрелища и не помешала досидеть до конца, а началась уже потом. Я умолял родителей, которые после визита врача передумали пускать меня на «Федру». Я без конца декламировал сам себе тираду: «Сказали мне, что вы собрались в дальний путь», выискивая все интонации, которые можно в нее вложить, чтобы лучше оценить ту, что изберет Берма. Небесная красота, словно святая святых, была укрыта от меня завесой, и я каждый миг воображал ее себе по-новому, отталкиваясь от слов Берготта в той брошюре, что нашла для меня Жильберта, – эти слова непрестанно всплывали у меня в памяти: «Благородная пластика, христианская власяница, янсенистская бледность, трезенская царевна, принцесса Клевская, микенская драма, дельфийский символ, солярный миф»; эта самая красота, которую должна была явить мне игра Берма, денно и нощно восседала на вечно озаренном алтаре в глубине моей души, но до сих пор мне виден был только ее смутный силуэт – а жестокие и легкомысленные родители еще раздумывали, стоит ли заменить его совершенствами Богини, явленной во всем блеске. Не отводя глаз от таинственного образа, с утра до вечера я боролся с препятствиями, которые воздвигали передо мной родные. Но когда преграды пали, когда мама сказала (хотя спектакль пришелся как раз на тот день, когда после заседания комиссии отец должен был привести на обед г-на де Норпуа): «Ну ладно уж, мы не хотим тебя огорчать, сходи, если ты уверен, что тебе так понравится», когда этот поход в театр, за который мне столько пришлось бороться, перестал от меня зависеть и оказалось, что мне не нужно больше ничего делать, что он перестал быть неосуществимым, тут-то я и задумался, а так ли я этого хочу, а нет ли у меня других причин, кроме родительского запрета, чтобы отказаться от похода в театр. Во-первых, теперь, когда я уже не возмущался жестокостью родителей, их согласие вызвало во мне такой прилив любви, что мысль о том, чтобы их опечалить, приводила меня в отчаяние; мне уже казалось, что цель жизни – не истина, а нежность, и сам я могу быть счастлив только если родители будут счастливы. «Я лучше не пойду, если вам это неприятно», – сказал я маме, а она, напротив, пыталась выбить у меня из головы эту заднюю мысль о том, что она будет расстраиваться, мысль, которая, по ее словам, испортит мне всё удовольствие от «Федры», а ведь ради этого удовольствия они с отцом и отменили свой запрет. Выходило, что я обязан получить удовольствие, и это меня тяготило. И если я заболею, то как долго продлится мое выздоровление и сумею ли я после каникул, когда вернется Жильберта, сразу пойти на Елисейские Поля? По всем этим причинам я разглядывал со всех сторон идею о совершенстве Берма, невидимом по ту сторону завесы, и пытался решить, что важнее. На одну чашу весов я бросал «мамино огорчение, риск, что я не смогу пойти на Елисейские Поля», на другую – «янсенистскую бледность, солярный миф»; но сами эти слова затуманивались у меня в сознании, ничего уже не значили, теряли в весе; постепенно колебания мои превращались в такую муку, что в театр мне хотелось уже только ради того, чтобы прервать эту муку и избавиться от нее раз и навсегда. Теперь уже я бы пошел не к Мудрой Богине, а к неумолимому Божеству без лица и прозванья, которое тайно заняло ее место за завесой, и не в надежде на интеллектуальное обогащение, не в стремлении к совершенству, а только чтобы уменьшить боль. Но внезапно все переменилось, новый удар хлыста подстегнул мою решимость пойти на Берма, и я опять стал ждать спектакля с радостным нетерпением: а всё потому, что, совершая, как новоявленный столпник, ежедневную остановку у афишной тумбы, с недавних пор такую мучительную, я увидел подробную афишу «Федры», она была еще влажная, ее только что налепили в первый раз, и, по правде сказать, имена остальных исполнителей не произвели на меня ни малейшего впечатления, я на них и внимания не обратил. Но одной из двух целей, между которыми металась моя нерешительность, эта афиша придавала более жизненную форму; причем на ней стояло не то число, когда я ее читал, а дата представления, и даже было указано время, когда поднимется занавес, – почти неизбежное, уже приближающееся, и я запрыгал от радости перед тумбой при мысли о том, что в этот день, в этот самый час я буду ждать выхода Берма, сидя на своем месте; и из страха, вдруг родители не успеют найти хорошие места для нас с бабушкой, я огромными скачками помчался домой, ополоумев от волшебных слов, вытеснивших из моих мыслей «янсенистскую бледность» и «солярный миф»: «Дамы в шляпках в партер не допускаются, двери зала закрываются в два часа».
Увы, этот первый спектакль обернулся огромным разочарованием. Отец предложил завезти нас с бабушкой в театр по дороге в комиссию. Перед уходом он сказал маме: «Постарайся, чтобы обед был получше: ты же помнишь, что я приеду вместе с Норпуа?» Мама об этом не забыла. И еще накануне Франсуаза, одержимая творческим восторгом, вдохновляясь к тому же ожиданием нового гостя и зная, что ей предстоит создать, согласно рецепту, ведомому ей одной, заливную говядину, с упоением ринулась в стряпню, к которой у нее несомненно был талант; придавая огромное значение качеству исходного материала, из которого ей предстояло творить, она сама отправилась на рынок и выбрала лучшие куски мякоти – лопатку, и рульку, и телячьи ножки: так Микеланджело восемь месяцев провел в горах Каррары, выбирая наиболее совершенные глыбы мрамора для памятника Юлию II. Франсуаза отдавалась этим хождениям с таким пылом, что мама, видя ее разгоревшееся лицо, опасалась, как бы наша старая служанка не слегла от переутомления, как это случилось в карьерах Пьетрасанта с автором гробницы Медичи[27]. Накануне же Франсуаза переправила булочнику окорок, подобный розовому мрамору и бережно облепленный хлебным мякишем, чтобы он запек этот окорок в своей печи – это у нее называлось невьоркской ветчиной. Не доверяя ни кажущемуся богатству языка, ни собственным ушам, она, наверно, когда впервые услышала о йоркской ветчине, решила, что недопоняла и имеется в виду город, о котором она уже знает, – ей казалось невозможной расточительностью, что в словаре могут существовать одновременно и Йорк, и Нью-Йорк. Поэтому, если в объявлении или в разговоре проскальзывало название Йорк, Франсуаза всегда мысленно добавляла к нему слог «Нью», который она произносила как «Нев». Свято уверенная в своей правоте, она говорила девице, прислуживавшей в кухне: «Сходите-ка к Олида за ветчиной. Хозяйка велела спросить невьоркской»[28]. Таким образом, Франсуазу в тот день обуревала пламенная вера в себя, присущая великим творцам, а меня снедало жестокое беспокойство, удел исследователей. Кажется, счастье началось еще до того, как я услышал Берма. Оно охватило меня в скверике перед театром, там, где два часа спустя облетевшим каштанам предстояло вспыхнуть металлическими отблесками, как только газовые рожки высветят их ветки до мельчайших подробностей; оно возросло при виде контролеров, чьи назначения, и продвижения по службе, и судьбы зависели от великой артистки – ведь она единовластно правила театром, во главе которого незримо сменяли друг друга эфемерные, чисто фиктивные директора, – и контролеры взяли у нас билеты не глядя, озабоченные только тем, все ли предписания мадам Берма доведены до сведения нового персонала, все ли усвоили, что театральная клака не должна ей хлопать, что до того, как она выйдет на сцену, следует открыть окна, а когда она уже будет там, закрыть все двери до единой; что рядом с ней должен стоять незаметный публике сосуд с теплой водой, чтобы пыль не поднималась в воздух; и впрямь, экипаж актрисы, запряженный двумя длинногривыми конями, должен был с минуты на минуту подкатить к театру; и тогда она выйдет, закутанная в меха, и досадливым жестом отвечая на приветственные крики, отправит одну из камеристок справиться о литерной ложе, которую должны были зарезервировать для ее друзей, и о температуре в зале, и о составе публики в ложах, и об униформе капельдинерш, ведь театр и зрители были для нее внешним продолжением ее собственного костюма, в котором она выйдет на сцену, и проводящей средой, более или менее удачной, в которой будет распространяться ее талант. Счастье не покинуло меня и в зале; я уже знал, что – вопреки тому, что я так долго воображал в детстве, – на самом деле всем зрителям видна одна и та же сцена, и, понимая это, опасался, что другие люди мне всё заслонят, как в толпе; но оказалось, что, напротив, благодаря особому устройству зала, словно символизирующему наше восприятие, каждый чувствует себя в самом центре театра; теперь мне было ясно, почему, когда Франсуазу однажды отправили посмотреть мелодраму в третий ярус, она, вернувшись, уверяла, что у нее было самое лучшее место, какого только можно пожелать: она не только не чувствовала себя слишком далеко от сцены, а даже оробела от таинственной близости колеблющегося занавеса. Мое счастье еще возросло, когда я начал различать позади этого опущенного занавеса смутные звуки, словно под скорлупой яйца, из которого вот-вот вылупится цыпленок; звуки делались всё громче, и внезапно из этого мира, непроницаемого для наших взглядов, но не сводившего с нас глаз, властно заговорили прямо с нами, обернувшись тремя ударами жезла, волнующими, словно сигналы, прилетевшие с планеты Марс. Счастье продолжалось, когда занавес взвился и на сцене оказались письменный стол и камин, совершенно, кстати, обычные, означавшие, что персонажи, которые выйдут на сцену, – не актеры, которые начнут декламировать, как я однажды слышал в концерте, а просто люди у себя дома, живущие обычной жизнью, в которую я вломился незаметно для них; только одна мимолетная тревога нарушала мое счастье: пока я прислушивался перед самым началом действия, из-за кулис вышли два человека, очень сердитых, видимо, потому что говорили так громко, что в зале на тысячу с лишним зрителей было слышно каждое слово – а ведь в каком-нибудь маленьком кафе и то приходится спрашивать у официанта, что говорят те двое, ухватившие друг друга за шиворот; но, удивляясь, почему публика слушает их без возражений и всеобщую тишину нарушает только вспыхивающий время от времени смешок, я тут же и понял, что эти наглецы – актеры и что началась одноактная пьеса, которой должно было открываться представление. За ней последовал антракт, такой длинный, что зрители вернулись на места и в нетерпении топали ногами. Я заволновался: не зря же, читая в отчете о судебном заседании, как великодушный свидетель вопреки собственным интересам явился дать показания в пользу невиновного, я всегда опасался, вдруг с ним обойдутся недостаточно уважительно, не поблагодарят как следует, не вознаградят должным образом, и тогда ему станет противно и он перейдет на сторону несправедливости; и теперь, приравнивая тем самым гений к добродетели, я боялся, что Берма разгневается на дурные манеры невоспитанных зрителей и примется играть похуже, чтобы выразить им свое недовольство и презрение – а я-то хотел, напротив, чтобы она обрадовалась, заметив в зале каких-нибудь известных людей, чье суждение для нее небезразлично. И я умоляюще смотрел на этих грубых скотов, в своей злобе готовых разрушить хрупкое и драгоценное впечатление, за которым я пришел. И наконец, истекли последние мгновения моего счастья – они пришлись на первые сцены «Федры». Во втором акте Федра появляется не в самом начале; однако вот поднялся занавес, потом раздвинулся второй занавес из красного бархата, углублявший сценическое пространство во всех пьесах, где играла звезда, и из глубины сцены вышла актриса, лицом и фигурой точь-в-точь похожая на Берма, как мне ее описывали. Вероятно, состав исполнителей изменили, и напрасно я так старательно изучал роль жены Тезея. Но тут вторая актриса подала первой реплику. Я, наверное, ошибся, когда принял за Берма эту первую актрису, потому что вторая была на нее похожа еще больше, так же выглядела, так же говорила. Вдобавок у обеих к словам роли добавлялись благородные жесты – которые я прекрасно замечал, понимая их связь с текстом, когда актрисы вздымали свои прекрасные пеплосы[29], – и причудливые интонации, то страстные, то язвительные, открывавшие мне значение стиха, который дома я читал, недостаточно вникая в его смысл. Но внезапно, словно в раме, в зазоре красного занавеса, скрывавшего святилище, возникла женщина; к этому мигу меня снедал такой жестокий страх, какого не знала, вероятно, и сама актриса, – страх, что кто-нибудь раскроет окно и ей помешает, что шуршание какой-нибудь программки исказит звук ее голоса, что ее собьют аплодисменты, предназначенные другим актрисам, а ей самой будут аплодировать слишком мало; для меня уже не меньше, чем для нее самой, и зал, и публика, и пьеса, и собственное мое тело превратились в единую звуковую среду, имевшую значение лишь в той мере, в какой она благоприятствует модуляциям этого голоса; и вот тут-то я понял, что две актрисы, которыми я восхищаюсь вот уже несколько минут, не имеют ни малейшего сходства с той, кого я пришел послушать. Но одновременно рассеялось всё счастье; как ни тянулся я к Берма зрением, слухом, умом, не желая ни капельки упустить из того, что могло бы меня в ней поразить – всё было напрасно: мне было не найти ни одной самой ничтожной причины для восхищения. Я даже не улавливал тех мастерских интонаций, тех прекрасных жестов, которые понравились мне в манере произносить текст и в игре других актрис. Я слушал ее так, будто просто читал «Федру» или будто сама Федра говорила передо мной какие-то слова; казалось, талант Берма ничего к ним не добавлял. Мне хотелось бы задержать, надолго остановить каждую интонацию актрисы, каждое выражение ее лица – чтобы углубиться в них, чтобы как следует осознать красоту, которая в них таилась; пришпоривая свои умственные возможности, я пытался хотя бы заранее сосредоточиться и настроить свое внимание на каждый стих, который сейчас прозвучит, чтобы потом уже ни на долю секунды не отвлекаться ни от единого слова, ни от единого жеста, в надежде, что такое страстное напряжение поможет мне проникнуть в них так же глубоко, как если бы у меня были на это долгие часы. Но всё происходило слишком быстро! Не успевал звук коснуться моего слуха, как его уже сменял другой. В сцене, где Берма на мгновение замирает, прикрыв рукой лицо, омытое зеленоватым светом искусственного освещения, на фоне декорации, изображающей море, зал взорвался аплодисментами, но актриса уже перешла на другое место, и картина, которую я хотел подробно рассмотреть, исчезла. Я сказал бабушке, что мне плохо видно, и она дала мне бинокль. Но когда мы верим в реальность того, что видим, искусственные средства вроде бинокля, улучшая наше зрение, совсем не приближают нас к тому, на что мы смотрим. Я понимал, что сквозь увеличительные стекла вижу уже не Берма, а только ее лицо. Я отложил бинокль, но наверно образ, видимый моему глазу, отдаленный, а потому слишком мелкий, был не более точен… – какая же из двух Берма настоящая? Я очень рассчитывал на ее признание Ипполиту, где, казалось мне, она непременно найдет более поразительные интонации, чем всё, что я пытался вообразить, читая у себя дома – недаром же другие артистки и в менее прекрасных местах то и дело искусно раскрывали передо мной скрытое значение текста; но она не поднималась даже до тех высот, которых достигали Энона или Арикия; она прошлась рубанком однообразного речитатива по всей тираде, сгладив все эффектные разительные противопоставления, которыми не пренебрегла бы ни одна мало-мальски умелая актриса, даже ученица лицея, к тому же она продекламировала всю тираду так быстро, что разум мой только тогда охватил намеренную монотонность, которую она навязала первым строкам монолога, когда она уже произносила последний стих.
И тут наконец во мне впервые вспыхнуло восхищение: его вызвали исступленные рукоплескания зрителей. Я тоже захлопал, стараясь продлить аплодисменты, чтобы в благодарность за них Берма превзошла самое себя и чтобы окончательно увериться, что слышал ее во всем ее блеске. Интересно, однако, что после я узнал: восторг публики был вызван одной из ее самых прекрасных находок. Видимо, толпа чувствует сияние, исходящее от чего-то поистине возвышенного. Так бывает, когда свершается какое-нибудь важное событие, например когда наша армия попала в окружение, или наголову разбита, или одержала победу, и вот с границы приходят невразумительные вести, по которым культурный человек не очень-то представляет себе, что произошло; но эти самые вести вызывают в толпе всплеск чувств, изумляющий культурного человека; и после того как люди понимающие растолкуют ему всё, что случилось на театре военных действий, его осеняет, что толпа уловила именно эту «ауру», окружающую великие события, которая бывает видна за сотни километров. О победе узнается или задним числом, когда война окончена, или немедленно – из ликования консьержки. О гениальной находке Берма становится известно или через неделю, из критики, или сразу – по овациям в амфитеатре. Но это мгновенное знание толпы теряется среди сотен заблуждений: чаще всего аплодисменты вспыхивали впустую; а иногда их волна поднималась по инерции, под воздействием предыдущей волны: так в бурю, когда море как следует разбушевалось, волнение становится всё сильнее, хотя ветер больше не усиливается. Как бы то ни было, чем больше я аплодировал, тем больше мне нравилась игра Берма. «Что ни говори, – заметила рядом со мной какая-то вполне заурядная зрительница, – она себя не щадит, мечется, вот-вот надорвется, носится по сцене, да что там говорить, вот как надо играть». Я был рад, что превосходству Берма нашлись доказательства, хоть и догадывался, что они не убедительнее, чем восклицание крестьянина, увидевшего не то Джоконду, не то Персея Бенвенуто[30]: «А ловко смастерил! Всё в золоте, красота! вот это работа!»; все равно я вместе со всеми упивался дешевым вином народных восторгов. И вместе с тем, когда дали занавес, мне стало грустно, что удовольствие, которого я так жаждал, оказалось меньше, чем я надеялся; а все-таки мне хотелось, чтобы оно продлилось еще, не хотелось уходить из зала и навсегда покидать эту жизнь театра, которая несколько часов была и моей жизнью и от которой мне пришлось бы отрывать себя насильно, словно отправляясь в изгнание, если бы не надежда многое узнать о Берма от ее ценителя, г-на де Норпуа, исхлопотавшего мне разрешение пойти на «Федру». Перед обедом меня ему представили, ради этого отец позвал меня в кабинет. Когда я вошел, посланник привстал с места, протянул мне руку, поклонился с высоты своего немалого роста и внимательно глянул на меня своими голубыми глазами. Заезжие иностранцы, с которыми его знакомили в те времена, когда он представлял Францию, все были в каком-нибудь отношении людьми высшей пробы, известными певцами и тому подобное, и он понимал: позже, когда в Париже или Петербурге при нем назовут их имена, он сможет рассказать, что прекрасно помнит вечер, который провел в их обществе в Мюнхене или в Софии; поэтому он приучил себя к обходительности: с ее помощью он показывал знаменитостям, как рад он знакомству с ними; кроме того, он был убежден, что жизнь столичных городов, а также соприкосновение с интересными людьми, которые подчас туда приезжают, и с обычаями местных жителей обогащают нас углубленным знанием истории, географии, нравов разных народов, течений европейской мысли – знанием, которое невозможно извлечь из книг; поэтому на каждом новом знакомце он упражнял свою острую наблюдательность, чтобы сразу понять, с каким человеческим типом имеет дело. Правительство давно уже не доверяло ему постов за границей, но как только ему кого-нибудь представляли, его глаза, словно им никто не сообщил о том, что их хозяин не на службе, тут же принимались за плодотворное наблюдение; сам он тем временем всячески старался показать, что имя нового человека ему уже отчасти знакомо. Поэтому и со мной он говорил благодушно и значительно, словно бы с высоты своего обширного опыта, который он сам прекрасно сознавал, и при этом не сводил с меня любопытного, проницательного и хищного взгляда, словно я представлял собой что-то вроде экзотического обычая, интересного памятника или знаменитого гастролера. Таким образом, по отношению ко мне он являл сразу и величественную доброжелательность мудрого Ментора, и неустанную пытливость юного Анахарсиса[31].
Он не предложил мне ни малейшей помощи с «Ревю де Дё Монд», зато довольно подробно расспросил, как я живу, как учусь, что мне нравится, что не нравится; впервые мои вкусы обсуждались так, словно они могут быть кому-нибудь интересны – до сих пор мне казалось, что все просто обязаны их ниспровергать. Поскольку меня влекло к литературе, он не стал меня отговаривать; наоборот, говорил о ней, как о почтенной и обаятельной особе весьма избранного общества, о которой хранят наилучшие воспоминания в Риме и в Дрездене и жалеют, что жизненные обстоятельства не дают встречаться с нею почаще. Он улыбался несколько даже игриво, с таким видом, будто заранее завидует радостям, которые она подарит мне, более удачливому и более свободному, чем он. Но пока он об этом рассуждал, даже его выбор слов рисовал литературу совершенно не такой, какой я ее себе вообразил в Комбре, и я понял, что был тысячу раз прав, отказавшись от нее. До сих пор я только понимал, что лишен литературного дара; теперь г-н де Норпуа отбил у меня и желание писать. Я хотел пересказать ему мои мечты; меня трясло от волнения, я бы не простил себе, если бы все мои слова не передавали со всей возможной искренностью то, что я чувствовал, но никогда еще не пробовал сформулировать; понятное дело, что речь моя была довольно бессвязна. Г-н де Норпуа выслушивал всё, что ему говорили, с таким неизменно неподвижным лицом, словно вы обращались к какому-нибудь античному, причем глухому, бюсту в глиптотеке, – возможно, по профессиональной привычке, возможно, в силу невозмутимости, с которой любое значительное лицо выслушивает тех, кто обратился к нему за советом (ведь руководство разговором у него в руках, так пускай собеседник волнуется, лезет вон из кожи, надрывается, сколько ему будет угодно), а возможно, и желая покрасоваться (он считал, что похож на древнего грека, несмотря даже на пышные бакенбарды). А потом, когда посланник изрекал ответ, голос его, настигая вас, как молоточек аукциониста или дельфийский оракул, поражал тем сильнее, что ничто в его лице не предвещало вам, какое впечатление вы на него произвели и какого рода суждение он собирается высказать. И после того как я долго лепетал что-то под взглядом его неподвижных глаз, не отрывавшихся от меня ни на миг, он внезапно сказал, словно всё взвесил и решил:
– Есть у меня знакомый, сын друзей, он, mutatis mutandis[32], такой же, как вы (причем, как только он заговорил о сходстве между нами, в голосе у него появились утешительные интонации, словно речь шла о склонности не к литературе, а к ревматизму и он хотел уверить меня, что это не смертельно). Так вот, он по доброй воле покинул набережную Орсе[33], хотя отец проторил ему туда дорожку, и, не заботясь, кто что скажет, принялся творить. И, безусловно, жалеть ему не о чем. Два года назад он опубликовал – он, кстати, намного старше вас, это само собой, – работу о чувстве бесконечного на западном берегу озера Виктория-Ньянца[34], а в этом году книжечку поменьше, но бойко написанную, подчас даже не без язвительности, о магазинной винтовке в болгарской армии, и вознесся на недосягаемую высоту. Он уже многое успел, но он не из тех, кто останавливается на полпути, и я знаю, что хотя его кандидатура еще не рассматривалась всерьез в Академии моральных наук[35], но имя его уже прозвучало разок-другой в тамошних разговорах, причем в тоне более чем благоприятном. Нельзя сказать, чтобы он уже был в зените славы, но, как бы то ни было, упорным трудом он достиг уже прекрасного положения, и его усилия увенчались успехом: ведь не всегда же успех достается на долю одним смутьянам и путаникам, мастерам на скандалы да на интриги.
Отец, воображая, как через несколько лет я стану академиком, лучился радостью, которую г-н де Норпуа еще подогрел, когда, после минутного колебания, взвесив, как видно, все последствия своего поступка, протянул мне визитную карту и сказал: «Навестите его, сославшись на меня, он даст вам полезные советы» – и этими словами поверг меня в такое мучительное беспокойство, словно объявил, что завтра меня определят юнгой на парусный корабль.
Тетя Леони заодно с множеством разных вещей и весьма громоздкой мебелью завещала мне почти все свое состояние; так, после ее смерти обнаружилось, что она меня любила, о чем при ее жизни я даже не подозревал. До моего совершеннолетия управлять этим состоянием должен был отец; он стал советоваться с г-ном де Норпуа насчет некоторых вложений. Тот порекомендовал акции, сулящие невысокий доход, но, по его мнению, исключительно надежные, в частности ценные бумаги английского консолидированного фонда и русский четырехпроцентный заем. «Это акции наивысшего разбора, – сказал г-н де Норпуа, – пускай доход по ним не так уж велик, зато вы уверены, что капитал будет в целости и сохранности». Потом отец в общих чертах рассказал ему, что он купил. У г-на де Норпуа на губах промелькнула неуловимая улыбка одобрения: подобно всем капиталистам, он считал, что хорошее состояние – вещь завидная, однако хвалить его следует как можно деликатнее, еле заметным заговорщицким кивком; с другой стороны, сам-то он был несметно богат, а потому считал хорошим тоном одобрительно отзываться о любых, пускай даже скромных, доходах собеседника, благо его собственные были все равно выше, и мысль об этом веселила и согревала душу. Зато уж он не преминул поздравить отца с «составом» его портфеля, «очень надежным, очень изысканным, очень изящным». Казалось, для него и сочетание биржевых бумаг, и каждая биржевая бумага сама по себе обладали определенной эстетической ценностью. Отец заговорил с ним об одной акции, еще новой и неизвестной, и г-н де Норпуа, словно человек, читавший те книги, которые, как вы воображали, известны вам одному, сказал: «Ну да, я забавлялся какое-то время тем, что следил за ее курсом на бирже, она интересно себя вела» – и улыбнулся приятному воспоминанию, ни дать ни взять подписчик, прочитавший последний роман в журнале частями, с продолжением. «Я бы не стал вас отговаривать от подписки на новый выпуск, который ожидается уже скоро. Привлекательная акция, цены воистину соблазнительные».
Что до более давних акций, их названий отец уже не помнил в точности, потому что их легко было спутать с названиями других, похожих, поэтому он открыл ящик и показал посланнику сами эти ценные бумаги. Их вид меня пленил: они были украшены шпилями соборов и аллегорическими фигурами, словно старинные томики романтиков, которые я листал раньше. Всё, что принадлежит одной и той же эпохе, похоже: одни и те же художники иллюстрировали стихи и выполняли заказы финансовых обществ. Поэтому некоторые издания «Собора Парижской Богоматери» и произведений Жерара де Нерваля, выставленные в витрине комбрейской бакалеи, удивительно напоминали именную ценную бумагу «Компании водоснабжения», окруженную прямоугольной цветочной рамкой, которую поддерживали речные божества.
Мой склад ума вызывал в отце презрение, умерявшееся нежностью, так что, в общем, ко всему, что я делал, он относился со слепой снисходительностью. Поэтому он решительно велел мне сходить за стихотворением в прозе, которое сложилось у меня когда-то в Комбре на обратном пути с прогулки. Я сочинил его в восторженном возбуждении, которое надеялся передать будущим читателям. Но г-ну Норпуа оно, кажется, не передалось, потому что он вернул мне листок, не сказав ни слова.
Мама, преисполненная почтения к занятиям отца, подошла и робко спросила, можно ли накрывать на стол. Она стеснялась перебивать разговор, в который ей не полагалось вмешиваться. А отец то и дело напоминал маркизу о какой-нибудь полезной мере, которую они решили поддержать на ближайшем заседании комиссии, причем говорил тем особенным тоном, каким в инородном окружении, напоминая этим двух школьников, говорят между собой два коллеги, у которых в силу профессиональных привычек сложились общие воспоминания, куда остальным доступа нет, так что этим двоим приходится извиняться, что они ведут свой разговор при посторонних.
Но г-н де Норпуа добился от своих лицевых мускулов безукоризненной независимости, что позволяло ему слушать, не подавая вида, что слышит. Отец в конце концов начинал волноваться: «Я думал, не спросить ли мнения комиссии…» – говорил он г-ну де Норпуа после долгой преамбулы. Лицо аристократического виртуоза хранило безучастность оркестранта, которому еще не пора вступать, а из уст раздавалась размеренная фраза, с самого начала интонированная таким образом, как будто она уже завершалась: «…которую вы, конечно, соберете без труда, тем более что членов комиссии вы знаете лично и всем им нетрудно лишний раз приехать в министерство». Само по себе такое заключение не содержало ничего особенного. Но благодаря застывшему лицу оно приобретало хрустальную отчетливость, какую-то насмешливую внезапность, как те фразы, которыми рояль, до сих пор безмолвный, в нужный момент отзывается на вступившую виолончель в концерте Моцарта.
– Ну как, доволен спектаклем? – спросил отец, пока шли к столу, надеясь, что я блесну своим энтузиазмом и г-н де Норпуа меня оценит. «Он только что ходил слушать Берма, помните, у нас с вами был об этом разговор», – обернувшись к дипломату, пояснил он тем же тоном особого, таинственного намека на прошлое, каким они говорили о заседаниях комиссии.
– Вы, наверно, были очарованы, особенно если слушали ее впервые. Ваш отец беспокоился, как бы эта маленькая вылазка не оказала пагубного влияния на ваше здоровье, потому что вы, насколько я понимаю, довольно хрупкого, деликатного сложения. Но я его успокоил. Театры сегодня – не то что каких-нибудь двадцать лет тому назад. Кресла вполне удобны, зал проветривается, хотя нам еще далеко до Германии или до Англии, которые в этом отношении, как во многих других, намного нас обогнали. Я не видел мадам Берма в «Федре», но говорят, что она великолепна. А вы, разумеется, в восторге?
Г-н де Норпуа был в тысячу раз умнее меня, уж наверное, он умел распознать ту истину, которую я не сумел извлечь из игры Берма, и сейчас он мне ее откроет; отвечая на его вопрос, я собирался выяснить, в чем состоит эта истина; если бы я это понял, мое желание увидеть актрису было бы оправдано. В моем распоряжении был один миг, нужно было им воспользоваться и спросить о главном. Но что было главное? Полностью сосредоточившись на своих спутанных впечатлениях и совершенно не думая о том, чтобы понравиться г-ну де Норпуа, а только о том, чтобы добиться от него желанной истины, я и не пытался найти общепринятые выражения взамен слов, которых мне не хватало, я что-то пролепетал и, пытаясь его подзадорить, чтобы он выговорил наконец, что именно прекрасно в игре Берма, признался, что испытал разочарование.
– Да как ты можешь, – воскликнул отец, которому досадно было, что мое непонимание, в котором я сам признаюсь, произведет удручающее впечатление на г-на де Норпуа, – как ты можешь говорить, что тебе не понравилось, когда бабушка нам рассказывала, что ты слушал затаив дыхание, буквально впился в Берма глазами, ты был один такой на весь зал!
– Ну да, я слушал изо всех сил, хотел понять, что в ней такого замечательного. Она, наверно, очень хороша…
– Чего же тебе еще, если она хороша?
– Кроме всего прочего, – сказал г-н де Норпуа, подчеркнуто обернувшись к маме, чтобы вовлечь ее в разговор, то есть добросовестно выполнить долг вежливости по отношению к хозяйке дома, – успеху мадам Берма несомненно способствует то, что свои роли она всегда выбирает с безупречным вкусом, и это приносит ей всегда истинный и заслуженный успех. Она редко играет в посредственных пьесах. Глядите, она взялась за роль Федры. И тот же вкус она привносит и в свои туалеты, и в игру. И хотя она много и плодотворно гастролировала в Англии и в Америке, к ней не пристала вульгарность… ну, не Джона Буля конечно, это было бы несправедливостью с моей стороны, во всяком случае по отношению к викторианской Англии, но, скажем, вульгарность дяди Сэма. Ни ярких красок, ни слишком громких вскриков. И потом, этот восхитительный голос – как он ей прекрасно служит, как она им неподражаемо играет, ну прямо музыкантша!
Теперь, когда спектакль уже кончился и реальное впечатление от игры актрисы больше не подавляло меня и не ограничивало, мне всё интереснее делалось о ней размышлять; однако я чувствовал потребность как-то обосновать свой интерес; кроме того, пока Берма играла, меня одинаково занимало всё, что открывалось в едином потоке жизни моему зрению и слуху; мне было интересно всё вместе, всё сразу; и теперь я радовался, находя разумную причину тому, что все так хвалят простоту и прекрасный вкус артистки, впитывал это всё в себя, как губка; мой интерес был сродни цепкому оптимизму пьяного, восхищающегося поступками соседа и находящего в них повод для умиления. «Правда, – говорил я, – какой прекрасный голос, и никаких криков, и костюмы какие простые, а как мудро было выбрать Федру! Нет, я не разочарован».
Появилась холодная говядина с морковкой, которую Микеланджело нашей кухни разложил на огромных кристаллах заливного, подобных глыбам прозрачного кварца.
– Повар у вас наивысшего разбора, мадам, – сказал г-н де Норпуа. – А это не пустяк. Мне приходилось за границей поддерживать дом на должном уровне, и я знаю, как подчас трудно бывает найти идеального повара. Вы нам устроили настоящий пир.
И в самом деле, Франсуаза, опьяненная задачей блеснуть перед незаурядным гостем и создать наконец обед, уснащенный трудностями, достойными ее дарований, расстаралась так, как не старалась для нас одних, и вновь обрела несравненное мастерство времен Комбре.
– Да такого ни в одном заведении не подадут, даже в самом лучшем: тушеная говядина, да со студнем, который не пахнет клеем, а само мясо впитало аромат морковки – восхитительно! С вашего позволения, я возьму еще, – добавил он, жестом показывая, что хочет добавки. – Любопытно было бы испытать вашего Вателя на каком-нибудь совершенно другом блюде, хотелось бы знать, например, как он справится с бефстрогановом[36].
Чтобы внести свой вклад в приятную трапезу, г-н де Норпуа занимал нас разными историями, которыми часто развлекал тех, с кем доводилось ему служить: то приводил смешную тираду, услышанную от политика, привыкшего говорить длинными периодами и уснащать их бессвязным нагромождением образов, то цитировал краткое, но напыщенное изречение какого-нибудь дипломата. Но, в сущности, критерии, по которым он выделял эти два типа фраз, не имели ничего общего с теми, которые я применял к литературе. Множество нюансов от меня ускользало; фразы, которые он цитировал с хохотом, для меня почти не отличались от тех, которые ему представлялись замечательными. Он был из тех, кто, обсуждая мои любимые места в книгах, говорил: «Вы понимаете, о чем это? Я, признаться, не понимаю, я не принадлежу к числу посвященных» – но ведь я мог бы отплатить ему той же монетой: я не улавливал остроумия или глупости, красноречия или выспренности, которые он находил в чьих-нибудь словах, и не находил какой бы то ни было внятной причины, по которой одно было хорошо, а другое плохо; в итоге такая литература делалась для меня совершенно загадочной и непостижимой. Я только догадывался, что в политике повторять вслух то, что все думают, свидетельствует не о слабости вашей, а о вашем превосходстве. Когда г-н де Норпуа многозначительно произносил выражения, которыми на самом деле пестрели страницы газет, сам факт, что это произносил именно он, словно придавал им особый смысл и наводил слушателей на размышления.
Мама очень рассчитывала на салат с ананасами и трюфелями. Но посланник окинул блюдо пронизывающим взглядом и отведал его с истинно дипломатической сдержанностью, не поделившись с нами впечатлениями. Мама стала уговаривать его взять добавки, и он повиновался, но вместо похвал, которых мы ожидали, сказал только: «Повинуюсь, мадам, поскольку чувствую, что это с вашей стороны настоящий „указ“».
– В газетах пишут, что вы долго беседовали с царем Теодозом, – сказал отец.
– В самом деле, у царя редкостная память на лица, и он был так добр, что заметил меня в партере и вспомнил, что я имел честь в течение нескольких дней видеть его при баварском дворе в те времена, когда он еще и не мечтал о своем восточном троне (как вы знаете, его призвал на царство европейский конгресс, и он даже весьма колебался, прежде чем принять это предложение, считая его несовместимым с его высоким родом, с точки зрения геральдики самым древним в Европе). Ко мне подошел адъютант и велел подойти и приветствовать его величество, и я, разумеется, поспешил повиноваться этому приказу.
– Вы довольны результатами его приезда?
– Я в восторге! Имелись основания слегка опасаться, как столь юный монарх поведет себя в столь сложных и даже щекотливых обстоятельствах. Я-то твердо верил в политическое чутье государя. Но признаться, он превзошел мои самые смелые ожидания. Тост, который он провозгласил в Елисейском дворце и который, по сведениям, дошедшим до меня из самого надежного источника, он сочинил сам от первого до последнего слова, оказался более чем достоин того интереса, с которым все его встретили. Мастерский ход, иначе не скажешь; не без дерзости, согласен, но какая отвага – причем полностью оправданная самим событием. В дипломатических традициях есть определенный смысл, но в данном случае они привели к тому, что наши страны существовали в затхлой атмосфере, где уже нечем было дышать. Что ж! Один из способов впустить свежий воздух, способ, вообще говоря, немыслимый, но царь Теодоз может себе его позволить, – это разбить окно. И так он и поступил, весело и непринужденно, чем всех привел в восторг, и нашел для своей речи самые точные слова, по которым все сразу узнали породу просвещенных государей, к которой он принадлежит по материнской линии. Несомненно, когда он заговорил о «сродстве», сближающем его страну с Францией, это было необычайно удачное выражение, совершенно не затасканное, не канцелярское. Как видите, литература не помешает даже в дипломатии, даже на троне, – добавил он, обращаясь ко мне. – Об этом было известно уже давно, не спорю, и отношения между двумя великими державами и так уже были превосходны. Но ведь нужно было об этом сказать. Все ждали этого слова, и оно оказалось выбрано донельзя удачно, вы видели, какой оно произвело эффект. Я сам аплодировал изо всех сил.
– Надо думать, что ваш друг месье де Вогубер, издавна готовивший это сближение, был доволен.
– Тем более что его величество, как это за ним водится, непременно хотел устроить ему сюрприз. Впрочем, это оказалось воистину сюрпризом для всех, начиная с министра иностранных дел, который, как мне сказали, был не слишком доволен. Кому-то из своих собеседников он вроде бы ответил очень откровенно и достаточно громко, чтобы слышали те, кто стоял рядом: «Со мной не проконсультировались, меня даже не предупредили», дав понять тем самым, что снимает с себя всякую ответственность за событие. Оно наделало много шуму, нужно признать, и я бы не осмелился утверждать, – добавил он с хитрой улыбкой, – что он не смутил безмятежного существования тех моих коллег, для которых высший закон, сдается мне, состоит в том, чтобы совершать как можно меньше усилий. А Вогубер, как вы знаете, подвергался изрядным нападкам за свою политику сближения двух стран, и немало настрадался, думается, ведь он человек чувствительный, сама доброта. Я могу это засвидетельствовать, ведь хоть он моложе меня, причем намного, но я с ним много общался, мы давние друзья, и я его хорошо знаю. Хотя кто же его не знает? Это кристально чистая душа. Пожалуй, это единственный упрек, который можно ему предъявить: сердце у дипломата вовсе не должно быть таким прозрачным. Хотя, несмотря ни на что, его вроде бы отправляют в Рим, это прекрасное повышение, но в то же время миссия не из легких. Между нами, полагаю, что при всем том, что Вогубер начисто лишен честолюбия, он будет этим весьма доволен и не станет просить, чтобы чашу сию пронесли мимо него. Возможно, он там натворит чудес; за него хлопочет Палаццо делла Консульта[37], а я, со своей стороны, считаю, что ему, артистической натуре, самое место в декорациях палаццо Фарнезе и галереи Карраччи[38]. Казалось бы, уж он-то ни в ком не должен вызывать ненависти; но вокруг царя Теодоза собралась целая камарилья, и все они в повиновении у Вильгельмштрассе[39], ловят подсказки, которые оттуда исходят, и изо всех сил стараются подставить ему подножку. Вогуберу пришлось столкнуться не только с кулуарными интригами, но и с оскорблениями продажных писак, трусливых, как все подкупленные журналисты, – они потом первые запросили пощады, но сперва они не постеснялись обрушить на нашего представителя бессмысленные и бессовестные обвинения. Больше месяца друзья Вогубера плясали вокруг него танец со скальпами, – сказал г-н де Норпуа, выделив голосом последнее слово. – Но за ученого двух неученых дают; он отшвырнул эти оскорбления пинком ноги, – добавил он еще энергичнее и бросил на нас такой яростный взгляд, что мы на миг оторвались от еды. – Как гласит прекрасная арабская пословица: «Собака лает, а караван идет». – После этой цитаты г-н де Норпуа остановился и окинул нас взглядом, чтобы оценить впечатление, которое она на нас произвела. Впечатление было сильное, пословицу мы знали. Она в этом году сменила в высших сферах другую: «Кто сеет ветер, пожнет бурю», нуждавшуюся в отдыхе, потому что в неутомимости и живучести не могла тягаться с выражением «на счет прусского короля». Культурному запасу, которым располагали крупные деятели, была присуща цикличность, и цикл обычно длился три года. Несомненно, без подобных цитат, которыми г-н де Норпуа искусно уснащал свои статьи в «Ревю», можно было обойтись: и без них всем было ясно, что статьи основательные, а автор прекрасно осведомлен. И г-ну де Норпуа достаточно было даже без этих украшений просто написать по какому-нибудь поводу (а он никогда этим не пренебрегал): «Сент-Джеймский кабинет одним из первых почуял опасность», или: «У Певческого моста, где с замиранием сердца следили за эгоистичной, но искусной политикой двуглавой монархии, поднялся переполох», или: «В Монтечиторио пробили тревогу», или: «Вечная двойная игра в духе Балльплац»[40]. По таким выражениям читатель, не приобщенный к миру международной политики, тут же узнавал серьезного дипломата и склонялся перед ним. Еще важнее было, что автор обладает глубочайшей культурой; это подтверждалось систематическим использованием цитат по такому образцу: «Дайте мне хорошую политику, и я вам дам хорошие финансы, как говаривал барон Луи»[41]. (К нам тогда еще не пришло с Востока изречение: «Победа достается тому из двух противников, который умеет потерпеть на четверть часа дольше, как говорят японцы».) Эта репутация просвещеннейшего человека в соединении с гениальным интриганством, скрытым под маской безучастности, проторили г-ну де Норпуа путь в Академию моральных наук. А в тот день, когда, желая подчеркнуть, что к согласию с Англией мы придем только укрепляя союз с Россией, он осмелился написать: «Пускай усвоят хорошенько на набережной Орсе, пускай запишут во всех учебниках географии, в которых до сих пор на этот счет имеется пробел, пускай не принимают экзамен у будущих бакалавров, если они этого не знают: „Все дороги ведут в Рим, но дорога из Парижа в Лондон неминуемо проходит через Петербург“», раздались голоса, что он пришелся бы ко двору и во Французской академии.
– Одним словом, – продолжал г-н де Норпуа, обращаясь к отцу, – Вогубер стяжал отменный успех, более даже, чем мог рассчитывать. Он-то ждал корректного тоста (что после последних ненастных лет было бы уже совсем недурно), но не более того. Несколько человек из числа присутствовавших заверили меня, что, читая этот тост, невозможно представить себе впечатление, которое он произвел на всех, когда царь, искуснейший оратор, изумительно произнес его, подчеркивая нюансы и выделяя голосом все оттенки смысла, все тонкости. Я по этому случаю позволил себе рассказать один весьма пикантный случай, который лишний раз показывает юное обаяние царя Теодоза, привлекающее к нему сердца. Меня заверили, что как раз на слове «сродство», которое было, в сущности, главным новшеством этой речи и которое еще долго, вот увидите, будет служить предметом пересудов в посольских канцеляриях, его величество, предвидя радость нашего посланника, для которого это было воистину увенчанием его усилий, осуществлением его мечты, можно сказать, и, словом, его маршальским жезлом, обернулся к Вогуберу и, устремив на него свой пронизывающий эттингенский[42] взгляд, отчеканил столь удачно выбранное слово «сродство», истинную свою находку, тоном, ясно дававшим понять, что слово это употреблено им вполне сознательно и с полным пониманием его силы. Говорят, Вогубер насилу сдержал нахлынувшие чувства, и в какой-то мере я его понимаю. Один человек, достойный всяческого доверия, даже сообщил мне, что когда после обеда все окружили государя, он подошел к Вогуберу и сказал ему вполголоса: «Вы довольны вашим учеником, дорогой маркиз?»
– Несомненно, – заключил г-н де Норпуа, – подобный тост сделал для сближения между обеими странами, для их «сродства», по живописному выражению Теодоза Второго, больше, чем двадцать лет переговоров. Одно слово, скажете вы, но посмотрите, какого успеха оно добилось, как вся европейская пресса его повторяет, какой интерес оно пробудило, как по-новому прозвучало. Впрочем, это вполне в духе государя. Не стану утверждать, что он что ни день находит подобные перлы. Но в своих глубоко продуманных речах, и более того, прямо в разговоре он то и дело отличается – я чуть не сказал «отмечается» – хлестким словцом. Трудно заподозрить меня в пристрастности, поскольку вообще я враг всяких нововведений такого рода. В девятнадцати случаях из двадцати они опасны.
– Да, я подумал, что недавняя телеграмма от императора Германии не в вашем вкусе, – заметил отец.
Г-н де Норпуа возвел глаза к небу, словно говоря: что с него возьмешь!
– Прежде всего это акт неблагодарности, – сказал он. – Это хуже, чем преступление: это ошибка, причем ошибка прямо-таки титанической глупости! И потом, если никто не положит этому конец, человек, прогнавший Бисмарка, вполне способен мало-помалу отречься от всей бисмарковской политики, а это означает прыжок в неизвестность.
– Месье, муж сказал мне, что вы как-нибудь летом собираетесь увезти его в путешествие по Испании, я так за него рада.
– Да, это была бы прелестная поездка, я ее уже предвкушаю. Мне бы очень хотелось съездить туда с вами, мой дорогой. А вы, мадам, уже думали о том, как проведете каникулы?
– Не знаю, может быть, поеду с сыном в Бальбек.
– Вот как! Бальбек – приятное место, несколько лет тому назад я там побывал. Там теперь стали строить весьма кокетливые виллы, вам там понравится, надеюсь. А позвольте спросить, почему вы выбрали именно Бальбек?
– Сыну очень хочется посмотреть некоторые церкви в тех местах, особенно бальбекскую церковь. Я немного опасалась, что утомительное путешествие, а главное, жизнь вне дома повредят его здоровью. Но теперь я узнала, что там построили прекрасную гостиницу, где ему будет обеспечен весь необходимый комфорт.
– Вот как! Непременно поделюсь этими сведениями с одной особой, которая не пропустит их мимо ушей.
– Бальбекская церковь замечательная, не правда ли, месье? – спросил я, кое-как справившись с огорчением оттого, что одной из главных прелестей Бальбека оказались кокетливые виллы.
– Недурна, согласен, но ни в какое сравнение не идет с таким воистину ажурным сокровищем, как Реймский и Шартрский соборы или парижская Сент-Шапель, вот уж настоящая жемчужина.
– Но ведь архитектура бальбекской церкви отчасти романская?
– Верно, это романский стиль, уже сам по себе холодный и ни в чем не предвещающий элегантность и фантазию готических архитекторов, которые преображают камень в кружево. Если окажетесь в тех местах, стоит взглянуть на бальбекскую церковь, это любопытно; если вам нечем будет заняться в дождливый день, забредите в нее, увидите могилу Турвиля[43].
– Вы были вчера на банкете в министерстве иностранных дел? Я не смог пойти, – сказал отец. – Нет, – с улыбкой отвечал г-н де Норпуа, – признаться, я проманкировал им ради вечера в совершенно ином роде. Я обедал у женщины, о которой вы наверняка слышали, – у прекрасной мадам Сванн.
Тут мама насилу удержалась, чтобы не вздрогнуть: более чуткая, чем отец, она начинала за него тревожиться за миг до того, как что-нибудь его расстраивало. Она раньше него предчувствовала его огорчения: так неблагоприятные для Франции новости узнаются сперва за границей, а уже потом у нас в стране. Но ей было любопытно узнать, что за люди собираются у Сваннов, и она спросила у г-на де Норпуа, кого он там встретил.
– Ах, боже мой… их дом посещают, по-моему, не столько дамы, сколько господа. Было несколько женатых мужчин, но у всех у них женам в этот вечер нездоровилось, и они не смогли приехать, – ответил посланник с добродушным лукавством, поглядывая на нас с видом целомудренным и кротким, одновременно и умерявшим, и мастерски подчеркивавшим иронию его слов.
– Добавлю для пущей справедливости, что женщины там всё же были, но все они принадлежат… как бы сказать… скорее к республиканскому миру, нежели к обществу Сванна (это имя он нарочито произносил не на английский, а на французский манер, с четким «в»). Кто знает, быть может, когда-нибудь у них будет политический или литературный салон. Хотя сдается мне, что им и так хорошо. Пожалуй, Сванн слишком явно дает это понять. Он перечислял, к кому они с женой приглашены на будущей неделе, хотя гордиться дружбой с этими людьми совершенно не приходится, причем всё это как-то напоказ, как-то безвкусно, даже бестактно; для такого утонченного человека это удивительно. Твердил: «У нас все вечера заняты», будто тут есть чем хвастаться, прямо выскочка какой-то, а ведь он отнюдь не таков. У Сванна и раньше было множество друзей, и даже среди дам; не хочу преувеличивать или показаться нескромным, но смею заметить, что, возможно, не все из них, но кое-кто, и уж по крайней мере одна весьма блистательная дама была бы, возможно, отнюдь не прочь завязать знакомство с мадам Сванн, а тогда бы уж, по всей видимости, за ней последовало и всё панургово стадо[44]. Но Сванн, кажется, не делал никаких попыток в этом направлении… Что? Еще и пудинг «Нессельроде»! После такого лукуллова пира не помешает съездить на курорт в Карлсбад… Возможно, Сванн почувствовал, что придется преодолевать слишком сильное сопротивление. Ясно, что его брак никому не понравился. Говорили, что у жены состояние – это полная чепуха. Ну, словом, всё это выглядело несимпатично. И потом, у Сванна есть невероятно богатая и весьма высокопоставленная тетка, жена человека, в финансовом отношении могущественного. И вот она не только отказалась принимать мадам Сванн, но провела самую настоящую кампанию за то, чтобы все его подруги и знакомые последовали ее примеру. Я не имею в виду, что кто-нибудь из парижан, принадлежащих к хорошему обществу, проявил неуважение к мадам Сванн… Нет, сто раз нет! Кстати, ее муж не задумываясь вышел бы на дуэль. Но как бы там ни было, любопытно наблюдать, как Сванн, у которого столько знакомств, причем самых избранных, так заискивает перед обществом, о котором самое лучшее, что можно сказать, – это что оно весьма смешанное. Мне, знавшему его в прежние времена, было, признаться, и удивительно, и смешно смотреть, как этот воспитаннейший человек, всеобщий любимец в самом избранном кругу, пылко благодарит начальника канцелярии почтового министерства, пришедшего к ним в гости, и спрашивает, не могла бы мадам Сванн нанести визит его жене. Наверное, он все-таки чувствует себя не в своей тарелке; теперь он явно окружен совсем другими людьми. И все-таки не думаю, что Сванн страдает. Правда, пока они не поженились, несколько лет его будущая жена безобразно его шантажировала; как только он ей в чем-нибудь отказывал, она прятала от него дочь. Бедный Сванн, такой наивный при всей своей утонченности, всякий раз воображал, что похищение дочки – это совпадение, и не желал замечать правды. Вдобавок она постоянно закатывала ему сцены; казалось, когда она наконец добьется своего и затащит его под венец, их жизнь окончательно превратится в кошмар. И что же? Ничего подобного. Все, конечно, хихикают над тем, как Сванн разговаривает с женой, он стал любимой мишенью для острот. Конечно, никто не требовал, чтобы он, догадываясь, в общем-то, что превратился сами понимаете в кого… вы же помните любимое словцо Мольера…[45] сообщал об этом urbi et orbi; но все-таки, когда он объявляет мадам Сванн превосходнейшей супругой, это преувеличение. Хотя и не так далеко от истины. На свой лад – хотя большинство мужей, возможно, не пожелали бы себе такого семейного счастья, но, между нами говоря, едва ли, на мой взгляд, Сванн не понимал, что к чему, ведь он давным-давно ее знал и дураком его отнюдь не назовешь, – так вот, на свой лад она безусловно к нему привязана. Она, конечно, легкомысленна, да Сванн и сам этим грешит, если верить болтунам, которые, как вы понимаете, ртов не закрывают. Но она благодарна ему за все, что он для нее сделал, и, вопреки всеобщим опасениям, судя по всему, превратилась в ангела кротости.
Это превращение было, возможно, не столь поразительно, как казалось г-ну де Норпуа. Одетта не верила, что Сванн в конце концов на ней женится; каждый раз, когда она ему с намеком рассказывала, что человек из хорошего общества женился на любовнице, он хранил ледяное молчание, и более того, если она напрямую приступала к нему с вопросами: «Как по-твоему, ведь это очень мило, очень великодушно с его стороны по отношению к женщине, которая отдала ему свои лучшие годы?» – он сухо отвечал: «Я же не говорю, что это плохо, каждый поступает, как считает нужным». Она даже была недалека от мысли, что, как он сам угрожал ей в минуты гнева, он ее совсем бросит; недаром она слышала от одной скульпторши, что «от мужчин можно ожидать чего угодно, они все такие хамы», и потрясенная глубиной этого пессимистического изречения, она его подхватила и при всяком удобном случае стала повторять с разочарованной гримаской, словно говорившей: «В сущности, я ко всему готова, такая уж моя судьба». Таким образом, Одетта полностью отказалась от оптимистического изречения, которым до сих пор руководствовалась в жизни: «С мужчинами, которые вас любят, можно проделывать всё что угодно, все они болваны», которое вызывало у нее на лице лукавое выражение, с каким произносят: «Не бойтесь, ничего он вам не сделает». А тем временем она страдала, воображая, что должна думать о поведении Сванна какая-нибудь подруга, благополучно вышедшая замуж за человека, с которым жила не так долго, как Одетта со Сванном, и теперь эту подругу приглашали на балы в Елисейский дворец, а ведь у той подруги даже ребенка не было, в отличие от Одетты, чью дочку отец, в общем-то, признал. Более проницательный специалист, чем г-н де Норпуа, вероятно, поставил бы такой диагноз: Одетту ожесточили унижение и стыд, отвратительный характер не был ей присущ изначально, эту хворь легко было исцелить; такому специалисту легко было бы предсказать то, что и произошло: новое, замужнее состояние с феерической быстротой помогло ей избавиться от ежедневных мучительных приступов, совершенно не свойственных ей от природы. Этот брак удивил почти всех, что само по себе удивительно. Видно, мало кто понимает такое чисто субъективное явление, как любовь, и немногим дано понять, как возникает это дополнительное существо, с тем же именем, что знакомый нам человек, но другое, и состоящее почти сплошь из элементов, заимствованных у нас самих. И как осознать, что это другое существо, ничего общего не имеющее с тем, кто стоит перед нами, приобретает для нас такое непомерное значение? Но как бы то ни было, ясно одно: пускай Одетта никогда толком не понимала, насколько умен Сванн, зато она знала в подробностях, над чем он работал, и имя Вермеера было ей так же знакомо, как имя ее портного; ей были досконально известны и те черты его характера, о которых остальные понятия не имели, и те, над которыми окружающие посмеивались: только любовница или сестра имеют верное понятие о таких черточках и дорожат ими; все эти качества, даже те из них, которые бы нам больше всего хотелось в себе исправить, на самом деле дороги нам; и если наша подруга постепенно привыкает к ним, снисходительно и дружелюбно над ними подшучивает, точь-в-точь как мы сами или как наши родители, то со временем наши отношения с ней проникаются нежностью и приобретают такую же прочность, как семейные узы. Когда другой человек судит о наших изъянах с той же точки зрения, что мы сами, наша связь с этим человеком становится священной. Причем среди этих особых черточек были такие, что относились не столько к характеру Сванна, сколько к его умственным занятиям, и всё же Одетта легко их различала, ведь коренились они все-таки в характере. Она жаловалась, что в его трудах, в исследованиях, которые он публиковал, эти черточки было труднее заметить, чем в письмах или в разговорах, где их было великое множество. Она советовала Сванну отводить им побольше места. Ей этого хотелось, потому что именно это ей больше всего в нем нравилось; но ведь потому и нравилось, что в этих черточках больше сказывалась его личность, так что, пожалуй, она не напрасно хотела видеть их в его ученых трудах. А еще она, наверно, думала, что если он будет писать поживее, его сочинения начнут пользоваться успехом, и вот тогда она сможет устроить то, что, благодаря Вердюренам, привыкла ценить превыше всего: салон.
В свое время, лет двадцать тому назад, Сванн и сам усердно хлопотал о том, чтобы попасть в Жокей-клуб, и сам принадлежал к тем, кому женитьба на женщине вроде Одетты представляется смехотворной, к тем, кто задается вопросом: «Что подумает господин де Германт, что скажет Бреоте, когда я женюсь на мадемуазель де Монморанси?» – короче, к тем, для кого идеал жизни в обществе сводился к тому, чтобы вступлением в блестящий брак укрепить свое положение и окончательно войти в круг самых известных людей в Париже. Но чтобы образы, которые вызывает у вас в воображении этот блестящий брак, не потускнели и не изгладились из воображения, их нужно подпитывать извне. Скажем, ваша самая страстная мечта – унизить человека, который вас оскорбил. Но если вы уехали в другую страну и больше никогда о нем не слышите, в конце концов ваш враг вообще перестанет вас интересовать. А если вы вот уже двадцать лет как потеряли из виду тех, ради кого вам хотелось вступить в Жокей-клуб или быть принятым в Академию, то и членство в этих заведениях вас уже совершенно не привлекает. Но ведь долгая любовная связь, подобно отставке, болезни или обращению в другую веру, порождает у вас в воображении новые образы взамен прежних. Когда Сванн женился на Одетте, ему не пришлось отказываться от великосветских амбиций, потому что Одетта от этих амбиций давно уже его, так сказать, отвадила. Хотя если бы и пришлось, тем больше чести для него. Ведь это означало бы, что он пожертвовал довольно-таки лестным положением ради семейного уюта: на самом деле брак, наиболее достойный уважения, – это именно унизительный брак (нельзя же, в самом деле, под унизительным браком понимать женитьбу на деньгах, ведь любую семейную пару, где жена или муж продали себя за деньги, общество в конце концов начинает принимать, иной раз потому что так положено, иной раз по примеру других подобных браков, справедливости ради). С другой стороны, могло быть и так: Сванн, натура если не испорченная, то как-никак художественная, словно жаждал связать себя с существом другой расы, эрцгерцогиней или кокоткой, породниться с особой королевской крови или заключить мезальянс – с чем-то подобным мы встречаемся в опытах менделистов по скрещению видов или в мифологии. Только об одном человеке беспокоился он всякий раз, когда размышлял, жениться ли ему на Одетте; его заботила герцогиня Германтская, и снобизм тут был ни при чем. А вот Одетта о ней как раз волновалась очень мало: те, кто находился чуть-чуть выше ее, занимали Одетту куда больше, чем обитатели неведомых Эмпиреев[46]. Но когда на Сванна нападала мечтательность и он воображал, как женится на Одетте, он неизменно рисовал себе ту минуту, когда будет представлять ее, а главное, дочку принцессе де Лом, которая после смерти свекра стала герцогиней Германтской. Вводить их в другие дома ему не хотелось, но он умилялся, когда, подбирая подходящие слова, придумывал, что герцогиня скажет о нем Одетте, а Одетта герцогине, и как сердечно, как ласково обойдется герцогиня с Жильбертой, и как он будет гордиться дочерью. Он проигрывал в уме сцену знакомства вплоть до мельчайших воображаемых подробностей; вот так другие мечтают, на что употребят лотерейный выигрыш, и сами же и придумывают его размеры. В какой-то мере каждое наше решение сопровождается образом, подталкивающим нас к этому решению; пожалуй, можно сказать, что Сванн женился на Одетте именно для того, чтобы представить ее и Жильберту герцогине Германтской – без свидетелей, а если нужно – то даже с условием, что никто никогда об этом не узнает. Мы увидим, что именно в этом светском успехе, о котором он мечтал для жены и дочки, ему было отказано; на желание его было наложено такое решительное вето, что Сванн так и умер, не предполагая, что герцогиня когда-нибудь с ними познакомится. Мы увидим также, что после смерти Сванна герцогиня Германтская сблизилась с Одеттой и с Жильбертой. И может быть, с его стороны было благоразумно – хотя вряд ли эта мелочь имела для него большое значение – не смотреть в этом смысле в будущее слишком мрачно и допускать, что желанная встреча очень даже может состояться, но не сейчас, а позже, когда он уже не сможет ей порадоваться. Причинно-следственная связь между событиями в конце концов приносит самые разнообразные результаты, в том числе и такие, которых меньше всего ждешь; эта связь иногда налаживается медленно, да ее еще замедляет наше нетерпение (которое, стремясь ускорить дело, невольно его тормозит), да и само наше существование тоже ее замедляет, поэтому она приводит к чему-то лишь тогда, когда мы уже больше ничего не желаем, а иногда уже и не живем. А ведь Сванн уже знал это по собственному опыту, а ведь в его жизни уже было что-то подобное – словно предвосхищение того загробного счастья, что наступит после его смерти: этот брак с этой Одеттой, которую он страстно любил когда-то (хотя поначалу она ему не понравилась) и на которой женился потом, когда он ее уже разлюбил и когда то существо внутри него, так тянувшееся к ней и так отчаянно желавшее прожить всю жизнь рядом с Одеттой, уже умерло.
Опасаясь, как бы разговор не переключился на другую тему, я заговорил о графе Парижском и спросил, дружит ли он со Сванном. «Да, в самом деле, – отвечал г-н де Норпуа, обратив ко мне и остановив на моей скромной особе голубой взор, в котором, как в питательной среде, плавали его великая трудоспособность и восприимчивость. – И видит Бог, – добавил он, вновь обратившись к отцу, – надеюсь, что не нарушаю границ почтения, каковое неизменно питаю к его высочеству (хотя, впрочем, личных отношений мы с ним не поддерживаем, поскольку это бы осложнило мое положение, до некоторой степени как-никак официальное), если поделюсь с вами достаточно пикантным фактом: не далее чем года четыре тому назад, в одной стране Центральной Европы, на железной дороге, его высочество имел случай приметить госпожу Сванн. Разумеется, никто из приближенных не позволил себе спросить у Монсеньора, как она ему понравилась. Это было бы неприлично. Но когда в разговоре случайно проскользнуло ее имя, по некоторым неуловимым, если угодно, но несомненным признакам стало ясно, что его высочество ничуть не скрывает того, в сущности, более чем благоприятного впечатления, которое она на него произвела».
– А не было ли возможности представить ее графу Парижскому? – спросил отец.
– Ну кто же это может знать; с великими мира сего трудно что-либо знать заранее, – отозвался г-н де Норпуа, – именно самые блистательные, именно те, кто лучше всех умеет внушить к себе должное почтение, иногда меньше всего смущаются приговором общественного мнения, пускай самым что ни на есть оправданным, если им вздумается поощрить кого-то, к кому они привязаны. Ясно же, что граф Парижский всегда с огромной доброжелательностью принимал преданность Сванна, который, вообще говоря, умница каких мало.
– А каково же ваше собственное мнение, господин посланник? – спросила мама из вежливости и из любопытства.
– Превосходнейшее! – отозвался г-н де Норпуа с воодушевлением старого ценителя, резко отличавшимся от его обычной сдержанности.
Известное дело, если признаться шутливым тоном, что какая-то женщина произвела на вас сильное впечатление, собеседник придет в восторг от вашего остроумия – поэтому старый дипломат разразился негромким смехом, от которого голубые глаза его увлажнились, а крылья носа, исчерченного красными прожилками, затрепетали.
– Она обворожительна!
– Месье, а на том обеде был писатель Берготт? – робко спросил я, пытаясь поддержать разговор о семействе Сваннов.
– Да, Берготт там был, – отвечал г-н де Норпуа, оборачиваясь ко мне с изысканной вежливостью, дававшей понять, что в стремлении своем быть любезным с моим отцом он проявлял искреннее внимание ко всему, что было дорого отцу, и даже к вопросам мальчика моего возраста, не привыкшего к такой любезности со стороны старших. – А вы с ним знакомы? – добавил он, устремив на меня взгляд своих светлых глаз, проницательностью которого восхищался Бисмарк.
– Нет, сын его не знает, но обожает его книги, – сказала мама.
– О господи, – отозвался г-н де Норпуа (и заронил в мою голову еще более серьезные сомнения насчет моих умственных способностей, чем те, что терзали меня постоянно: оказывается, предмет моего восхищения, казавшийся мне недосягаемо высоким, расположен на шкале его предпочтений где-то в самом низу), – нет, мне совершенно чужд его взгляд на вещи. Я бы сказал, что Берготт – флейтист; впрочем, признаю, что на флейте он играет приятно, пускай не без вычурности, не без жеманства. Но больше там и нет ничего, а этого недостаточно. Его дряблым сочинениям не хватает структуры. Мало действия, но главное, они не волнуют, не заражают. Его книги грешат неосновательностью, вернее, в них вообще нет основы. В такое время как наше, когда жизнь становится такой напряженной, что почти не оставляет времени для чтения, когда карта Европы существенно меняется и, возможно, в скором времени ее ждут еще бо́льшие перемены, когда со всех сторон подступает столько новых грозных проблем, согласитесь, что мы имеем право ждать от писателя чего-то существеннее, чем возвышенный ум, погружающий нас в досужие и бесплодные споры о достоинствах чистой формы, в то время как на нас вот-вот обрушатся орды варваров, как пришлых, так и местных. Сознаю, что покушаюсь на святыни, провозглашенные доктриной, которую эти господа именуют «искусством для искусства», но в наше время есть задачи более насущные, чем опыты гармоничного соединения слов. То, что делает Берготт, подчас выглядит весьма заманчиво, не спорю, но в общем все это очень слащаво, очень плоско и совершенно лишено мужественности. Теперь, учитывая ваше явно чрезмерное восхищение Берготтом, я лучше понимаю тот отрывочек, который вы мне только что показывали, и с моей стороны было бы неблагородно вам пенять, ведь вы сами прямо так и сказали, что это просто детские каракули (я в самом деле это сказал, но, конечно, ничего подобного не думал). Невелик грех, тем более это грех молодости. В конце концов, кто из нас не имеет на совести чего-нибудь в этом роде, не вы один возомнили себя поэтом. Но в том, что вы мне показали, видно дурное влияние Берготта. Разумеется, вы не удивитесь, если я вам скажу, что там нет и следа его достоинств, ведь он воистину мастер своего дела, пускай весьма поверхностный, и владеет стилем, которым вы, в вашем возрасте, просто не можете обладать даже в начатках. Но я замечаю в вас тот же изъян: вы подбираете звучные слова и только потом заботитесь о смысле. Это значит ставить повозку впереди лошади. Всё это формальное мудрствование, все эти ухищрения вырождающихся интеллектуалов представляются мне совершенно бессодержательными. Запустит писатель один-другой приятный фейерверк, и вот уже твердят о шедевре. А шедевры не так часто являются на свет! За душой у Берготта, в его, так сказать, багаже нет ни одного вдохновенного, возвышенного романа, ни одной из тех книг, которые мы ставим на заветную полку в своей библиотеке. Не вижу я ничего подобного во всем его творчестве. И все-таки творчество это бесконечно выше, чем его автор. О да, он подтверждает правоту того остроумного человека, который сказал, что писателей нужно знать только по их книгам[47]. Трудно сыскать другого автора, который бы так мало соответствовал своим произведениям, – такого же самодовольного, надутого, дурно воспитанного. А сколько вульгарности, а как нудно говорит – точно книгу читает, да не свою, а какую-то скучную книгу – его-то, по крайней мере, не скучные… Вот вам Берготт. Расплывчатый, витиеватый, любитель напустить туману, как говорили наши отцы, и самое неприятное – то, как он это говорит. Не помню, Ломени или Сент-Бёв рассказывает, что тем же отталкивающим недостатком страдал Виньи. Но Берготт не написал ни «Сен-Мара», ни «Красной печати»[48] – там-то есть страницы воистину хрестоматийные.
Приговор г-на де Норпуа отрывку, который я ему показал, сразил меня наповал; с другой стороны, я помнил, как трудно было мне писать или хотя бы обдумывать что-нибудь серьезное; поэтому я вновь осознал свое умственное ничтожество и понял, что я не рожден для литературы. Наверно, в свое время в Комбре какие-то простенькие впечатления или чтение Берготта приводили меня в мечтательное состояние, которое тогда казалось мне очень ценным. И как раз эту мечтательность отражало мое стихотворение в прозе; можно не сомневаться, г-н де Норпуа сразу раскусил меня и уловил, что прельстила меня только чисто обманчивая красота миража: посланник не дал себя провести. Более того, он указал мне всё мое ничтожество (ведь меня судил со стороны, объективно, доброжелательнейший и умнейший знаток литературы). Я был повержен, раздавлен, и если раньше мой разум, подобно газу, чей размер задан сосудом, его вмещающим, разлетался во все стороны, чтобы заполнить огромные пространства, отведенные гению, то теперь он сжался, внезапно загнанный и запертый г-ном де Норпуа в тесные границы посредственности.
– Когда нас с Берготтом сводили вместе, – добавил он, обращаясь к отцу, – между нами никогда не обходилось без шероховатостей (впрочем, не лишенных пикантности). Несколько лет назад Берготт приезжал в Вену, когда я был там посланником; мне представила его княгиня Меттерних, он явился в посольство, расписался в книге и жаждал быть приглашенным. Поскольку я представляю за границей Францию, которую в какой-то мере, весьма, впрочем, незначительной, его книги прославляют, я бы отрешился от своего неблагоприятного мнения о его частной жизни. Но он путешествовал не один и настаивал на том, чтобы его пригласили вместе с его спутницей. Я, в конце концов, не такой уж ханжа, и потом, я холостяк, то есть могу отворить двери посольства несколько шире, чем если бы я был мужем и отцом. Но признаюсь, что есть предел, за которым низость делается для меня неприемлемой и тем более отвратительной, что в книгах своих Берготт толкует о морали и даже, прямо скажем, вовсю морализирует: там у него бесконечный и, между нами говоря, скучноватый анализ горестных угрызений совести, болезненных приступов раскаяния по поводу мелких и ничтожных грешков, и он вокруг всего этого разводит пустословие, которому грош цена в базарный день, а сам в своей личной жизни демонстрирует легкомыслие и цинизм. Словом, я уклонился от ответа, княгиня предприняла еще одну попытку, но опять-таки безуспешную. Короче говоря, не думаю, чтобы этот господин так уж меня обожал, и понятия не имею, насколько он оценил деликатность Сванна, пригласившего нас в один и тот же вечер. Хотя может быть, Сванн сам об этом попросил. Трудно сказать, ведь он со странностями. Впрочем, только это его и извиняет.
– А на этом обеде была дочь мадам Сванн? – спросил я у г-на де Норпуа, улучив для своего вопроса момент, когда мы переходили в гостиную и мне легче было скрыть свои чувства, чем неподвижно сидя со всеми за столом при ярком свете.
Г-н де Норпуа порылся в памяти.
– Юное существо лет четырнадцати-пятнадцати? Да, в самом деле, помню, что перед обедом ее представили мне как дочку нашего амфитриона. Правду сказать, я мало ее видел, она рано ушла спать. Или уехала в гости к подругам, не помню как следует. Но я замечаю, что вы прекрасно осведомлены о семействе Сваннов.
– Я играю с мадемуазель Сванн на Елисейских Полях, она замечательная.
– Ах вот оно что! В самом деле, очаровательная особа. Хотя, на мой взгляд, ей никогда не сравняться с матерью, если мне позволено будет выразить свое мнение, не оскорбляя ваших столь пылких чувств.
– Лицо мадемуазель Сванн нравится мне больше, но я бесконечно восхищаюсь и ее матушкой: я хожу гулять в Булонский лес только ради того, чтобы поглядеть, как она проезжает.
– О, я им передам, они будут весьма польщены.
Как все, с кем я заговаривал о том, какой умный Сванн, какие у него почтенные родственники, биржевые маклеры, какой у него прекрасный дом, г-н де Норпуа, произнося эти слова, еще какое-то недолгое время пребывал в уверенности, что я с тем же удовольствием поговорил бы о другом столь же умном человеке, о других столь же почтенных биржевых маклерах, о другом таком же красивом доме; в подобный момент здравомыслящий человек, беседующий с сумасшедшим, еще не понимает, что перед ним сумасшедший. Г-н де Норпуа знал, что ничего нет естественнее, чем удовольствие смотреть на красивых женщин, и что светский человек, когда с ним заводят пылкий разговор об одной из них, притворяется, будто верит, что собеседник в нее влюблен, подшучивает над ним и сулит ему помощь в достижении его целей. Но когда я услышал, что он поговорит обо мне с Жильбертой и ее матерью (а ведь это значило, что я и сам, как какое-нибудь олимпийское божество, проникну, невидимый, в салон г-жи Сванн, ворвусь дуновением ветерка или обернусь стариком, чей облик приняла некогда сама Минерва, и завладею ее вниманием, и займу ее мысли, и она будет благодарна мне за мое восхищение, и я предстану перед ней как друг важной особы, и она решит, что я вполне достоин в будущем войти в круг ее родных и друзей), на меня внезапно нахлынула такая нежная любовь к этому важному господину, готовому обратить мне на пользу свое огромное, должно быть, влияние на г-жу Сванн, что я еле удержался, чтобы не броситься целовать его мягкие, белые и морщинистые руки, имевшие такой вид, будто слишком долго пробыли в воде. Я даже сделал какое-то движение в их сторону, которое, кажется, никто кроме меня не заметил. В самом деле, всем нам трудно в точности рассчитать, в какой мере наши слова или жесты заметны окружающим; мы боимся преувеличить собственное значение и в то же время воображаем, будто память других людей распыляется на всё необъятное пространство их жизни, поэтому нам чудится, что второстепенные детали наших речей и поз едва проникают в сознание тех, с кем мы беседуем, и уж конечно не застревают у них в памяти. Кстати, именно этим предположением руководствуются преступники, когда задним числом переиначивают уже сказанное, воображая, будто никто не сопоставит ту и другую версии. Но весьма вероятно, что даже по мерке тысячелетней истории человечества философия газетчика, согласно которой всё обречено на забвение, менее справедлива, чем противоположная философия, предвещающая, что ничто не исчезнет. В одной и той же газете сплошь и рядом автор передовицы, говоря о каком-нибудь событии, о некоем шедевре или тем более о певице, которой «на миг улыбнулась слава», наставительно замечает: «Но кто об этом вспомнит через десять лет?» – а на третьей странице той же газеты помещен отчет Академии надписей, сообщающий о событии куда более скромном, о пустяковом стихотворении, сочиненном в эпоху фараонов, а теперь наконец-то дошедшем до нас в полном виде. Пожалуй, то же самое происходит и в краткой жизни отдельного человека. Между тем спустя несколько лет в одном доме, где я более всего уповал именно на поддержку г-на де Норпуа, ведь он был другом отца, таким снисходительным, таким благожелательным по отношению ко всем нам, да вдобавок самой своей профессией и происхождением он был приучен к сдержанности, – так вот, стоило посланнику удалиться, мне в этом доме рассказали, что он намекал на какой-то давний вечер, когда «он заметил, что я сейчас брошусь целовать ему руки», и я не только покраснел до ушей, но и поразился, что г-н де Норпуа говорит обо мне совершенно не так, как я от него ожидал, а главное, что в памяти у него осело именно это; мелкая сплетня показала мне, в каких неожиданных пропорциях смешиваются рассеянность и сосредоточенность, память и забвение, из которых соткано человеческое сознание, и я был так же потрясен, как в тот день, когда прочел у Масперо, что доподлинно известен список охотников, которых приглашал на свои облавы Ашшурбанипал за десять веков до рождения Иисуса Христа[49].
– Ах, месье, – сказал я г-ну де Норпуа, когда он объявил, что расскажет Жильберте и г-же Сванн, как я ими восхищаюсь, – если вы это сделаете, если вы поговорите обо мне с госпожой Сванн, мне жизни не хватит, чтобы выразить вам всю мою благодарность, я ваш должник навеки! Но мне следует признаться, что я незнаком с госпожой Сванн и никогда не был ей представлен.
Эти последние слова я добавил из добросовестности, чтобы никто не подумал, будто я хвастаюсь несуществующим знакомством. Но произнося эти слова благодарности, я уже чувствовал, что они бесполезны и их пылкость даже расхолаживает посланника: я заметил, как по его лицу прошла тень сомнения и недовольства, а в глазах у него вспыхнул вертикальный, узкий и уклончивый взгляд (похожий на оборотную сторону геометрического тела, нарисованного в перспективе), взгляд, обращенный на невидимого собеседника, существующего у нас внутри, в тот момент, когда мы ему говорим что-то, чего другой собеседник, с которым мы говорили до сих пор, – в данном случае это был я – не должен слышать. Я тут же сообразил, что произнесенные мною слова, такие невыразительные по сравнению с бушевавшей у меня в груди благодарностью, слова, которые, как я надеялся, могли тронуть г-на де Норпуа и окончательно подвигнуть его на шаг, не стоивший ему никакого труда, а мне обещавший столько счастья, – эти самые слова, кажется, куда вернее любых доводов, которые сумели бы найти мои самые злокозненные недруги, безошибочно убедили его отказаться за меня ходатайствовать. Внезапно я предстал перед ним словно незнакомец, с которым вы приятнейшим образом обменивались впечатлениями – вроде бы совпадающими – о прохожих, которые обоим вам представляются вульгарными, как вдруг он неожиданно обнаруживает всю бездну безумия, отделяющую его от вас, и небрежно добавляет, похлопывая себя по карману: «Обидно, что у меня нет с собой револьвера, я бы их всех перестрелял», – вот так г-н де Норпуа, зная, что ничего нет проще и легче, чем с наилучшими рекомендациями попасть в дом к г-же Сванн, и видя, что мне это представляется такой драгоценной привилегией, а значит, по-видимому, почему-то мне этого бесконечно трудно добиться, – решил, что за моим желанием, столь, кажется, естественным, кроется какой-то умысел, какая-то подозрительная цель, какой-то старый грешок, из-за которого никто до сих пор не согласился похлопотать за меня перед г-жой Сванн в уверенности, что ей это не понравится. И я понял, что он никогда не станет за меня хлопотать, и даже если годами будет ежедневно видеться с г-жой Сванн, он ни слова ей обо мне не скажет. Тем не менее спустя несколько дней он задал ей один интересовавший меня вопрос и поручил отцу передать мне ответ. Но он не счел нужным сказать ей, для кого он это спрашивает. Поэтому она не узнала ни что я знаком с г-ном де Норпуа, ни что жажду оказаться в числе ее гостей; и быть может, это было не такое страшное горе, как мне казалось. По-видимому, первое не слишком помогло бы успеху второго, так или иначе весьма неверному. У Одетты никакого священного трепета не вызывали ни ее личная жизнь, ни ее дом; знакомые, которые к ней ходили, не представлялись ей, как мне, сказочными существами – а я-то готов был швырнуть камень в окна Сваннов, если бы мог написать на этом камне, что знаком с г-ном де Норпуа: я был убежден, что такое сообщение, даже переданное столь варварским способом, не настроило бы против меня хозяйку дома, а скорее расположило бы ее в мою пользу. Но даже понимай я, что поручение, от которого не уклонился г-н де Норпуа, не принесет мне никакой пользы и даже может повредить мне в глазах Сваннов, все равно у меня не хватило бы духу отменить свою просьбу, которую он вроде бы взялся исполнить, и, какими бы пагубными последствиями это мне ни грозило, я бы не мог отказаться от острого наслаждения – знать, что мое имя и я сам на какой-то миг займем внимание Жильберты, проникнем к ней в дом, в ее неведомую мне жизнь.
После ухода г-на де Норпуа отец заглянул в вечернюю газету, а я вновь задумался о Берма. Мне необходимо было чем-то дополнить удовольствие от ее игры, тем более что удовольствие оказалось гораздо скромнее, чем я рассчитывал; поэтому оно немедленно цеплялось за всё, что могло его как-то усилить, например за те достоинства, которые признал за Берма г-н де Норпуа: мой ум жадно впитывал их, как иссохшая нива влагу. И вот отец протянул мне газету, указывая на заметку, гласившую: «Представление „Федры“, сыгранное перед восторженным залом, в котором присутствовали наиболее выдающиеся представители мира искусства и столпы критики, обернулось для мадам Берма, исполнявшей роль Федры, одним из самых ошеломляющих триумфов, выпадавших ей на протяжении всей ее ослепительной карьеры. Мы еще расскажем подробнее об этом спектакле, вылившемся в истинное театральное событие; теперь скажем одно: самые авторитетные судьи в один голос утверждают, что интерпретация Берма полностью переосмысливает роль Федры, одну из самых прекрасных и самых разработанных у Расина, и дарит нам наиболее чистое и высокое воплощение искусства, какое дано было видеть нашему времени». Как только эта новая идея «наиболее чистого и высокого воплощения искусства» проникла в мое сознание, она сомкнулась с тем ущербным удовольствием, которое я испытал в театре, добавила ему ту малость, которой ему не хватало, и от их слияния возникло нечто столь упоительное, что я воскликнул: «Какая великая актриса!» Может показаться, что я был не вполне искренен. Но представим себе писателя, одного из многих и многих, который недоволен написанной страницей; и вот он читает похвалу гению Шатобриана, или упоминание о великом живописце, с которым он хотел бы сравняться, или, к примеру, напевает себе под нос музыкальную фразу из Бетховена, проникнутую тою же печалью, которую он, писатель, хотел вложить в свою прозу; и в конце концов он настолько проникается понятием гениальности, что каплю этого ощущения добавляет к тому, что вышло из-под его пера, и теперь уже собственные слова предстают ему в другом свете, и, отважно уверовав в достоинства своего произведения, он восклицает: «Ай да я!», не понимая, что к этому окончательному удовлетворению он сам подмешал память о прекрасных страницах Шатобриана, перепутав их со своими, хотя, в общем-то, это совсем не то, что он написал; или вообразим себе влюбленного, верящего в любовь женщины, от которой он видел одни измены; вдовца, что не может утешиться, хотя надеется на непостижимую жизнь после смерти той женщины, которую он потерял и всё еще любит; вообразим художника, рассчитывающего насладиться грядущей славой, вообразим всех тех, кто уповает на несущие покой забвение и пустоту, когда разум напоминает им о прошлых провинностях, которых ничем не искупить; или подумаем о туристах, восторгающихся проделанным путешествием, во время которого они каждый день испытывали скуку; и после всего этого попробуем среди всех идей, которые ведут совместную жизнь в недрах нашего сознания и дарят нам счастье, отыскать хотя бы одну, которая не была поначалу самым настоящим паразитом, вытягивающим из посторонней, соседней идеи те жизненные соки, которых нам не хватает.
Мама, пожалуй, была не вполне довольна, что отец перестал заботиться о моей «карьере». Наверно, ей больше всего хотелось, чтобы капризы моих нервов обуздала дисциплина, складывающаяся из жизненных правил, а потому она не столько жалела о том, что я отказался от дипломатии, сколько о том, что выбор мой пал на литературу. «Оставь, пожалуйста! – воскликнул отец. – Главное – получать удовольствие от того, что делаешь. Он ведь уже не маленький. Он знает, что ему нравится, навряд ли его вкусы переменятся, и он вполне в состоянии сам разобраться, что ему надо в жизни для счастья». Может быть, в будущем меня и ожидало счастье благодаря свободе, предоставленной родителями, а может быть, и нет, но в тот вечер слова отца очень меня огорчили. Его неожиданные добрые порывы и всегда-то внушали мне страстное желание расцеловать его в скрытые бородой румяные щеки, и я не поддавался этому желанию только из страха ему не угодить. А сегодня я сомневался, сто́ит ли моя тяга к литературе того, чтобы отец расточал на нее столько великодушия, – вот так писатель пугается, видя, как его мечты, казавшиеся ему такими легковесными, ведь он не отделял их от себя самого, заставляют издателя выбирать бумагу, шрифт, возможно, слишком красивые для плодов его мечтательности. Но главное, когда он говорил о моих вкусах, которые уже не переменятся, и о том, что мне нужно для счастья в жизни, во мне просыпались два ужасных подозрения. Первое состояло в том, что жизнь моя уже началась и, более того, всё дальнейшее будет не очень отличаться от того, что уже было (а до сих пор каждый день казался мне порогом новой, еще неизведанной жизни, которая начнется только завтра утром). Второе подозрение, которое, правду говоря, было лишь иной формой первого, сводилось к тому, что я не живу отдельно от Времени, а подчиняюсь его законам, точь-в-точь персонажи романа, над которым я поэтому так грустил в Комбре, в своей ивовой беседке, читая об их жизни. Теоретически известно, что земля вертится, но на самом деле этого не замечаешь, кажется, будто ступаешь по неподвижной почве, и можно не беспокоиться. То же происходит в жизни со Временем. И чтобы его бег оказался заметен, романистам приходится, убыстряя ход стрелок, заставлять читателя проживать за две минуты десять, двадцать, тридцать лет. В начале страницы расстаешься с любовником, полным надежд, а в конце следующей находишь его уже восьмидесятилетним стариком, с трудом совершающим ежедневную прогулку во внутреннем дворике богадельни, едва способным ответить на приветствие и забывающим прошлое. И когда отец говорил обо мне: «Он уже не ребенок, его вкусы уже не изменятся» и т. д., он словно втискивал меня в рамки времени, нагоняя на меня ту же печаль, как будто я был если не дряхлой развалиной, так героем, о котором автор равнодушно, а потому очень жестоко, сообщает в конце книги: «Он всё реже выезжает из деревни. В конце концов он поселился здесь постоянно и т. д.».
Тем временем отец, предвосхищая наши критические замечания по адресу гостя, сказал маме:
– Бесспорно, папаша Норпуа был сегодня несколько «старомоден», как вы любите говорить. Когда он сказал, что задать вопрос графу Парижскому было бы «неприлично», я боялся, как бы вы не прыснули со смеху.
– Да ничего страшного, – отозвалась мама, – мне очень нравится, что человек его ранга и в его годы сохранил подобную наивность: сразу видно, насколько он порядочен и как отменно воспитан.
– Да уж конечно! Это не мешает ему быть тонким и умным человеком, уж я-то знаю, ведь в комиссии он совсем не такой, как здесь! – воскликнул отец, довольный, что мама оценила г-на де Норпуа, и желая убедить ее, что маркиз еще лучше, чем ей кажется, потому что сердечность любит перехваливать ничуть не меньше, чем насмешливость любит ниспровергать. – Ты обратила внимание, как он сказал: «С этими сильными мира сего никогда не знаешь, чего ждать…»?
– Ну конечно, всё, как ты говоришь. Я обратила внимание, он очень тонкий человек. Виден огромный жизненный опыт.
– Поразительно, что он обедал у Сваннов и встретил там, в сущности, приличных людей, служащих… Где только мадам Сванн всех их выискала?
– А ты заметил, как он лукаво сказал: «В этот дом вхожи в основном мужчины!»?
И оба пытались воспроизвести ужимку, с которой г-н де Норпуа произнес эти слова, как воспроизвели бы интонацию Брессана или Тирона в «Авантюристке» или в «Зяте господина Пуарье»[50]. Но Франсуазе из всех его словечек больше всего полюбилось одно: спустя годы она по-прежнему не могла оставаться невозмутимой, когда ей напоминали, как посланник назвал ее «первоклассным поваром», а мама передала это ей, как военный министр передает войскам поздравления иностранного государя после «смотра». Впрочем, до мамы в кухне побывал я. Дело в том, что я взял с миролюбивой, но жестокой Франсуазы слово, что, убивая кролика, она не заставит его слишком мучиться, и мне нужно было узнать, как он умирал; Франсуаза меня заверила, что умер он как нельзя лучше и очень быстро: «В жизни не видела такой зверушки, умерла без единого словечка, прямо как немая». Я не очень-то разбирался в языке зверей и предположил, что, наверно, кролик не умеет кричать, как курица. «Уж вы скажете, – возразила Франсуаза, возмущенная моим невежеством, – это кролик-то не умеет кричать? Да у них голос почище куриного». Комплименты г-на де Норпуа Франсуаза приняла с гордой простотой, в ее глазах вспыхнуло удовольствие и мгновенное понимание, с каким артист выслушивает мнения о своем искусстве. В свое время мама отправляла ее в разные известные рестораны посмотреть, как там готовят. В тот вечер, внимая ее рассуждениям о кухне в разных знаменитых заведениях, я испытал ту же радость, с какой когда-то слушал о том, что истинная иерархия драматических актеров по их достоинствам не вполне соответствует их репутации. «Посланник, – сказала мама Франсуазе, – уверяет, что нигде не умеют готовить такой холодной говядины и такого суфле, как ваши». Франсуаза скромно соглашалась – ведь с истиной не поспоришь; впрочем, титул посланника произвел на нее впечатление; о г-не де Норпуа она отозвалась с теплотой (ведь он принял ее за повара экстра-класса): «Славный старик, вроде меня». Она пыталась на него посмотреть, когда он приезжал, но мама ненавидела, когда подглядывали из-за дверей или из окон, а Франсуаза опасалась, что хозяйка узнает о ее любопытстве от другой прислуги или от консьержа (потому что Франсуазе всюду чудились «зависть» и «ябеды», которые в ее воображении играли ту же постоянную и зловещую роль, что козни иезуитов или евреев в некоторых умах), поэтому она ограничивалась тем, что выглядывала из кухонного окошка, «чтобы не давать хозяйке поводов», и, получив беглое представление о г-не де Норпуа, объявила, что он такой шустрый, «вылитый г-н Легранден»[51] – хотя на самом деле между этими двумя не было ничего общего. «А в самом деле, – спросила мама, – как вы объясняете, что никому заливное не удается так, как вам, если вы постараетесь?» – «Не знаю я, почему оно у меня так подается, – отвечала Франсуаза (не вполне улавливавшая разницу между оттенками значений глаголов „удаваться“ и „подаваться“)». Отчасти она говорила правду: вряд ли она была более способна поделиться тайной своих заливных или кремов, чем элегантная дама тайной своих туалетов или великая певица тайной своего пения; да и хотелось ей этого не больше, чем им. Их признания не очень много нам дают – то же можно сказать и о рецептах нашей кухарки. «Они стряпают скорей-скорей, – принялась она объяснять, имея в виду великих рестораторов, – и нельзя же всё сразу. А надо, чтобы говядина стала как губка, тогда она впитает весь сок до капельки. Хотя есть одно местечко, вот там они, сдается мне, умеют стряпать. Не скажу, что у них там прямо мое заливное, но оно у них довольно нежное, и суфле довольно воздушное». – «Это вы про Анри?» – спросил отец, подходя к нам; он очень ценил этот ресторан на площади Гайон, где у них регулярно бывали министерские обеды. «Нет, что вы! – возразила Франсуаза с кротостью, за которой сквозило глубокое презрение, – я говорю про совсем маленький ресторанчик. У этого Анри, конечно, очень славно, но какой это ресторан, это так, кухмистерская». – «Тогда Вебер?» – «Ну уж нет, месье, я имела в виду хороший ресторан. А Вебер – это на Королевской улице, не ресторан, а забегаловка. Они даже обслужить по-настоящему не умеют. Сдается, у них и скатертей нету, шмякнут вам еду прямо на стол, и скажи спасибо». – «Сиро?»[52] Франсуаза улыбнулась: «Ну, у этих главное угощение – дамы из высшего света (выражение „высший свет“ в устах Франсуазы означало „полусвет“). Что ж, молодежь это любит». Ясно было, что при всей своей простоте Франсуаза судит знаменитых поваров не вполне по-товарищески: она к ним безжалостнее, чем самая завистливая и тщеславная актриса к своим соперницам. Однако мы почувствовали, что о своем искусстве она имеет верное понятие и чтит традиции, когда она добавила: «Нет, это был ресторанчик с хорошей такой буржуазной кухней. Очень приличное место. Они там не ленились работать. И денежку заработать умели (у экономной Франсуазы деньги всегда были „денежки“, она их считала на сантимы, а не на луидоры, как какие-нибудь транжиры). Да вы знаете, мадам. На Больших бульварах, направо, немного так позади…» Ресторанчиком, который она описывала с таким снисходительным добродушием, но беспристрастно, оказалось… Английское кафе[53].
Когда настало первое января и я вместе с мамой отправился поздравлять родных, сперва она, чтобы меня не утомлять, заранее с помощью маршрута, составленного отцом, распланировала визиты не столько по степени родства, сколько по адресам. Но не успели мы войти в гостиную дальней родственницы, обитавшей зато в недальнем соседстве от нас (почему мы и навестили ее раньше других), как мама с ужасом увидела, что перед ней стоит, сжимая в руках не то засахаренные, не то глазированные каштаны, лучший друг самого обидчивого из моих дядьев, которому, конечно, будет доложено, что объезд начался не с него. Дядя наверняка будет оскорблен: с его точки зрения, нам было бы проще всего от площади Мадлен проехать прямо к Ботаническому саду, где он жил, потом на улицу Сент-Огюстен, а уж потом вернуться на улицу Медицинских школ.
Когда с визитами было покончено (бабушка освободила нас от повинности заезжать к ней, потому что вечером мы должны были у нее ужинать), я устремился на Елисейские Поля, чтобы вручить нашей знакомой торговке письмо, которое в тот день, когда моя подруга причинила мне такое горе, решил отправить ей в Новый год; торговка же должна была передать его прислуге Сваннов, приходившей несколько раз в неделю за пряниками; в этом письме я говорил Жильберте, что старая наша дружба исчезла с минувшим годом, что я позабыл свои огорчения и разочарования и что с первого января мы начнем строить заново нашу дружбу, такую прочную, что разрушить ее будет невозможно, такую чудесную, что Жильберте самой захочется приложить старания, чтобы сохранить ее во всей красе и вовремя предупреждать меня, как только она почувствует, что ей грозит малейшая опасность; сам я обещал делать то же самое. На обратном пути Франсуаза остановилась со мной на углу Королевской улицы перед витриной, в которой выбрала для своих собственных новогодних подарков фотографии Пия IX и Распайля[54], а я купил себе снимок великой Берма. Что-то жалкое виделось мне в ее несравненном лице, ведь оно, неподвижное и уязвимое, было единственным ответом актрисы на все бесчисленные восторги, словно одежда у человека, которому не во что переодеться: неизменная морщинка над верхней губой, приподнятые брови и некоторые другие черточки, всегда одни и те же, такие, в сущности, беззащитные перед любым ожогом, любым ударом… Впрочем, оно не то чтобы представлялось мне прекрасным само по себе; скорее, мне хотелось поцеловать это зацелованное лицо, оно, казалось, притягивало к себе поцелуи, красуясь своим кокетливым и нежным взглядом и нарочито наивной улыбкой с открытки альбомного формата. Наверно, Берма и в самом деле питала ко многим молодым людям те чувства, в которых признавалась в обличье своей героини, Федры, и ей было, наверно, так легко добиться исполнения своих желаний, ведь ей помогал в этом даже блеск ее имени, добавлявший красоты и продлевавший молодость. Темнело; я остановился перед театральной тумбой, на которой висела афиша, объявлявшая о спектакле, который Берма давала первого января. Дул легкий сырой ветер. Я знал эту погоду; у меня было ощущение и предчувствие, что этот день – такой же, как все остальные, что он не станет первым днем нового мира, где я, заручившись еще не выдохшейся удачей, смогу возродить отношения с Жильбертой, словно в дни Творения, – так, чтобы исчезло всё, что было раньше, вплоть до знамений, предвещавших будущее, так, чтобы уничтожились все разочарования, которые она мне подчас приносила; и не будет этого нового мира, где не осталось бы ничего от старого… ничего, кроме желания, чтобы Жильберта меня любила. Я понял: если окружающая меня вселенная мне не годится и сердце мое жаждет ее обновления, это значит, что оно, мое сердце, само не изменилось, а значит, сказал я себе, сердце Жильберты тоже не может измениться, на то нет никаких причин; я почувствовал, что эта новая дружба будет всё та же – ведь новые годы не отделены глубоким рвом от прочих, просто наше желание не в силах до них дотянуться и их изменить, а может лишь наречь их новым именем. Я понимал, что могу сколько угодно посвящать этот новый год Жильберте и пытаться переосмыслить его на свой лад, подобно тому как люди переосмысляют слепые законы природы в духе религии: всё это ни к чему не приведет; я чувствовал: год не знает, что он новый, и сойдет на нет в сумерках точно так же, как все остальные; в легком сыром ветерке, дувшем вокруг афишной тумбы, я распознал, я уловил всё ту же вечную и неизменную материю, ту же привычную сырость, ту же тупую неуловимость минувших дней.
Я вернулся в дом. Только что я пережил первое января, как старики, которые в этот день отличаются от молодых не только тем, что им уже не дарят подарков, но и тем, что они уже не верят в новый год. Подарки-то я получил, но не те, которые бы меня порадовали, а порадовало бы меня одно словцо от Жильберты. И все-таки я был еще молод – ведь сумел же я сам написать ей, и вложил в это письмо давние грезы моей нежности, и надеялся пробудить в ней такие же грезы. Печаль состарившихся людей состоит в том, что они уже и не думают писать такие письма, зная, что это ни к чему не приведет.
Я лег, но уснуть мне мешал шум с улицы, затянувшийся из-за праздника. Я думал обо всех людях, которые закончат вечер развлечениями; думал о том, что после спектакля, афишу которого я видел, нынче вечером за Берма, возможно, заедет любовник или развеселая компания. Я не мог унять возбуждения, охватывавшего меня при этой мысли в бессонную ночь, я даже не в силах был себе внушить, что Берма, возможно, и не думает о любви: ведь стихи, которые она декламирует, которые она долго учила, то и дело напоминают ей, как любовь восхитительна; впрочем, думалось мне, она и так это прекрасно знает, ведь любовные волнения, всем и так известные, но насыщенные новым неистовством и новой, еще не изведанной нежностью, она являет восхищенным зрителям, каждый из которых, вероятно, и сам изведал их в жизни. Я снова зажег свечу, чтобы еще раз поглядеть на ее лицо. При мысли о том, что это лицо, быть может, ласкает сейчас один из мужчин, которых я воображал рядом с ней, а она в ответ дарит ему неведомые сверхчеловеческие наслаждения, я испытывал волнение не столько сладострастное, сколько жестокое, тоску, которую усугублял звук рога, что звучит в карнавальную ночь, а часто и на других праздниках; вырываясь из какого-нибудь кабачка, он звучит тоскливее, чем в стихах, «во мгле густых лесов»[55]. В этот миг мне, наверно, нужно было не словцо от Жильберты, а что-то другое. Наши желания сталкиваются друг с другом, и в жизненной неразберихе редко бывает так, чтобы счастье точно совпало с исполнением желания, которое к нему взывало.
В хорошую погоду я по-прежнему ходил на Елисейские Поля по тем же улицам, вдоль домов, которые омывало подвижное, легкое небо – в это время как раз вошли в моду выставки акварелистов[56]. Правду сказать, в те времена дворцы Габриэля[57] не казались мне прекраснее соседних особняков и я не понимал, что они принадлежат другой эпохе. Мне казались более стильными, да и более древними, Дворец промышленности или даже Трокадеро[58]. Погруженное в беспокойный сон, отрочество мое обнимало одной и той же мечтой весь квартал, по которому оно прогуливалось, и мне бы никогда и в голову не пришло, что на Королевской улице может быть здание XVIII века; точно так же я бы удивился, если бы узнал, что ворота Сен-Мартен и ворота Сен-Дени, шедевры века Людовика XIV, относятся к иному времени, чем более недавние многоэтажные дома этих неприглядных округов. Один-единственный раз я надолго задержался перед одним из дворцов Габриэля: было уже темно, и под лунным светом его колонны утратили материальность; словно вырезанные из картона, они напомнили мне декорацию к оперетте «Орфей в аду»[59] и впервые показались мне прекрасными.
Между тем Жильберта всё не возвращалась на Елисейские Поля. А мне бы так нужно было ее видеть: я даже не помнил уже ее лица. Искательность, тревожность, требовательность, с которыми мы смотрим на любимого человека, ожидание слова, которое подарит нам или отнимет надежду на завтрашнее свидание, а пока это слово еще не сказано – воображение, попеременно, а то и одновременно повергающее нас в радость и в отчаяние, – от всего этого наше внимание трепещет в присутствии обожаемого существа и не умеет составить себе о нем четкого представления. И пожалуй, когда все наши органы чувств бьются над тем, чтобы с помощью одних только взглядов постичь какой-то недостижимый предмет, восприятие наше оказывается слишком снисходительно к множеству форм, оттенков, движений, присущих живому человеку, тем более что обычно, если мы равнодушны к этому человеку, они видятся нам как неподвижные. А обожаемый предмет, напротив, весь в движении; ни одна фотография нам не удается. Я уже не знал, как выглядит лицо Жильберты, не считая тех изумительных мгновений, когда оно было обращено ко мне: я помнил только ее улыбку. И, не видя этого любимого лица, я пытался его вспомнить, но с раздражением обнаруживал только бесполезные и яркие лица карусельщика и торговки леденцами, врезанные в мою память с безжалостной точностью; так те, кто потерял любимого человека и никогда его больше не увидит, во сне выходят из себя от досады, что им снится столько невыносимых типов, которых они и днем-то видеть не хотят. Не в силах представить себе тех, кого оплакивают, они чуть ли не обвиняют себя в том, что не горюют по ним. А я почти верил, что если не помню лица Жильберты, значит забыл ее саму, значит я ее больше не люблю. Наконец она вернулась; теперь она опять приходила играть почти каждый день, и опять я каждый день чего-то от нее хотел, о чем-то собирался завтра попросить, и в этом смысле нежность моя, в самом деле, обновлялась с каждым днем. Каждый день, часам к двум пополудни, я только и делал, что силился разрешить головоломку моей любви – но внезапно что-то произошло, и всё переменилось. Попалось ли г-ну Сванну на глаза письмо, которое я написал его дочери? Решилась ли наконец Жильберта, желая, чтобы я вел себя осторожнее, объяснить мне положение вещей, которое сложилось задолго до того? Когда я рассказывал ей, как восхищаюсь ее отцом и матерью, она напустила на себя тот таинственный вид, полный недомолвок, с каким всегда говорила о предстоящих делах, покупках и визитах, и ни с того ни с сего сообщила: «А знаете, они вас не переваривают!» – и рассмеялась неискренним русалочьим смехом, уж такая у нее была манера. Часто казалось, что ее смех, противоречащий ее же словам, – это, как музыка, описание каких-то подспудных слоев бытия. Г-н и г-жа Сванн не требовали от Жильберты, чтобы мы прекратили играть вместе, но им было бы приятнее, если бы мы и не начинали, по крайней мере, так она считала. Они не одобряли наших отношений, были не очень-то высокого мнения о моей нравственности и считали, что я могу оказать на их дочь дурное влияние. Те молодые люди, на которых, по мнению Сванна, я был похож, вели себя, как я понимал, бессовестно: ненавидели родителей любимой девушки, льстили им в глаза, но насмехались за глаза, подстрекали девицу к непослушанию, а получив на нее все права, запрещали ей даже встречаться с родителями. Этим чертам (которые любой самый отпетый мерзавец ни за что не заметит у себя самого) сердце мое с невообразимой яростью противопоставляло обуревавшие меня чувства – чувства настолько пламенные, что я был уверен: если бы Сванн догадался, как я к нему отношусь, он бы раскаялся в своем суждении, как в судебной ошибке. Все свои чувства я посмел описать ему в длинном письме, которое доверил Жильберте и попросил передать отцу. Она согласилась. Увы! Оказывается, он считал меня еще более наглым самозванцем, чем я воображал! Чувства, которые я так правдиво запечатлел на шестнадцати страницах, вызывали у него сомнение! Письмо, которое я ему написал, такое же искреннее и пылкое, как то, что я говорил г-ну де Норпуа, тоже не имело успеха. На другой день Жильберта отвела меня в маленькую аллею по другую сторону от лавровой рощицы, мы сели каждый на свой стул, и она мне рассказала, что, читая письмо, которое она ему принесла, отец пожал плечами и сказал: «Всё это ничего не значит, а только доказывает мою правоту». Но я-то знал, как чисты мои помыслы, какой я добрый, – я был возмущен, что мои слова ни на волос не поколебали Сванна в его абсурдном заблуждении. Ведь это было заблуждение, тогда я в этом не сомневался. Я чувствовал, что с безупречной точностью описал некоторые неопровержимые черты моих великодушных чувств, и если Сванн не признал их немедленно, не пришел ко мне просить прощения и признать свою ошибку, значит таких благородных чувств он сам никогда не испытывал, потому-то и не замечал их в других людях.
А Сванн, наверно, просто понимал, что нередко великодушие – это просто вид изнутри на наши эгоистические чувства, которых мы еще не определили и не назвали. Быть может, в симпатии, которую я ему выказывал, он распознал обыкновенное проявление – и пылкое подтверждение – моей любви к Жильберте; он видел, что именно эта любовь, а не вторичное по отношению к ней преклонение перед Сванном в дальнейшем будет неизбежно руководить моими поступками. Я его прозрений разделить не мог, потому что не умел абстрагироваться от своей любви и заставить других людей ее признать, не мог на собственной шкуре испытать, каково это; я был в отчаянии. Тут меня позвала Франсуаза, и мне пришлось ненадолго покинуть Жильберту. Франсуаза увела меня в маленький павильончик, отгороженный увитой зеленью решеткой, похожий на упраздненные ныне таможенные будки старого Парижа; в нем не так давно было устроено то, что в Англии называют «лавабо», а во Франции, в силу невежественной англомании, ватерклозетами[60]. Сырые старинные стены передней комнатки, где я остался ждать Франсуазу, источали прохладный запах затхлости, он мгновенно утолил тревогу, охватившую меня, когда Жильберта передала мне слова Сванна, и тут же наполнил меня радостью, непохожей на все прежние: ведь обычно, радуясь, мы неспособны закрепить в себе это чувство, по-хозяйски овладеть им, нас терзает неуверенность, а эта радость была прочная, надежная – восхитительная безмятежная радость, незыблемая и не требующая подтверждений. Мне хотелось, как когда-то, на прогулках в сторону Германта, разобраться, почему так чарует меня это нахлынувшее впечатление, и замереть, вникая всё в то же идущее из прошлого излучение – и не столько наслаждаться радостью, которую оно мне посылало как-то заодно, в придачу, сколько добраться до реальности, которую эта радость по-прежнему мне заслоняла. Но тут содержательница заведения, старуха с наштукатуренными щеками и в рыжем парике, принялась со мной болтать. Франсуаза считала, что она «из хорошего дома». Ее «барышня» вышла замуж за «молодого человека из приличной семьи», то есть за такого, кто отличался от простого рабочего больше, чем герцог Сен-Симон[61] от человека, «вышедшего из самых низов». Вероятно, эта дама хлебнула лиха, прежде чем занять свое нынешнее место. Но Франсуаза уверяла, что она была маркиза и принадлежала к семье Сен-Ферреоль. Эта маркиза посоветовала мне не ждать на холоде и даже открыла одну кабинку со словами: «Не хотите ли зайти? Очень чистая кабинка, и для вас всё будет бесплатно». Наверно, она это предлагала без всякой задней мысли; вот так барышни-продавщицы у Гуаша[62], когда мы приходили сделать заказ, предлагали мне угоститься одной из конфеток, лежавших на прилавке под стеклянными колпаками, хотя мама, увы, не разрешала мне их брать; но возможно, слова маркизы были не столь невинны; скорее, она была как та старуха-цветочница, которой мама поручала «подобрать что-нибудь для жардиньерок», а та строила мне глазки и протягивала розу. И пускай «маркиза» была охотницей до молоденьких мальчиков, а не просто отворяла им врата подземных каменных кубов, где люди сидят на корточках, словно сфинксы, – все равно к ее великодушию не примешивалась надежда их развратить, а только радость, с какой мы предлагаем тем, кого любим, щедрые, но ненужные дары (я никогда не видел, чтобы ее навещал кто-нибудь, кроме старого сторожа).
Еще миг, и вот уже я прощаюсь с «маркизой» и вместе с Франсуазой возвращаюсь к Жильберте. Я сразу ее заметил, она сидела на стуле позади лавровой рощицы. Там она скрывалась от подружек, с которыми играла в прятки. Я сел рядом с ней. На ней была плоская шляпка, надвинутая довольно низко на глаза, отчего они глядели «снизу вверх»; такой взгляд, мечтательный и плутовской, я в первый раз подметил у нее в Комбре. Я спросил у нее, нельзя ли мне объясниться с ее отцом напрямую. Жильберта отвечала, что она ему предлагала, но он сказал, что это никому не нужно. «Ладно, – добавила она, – забирайте ваше письмо, и пойдем к девочкам, ведь они меня не нашли».
Если бы Сванн пришел в сад сейчас, до того как я забрал это письмо, такое искреннее, что не внять моим доводам было, как мне казалось, большой ошибкой, – если бы он пришел, то, наверно, убедился бы в своей правоте. Дело в том, что Жильберта, развалившись на стуле, предлагала мне взять письмо, но не протягивала его – и я, чувствуя, что меня к ней безумно тянет, сказал:
– А ну-ка, я буду его отбирать, а вы не давайте: посмотрим, кто сильнее.
Она спрятала письмо за спину, я обхватил ее за шею, под косичками, которые у нее падали на плечи (может, в ее возрасте так и полагалось, а может, ее мать хотела, чтобы она выглядела помладше, чтобы самой казаться помоложе); так мы боролись, выгнувшись дугой и сцепившись друг с другом. Я тянул ее на себя, она упиралась; от усилий ее круглые щеки раскраснелись, как вишни; она смеялась, как будто я ее щекотал; я сжимал ее ногами, как деревце, на которое хотел вскарабкаться; и посреди всей этой гимнастики, даже не запыхавшись ни от мышечных усилий, ни от пыла игры, я почувствовал, как, подобно выступившим от напряжения капелькам пота, во мне родилось наслаждение, которого я даже не в силах был ни отсрочить, ни продлить, чтобы лучше распробовать, – и в этот миг я отобрал письмо. А Жильберта мне ласково сказала:
– Послушайте, если хотите, давайте еще немножко поборемся.
Возможно, она смутно чувствовала, что у моей игры есть какая-то другая цель, в которой я не признался, но не заметила, что я ее достиг. А я-то боялся, что она заметила (и то, как она отпрянула с гримаской оскорбленной невинности, подтверждало, что не зря я этого боялся), и я согласился еще побороться, опасаясь, как бы она не поняла, что я и впрямь стремился к чему-то другому, а теперь, добившись своего, мне хотелось просто посидеть спокойно с ней рядом. Когда я был уже дома, в памяти у меня внезапно всплыла картина, напрочь забытая, невидимая, неузнанная, которую всколыхнула во мне пахнущая гарью прохлада решетчатого павильона. Это была комнатка моего дяди Адольфа в Комбре, источавшая такой же сырой запах. Но я не понимал, почему столь незначительное воспоминание вызывает во мне такое блаженство, и решил, что подумаю над этим в другой раз. Теперь же мне казалось, что я и в самом деле заслуживаю презрения г-на де Норпуа: больше всех писателей я люблю того, которого он называет простым «флейтистом», а истинный восторг я испытал не от важной идеи, а от запаха плесени.
С некоторых пор во многих семьях, когда какой-нибудь гость произносил слова «Елисейские Поля», мамаши напускали на себя неодобрительный вид, как при имени известного врача, который стал что-то часто ошибаться в диагнозе, так что доверять ему уже нельзя; говорили, что этот сад не идет детям на пользу, что это рассадник ангины, кори и всяческой лихорадки. Не критикуя в открытую легкомыслие моей мамы, продолжавшей меня туда посылать, многие подруги уже начали сокрушаться о ее ослеплении.
Вопреки распространенному мнению невропаты, быть может, меньше, чем кто бы то ни было, «прислушиваются к себе»: они всё время чувствуют, что с ними что-то неладно, а потом оказывается, что тревожиться было не о чем, и в конце концов они вообще перестают считаться со своими ощущениями. Их нервная система столько раз била тревогу, как в начале страшной болезни, хотя на самом деле просто надвигался снегопад или переезд на новую квартиру, что в конце концов они привыкли пропускать эти предупреждения мимо ушей, как солдат на войне, который, уже умирая, еще способен прожить и день, и два, как здоровый. Во мне мирно уживались мои обычные болячки, и на внутренние нелады я привычно обращал не больше внимания, чем на собственное дыхание; но вот однажды утром я весело прибежал в столовую, родители уже сидели за столом; меня знобило, но я, как водится, думал, что дело не в холоде, а просто в том, что меня отругали; я не чувствовал голода, но думал, что есть все равно надо – просто, наверно, дождь собирается; но едва я проглотил первый кусок аппетитной отбивной, как меня затошнило, голова закружилась – это были горячечные сигналы начинавшейся болезни: ее симптомы долго не могли пробиться сквозь лед моего равнодушия, но теперь она упрямо отвергала пищу, которую не принимал мой организм. Но я сообразил, что если заметят, что я заболел, то гулять меня не пустят, и эта мысль, как инстинкт самосохранения раненому, придала мне сил; я доплелся до своей комнаты, где обнаружил, что у меня температура сорок, и стал собираться на Елисейские Поля. Мое безвольное тело изнемогало, но мыслями я весело летел к вожделенной беготне наперегонки с Жильбертой, и час спустя, еле держась на ногах, но счастливый оттого, что Жильберта рядом со мной, я еще обрел в себе силы порадоваться этому счастью.
Когда мы пришли домой, Франсуаза объявила, что я «на себя не похож», что меня «прохватило», тут же позвали врача, и он изрек, что, на его взгляд, при воспалении легких «уж лучше жестокий, тяжелый приступ лихорадки» – это, мол, всё быстро проходит, – чем «скрытое, бессимптомное протекание болезни». У меня еще намного раньше начались приступы удушья, и наш врач, несмотря на неодобрение бабушки, которой уже представлялось, что я умру алкоголиком, посоветовал, чтобы, кроме кофеина, прописанного, чтобы мне было легче дышать, мне давали пиво, шампанское или коньяк, как только я почувствую приближение приступа. От алкоголя наступит эйфория, объяснил он, которая приостановит приступ. Чтобы получить на это бабушкино разрешение, мне часто приходилось привлекать внимание старших к тому, что я задыхаюсь, чуть не преувеличивать приступы и ни в коем случае их не скрывать. К тому же, чувствуя, что приступ вот-вот начнется, я не знал заранее, насколько он будет сильный, и гораздо больше беспокоился о том, что бабушка будет огорчаться, чем о своих болезненных ощущениях. Но или тело мое было слишком слабым, чтобы хранить в секрете свои мучения, или оно опасалось, что старшие, не зная, как мне плохо, начнут от меня требовать вещей, для него непосильных или опасных; так или иначе, оно требовало, чтобы я предупредил бабушку о моих недомоганиях, вплоть до мельчайших физиологических подробностей. Как только я подмечал у себя неприятный симптом, до сих пор не наблюдавшийся, тело мое впадало в отчаяние, пока я не расскажу бабушке об этом симптоме. А если она делала вид, что не обращает внимания, тело требовало, чтобы я настоял на своем. Иногда я заходил слишком далеко, и любимое лицо, уже не так хорошо, как раньше, умевшее скрывать чувства, омрачалось жалостью, искажалось горестной гримасой. Сердце мое надрывалось при виде бабушкиных страданий, и я бросался ее обнимать, словно мои поцелуи могли прогнать эту печаль, словно моя нежность могла обрадовать бабушку так же, как мое здоровье. Теперь, когда она знала в точности, как я себя чувствую, и совесть меня не мучила, тело мое не возражало против того, чтобы я ее немного успокоил. Я уверял, что в моем недомогании нет ничего неприятного, что меня ничуть не надо жалеть, что мне очень хорошо и беспокоиться не о чем; сперва тело мое хотело получить всю полагающуюся ему порцию жалости, и ему было важно, чтобы бабушка знала: у него болит справа – а потом оно уже не возражало, чтобы я убеждал ее, что эта боль мне совершенно не мешает, всё у меня прекрасно: логика его не заботила. Пока я болел, у меня почти каждый день были эти приступы удушья. Однажды вечером бабушка ушла от меня, когда я чувствовал себя вполне прилично, но потом, совсем поздно, вернулась и заметила, что я задыхаюсь. «О господи, как же тебе плохо!» – потрясенно воскликнула она и сразу вышла. Я слышал, как стукнули ворота, но очень скоро она вернулась с коньяком, который ходила покупать, потому что дома его не было. Скоро наступило облегчение. Бабушка покраснела, ей было неловко, в глазах читались разочарование и усталость.
– Я, наверно, сейчас пойду, раз тебе стало лучше, – сказала она и быстро вышла. Я только успел ее поцеловать и почувствовал на ее прохладных щеках какую-то влагу, возможно вечернюю сырость, принесенную с улицы. На другой день она пришла ко мне в комнату только вечером, и мне объяснили, что у нее были дела в городе. Я подумал, что она относится ко мне что-то слишком равнодушно, и едва удержался от упрека.
Приступы удушья у меня продолжались, хотя воспаление давно кончилось и никак не могло их объяснять; родители пригласили на консультацию доктора Котара. В подобных случаях врачу мало быть знающим. Имея дело с симптомами, которые могут быть вызваны тремя или четырьмя разными болезнями, он должен обладать чутьем и проницательностью – именно они в конечном счете, несмотря на сходные внешние проявления, имеют шанс разрешить вопрос, с чем именно приходится иметь дело. Этот таинственный дар не подразумевает общего умственного превосходства: им может обладать вполне вульгарное существо, любитель дрянной живописи и скверной музыки, лишенный какой бы то ни было любознательности. В моем случае то, что поддавалось внешнему наблюдению, могло происходить и от нервных спазмов, и от начинавшегося туберкулеза, и от астмы, и от одышки, связанной с пищевым отравлением и почечной недостаточностью, и от хронического бронхита, и от совокупного действия нескольких из этих факторов. Нервные спазмы следовало игнорировать, туберкулез – лечить заботливым уходом и усиленным питанием, которое было, однако, нехорошо для артрита и связанной с ним астмы, а в случае пищевого отравления даже пагубно: это последнее требовало диеты, которая, в свою очередь, была бы вредна при туберкулезе. Но Котар недолго колебался, и предписания его не допускали возражений: «Самые сильнодействующие слабительные, несколько дней пить молоко, ничего кроме молока. Никакого мяса, никакого алкоголя». Мама пролепетала, что мне ведь необходимо что-нибудь укрепляющее, я и так уже довольно нервный, а лошадиные дозы слабительного вместе с диетой меня добьют. В глазах Котара стояло беспокойство, словно он боялся опоздать на поезд; я прочел в них, что он почти уже готов поддаться природной своей мягкости. Он пытался сообразить, не забыл ли он принять свой обычный ледяной вид – так ищут глазами зеркало, если забыли повязать галстук. Терзаясь сомнениями и на всякий случай желая утвердить свой авторитет, он грубо возразил: «Я не имею привычки дважды повторять свои предписания. Дайте перо. Главное – молоко. Позже, когда покончим с приступами и с бессонницей, начнете ему давать овощные супы, я не возражаю, а потом пюре, но по-прежнему с молоком, с молоком. Идите по Млечному Пути, никуда не отклоняясь! (Его ученики хорошо знали этот каламбур, который он повторял в больнице всякий раз, когда сажал сердечника или больного печенью на молочную диету.) Потом постепенно вернетесь с общему режиму. Но каждый раз, когда возобновятся кашель и удушье, – слабительное, промывание кишок, постель, молоко». С ледяным видом, молча, выслушал он последние мамины доводы и удалился, не соблаговолив объяснить причины предписанного лечения; родители решили, что в моем случае оно бессмысленно и только еще больше меня ослабит, поэтому применять его не стали. Естественно, им не хотелось, чтобы профессор узнал об их неповиновении, а чтобы это до него как-нибудь не дошло, перестали ездить в те дома, где могли его встретить. Затем состояние мое еще ухудшилось, и тогда они решили в точности проделать всё, что предписал Котар; через три дня хрипы у меня прекратились, кашель прошел, дыхание наладилось. Тут мы поняли, что Котар, конечно, нашел у меня и астму, и «завихрения» (о чем и сказал в дальнейшем), но выделил то, что преобладало в тот момент, а именно интоксикацию; его лечение разгрузило мою печень, промыло почки и таким образом ослабило приток крови к бронхам, отчего восстановилось дыхание, наладился сон и вернулись силы. И мы поняли, что этот болван – великий клиницист. Наконец-то я встал с кровати. Но старшим не хотелось больше отпускать меня на Елисейские Поля. Говорили, что там воздух нехорош, но я-то думал, что под этим предлогом они просто не хотят, чтобы я встречался с мадемуазель Сванн, и я заставлял себя всё время твердить имя Жильберты, как побежденные, не желающие отказаться от родного наречия, чтобы не забывать родины, которой они больше никогда не увидят. Время от времени мама трогала мой лоб и говорила:
– Ну что, мои мальчики больше не делятся с мамой своими печалями?
Франсуаза каждый день приходила ко мне со словами: «Как же вы осунулись, сударь! Краше в гроб кладут!» Между прочим, если бы у меня был простой насморк, Франсуаза напустила бы на себя такой же похоронный вид. Ее причитания объяснялись скорее нашим с ней положением на общественной лестнице, чем состоянием моего здоровья. Мне никак было не разобраться, страдает Франсуаза от своего пессимизма или он приносит ей удовлетворение. В конце концов я временно успокоился на том, что он у нее обусловлен «классом» и профессией.
Однажды в тот час, когда доставляют почту, мама положила мне на постель письмо. Я открыл его рассеянно, потому что под ним не могло стоять той единственной подписи, которая бы меня осчастливила, то есть имени Жильберты – ведь я не общался с ней со времен Елисейских Полей. На письме красовалась серебряная печать с изображением всадника в шлеме, под которым извивался девиз: «Per viam rectam»[63], а внизу написанного размашистым почерком письма, где почти все предложения казались подчеркнутыми, потому что перекладинка в букве «т» шла поверху, отрываясь от самой этой буквы и оказываясь прямо под словом, написанным строкой выше, – так вот, внизу письма стояла именно подпись Жильберты. Но я знал, что в письме ко мне этого не может быть, так что не поверил своим глазам, а следовательно, не обрадовался. Какое-то мгновение эта подпись просто придавала всему, что меня окружало, налет нереальности. С головокружительной быстротой эта неправдоподобная подпись бестолково металась между моей кроватью, камином, стеной. Перед глазами у меня всё поплыло, словно я свалился с лошади, и в голове мелькнуло: а что, если есть совершенно другая жизнь, не та, что мне знакома, а противоположная ей, но эта другая жизнь и есть настоящая, и вот, явленная мне, она преисполняет меня той нерешительности, какую скульпторы, изображающие Страшный суд, придавали тем, кто восстал из мертвых и замер в преддверии того света. «Дорогой друг, – говорилось в письме, – я узнала, что вы были очень больны и не приходили на Елисейские Поля. Я тоже туда не хожу, потому что там сплошные болезни. Но по понедельникам и пятницам к нам в гости приходят мои подруги. Мама просит вам передать, что мы будем очень рады, если вы тоже придете, когда поправитесь, и мы снова сможем славно поболтать у нас дома, как на Елисейских Полях. Прощайте, милый друг, надеюсь, родители вам разрешат часто к нам приходить, а я желаю вам всего доброго. Жильберта».
По мере того как я читал эти слова, моя нервная система с необычайным проворством усваивала новость о том, что на меня свалилось огромное счастье. Но душа моя (то есть я сам, иначе говоря, главное заинтересованное лицо) этого еще не знала. Я ведь постоянно мечтал о счастье, которое придет ко мне благодаря Жильберте; оно постоянно занимало мои мысли, это было мое cosa mentale, как говорил Леонардо о живописи[64]. Листок бумаги, покрытый буквами, – мысль не может воспринять это так сразу. Но как только я дочитал письмо, я стал думать о нем, оно тоже стало моим cosa mentale, и я уже так его любил, что каждые пять минут мне надо было его перечесть и поцеловать. И вот тогда ко мне пришло счастье.
Жизнь усеяна такими чудесами, влюбленные всегда могут на них надеяться. Хотя именно это чудо было, скорее всего, подстроено моей мамой, которая, видя, что за последнее время я совсем пал духом, передала Жильберте просьбу мне написать; так во времена моих первых морских купаний я ненавидел нырять, потому что под водой начинал задыхаться, и вот, чтобы приохотить меня к нырянию, мама потихоньку передавала моему учителю плаванья прелестные коробочки из ракушек и веточки кораллов, а я воображал, что сам находил их на дне. Впрочем, во всем, что относится к любви, во всех событиях и разнообразных жизненных ситуациях, лучше и не пытаться ничего понять, ведь всеми безжалостными ударами, всеми нечаянными радостями правят не столько рациональные законы, сколько магические. Когда красавцу-мультимиллионеру дает отставку его бедная и некрасивая сожительница и он в отчаянии призывает на помощь все земные богатства, все мыслимые связи, но ничто не помогает – чем искать логическое объяснение, разумнее, видя непобедимое упорство его любовницы, предположить, что ему просто суждено погибнуть от сердечного приступа и что на него ополчилась судьба. Препятствия, с которыми должен бороться влюбленный и которые его воображение, обостренное болью, напрасно пытается распознать, кроются подчас в каких-то чертах характера женщины, ускользающей от его влияния, в ее глупости, в том, что она поддается чужим влияниям и страхам, которые внушают ей люди, незнакомые влюбленному, в том, что ей хочется от жизни других радостей, тех, которые влюбленный при всем своем богатстве не может ей предложить. В любом случае влюбленному не дано разгадать природу препятствий, скрытых от него хитростью женщины и его собственным ослеплением, проистекающим от любви. Они словно опухоли, которые врач иной раз может устранить, но узнать причину их возникновения он не в силах. Так и эти препятствия – подобно опухолям, они непостижимы, но не вечны. Беда в том, что, пока они исчезнут, любовь пройдет. А ведь любовь – чувство небескорыстное, поэтому разлюбивший уже не пытается понять, почему небогатая и нестрогих нравов женщина, которую он любил, годами упрямо отказывалась от его любви и от его денег.
Та же тайна, что часто скрывает от нас причины любовных катастроф, нередко окутывает и внезапность счастливого исхода (такого, как письмо Жильберты). Счастливого или кажущегося нам счастливым – потому что не может быть счастливого исхода там, где речь идет о чувстве: как его ни утоляй, боль не проходит, а просто переходит в другое место. Правда, иногда нам дается передышка, и какое-то время мы воображаем, что выздоровели.
Что до этого письма, под которым Франсуазе не удалось распознать подпись Жильберты, потому что затейливое Ж заваливалось на И, напоминая скорее А, а последний слог тянулся до бесконечности благодаря росчерку с завитушками, – если мы желаем найти рациональное объяснение перевороту, которым оно было вызвано и который так меня осчастливил, приходится, пожалуй, предположить, что отчасти я был им обязан одной случайности, которая, на мой-то взгляд, должна была окончательно меня погубить в глазах Сванна. Незадолго до того меня навестил Блок; в моей комнате находился в тот момент профессор Котар: с тех пор как я лечился по его предписаниям, его снова стали ко мне приглашать. Когда вошел Блок, консультация уже окончилась и Котар, которого родители уговорили остаться на ужин, просто коротал у меня время. Блок между прочим упомянул, будто слышал от одной близкой подруги г-жи Сванн, с которой обедал накануне, что она очень меня любит, и я, опасаясь прослыть лгуном, особенно в глазах самой г-жи Сванн, уже собирался признаться (как до того г-ну де Норпуа), что тут какая-то ошибка: мы с ней незнакомы и я ни разу с ней не говорил. Но у меня не хватило духу поправить Блока, поскольку до меня дошло, что ошибся он намеренно, просто выдумал что-то такое, чего г-жа Сванн и впрямь сказать не могла, выдумал потому, что ему казалось лестным оказаться за обеденным столом рядом с подругой этой дамы, хотя на самом деле ничего лестного в этом не было. Так оно и вышло: г-н де Норпуа в свое время, услыхав, что я незнаком с г-жой Сванн и жажду с ней познакомиться, и не подумал с ней обо мне поговорить, а Котар, который ее лечил, сделал из слов Блока вывод, что она меня прекрасно знает и ценит; вот он и вообразил, что если при встрече сказать ей, что я очаровательный молодой человек, то мне от этого никакой пользы не будет, а ему это будет лестно; по этим двум причинам он решил при случае поговорить обо мне с Одеттой.
Так открылась мне эта квартира, откуда до самой лестницы растекался аромат духов, которыми душилась г-жа Сванн, но надо всем царило то особое горестное очарование, которым овевала меня жизнь Жильберты. Неумолимый консьерж, преображенный теперь в благосклонную эвмениду[65], на мой вопрос, можно ли войти, благосклонной рукой приподнимал фуражку в знак того, что мольба моя услышана. Окна, чей сверкающий, уклончивый и поверхностный взор, напоминавший мне взоры семейства Сваннов, когда-то ограждал меня снаружи от сокровищ, не мне предназначенных, – теперь, в хорошую погоду, проводя всю вторую половину дня с Жильбертой у нее в комнате, я сам распахивал эти окна, чтобы впустить немного прохлады и рядышком с подругой поглазеть на улицу в дни приемов у ее матери, глядя, как подъезжают гости, а они часто, выходя из экипажа, взглядывали наверх и махали мне рукой, принимая, должно быть, за племянника хозяйки дома. В эти мгновения косы Жильберты касались моей щеки. Естественные и вместе с тем сверхъестественные, тугие, как зерна в колоске, победительные, как архитектурные завитки, они казались мне единственным в своем роде произведением искусства, сплетенным из райских трав. Самое крошечное зернышко из этих колосков я бы вставил в любой небесный гербарий. Но не было никакой надежды заполучить прядку из ее косы, и я мечтал хотя бы о фотографии этой прядки: я бы дорожил ею пуще цветов, вышедших из-под карандаша да Винчи! Чтобы заполучить такую фотографию, я вдоволь наунижался перед друзьями Сваннов и даже перед фотографами; это не помогло мне добыть желаемое, а только сблизило меня с очень занудными людьми.
Родители Жильберты, так долго ограждавшие ее от меня, теперь – когда я входил в темную переднюю, где, словно надежда увидеть короля в Версале в былые времена, неизменно витала прекрасная и желанная возможность их повстречать, где постоянно, наткнувшись на вешалку, огромную, семирогую, словно семисвечник из Священного Писания, я увязал в приветствиях, обращенных к восседавшему в длинном сером фартуке на деревянном сундуке лакею, которого в темноте принимал за г-жу Сванн, – теперь родители Жильберты и не думали раздражаться, увидев, что я пришел, а с улыбкой пожимали мне руку и говорили:
– Здравствуйте! (причем оба они слегка растягивали в этом слове первый слог – и, вернувшись домой, я, конечно же, страстно и беспрестанно упражнялся в его произнесении: не «здраствуйте», а именно «здраааствуйте»!) Жильберта знает, что вы пришли? Ну, не буду вас задерживать.
Более того, дни, когда Жильберта собирала друзей, прежде для меня неотделимые от сгустка разлук между нами двумя, стали теперь предлогом для свиданий, о которых она извещала меня записками (поскольку я еще не очень давно примкнул к числу друзей), всякий раз на бумаге другого сорта. Как-то раз бумагу венчало тиснение – голубой пудель со смешной подписью на английском языке, завершавшейся восклицательным знаком, в другой раз листок был украшен морским якорем, или инициалами Ж. С., растянувшимися на огромный прямоугольник, занимавший всю верхнюю часть листа, или именем Жильберта, то наискось, в уголке, золотыми буквами, воспроизводившими подпись моей подруги с росчерком, а над подписью, черной краской – раскрытый зонтик, или вписанными в монограмму в форме китайской шляпки, внутри которой свивались в один клубок все прописные буквы ее имени. Но при всем разнообразии образцы ее почтовой бумаги всё же не варьировались до бесконечности: так, на исходе нескольких недель я опять обнаруживал листок с девизом «Per viam rectam» над всадником в шлеме, вписанным в почерневшую серебряную медаль. И каждый раз, думалось мне тогда, она выбирает именно такую бумагу, а не другую, согласно какому-то определенному ритуалу – хотя теперь мне кажется, она просто старалась каждому из своих друзей, по крайней мере тем, кому хотела угодить, как можно реже посылать листки с одинаковым рисунком. У подружек, приглашенных Жильбертой, уроки были в разное время, так что кому-то из них надо было уже уходить, когда другие еще только приезжали; поэтому уже на лестнице я слышал гул голосов из передней, волновался в чаянии предстоящей мне пышной церемонии, и этот гул задолго до того, как я достигал лестничной площадки, резко обрывал нити, еще связывавшие меня с повседневностью, так что, оказавшись в тепле, я даже забывал развязать шарфик и не помнил, что нужно смотреть на часы, чтобы вернуться домой вовремя. Эта лестница, кстати полностью деревянная – такие, выдержанные в стиле Генриха II (который для Одетты так долго был идеалом и от которого она потом совершенно отказалась), строили тогда в некоторых доходных домах, – так вот, эта лестница, украшенная невиданной у нас табличкой «Запрещается пользоваться лифтом для спуска», казалась мне роскошной, и я даже сказал родителям, что она старинная и что г-н Сванн перевез ее откуда-то издалека. Моя любовь к истине была так велика, что я без колебаний сообщил бы им эти подробности, даже зная, что они недостоверны: ведь иначе никак было не передать им то почтение, которое внушало мне великолепие лестницы Сваннов. Вот так в присутствии невежды, неспособного оценить гений великого врача, мы рассудим, что, если этот врач не умеет лечить насморк, лучше об этом умолчать. Я был начисто лишен наблюдательности и, как правило, не имел понятия, как называются вещи, которые я вижу, и что это за вещи; я понимал одно: как только они оказываются поблизости от Сванна, в них непременно обнаруживается нечто необыкновенное; поэтому у меня не было уверенности, что, рассказывая родителям об их художественной ценности и о том, как издалека привезли эту лестницу, я грешу против истины. Уверенности не было, но что-то подобное я подозревал, потому что почувствовал, как заливаюсь краской, когда отец перебил меня: «Знаю я эти дома, я видел один, но они все одинаковые; Сванн просто занимает там несколько этажей; эти дома построил Берлье»[66]. Он добавил, что подумывал, не снять ли квартиру в одном из них, но отказался от этой мысли, потому что они неудобные и подъезды темноваты; так он сказал – но я инстинктивно чувствовал, что разум мой обязан принести обаянию Сванна и собственному моему счастью необходимые жертвы, и, повинуясь внутреннему импульсу, вопреки тому, что услышал, отринул от себя растлевающую мысль о том, что их квартира – это просто квартира, в какой и мы могли бы жить, – так верующий отвергает «Жизнь Иисуса» Ренана[67].
В те дни, когда Жильберта принимала гостей, я поднимался по лестнице, всё выше со ступеньки на ступеньку, стряхнув с себя все мысли, все воспоминания, превратившись в игрушку низких и жалких рефлексов, и вступал в зону, напоенную духами г-жи Сванн. Перед моим мысленным взором уже витал шоколадный торт, окруженный десертными тарелочками для птифуров и неизменными у Сваннов полотняными узорчатыми салфеточками, как полагалось по этикету. Всё это вместе, неизменное и предустановленное, казалось, было подобно вселенной Канта, основанной на необходимости, но всё же зависящей от высшего акта свободы, потому что, когда мы все уже сидели в маленькой гостиной у Жильберты, она глядела на часы и говорила:
– Обед уже давно кончился, а ужин будет только в восемь часов, неплохо бы что-нибудь съесть. Как вам кажется?
И вела нас в столовую, темную, как азиатский храм на картине Рембрандта[68]; там царил монументальный торт, благодушный, привычный, и все-таки величественный, поджидавший, не взбредет ли Жильберте в голову его развенчать, посбивать шоколадные зубцы, разрушить крутые рыжие насыпи, выпеченные в духовке и похожие на бастионы дворца Дария[69]. Более того, приступая к разрушению ниневийского кондитерского великолепия[70], Жильберта не только сообразовалась с собственным аппетитом, но и спрашивала, чего бы хотелось мне, извлекая для меня из поверженного памятника архитектуры глянцевый ломоть с вкраплениями алых фруктов, подобных эмалям в восточном вкусе. Она даже спрашивала у меня, в котором часу ужинают мои родители, как будто я это помнил, как будто трепавшее меня волнение оставляло место для других ощущений, голода или потери аппетита, или для понятия ужина, или для образа семьи – но в памяти моей было пусто, а желудок ничего не чувствовал. К сожалению, бесчувствие продолжалось недолго. Пирожные я проглатывал машинально, но потом наступало время их переваривать. Однако до этого было еще далеко. Тем временем Жильберта наливала мне «чай, как я люблю». Я выпивал его бесконечно много, хотя и от одной чашки у меня на сутки пропадал сон. И мама всегда повторяла: «Как досадно, этот ребенок как сходит к Сваннам, так возвращается больной». Но разве, сидя у них в гостях, я сознавал, что пью чай? А хоть бы и сознавал – это бы ничего не изменило: может, благоразумие и осеняло меня ненадолго, но уж никак не память о минувшем и не предвосхищение будущего. Мое воображение не в силах было дотянуться до того далекого времени, когда я лягу в постель и мне будет нужен сон.
Подруги Жильберты вовсе не пребывали в том упоительном состоянии блаженства, в котором невозможно принять решение. Некоторые даже отказывались от чая! Тогда Жильберта говорила модную в то время фразу: «Решительно, я с моим чаем не имею успеха!» И чтобы напрочь изгнать всякую церемониальность, передвигала стулья, стоявшие вокруг стола в стройном порядке, и приговаривала: «А то сидим, как на свадьбе, боже, до чего слуги глупые».
Сама она лакомилась, присев бочком на складной табурет, стоявший как-то криво. И – словно Жильберта могла без ведома матери выставить на стол все эти пирожные – когда г-жа Сванн (чьи приемные дни обычно совпадали с чаепитиями Жильберты), проводив очередную гостью, забегала к нам на минутку, иногда в синем бархатном платье, чаще в черном атласном с белыми кружевами, она удивленно говорила:
– Ишь какие вы тут вкусные вещи едите – глядя на вас, мне самой хочется торта!
– Так приходи, мамочка, мы тебя приглашаем! – отвечала Жильберта.
– Нет, радость моя, что скажут мои гости? У меня еще госпожа Тромбер, госпожа Котар и госпожа Бонтан, ты же знаешь, милейшая госпожа Бонтан приезжает не на пять минут, а она только что появилась. Что скажут все эти милые люди, если я к ним не вернусь? А если никто больше не приедет, я к вам еще загляну поболтать, когда все разъедутся (и мне это доставит куда больше удовольствия). Думаю, я заслужила немножко покоя, у меня было сорок пять гостей, и сорок два из сорока пяти говорили о картине Жерома![71] Ну приходите же на днях, – говорила она мне, – приходите попить чаю с Жильбертой, она его заварит, как вы любите, такой же чай, как вы пьете в вашей маленькой «студии», – добавляла она и убегала к гостям; можно было подумать, что она знает мои привычки или что в их таинственный мир я приходил, например, за чаем (если допустить, что я вообще пил чай; что до «студии», я и сам не знал, есть у меня студия или нет). «Когда вы придете? Завтра? Мы вам поджарим тосты не хуже, чем у Коломбена[72]. Ах, не придете? Негодник!» – говорила она; с тех пор как у нее завелся салон, она, в подражание г-же Вердюрен, усвоила тон жеманного деспотизма. Впрочем, я понятия не имел, что такое тосты и кто такой Коломбен, так что этот ее посул не производил на меня впечатления. Но вот что удивительно – ведь теперь уже и в Комбре, наверное, все знают это слово: когда г-жа Сванн принялась расхваливать нашу старую «nurse»[73], я в первую минуту не понял, кого она имеет в виду. Английского я не знал, но быстро сообразил, что это слово обозначает Франсуазу. Как я боялся на Елисейских Полях, что она производит ужасное впечатление, а теперь узнал от г-жи Сванн, что они с мужем прониклись ко мне симпатией именно благодаря тому, что Жильберта рассказывала ей о Франсуазе. «Сразу видно, как она вам предана, какая она славная». (И отношение мое к Франсуазе тут же переменилось. Более того, я почувствовал, что иметь наставницу в плаще и с перышком совершенно ни к чему.) И наконец по нескольким словам, вырвавшимся у г-жи Сванн, я понял, что г-жа Сванн тяготится визитами г-жи Блатен, хоть и признаёт, что это весьма любезная дама, так что мои личные отношения с ней не имели такого значения, как я воображал, и нисколько не возвышали меня в глазах Сваннов.
Да, я уже начал с дрожью почтительной радости исследовать волшебные области, которые нежданно-негаданно распахнули передо мной свои закрытые доныне аллеи, но лишь потому, что я был другом Жильберты. Королевство, куда я был допущен, само было лишь частью другого, еще более таинственного, где вели свою фантастическую жизнь Сванн и его жена и куда они удалялись, пожав мне руку, когда сталкивались со мной в передней. Но вскоре я проник и в самый алтарь святилища. Например, Жильберты не было дома, а г-н или г-жа Сванн были. Они спрашивали, кто звонил в дверь, и, узнав, что это я, передавали, что просят меня заглянуть к ним на минутку – каждый раз речь шла о том, чтобы я употребил свое влияние на Жильберту, чтобы добиться от нее того-то и того-то. Я вспоминал такое логичное, такое убедительное письмо, которое когда-то написал Сванну и на которое он даже не соизволил ответить. Меня поражало, насколько разум, доводы рассудка и страсть бессильны хоть что-нибудь переменить, разрешить хотя бы одну из тех проблем, которые потом легко распутывает жизнь, а мы даже не понимаем, как она это делает. Благодаря своему новому положению друга Жильберты, имеющего на нее огромное влияние, я располагал теперь теми же преимуществами, как если бы в школе, где я всегда считался первым учеником, в одном классе со мной учился королевский сын и я, благодаря этой случайности, был бы вхож во внутренние покои дворца и удостаивался аудиенций в тронном зале; Сванн, с неисчерпаемой благожелательностью, откладывал ради меня славные деяния, которыми вечно был занят, приглашал меня в библиотеку, и там я целый час кряду лепетом и застенчивым молчанием, перемежавшимися изредка нелепыми вспышками отваги, отвечал на его речи, в которых от волнения не понимал ни слова; он показывал мне произведения искусства и книги, которые, на его взгляд, могли меня заинтересовать, и я заранее был уверен, что они бесконечно прекраснее всего, что хранится в Лувре и в Национальной библиотеке, но совершенно не способен был их разглядывать. В такие минуты я бы с радостью отдал его дворецкому свои часы, булавку для галстука, ботинки, подписал бы документ, объявляющий этого дворецкого моим наследником, если бы ему вздумалось меня об этом попросить; короче, я был «не в себе», как гласит прекрасное народное выражение, чей автор нам так же неведом, как авторы самых знаменитых эпических поэм, хотя, вопреки теории Вольфа[74], автор у него непременно был (один из тех изобретательных и скромных умов, какие встречаются в любую эпоху и кому мы обязаны находками вроде выражения «сделать себе имя», хотя своих имен нам эти люди не оставили). Только одно удивляло меня, когда визит затягивался: как бесплодно пролетали эти часы, проведенные в зачарованной обители, почему-то никогда не приводившие ни к какому счастливому завершению. Но мое разочарование не было вызвано ни недостатками шедевров, которые мы рассматривали, ни моей неспособностью остановить на самих шедеврах рассеянный взгляд. Ведь не из-за красоты, присущей вещам, пребывание в кабинете Сванна представлялось мне чудом, а из-за того, что эти вещи – все равно, прекрасные или безобразные, – навевали на меня особую печальную негу, которой я давным-давно отвел место именно здесь, и поныне всё здесь было ею пропитано; и множество зеркал, серебряных щеток, изображений святого Антония Падуанского, изваянных и написанных выдающимися художниками, друзьями г-жи Сванн, не виноваты были в том, что я чувствовал, как недостоин ее королевского благоволения, когда она ненадолго зазывала меня к себе в комнату, где три прекрасных и величественных создания – ее первая, вторая и третья камеристки, – улыбаясь, сновали вокруг восхитительных нарядов, когда, следуя приказу, доставленному лакеем в куцых кюлотах и гласившему, что мадам желает мне что-то сказать, я шел извилистой тропой благоуханного коридора, овеянного драгоценными эссенциями, беспрестанно источавшими из туалетной комнаты свои душистые испарения.
Когда г-жа Сванн возвращалась к гостям, нам по-прежнему был слышен ее голос и смех, потому что даже ради двух людей она, словно вынужденная противостоять всем своим «приятельницам» сразу, повышала тон и выделяла голосом отдельные слова: она ведь часто слышала, как это делала «хозяйка» в своей «тесной компании» в те минуты, когда «направляла разговор». Обычно мы больше всего любим пользоваться, по крайней мере некоторое время, выражениями, которые недавно усвоили от других; г-жа Сванн пускала в ход словечки, которые иной раз подхватывала у людей изысканных и элегантных, с которыми ее волей-неволей знакомил муж (у них она переняла манерную привычку опускать артикль или указательное местоимение перед прилагательным, характеризующим человека), а иной раз – у самых что ни на есть вульгарных (например: «Ну вот разве что!» – излюбленное выражение одной из ее подруг), – и пыталась вставить их во все истории, которые обожала рассказывать по привычке, приобретенной в «тесной компании». Потом она обычно прибавляла: «Обожаю эту историю!» или «Согласитесь, история прелестная!» – это передалось ей через Сванна от Германтов, с которыми она знакома не была.
Г-жа Сванн уходила из столовой, но тут возвращался домой ее муж и в свой черед заглядывал к нам. «Жильберта, ты не знаешь, мама одна?» – «Нет, папа, у нее еще гости». – «Как, до сих пор? Уже семь часов! Это невыносимо. Бедняжка, она, наверно, с ног падает. Какой кошмар! (Дома у нас слово „кошмар“ всегда произносили по слогам, растягивая первый слог: „Кааш-мар!“ – а Сванны проговаривали его быстро, с коротеньким „а“). Вы подумайте, с двух часов! – продолжал он, обращаясь ко мне. – И Камиль сказал, что от четырех до пяти пришло целых двенадцать человек. Да какое двенадцать, он, по-моему, сказал „четырнадцать“. Нет, все-таки двенадцать, ну не важно. Я не помнил, что у нее сегодня прием, и, когда приехал домой и увидел все эти экипажи у ворот, я решил, что в доме свадьба. И пока я сижу у себя в библиотеке, у дверей звонок за звонком, честное слово, у меня уже голова болит. А там у нее еще много народу?» – «Нет, только две гостьи». – «А кто именно?» – «Госпожа Котар и госпожа Бонтан». – «А, жена начальника канцелярии министра общественных работ». – «Я знаю, что ее муж работает где-то в министерстве, а кем этот дяденька работает – не знаю», – нарочно по-детски отвечала Жильберта.
– Ты чего, глупенькая, заговорила, будто тебе два года? И что значит «работает где-то в министерстве»? Он просто-напросто начальник канцелярии, главный над всей лавочкой, и потом, погоди, я, кажется, такой же рассеянный, как ты, он же не просто начальник, а директор канцелярии.
– Откуда я знаю; а что, директор канцелярии – важная персона? – осведомлялась Жильберта, не упускавшая случая показать свое равнодушие к суетным заботам родителей (хотя возможно, она думала, что подчеркивает значение столь блестящего знакомства, если притворяется, будто ничуть его не ценит).
– Что значит – важная персона! – восклицал Сванн, предпочитавший называть вещи своими именами, чтобы излишняя скромность не ввела меня в заблуждение. – Да он первое лицо после самого министра! Он даже важнее министра, потому что все дела у него в руках. И кстати, я слыхал, что он выдающийся человек, очень способный и незаурядный. У него орден Почетного легиона. Прелестный человек, да еще и красавец.
Между прочим, жена пошла за него наперекор всем и вся, пленившись его «обаянием». Он обладал редким и изысканным сочетанием: белокурая шелковистая бородка, правильные черты лица и притом гнусавый голос, дурной запах изо рта и стеклянный глаз.
– Я вам скажу, – добавлял он, обращаясь ко мне, – забавно мне видеть всех этих людей в нынешнем правительстве; этот Бонтан из семьи Бонтан-Шеню, всё это типичная реакционная клерикальная буржуазия с ограниченными понятиями. Ваш бедный дедушка прекрасно знал, по меньшей мере в лицо и по репутации, старого папашу Шеню (он не давал ни гроша на чай кучерам, даром что в те времена был богачом) и барона Брео-Шеню. Всё их богатство рухнуло из-за краха банка «Всеобщий союз»[75], вы слишком молоды и этого не помните, но потом они, конечно же, наверстали всё, что можно.
– Это дядя одной девочки, которая ходила со мной на занятия, хотя она на несколько классов младше, ну, знаешь, той самой Альбертины. Она, конечно, будет очень «fast»[76], но пока она ужасно странная.
– Поразительная у меня дочка: всех знает!
– Ее я не знаю. Я только видела, как она идет, и все ее то и дело окликают: Альбертина да Альбертина. А госпожу Бонтан я знаю, и она мне тоже не нравится.
– Ты совершенно не права, она очаровательна, хороша собой, умница. И даже с чувством юмора. Пойду поздороваюсь с ней, спрошу, что думает ее муж: будет ли война и можно ли полагаться на царя Теодоза. Он должен это знать, он ведь посвящен в тайны небожителей.
Раньше Сванн разговаривал по-другому; но мы ведь слышим сплошь и рядом истории о том, например, как принцесса королевской крови, очень простая и милая, сбежала с лакеем, но вот проходит время, и ей снова хочется видеть прежних знакомых, между тем она чувствует, что они не очень-то расположены ее навещать; и вдруг она начинает говорить на языке старых зануд, и когда при ней называют какую-нибудь герцогиню, пользующуюся успехом в свете, наша принцесса тут же сообщает: «Вчера она у меня была!», а потом сразу: «Я живу очень уединенно»… К чему изучать нравы? Ведь их можно вывести из законов психологии.
Сваннам была теперь свойственна причуда, общая для всех, к кому ходит мало знакомых: визит мало-мальски заметной личности, или приглашение к ней в гости, или простая любезность со стороны этой личности были для них важным событием, которому они стремились придать огласку. Если, на беду, Вердюрены оказывались в Лондоне именно в тот день, когда Одетта ожидала к обеду хоть сколько-нибудь блестящих гостей, прилагались все усилия, чтобы кто-нибудь из общих друзей телеграфировал им эту новость через Ла-Манш. Сванны были не в состоянии приберечь для себя даже полученные Одеттой лестные письма и телеграммы. О них рассказывали друзьям, их передавали из рук в руки. Гостиная Сваннов напоминала курортные гостиницы, где телеграммы выставлены напоказ. Словом, те, кто знал прежнего Сванна не в домашней обстановке, как я, а только по высшему свету, по кругу Германтов, где от всех, за исключением разве что светлостей да высочеств, безоговорочно требовались остроумие и шарм, где отвергали самых выдающихся людей, если они были скучными или вульгарными, – все эти старые знакомые должны были удивляться, что тот самый Сванн, когда речь шла о его связях, утрачивал всякую скромность и даже разборчивость. Почему его не раздражала г-жа Бонтан, такая заурядная, такая ничтожная? Как он мог ее расхваливать? Казалось бы, память о Германтах должна была его остановить, а на самом деле она-то его на это и толкала. У Германтов, в отличие от трех четвертей светских компаний, безусловно, царил вкус, утонченный вкус, но был там и снобизм, диктовавший временные отступления от хорошего вкуса. Когда речь заходила о человеке, без которого в этом кружке можно было обойтись, о каким-нибудь министре иностранных дел, надутом республиканце, болтливом академике, против него восставал хороший вкус, и Сванн сочувствовал герцогине Германтской, ведь в посольстве ей приходится обедать с такими людьми; в тысячу раз больше ценились люди светские, то есть принадлежащие к кругу Германтов, пускай совершенно никчемные, но зато обладающие германтским остроумием, короче, свои. Но если у герцогини Германтской часто обедала великая герцогиня или принцесса крови, она тоже считалась своей, хотя не имела на то никаких оснований и была начисто лишена остроумия. Сказать, что ее принимают оттого, что она очаровательна, было невозможно, однако, раз уж приходилось ее принимать, светские люди самым простодушным образом ухитрялись внушить себе, что она не лишена очарования. И Сванн, приходя на помощь герцогине Германтской, говорил после ухода ее светлости: «Славная женщина, в сущности, даже в какой-то мере наделена чувством юмора. Видит бог, не думаю, что она способна вникнуть в „Критику чистого разума“, но в общем с ней вполне можно поговорить». – «Совершенно с вами согласна, – отвечала герцогиня. – Она сегодня немного стеснялась, но вот увидите, иногда она бывает прелестна». – «И далеко не такая зануда, как г-жа Х (жена болтливого академика, особа весьма примечательная), которая только и знает, что сыпать цитатами». – «Даже и сравнивать нечего». Говорить такие вещи, причем говорить искренне, Сванн научился в доме герцогини, и это умение у него сохранилось. Теперь он пускал его в ход с людьми, которых принимал у себя. Он изо всех сил старался разглядеть и полюбить в них те достоинства, которые можно обнаружить в любом человеке, если смотреть на него дружески пристрастно, а не придирчиво; он подчеркивал достоинства г-жи Бонтан, как в свое время – достоинства принцессы Пармской, которую следовало бы изгнать из круга Германтов, если бы некоторым высочествам не полагались особые привилегии и если бы, когда судили о столь высокопоставленных особах, во внимание принимали только остроумие да обаяние. Впрочем, мы уже и раньше видели, что у Сванна была склонность (с годами укрепившаяся) выбирать себе в свете такое положение, которое ему больше подходило в данный момент. Только человек, неспособный мысленно разложить на составные части то, что лишь на первый взгляд кажется неделимым, воображает, что положение в свете тесно связано с личностью того, кто это положение занимает. В разные моменты жизни мы оказываемся то на одной ступеньке общественной лестницы, то на другой, причем не обязательно на всё более и более высокой; и всякий раз, когда мы завязываем новые отношения в новой для себя среде и чувствуем, что нас в ней любят и лелеют, мы вполне естественно начинаем врастать в нее новыми корнями человеческих отношений.
Что до г-жи Бонтан, думаю, что, упоминая о ней так настойчиво, Сванн и впрямь был не прочь, чтобы мои родители узнали, что она приезжает в гости к его жене. Правду сказать, у нас дома имена людей, с которыми г-же Сванн постепенно удалось перезнакомиться, вызывали не столько восхищение, сколько любопытство. Слыша про г-жу Тромбер, мама говорила:
– Ценное пополнение: она приведет за собой других.
И, сравнивая стремительный и неудержимый натиск, с которым г-жа Сванн завоевывала новых знакомых, с колониальной войной, мама добавляла:
– Теперь, когда Тромберы покорены, соседние племена сдадутся одно за другим.
Встречая г-жу Сванн на улице, она потом говорила нам:
– Я видела г-жу Сванн на тропе войны: она мчалась в победоносную атаку на массешутосов[77], сингалезов или тромберов.
И о ком бы я ни рассказывал маме из людей, встреченных мной в этой несколько разношерстной и искусственной компании, в которую их завлекали из самых разных сфер, подчас с изрядным трудом, она тут же догадывалась, откуда они взялись, и говорила о них как о взятых с бою трофеях:
– Добыт в экспедиции к такому-то.
Отец удивлялся, какие выгоды г-жа Сванн видит в завоевании г-жи Котар, не слишком светской буржуазной дамы; он говорил: «Не понимаю, несмотря даже на ее мужа-профессора!» Мама, напротив, прекрасно всё понимала; она знала, что любая женщина, радуясь, что сумела проникнуть в новый для нее круг, не испытает полного торжества, если нельзя будет рассказать о новых связях старым, менее блестящим знакомым, которым эти новые пришли на смену. Для этого нужен свидетель, который проникнет в этот новый восхитительный мир, как летучее жужжащее насекомое в сердцевину цветка, а потом, носясь по гостям, повсюду разнесет добытую новость, а заодно, если повезет, – семена зависти и восхищения. Г-жа Котар идеально для этого годилась и входила в ту особую категорию гостей, о которых мама, отчасти унаследовавшая склад ума своего отца, говорила: «Путник, пойди возвести в Лакедемоне!»[78] К тому же – помимо другой причины, о которой стало известно только годы спустя, – г-жа Сванн, зазывая на свои блестящие приемы эту благожелательную, скромную и сдержанную подругу, не опасалась ни предательства, ни соперничества. Она знала, какое множество буржуазных цветков могла облететь за день эта прилежная труженица, вооруженная эгреткой и футляром для визитных карточек. Она знала ее таланты по части опыления и, исходя из расчета вероятностей, предполагала, что такой-то завсегдатай Вердюренов, скорее всего, уже послезавтра будет знать о визитных карточках, которые ей завез губернатор Парижа, или что сам г-н Вердюрен услышит, как г-н Лео де Прессаньи, председатель Конных состязаний, возил Сваннов на парадный обед в честь царя Теодоза; она предполагала, что Вердюренам сообщили только об этих двух лестных для нее событиях: ведь, гоняясь за славой, мы воображаем себе не так уж много ее разных воплощений, и хотя в глубине души надеемся, что она явится к нам и в таком виде, и в этаком, но сразу охватить умом все это разнообразие форм мы просто не в силах.
Впрочем, г-жа Сванн достигла успехов только в так называемых «официальных кругах». Дамы из высшего света к ней не ездили. И отпугивало их не присутствие влиятельных республиканцев. Во времена моего детства уместным в свете считалось только то, что относилось к консервативному обществу, и в приличном салоне никак не могли принимать республиканца. Те, кто жил в светском обществе, воображали, что запрет на приглашение в гости «оппортуниста», а тем более ужасного «радикала», так же вечен, как масляные лампы и конка. Но общество подобно калейдоскопу, который время от времени встряхивают: расположение стеклышек кажется неизменным, но на самом деле от каждой встряски оно меняется и складывается в новый узор. Я еще и к первому причастию не ходил, когда благонамеренные дамы, к своему изумлению, стали встречать на приемах элегантных евреек. Этот новый узор в калейдоскопе сложился благодаря тому, что философ назвал бы переменой критерия. Вскоре после того, как я начал ходить к г-же Сванн, разразилось дело Дрейфуса и возник новый критерий, из-за которого цветные стеклышки в калейдоскопе опять легли по-другому. Всё еврейское, в том числе элегантные еврейские дамы, ушло на дно, а на поверхность поднялись никому не ведомые националисты. Самым блестящим парижским салоном стал ультракатолический салон австрийского принца. Случись вместо дела Дрейфуса война с Германией, и калейдоскоп развернулся бы в другую сторону. Евреи, оказавшись, ко всеобщему удивлению, патриотами, сохранили бы свое положение в свете, и никто бы не захотел пойти к австрийскому принцу и даже не признался бы, что в свое время к нему ходил. При всем том, когда общество на какое-то время застывает в неподвижности, те, кто к нему принадлежит, воображают, что больше никаких перемен уже не будет; так, видя, как входит в жизнь телефон, они не желают верить в аэроплан. А тем временем здравомыслящие журналисты клеймят предшествующую эпоху – и не только развлечения, которые были тогда приняты, а теперь кажутся безобразно растленными, но даже произведения искусства, даже философские труды, которые в их глазах теряют всякую ценность, как будто они неотделимы от сменяющих одна другую форм светского легкомыслия. Единственное, что не меняется, – это возникающее всякий раз ощущение, что «во Франции что-то изменилось». В тот момент, когда я ходил к г-же Сванн, еще не грянуло дело Дрейфуса, и некоторые евреи пользовались огромным влиянием. Одним из самых могущественных был сэр Руфус Израэльс, чья жена, леди Израэльс, приходилась теткой Сванну. У нее самой не было в высшем обществе таких близких друзей, как у ее племянника, да он ее и не слишком любил, и мало с ней общался, хоть ему и предстояло, по всей вероятности, быть ее наследником. Но она единственная из всей родни Сванна представляла себе его положение в свете; другие пребывали на его счет в таком же заблуждении, в каком долгое время были и мы. Когда один из членов семьи эмигрирует в высшее общество (причем ему-то это кажется чрезвычайным событием, но лет через десять оказывается, что тот же путь, пускай иначе и по другим причинам, проделали многие из тех, что росли вместе с ним), он очерчивает вокруг себя некую темную зону, terra incognita, которая прекрасно видна в малейших подробностях тем, кто принадлежит тому же кругу, но для тех, кто туда не проникает и ходит вокруг да около, не подозревая о ее существовании, она остается областью мрака и пустоты. Никакое агентство «Гавас»[79] не просветило кузин Сванна на предмет его знакомых, поэтому (до его ужасной женитьбы, разумеется) на семейных обедах они рассказывали друг другу со снисходительными улыбками, что посвятили воскресенье благородному делу: навестили «кузена Шарля», который считался у них чем-то вроде бедного родственника; они острили, что он кузен Понс и кузина Бетта в одном лице[80]. Сама-то леди Руфус Израэльс прекрасно знала, какие люди, ей на зависть, дарили Сванну сокровища своей дружбы. Семья ее мужа – во многом напоминавшая семью Ротшильдов – на протяжении нескольких поколений вела дела принцев Орлеанских. Несметно богатая леди Израэльс располагала огромным влиянием, которое употребила на то, чтобы никто из ее знакомых не принимал у себя Одетту. Только одна приятельница тайком ее ослушалась. Это была графиня де Марсант. На беду, случилось так, что Одетта приехала с визитом к г-же де Марсант, и в то же самое время к ней явилась леди Израэльс. Г-жа де Марсант была как на иголках. С трусостью, свойственной людям, которые на самом деле могут себе позволить всё, что угодно, она за весь визит не сказала Одетте ни единого слова и тем отбила у нее охоту вторгаться в мир, куда, впрочем, Одетте не так уж и хотелось проникнуть. Одетта в этом смысле оставалась необразованной кокоткой: она была глубоко равнодушна к Сен-Жерменскому предместью, в отличие от буржуа, искушенных в тонкостях генеалогии и пытающихся заглушить жажду аристократических знакомств, в которых реальная жизнь им отказывает, чтением старинных мемуаров. А Сванн, судя по всему, продолжал ее любить, и казалось, что все эти свойства бывшей любовницы ему нравятся или, по крайней мере, его не раздражают: нередко она при мне изрекала то, что в обществе сочли бы сущей ересью, а он и не пытался ее поправлять – не то из остатков нежности, не то по отсутствию уважения, не то просто от лени. Возможно, в этом проявлялась его скромность, которая так долго обманывала нас в Комбре: сам по себе, без жены, он по-прежнему знался с самыми блестящими людьми, но совершенно не стремился к тому, чтобы в разговорах, звучавших в ее салоне, об этих людях отзывались с почтением. Впрочем, для Сванна теперь эти люди значили меньше, чем когда бы то ни было; центр тяжести в его жизни сместился. А невежество Одетты в светских материях было таково, что, если в разговоре упоминали герцогиню Германтскую, а потом сразу принцессу Германтскую, ее кузину, Одетта замечала: «Смотри-ка, они уже принцы – наверно, повышение получили». А если кто-нибудь, говоря о герцоге Шартрском, называл его «принц», она поправляла: «Герцог, он герцог Шартрский, а не принц»[81]. А о герцоге Орлеанском, сыне графа Парижского: «Забавно, сын важнее отца» – и добавляла: «В этих „Royalties“[82] запутаться можно»; а когда ее спросили, из какой провинции родом Германты, она ответила: «Из Эны»[83].
Однако Сванн упорно не видел не только пробелов в образовании Одетты, но и ограниченности ее ума. Более того, всякий раз, когда Одетта рассказывала какую-нибудь глупость, Сванн слушал жену благодушно, весело, чуть не с восхищением, к которому, наверно, примешивались остатки влечения; зато все те тонкие и даже глубокие мысли, которые высказывал он в том же разговоре, обычно не вызывали у Одетты интереса, она слушала наспех, нетерпеливо и подчас яростно возражала. Пожалуй, в семье элитарность нередко бывает в рабстве у вульгарности; можно вспомнить многих замечательных женщин, которые дают себя очаровать грубияну, безжалостному цензору их самых утонченных суждений, а сами с бесконечной ласковой снисходительностью приходят в восторг от плоских и пошлых шуток. Возвращаясь к причинам, препятствовавшим в то время Одетте проникнуть в Сен-Жерменское предместье, нужно сказать, что самый недавний поворот светского калейдоскопа был вызван серией скандалов. Оказалось, что женщины, к которым все доверчиво ездили в гости, – на самом деле публичные девки и английские шпионки. Некоторое время от людей требовали (по крайней мере, так считалось), чтобы они вели себя солидно, имели приличную репутацию… Одетта олицетворяла именно всё то, от чего в обществе решительно отказались, хотя очень скоро к этому вернулись опять (потому что никто не меняется в мгновение ока и в новом укладе все хотят видеть продолжение старого: меняются только формы, чтобы людям было удобно себя обманывать, воображая, что общество уже совсем не то, что до кризиса). А Одетта больно уж была похожа на этих «разоблаченных» обществом дам. Светские люди изрядно близоруки; как только они прекратили всякие отношения со знакомыми еврейскими дамами, в их жизни образуется пустота, и пока они ломают себе голову, как ее заполнить, внезапно перед ними вырастает, откуда ни возьмись, новая дама, тоже еврейского происхождения; но благодаря ее новизне они в мыслях не связывают ее, как всех предыдущих, со всем тем, что им, как они полагают, ненавистно. Она не требует, чтобы они почитали ее бога. И ее принимают. В ту эпоху, когда я начал ходить к Одетте, об антисемитизме не было речи. Но в ней было нечто общее со всем тем, чего тогда людям хотелось избегать.
Сванн часто навещал некоторых своих старинных, а значит, принадлежащих самому высшему обществу, знакомых. Между тем, когда он рассказывал нам о людях, с которыми недавно встречался, я заметил, что, выбирая, кому бы из старых знакомых нанести визит, он руководствуется тем самым вкусом к искусству и к истории, который вдохновлял его на коллекционирование. Замечая, что иногда какая-нибудь дама, прежде блиставшая, а теперь забытая и отверженная, интересует его потому, что в свое время она была возлюбленной Листа или Бальзак посвятил роман ее бабке (точно так он покупал какой-нибудь рисунок, потому что он был описан Шатобрианом), я заподозрил, что, считая Сванна одним из самых светских людей в Париже, мы заблуждаемся на его счет так же, как раньше, в Комбре, когда воображали, что он буржуа, не вхожий в высший свет. Дружба с графом Парижским ничего не значит. Мало ли людей, которые дружат с принцами, а между тем их не примут ни в одном салоне, мало-мальски закрытом для посторонних? Принцы знают, что они принцы, они не снобы и к тому же считают себя настолько выше тех, кто не равен им по крови, что не видят особой разницы между аристократом и простым буржуа: и тот и другой ниже их.
Впрочем, Сванн не ограничивался наблюдениями над обществом и простыми радостями эрудита, знатока икусства, которые он черпал в именах, накрепко запечатленных минувшим на скрижалях этого общества; он, кроме того, развлекался нехитрой игрой, составляя из светских знакомых что-то вроде букетов, группируя разнородные элементы и соединяя вместе людей, подхваченных то тут, то там. Эти опыты в области занимательной социологии (Сванн, во всяком случае, находил ее занимательной) не всегда и не всем друзьям его жены нравились одинаково. «Я намерен пригласить Котаров вместе с герцогиней Вандомской», – говорил он, посмеиваясь, г-же Бонтан с видом гурмана, решившего себя побаловать разнообразием и заменить в соусе гвоздику кайенским перцем. Этот план должен был очень понравиться Котарам, но г-жа Бонтан, разумеется, приходила от него в ярость. Ее саму Сванн представил герцогине Вандомской не так давно, и ей это было приятно и показалось в порядке вещей. Существенной частью удовольствия было то, что потом она похвасталась этим знакомством перед Котарами. Но те, кто только что получил орден, мечтают, чтобы сразу после этого источник наград иссяк; вот так и г-же Бонтан хотелось бы, чтобы после нее принцессу больше уже не знакомили с другими представительницами ее круга. Про себя она проклинала извращенный вкус Сванна, ради жалкой эстетской причуды одним махом развеявшего всю пыль, которую она пустила в глаза Котарам, разглагольствуя перед ними о герцогине Вандомской. Как она осмелится сообщить мужу, что профессор с женой в свою очередь удостоятся порции того самого удовольствия, уникальность которого г-жа де Бонтан так ему расписывала? Если бы Котары хотя бы догадывались, что их пригласили не просто так, а для смеху! Правда, Бонтанов пригласили с тою же целью, но Сванн перенял у аристократии вечное донжуанство, помогающее уверить двух крестьяночек сразу, что каждая из них, в отличие от другой, любима по-настоящему; поэтому, говоря с г-жой Бонтан о герцогине Вандомской, он уверил ее, что жаждал свести их вместе за обедом. «Да, мы собираемся пригласить принцессу одновременно с Котарами, – сказала через несколько недель г-жа Сванн, – муж считает, что такое сочетание будет занятным» (хоть она и вынесла из «тесной компании» кое-какие излюбленные привычки г-жи Вердюрен, например кричать как можно громче, чтобы все «верные» ее услышали, но умела и к месту ввернуть такие словечки, как «сочетание», ценимые в кругу Германтов, чье притяжение Одетта невольно испытывала издали, хотя на самом деле нисколько к ним не приближалась – так море испытывает притяжение луны). «Да, Котары и герцогиня Вандомская – это будет занятно, не правда ли?» – подхватил Сванн. «По-моему, это будет ужасно и у вас от этого будут одни неприятности, не следует играть с огнем», – возразила в ярости г-жа Бонтан. Впрочем, ее с мужем, а также принца Агригентского, пригласили на тот же обед, о чем потом и г-жа Бонтан, и Котар рассказывали в двух разных манерах, в зависимости от того, с кем говорили. Одним, когда спрашивали, кто еще был на обеде, и г-жа Бонтан, и Котар небрежно сообщали: «Был только принц Агригентский, собрались все свои». Но другие осмеливались показать, что и они в курсе дела (кто-то даже сказал Котару: «А разве Бонтанов там не было?» – «Я о них позабыл», – краснея, ответил доктор и с тех пор спросивший числился у него среди «злых языков»). Для этих и Бонтаны, и Котар, не сговариваясь, выработали версию, в которой основная канва совпадала и только имена тех и других менялись местами. Котар говорил: «Были только хозяева дома, герцог и герцогиня Вандомские, а также (с милой улыбкой) профессор и госпожа Котар, и еще бог его знает почему господин и госпожа Бонтан, которые торчали как бельмо на глазу». Г-жа Бонтан исполняла в точности ту же арию, только между герцогиней Вандомской и принцем Агригентским с радостным пафосом назывались г-н и г-жа Бонтан, а теми, кто был совершенно некстати и чуть ли не явился без приглашения, оказывались Котары.
Нередко Сванн возвращался с визитов прямо к обеду. Когда-то в этот час, в шесть вечера, он чувствовал себя таким несчастным, а теперь он уже не ломал себе голову, чем занята Одетта, и его не слишком волновало, сидят ли у нее гости или она куда-то уехала. Иногда он вспоминал, как немало лет тому назад пытался прочесть сквозь конверт письмо, написанное Одеттой Форшвилю. Но это было неприятное воспоминание, и, не желая погружаться в стыд, который оно в нем пробуждало, он кривил губы, а если этого было мало – мотал головой, что означало: «Какая теперь разница?» Разумеется, теперь он понимал: гипотеза, которой он когда-то часто утешался, гласившая, что Одетта ни в чем не виновата и что всё неприглядное в ее жизни есть лишь его выдумки, продиктованные ревностью, гипотеза, в сущности, благотворная, потому что, пока он был болен любовью, она утоляла его страдания, уверяя его, что всё это лишь игра его воображения, – эта гипотеза оказалась ошибочной, ревность не вводила его в заблуждение: пускай Одетта любила его больше, чем ему казалось, но зато и обманывала его чаще, чем он подозревал. Когда-то, когда он так страдал, он поклялся себе, что, как только разлюбит Одетту и не будет бояться рассердить ее и показать, что слишком ее любит, он непременно добьется от нее ответа – просто из любви к истине и для уточнения этой части истории, – спала ли она с Форшвилем в тот день, когда он звонил к ней в дверь и стучал в окно, а она ему не открыла и потом написала Форшвилю, что к ней приезжал ее дядя. Но проблема, до такой степени интересовавшая Сванна, что он с нетерпением ждал, когда перестанет ревновать, чтобы всё точно выяснить, потеряла для него всякий интерес, когда он избавился от ревности. Однако это произошло не сразу. Одетту он уже не ревновал, но память о дне, когда он понапрасну стучался в двери особнячка на улице Лаперуза, всё еще возбуждала в нем ревность. Это чувство было словно те болезни, очаг распространения которых кроется не в людях, а в каких-то определенных местностях, в каких-то домах: оно было нацелено не столько на саму Одетту, сколько на тот день, на тот час из потерянного прошлого, когда Сванн стучался во все двери и окна особняка Одетты. Можно подумать, что только в этом дне, в этом часе задержались последние частички влюбленности, которой некогда был одержим Сванн, и только там он и мог еще отыскать остатки этой влюбленности. Уже давно его не заботило, изменяла ли ему Одетта раньше и изменяет ли теперь. А все-таки в течение нескольких лет он продолжал отыскивать бывших слуг Одетты: его по-прежнему терзало любопытство, ему нужно было знать, спала ли она с Форшвилем в тот давно минувший день, в шесть часов. Потом исчезло и любопытство, а розыски всё еще продолжались. Он по-прежнему пытался выяснить то, что его больше не интересовало, потому что его прежнее «я», уже дряхлое и немощное, машинально еще проделывало всё то, на что толкали его былые тревоги, ныне развеявшиеся, хотя Сванн даже уже не сознавал того беспокойства, которое когда-то терзало его с такой силой, что он не мог себе представить избавления от этой муки: тогда ему казалось, что только смерть любимой женщины (смерть, которая, как будет видно из жестокого повторного опыта, описанного дальше в этой книге, ничем не смягчает мук ревности) расчистит перед ним дорогу его жизни, перегороженную теперь глухой стеной.
Но разузнать когда-нибудь подробности жизни Одетты, которые принесли ему столько страданий, было не единственным желанием Сванна; ему хотелось еще и отомстить за эти страдания, когда он разлюбит Одетту и перестанет ее бояться; наконец ему представилась возможность исполнить это второе желание, потому что Сванн полюбил другую женщину, не подававшую ему поводов для ревности, хотя он все равно ее ревновал, потому что только так и умел любить: так он любил когда-то Одетту, а теперь так же любил другую. Чтобы вновь начать ревновать, Сванну не нужно было, чтобы эта женщина ему изменила; достаточно было, чтобы она почему-нибудь очутилась вдали от него, например на званом вечере, и чтобы ему казалось, что ей там весело. Этого было довольно, чтобы разбудить в нем старую тревогу, жалкий и ненужный нарост на его любви; тревога эта отгоняла от Сванна всё то, что ему нужно было, чтобы успокоиться (искреннее чувство, которое питала к нему молодая женщина, тайное желание, согревавшее ее жизнь, секреты ее сердца), потому что она, эта тревога, нагромождала между Сванном и его любимой упрямую груду прежних подозрений, порожденных Одеттой, а может, и другой женщиной, которая была до Одетты; из-за этих подозрений постаревшему влюбленному его нынешняя возлюбленная виделась только сквозь прежний собирательный призрачный образ «женщины, которую он ревнует»; в этом образе он по собственному произволу воплотил свою новую любовь. Правда, Сванн нередко сам осуждал свою ревность, говорил себе, что воображает измены, которых на самом деле нет; но тут же ему вспоминалось, что и с Одеттой он думал то же самое – и заблуждался. И всё, что его любимая делала в те часы, когда они были порознь, уже представлялось ему подозрительным. Но напрасно он клялся в давние времена, что если когда-нибудь перестанет любить ту, которую даже вообразить не мог в роли своей жены, то наконец-то неумолимо продемонстрирует ей свое искреннее равнодушие, отомстит ей за то, что она так долго его унижала: теперь-то он мог наказывать ее, ничем не рискуя (потому что не всё ли ему равно, если Одетта поймает его на слове и откажет ему в нежности, которая в прошлом была ему так необходима?), но ему расхотелось ее наказывать; вместе с любовью испарилось желание показать, что любви больше нет. Когда он страдал из-за Одетты, ему так хотелось, чтобы она рано или поздно увидела, что он влюблен в другую – а теперь, когда ему это было так просто сделать, он принимал тысячи предосторожностей, чтобы жена не узнала о его новой любви.
Мало того, что теперь я был гостем на приемах Жильберты, из-за которых в свое время она, к моему огорчению, меня покидала и возвращалась домой раньше обычного; мало того, что раньше в те дни, когда она вместо Елисейских Полей отправлялась с матерью на прогулку или на дневной спектакль, я без нее бродил в одиночестве по лужайке или мимо деревянных лошадок, а теперь г-н и г-жа Сванн брали меня в эти поездки, приглашали к себе в ландо и даже спрашивали, чего мне больше хочется, – поехать в театр, на урок танцев к подруге Жильберты, на светский прием к приятельницам Сваннов (эти приемы у них назывались «маленький meeting») или посетить гробницы Сен-Дени[84]. В дни моих экскурсий со Сваннами я приходил к ним на обед, который у г-жи Сванн назывался ланч; меня приглашали к половине первого, а родители мои в те времена обедали в четверть двенадцатого; они уже вставали из-за стола, а я еще только отправлялся в роскошный квартал, где всегда было довольно пустынно, особенно в те часы, когда все расходились по домам. Даже зимой, в мороз, если погода была солнечная, я прогуливался взад и вперед по широким улицам, то и дело поправляя узел великолепного галстука от Шарве[85] и проверяя, не запачкались ли мои лакированные ботинки, и ждал двадцати семи минут первого. Издали я замечал, как в палисаднике Сваннов сверкают на солнце голые деревья, покрытые инеем. Деревьев было, кстати, всего два. В столь необычный час это зрелище казалось новым. Природные красоты обостряли чувство новизны и даже раздразнивали голод; к ним примешивалось возбужденное предвкушение обеда у г-жи Сванн, которое не заставляло их потускнеть, но затмевало и подчиняло себе, превращая в аксессуары светской жизни; и если в это время дня мне неожиданно открывались солнце, холод, зимний свет (которых я обычно не замечал), всё это становилось своеобразным вступлением к яйцам в сметане, словно патина, словно свежая розовая глазурь, добавлявшаяся к облицовке таинственной часовни – жилища г-жи Сванн, – внутри которой скрывалось, наоборот, так много тепла, ароматов и цветов.
В половине первого я наконец решался войти в этот дом, который, казалось, как огромный рождественский сапожок, сулил мне неизъяснимые наслаждения. (Кстати, слова «Рождество» г-жа Сванн и Жильберта не признавали: они заменили его на «Кристмас» и толковали о пудинге, который готовят на Кристмас, о подарках, полученных на Кристмас, и – что поражало меня безумным горем – о том, куда они уедут на Кристмас. Даже у себя дома толковать о Рождестве мне казалось постыдным, я говорил только «Кристмас», что отец считал полной нелепостью.)
Сперва ко мне выходил только лакей, через несколько просторных гостиных он проводил меня в гостиную поменьше, где никого не было; сквозь оконные стекла уже сочились синие предвечерние грезы; я оставался один в обществе орхидей, роз и фиалок, молчаливых, как незнакомые люди, чего-то ждущие рядом с вами, и по этому молчанию цветов, неодушевленных, но живых, я догадывался, что они зябко наслаждались жаром раскаленных углей, заботливо уложенных позади прозрачной витрины в мраморном чреве камина и время от времени вспыхивавших опасными рубиновыми огоньками.
Я садился, но вскакивал, слыша, как отворяется дверь; однако это был всего лишь второй лакей, потом третий, и результат их хождения взад и вперед был ничтожен: они лишь добавляли угля в камин да воды в вазы. Они удалялись, я оставался один, дверь затворялась, и я ждал, когда наконец ее отворит г-жа Сванн. И уж конечно, я бы меньше волновался в волшебной пещере, чем в этой маленькой приемной, где огонь, казалось, участвовал в колдовских превращениях, словно в лаборатории Клингзора[86]. Опять слышались шаги, я уже не вставал – наверняка еще один лакей – но это был г-н Сванн. «Как, вы здесь сидите один? Что поделаешь, жена начисто лишена понятия о времени. Уже без десяти час. Каждый день обедаем позже, чем надо, и вот увидите, она появится, даже не подозревая, что опоздала». Сванн страдал псориазом и артритом, и когда жена то задерживалась на прогулке в Булонском лесу, то обо всем забывала на примерке у портнихи и опять и опять опаздывала к обеду, это сказывалось на его желудке, зато льстило самолюбию, что было несколько смешно.
Он показывал мне свои новые приобретения и объяснял, какой интерес они представляют, но мысли мои мешались из-за волнения, а также из-за того, что я не привык так поздно обедать, и в голове у меня было пусто: говорить я мог, а слушать был не в состоянии. Впрочем, мне было довольно и того, что произведения искусства, которыми обладал Сванн, находились у него в доме, а значит, тоже принадлежали изумительному предобеденному часу. Хранись у него Джоконда, она не доставила бы мне больше радости, чем капот г-жи Сванн или ее флаконы с нюхательной солью.
Я продолжал ждать вместе со Сванном и с Жильбертой, часто к нам присоединявшейся. Прибытие г-жи Сванн, подготовленное такими величественными явлениями прочих персонажей, представлялось мне событием безграничной важности. Я вслушивался в каждый скрип. Но соборы, волны в бурю и прыжки танцоров никогда не бывают так высоки, как мы ожидали; после ливрейных лакеев, похожих на вереницу фигурантов в театре, которая, предваряя вступление на сцену королевы в конце пьесы, отчасти смягчает впечатление от него, стремительно входила г-жа Сванн – в норковом пальтишке, в вуалетке, опущенной на красный от холода нос, никак не дотягивая до роившихся в моем воображении образов, которые предвосхищали ее появление.
А если она всё утро оставалась дома, в гостиную она входила в светлом крепдешиновом пеньюаре, который казался мне элегантней всех ее платьев.
Иногда Сванны решали провести целый день дома. И тогда, поскольку обедали поздно, очень скоро я начинал замечать, как над оградой палисадника закатывается солнце этого дня, казавшегося мне таким особенным, но сколько бы ламп ни вносили слуги (всех размеров и всех форм, эти лампы пылали на отведенных им алтарях – на консолях, на угловых тумбочках, на одноногих и четырехногих круглых столиках, словно озаряя отправление неведомого культа), в разговоре не рождалось ничего необыкновенного, и я уходил разочарованный, как в детстве, бывало, мы уходили со всенощной.
Но разочарование мое было чисто умственным. На самом деле я сиял от счастья в этом доме, где, даже если Жильберты со мной не было, она в любую минуту могла войти в комнату и подарить мне на целые часы свой разговор и внимательный улыбчивый взгляд, тот, что я впервые увидал в Комбре. Разве что время от времени меня постигало разочарование, потому что она нередко исчезала в просторных комнатах, в которые вела внутренняя лестница. Приходилось мне оставаться в гостиной, как возлюбленному актрисы, у которого есть только кресло в партере, и вот он беспокойно гадает, что же делается за кулисами, в артистическом фойе; чтобы узнать побольше про эти комнаты, я задавал Сванну искусно завуалированные вопросы, но в тоне моем все равно сквозила тревога, которой я не умел скрыть. Сванн объяснил, что Жильберта пошла в бельевую, вызвался мне ее показать и пообещал, что велит Жильберте брать меня с собой каждый раз, когда ей туда будет надо. Эти слова Сванна принесли мне внезапное облегчение: словно сократилась та ужасная внутренняя дистанция, в силу которой любимая женщина представляется нам такой далекой. В подобные минуты я испытывал к Сванну больше нежности, чем к Жильберте. Он был хозяином своей дочки, он вручал ее мне, а она иногда упиралась, и напрямую я имел над ней меньше власти, чем косвенно, через Сванна. И потом, ее-то я любил, а значит, не мог на нее смотреть без той растерянности, без той жажды чего-то еще, из-за которой мы в присутствии любимого существа перестаем чувствовать свою любовь.
Впрочем, чаще всего мы не сидели дома, мы отправлялись на прогулку. Иногда, прежде чем идти одеваться, г-жа Сванн садилась к роялю. Пальцы ее прекрасных рук, выглядывавших из розовых или белых, а иной раз очень ярких рукавов крепдешинового пеньюара, простирались над клавишами с той же меланхолией, которая светилась в ее глазах и которой не было у нее в сердце. В один из таких дней она сыграла мне ту часть сонаты Вентейля, в которой звучит столь полюбившаяся Сванну музыкальная фраза. Но если слушаешь в первый раз сложную музыку, часто бывает так, что ничего не слышишь. И всё же, когда потом мне два-три раза сыграли эту сонату, оказалось, что я ее прекрасно помню. И само это выражение, «слушать в первый раз», неправильное. Если бы мы в самом деле ничего не запоминали из первого прослушивания, второе и третье ничем бы не отличались от первого, да и с десятого раза мы едва ли могли бы что-нибудь понять. Вероятно, в первый раз нам не понимания недостает, а памяти. Потому что память наша ничтожна по сравнению со сложнейшими впечатлениями, которые обрушиваются на нас, пока мы слушаем; она коротка, как память спящего, в уме у которого мелькает тысяча вещей, тут же уходящих в забвение, или как память впавшего в детство, который не помнит то, что сказали ему минуту назад. Память не в состоянии немедленно восстановить для нас это множество впечатлений. Но воспоминание о них мало-помалу выстраивается в памяти, и, два-три раза прослушав какое-нибудь произведение, мы похожи на школьника, который перед сном несколько раз прочел урок и думал, что ничего не выучил, а наутро рассказал всё наизусть. Просто до сих пор я вообще не слышал этой сонаты, и если Сванн и его жена выделяли в ней какую-то отдельную фразу, то для моего восприятия эта фраза была так же недоступна, как забытое имя, которое мы пытаемся вспомнить, но находим только сплошную пустоту – а часом позже из этой пустоты, безо всякого усилия с нашей стороны, вдруг стремительно вынырнут слоги, которые мы тщетно искали. И мало того что мы не запоминаем сразу произведений, по-настоящему выдающихся, – даже внутри этих произведений (что и получилось у меня с сонатой Вентейля) поначалу мы воспринимаем наиболее слабые места. Когда г-жа Сванн сыграла мне ту самую знаменитую фразу, я не только ошибся, вообразив, будто эта соната ничего не может мне предложить, а потому долгое время не пытался услышать ее еще раз: я оказался в этом смысле таким же глупцом, как те, которые не ждут, что собор святого Марка в Венеции их поразит, потому что уже знают по фотографиям форму его куполов. Но более того: когда я уже прослушал сонату с начала до конца, она почти вся оставалась для меня невидима, словно памятник вдали или в тумане, от которого нам едва удается разглядеть разве что незначительные детали. Вот почему знакомство с такими шедеврами – как со всем, что разворачивается во времени, – навевает меланхолию. А когда в сонате Вентейля мне приоткрылось то, что пряталось глубже всего, – всё, что я заметил и полюбил сначала, уже стало для меня привычным и ускользало, уворачивалось от моего восприятия. Я мог любить то, что несла мне эта соната, только последовательно, отрывок за отрывком, то есть никогда не мог охватить ее всю целиком – в этом она была похожа на жизнь. Но шедевры разочаровывают нас меньше, чем жизнь: они не сразу предлагают нам самое лучшее, что в них есть. В сонате Вентейля те красоты, которые мы обнаруживаем прежде всего, быстрее всего нас утомляют – вероятно, потому, что меньше отличаются от того, что мы знали и раньше. Но когда мы от них отстранились, тут-то и наступает пора оценить ту фразу, которая раньше своей новизной только смущала наш разум; она не истрепалась, потому что мы каждый день проходили мимо нее, невидимой, неведомой, не замечая, не обращая внимания, – вот потому она, с ее властной красотой, приходит к нам напоследок. Мы и расстанемся с ней в последнюю очередь. И мы будем любить ее дольше, чем всё остальное, потому что нам понадобилось больше времени, чтобы ее полюбить. Время, потребное человеку, чтобы вникнуть в мало-мальски глубокое произведение, как мне в сонату Вентейля, – это просто проекция, своеобразный символ тех лет, а иногда столетий, которые должны пройти, чтобы люди научились любить воистину новаторский шедевр. И гений, чтобы не страдать от непризнания толпы, утешается подчас тем, что современникам недостает необходимой дистанции, – недаром же, если стоишь слишком близко к картине, невозможно ее оценить по достоинству: произведения, написанные для потомства, должно читать потомство. Но на самом деле бесполезно прибегать к трусливым уверткам: несправедливых упреков не избежать. Гениальное произведение оттого трудно полюбить сразу, что его автор – не такой, как все, мало людей на него похожи. Таких людей будет выращивать и множить само это произведение, оплодотворяя те редкие умы, что способны его понять. Таковы квартеты Бетховена (Двенадцатый, Тринадцатый, Четырнадцатый и Пятнадцатый): пятьдесят лет они создавали и преумножали слушателей квартетов Бетховена и, как все шедевры, обеспечивали прогресс если не в искусстве музыкантов, то по меньшей мере в духовном росте общества, в котором сегодня много таких людей, каких просто не найти было, когда появился этот шедевр, то есть людей, способных любить. Так называемое потомство – это потомство самого произведения. Каждому произведению (для простоты забудем о том, что в одну и ту же эпоху разные гении могут параллельно готовить для будущего публику, которая послужит на благо уже другим гениям) нужно самому создавать себе потомство. Но если произведение хранилось под спудом и узнали его только грядущие поколения, то значит, для него они уже не потомство, а современники, просто вышло так, что живут они на пятьдесят лет позже. И если творец хочет, чтобы его творение зажило своей жизнью, он должен забросить его на самую глубину, в далекое будущее – именно так Вентейль и поступил. Те, кто не верит, что за шедеврами будущее, конечно, несправедливы к ним, но те, кто справедливо отдает этим шедеврам должное и все-таки считает, что их время еще не пришло, часто проявляют в своих суждениях пагубную осторожность. Легко, наверно, впасть в иллюзию, из-за которой всё, что мы видим на горизонте, выглядит одинаково, и сказать себе, что все революции, происходившие до сих пор в живописи или в музыке, щадили, что ни говори, кое-какие правила, а то, что мы видим сейчас, – импрессионизм, поиски диссонанса, исключительное применение китайской гаммы[87], кубизм, футуризм – возмутительно отличается от всего, что было раньше. Но ведь то, что было раньше, мы рассматриваем, не сознавая, что за долгое время, пока наши предшественники его усваивали, оно, при всем своем разнообразии, превратилось для нас в нечто монолитное, и Гюго в нашем представлении соседствует с Мольером. Подумаем хотя бы, каким оскорбительно несообразным показался бы нам гороскоп, рассчитанный на наш зрелый возраст, если бы нам его показали, когда мы были подростками и не сознавали, какие перемены сулит нам будущее. Но гороскопы все лгут, и если, оценивая красоту произведения искусства, нам приходится учитывать фактор времени, суждение наше становится весьма рискованным и, в общем, не столь уж интересным, как любое пророчество, неисполнение которого совершенно не означает, что пророку не хватило ума: гению не всегда дано предугадать, что возможно, а что нет; можно быть воистину гениальным и не верить в будущность железных дорог или самолетов; можно быть великим психологом и не верить в измену любовницы или друга – а между тем самый посредственный ум в силах был бы предвидеть их предательство.
Сонаты я не понял, но от игры г-жи Сванн пришел в восторг. Мне казалось, что ее туше́ (заодно с пеньюаром, благоуханием у нее на лестнице, ее манто, ее хризантемами) – часть единственного в своем роде, таинственного целого, принадлежащего вселенной, бесконечно возвышающейся над миром, где талант анализируют с помощью разума. «А красивая эта соната Вентейля, правда? – сказал Сванн. – Как будто под деревьями сгустилась тьма и скрипичные арпеджио навевают прохладу. Согласитесь, что это очень славно; так и видится неподвижный лунный свет, это там главное. Неудивительно, что светотерапия, которой сейчас лечится моя жена, воздействует на мышцы: ведь в лунном свете листья не колышутся. Вот что замечательно изображено в этой фразе: Булонский лес, погруженный в каталепсию. Еще поразительней бывает на морском берегу: перекличка волн звучит совсем тихо, но мы отчетливо слышим ее, потому что всё вокруг неподвижно. В Париже наоборот: насилу заметишь необычные отблески на громадах домов, небо, словно озаренное каким-то бесцветным и безопасным пожаром, и чувствуешь, что на этом огромном пространстве всё время что-то происходит. А во фразе Вентейля, да и во всей сонате, всё другое: чувствуешь, что это происходит в Булонском лесу, в группетто явственно слышится голос, который говорит: „Светло – хоть газету читай“». Эти слова Сванна могли бы надолго исказить мое понимание сонаты: музыка, слишком всеобъемлющая, допускала любое толкование, какое бы вам ни подсказали. Но я понял из его слов, что эта ночная листва для него – просто-напросто густые кроны над террасами пригородных ресторанов, где он много раз вечерами слушал эту фразу. Она не сообщала Сванну глубокого смысла, в который он так часто пытался проникнуть, а толковала ему о стриженой кудрявой листве, запечатленной вокруг нее (и ему хотелось опять увидеть эту листву, потому что ему казалось, что фраза живет внутри этой листвы, словно ее душа), о весне, которой когда-то он не в силах был наслаждаться из-за горестной лихорадки, не дававшей ему покоя, – но фраза сохранила для него эту весну, как приберегают для больного на потом лакомства, которых он не может есть. Соната рассказывала ему об очаровании ночей в Булонском лесу; об этом он не мог расспросить Одетту, хотя она тогда была его спутницей, так же, как музыкальная фраза. Но Одетта была просто где-то рядом, а не внутри, как мелодия Вентейля, и не могла видеть – будь она хоть в тысячу раз отзывчивей – то, чего не может выразить никто из нас (я, во всяком случае, долгое время считал, что это правило не знает исключений). «А как мило, в сущности, что звук способен отражать – как вода, как зеркало. И заметьте, фраза Вентейля показывает мне только всё то, на что я тогда не обращал внимания. Она не напоминает мне ни о моих тревогах того времени, ни о любви, речь совсем о другом». – «Шарль, вы мне говорите, кажется, что-то не слишком приятное». – «Не слишком приятное! Уж эти мне женщины! Я только хотел объяснить этому молодому человеку, что музыка показывает – во всяком случае, мне – никакую не „волю как вещь в себе“[88], не „синтез бесконечного“[89], а, к примеру, папашу Вердюрена, в рединготе, в „Пальмариуме“ в Ботаническом саду[90]. Тысячу раз, не выходя из этой гостиной, я уносился вместе с ней обедать в „Арменонвиль“[91]. Господи, это, что ни говори, веселей, чем ездить туда с госпожой де Камбремер». Г-жа Сванн рассмеялась. «Все считают, что эта дама была страстно влюблена в Шарля, – объяснила она мне тем же тоном, каким немного раньше, говоря о Вермеере Дельфтском (меня тогда поразило, что она о нем знает), пояснила: «Видите ли, господин Сванн много работал над этим художником в ту пору, когда за мной ухаживал. Не правда ли, Шарль, мой дорогой?» – «Не говорите пустяков о госпоже де Камбремер», – возразил Сванн, явно глубоко польщенный. «Но я только повторяю то, что слышала от людей. Кстати, она, говорят, очень умна, я-то ее не знаю. Мне кажется, что она очень „pushing“[92], и это меня удивляет в такой умной даме. Но все говорят, что она была в вас по уши влюблена, в этом нет ничего обидного». Сванн молчал, как глухонемой, тем самым отчасти подтверждая справедливость ее слов и собственное самодовольство. «Раз уж моя игра напоминает вам Ботанический сад, – продолжала г-жа Сванн, в шутку притворяясь обиженной, – мы можем избрать его целью нашей прогулки, если это позабавит нашего мальчика. Погода дивная, и вы воскресите ваши любимые воспоминания! Кстати, о Ботаническом саде, представьте, что этот молодой человек воображал, будто мы любим г-жу Блатен, которую я, напротив, по мере сил избегаю! По-моему, это унизительно для нас, чтобы люди считали нас ее друзьями. Представьте, даже добрейший доктор Котар, который никогда ни о ком дурного слова не скажет, объявил, что она отвратительна». – «Какой ужас! В ее пользу свидетельствует только удивительное сходство с Савонаролой. Она вылитый портрет Савонаролы кисти Фра Бартоломео»[93]. Можно было понять манию Сванна отыскивать в картинах сходство с живыми людьми: ведь даже то особое выражение лица, которое присуще именно этому человеку, есть на самом деле нечто всеобщее, что можно обнаружить в любой эпохе, хоть и печально это сознавать, тем более когда любишь и так хотелось бы верить в неповторимость любимого существа. Но если послушать Сванна, то процессии царей-волхвов (сами по себе уже сущий анахронизм – ведь Беноццо Гоццоли включил туда представителей семейства Медичи) оказывались еще бо́льшим анахронизмом из-за того, что в изображенной толпе можно было узнать множество современников самого Сванна, а вовсе не Гоццоли, то есть людей, живших не только на пятнадцать столетий позже Рождества Христова, но и на четыре столетия позже самого художника[94]. В этих процессиях, если верить Сванну, можно было найти любого мало-мальски известного парижанина, как в том действии пьесы Сарду, где все парижские знаменитости – врачи, политики, адвокаты, – не желая отстать от моды, развлекались тем, что каждый вечер по очереди выходили на сцену поучаствовать в спектакле во имя дружбы к автору и к исполнительнице главной роли[95]. «Но какое отношение она имеет к Ботаническому саду?» – «Самое прямое!» – «Как, неужели, по-вашему, зад у нее небесно-голубой, как у обезьян?» – «Шарль, вы невозможны!» – «Нет, я просто вспомнил, что ей сказал один сингалез». – «Расскажите ему, это и правда забавно». – «Ужасная глупость. Вы же знаете, госпожа Блатен воображает, что разговаривает со всеми любезно, а на самом деле тон у нее выходит страшно высокомерный». – «Наши добрые соседи с Темзы называют это „patronizing“[96]», – перебила Одетта. «Недавно она ходила в Ботанический сад, а там сейчас чернокожие, сингалезы, по-моему, как говорит моя жена, которая в этнографии гораздо сильнее меня». – «Перестаньте, Шарль, не издевайтесь!» – «И в мыслях не было. И вот госпожа Блатен обращается к одному из этих чернокожих: „Здорóво, негритос!“ Казалось бы, что за беда? Но чернокожему это приветствие не понравилось. Он разъярился и возразил ей: „Я негритос, а ты – барбос!“» – «По-моему, ужасно смешно! Обожаю эту историю. Правда, прелестно? Так и видишь мамашу Блатен: „Я негритос, а ты – барбос!“». Я изъявил огромное желание поехать посмотреть на сингалезов, один из которых назвал г-жу Блатен барбосом. Они меня совершенно не интересовали. Но я подумал, что по дороге туда и обратно мы проедем по аллее Акаций, где я так любовался г-жой Сванн, и, может быть, тот мулат, друг Коклена[97], которому мне никогда не удавалось попасться на глаза, когда я кланялся г-же Сванн, теперь увидит меня рядом с ней в ее виктории.
В те минуты, пока Жильберта выходила из гостиной, чтобы собраться на прогулку, г-н и г-жа Сванн с удовольствием повествовали мне о редких достоинствах своей дочери. И всё, что я сам видел, подтверждало их правоту; я замечал, что она, точно как рассказывала ее мать, не только к своим подружкам, но и к слугам и к беднякам относилась заботливо и внимательно, тщательно обдумывала, чем бы их порадовать, боялась не угодить, и проявлялось это в тысяче мелочей, стоивших ей подчас больших трудов. Она сделала вышивку для нашей торговки с Елисейских Полей и в снегопад ушла из дому, чтобы вручить ей подарок своими руками и вовремя. «Вы понятия не имеете, какое у нее доброе сердце, потому что она это скрывает», – говорил ее отец. Совсем еще маленькая, она казалась благоразумней родителей. Когда Сванн толковал о высокопоставленных друзьях своей жены, Жильберта молча отворачивалась, но не выражала осуждения, потому что считала, что отца не должна коснуться малейшая критика. Однажды я упомянул при ней о мадемуазель Вентейль, и она сказала:
– Я с ней никогда не стану общаться, просто потому, что она, говорят, плохо относилась к отцу и огорчала его. Вы это понимаете не хуже меня, правда же, я просто жить не могу без моего отца, так же как вы без своего, и это ведь так понятно. Как можно забыть человека, которого любишь, сколько себя помнишь!
А как-то раз она была с отцом особенно ласкова, и, когда Сванн отошел, я ей что-то об этом сказал.
– Да, бедный папа, – ответила она, – сегодня годовщина смерти его отца. Представляете, каково у него на душе – вы-то понимаете, ведь мы с вами оба чувствуем такие вещи. Вот я и стараюсь быть не такой злюкой, как всегда. – Но он вовсе не думает, что вы злюка, он вас считает совершенством. – Бедный папа, просто он очень добрый.
Мало того, что Сванны хвалили мне душевные качества Жильберты – той самой Жильберты, которая еще до того, как я ее увидел, грезилась мне перед церковью, на фоне пейзажа Иль-де-Франса, а потом, уже не в мечтах, а в воспоминаниях, навсегда осталась перед изгородью из розового боярышника, на крутой тропе, по которой я шагал в сторону Мезеглиза; когда я, тоном друга семьи, интересующегося, что любит и чего не любит ребенок его друзей, небрежно спрашивал у г-жи Сванн, кого Жильберта отличает среди своих приятелей и приятельниц, г-жа Сванн отвечала:
– Ну, вам она, по-моему, делает больше признаний, чем мне: вы ее любимчик, вы у нее crack[98], как говорят англичане.
Вероятно, при столь полных совпадениях, когда реальность так тесно примыкает к тому, о чем мы долго мечтали, она полностью заслоняет от нас эту мечту, и нам уже не различить, где реальность, а где мечта, словно одну геометрическую фигуру наложили на другую, равную ей, и они слились в единое целое, хотя для полного и осознанного счастья нам бы хотелось, напротив, чтобы в тот самый миг, когда желания наши уже исполнены, они сохраняли в наших глазах весь свой ореол несбыточности, подтверждая, что именно этого мы и желали. Но мысль даже не может воссоздать исходное положение вещей, чтобы снова сравнить его с нынешним, потому что она лишилась свободы действий: то, что мы с тех пор узнали, воспоминания о первых нечаянных минутах радости, слова, которые мы слышали, преграждают сознанию путь и приводят в действие не столько наше воображение, сколько память; они с гораздо большей силой воздействуют на наше прошлое, которое мы уже не в силах увидеть отдельно от них, чем на свободные очертания нашего будущего. Я годами мог считать, что ходить в гости к г-же Сванн – зыбкая прекрасная мечта, которая никогда не осуществится; но стоило мне провести у нее дома четверть часа – и вот уже зыбким и неправдоподобным стало мне казаться то время, когда я был с ней незнаком: оно превратилось в гипотетическую возможность, которая развеялась после осуществления другой возможности. И как я мог воображать себе столовую г-жи Сванн как некое непостижимое, недоступное место, если любое движение моего ума порождало образ всепроникающих лучей, которые испускает назад, в мое прошлое, вплоть до самых незапамятных дней, тот омар в белом вине, которого я недавно ел? И Сванн, должно быть, тоже видел, как происходит что-то подобное: наверно, эта квартира, где он меня принимал, оказывалась тем самым местом, где сливались и совпадали не только идеальная квартира, порожденная моим воображением, но еще и другая, та, которую так часто рисовала Сванну его ревнивая любовь, – общая квартира с Одеттой, представлявшаяся ему такой недостижимой в тот вечер, когда Одетта зазвала его и Форшвиля к себе на оранжад; и в план той столовой, где мы теперь обедали, вписался этот рай, о котором когда-то нечего было и мечтать, – ведь Сванн и вообразить не мог без волнения, что в один прекрасный день скажет дворецкому: «Мадам уже готова?» – слова, которые он теперь произносил при мне с легким нетерпением и с ноткой удовлетворенного самолюбия. Я, наверное, точно как Сванн, не в силах был осознать свое счастье, и когда Жильберта восклицала: «Разве вы думали, что та самая девочка, на которую вы смотрели, когда она бегала наперегонки, и никогда с ней не заговаривали, станет вашим близким другом и вы будете ходить к ней в гости в любой день, когда захотите!», она говорила о перемене, которую я, конечно, понимал, но как-то со стороны, а внутренне не осознавал, потому что не мог мысленно разделить и представить себе одновременно то, что было, и то, что стало.
И всё же не зря Сванн так страстно всем своим существом жаждал этой квартиры: она, должно быть, сохраняла для него какую-то прелесть; мне, во всяком случае, так казалось, ведь для меня она не вполне утратила тайну. Проникнув к ним в дом, я не полностью изгнал оттуда странное очарование, которым, как мне долго казалось, была проникнута жизнь Сванна; я лишь потеснил его, и оно отступило передо мной, уступило натиску чужака, парии, которому теперь мадемуазель Сванн великодушно придвигала восхитительное, враждебное, негодующее кресло; но в воспоминаниях я по-прежнему чувствую, как это очарование витает вокруг меня. Потому ли, что в те дни, когда Сванны приглашали меня на обед, а потом на прогулку с ними и Жильбертой, пока я ждал в одиночестве, мой взгляд запечатлевал на ковре, креслах, столиках, ширмах, картинах обуревавшую меня мысль, что вот сейчас войдет г-жа Сванн, или ее муж, или Жильберта? Потому ли, что с тех самых пор эти вещи живут у меня в памяти рядом со Сваннами и постепенно вобрали частичку их обаяния? Или, зная, что Сванны существуют посреди этих вещей, я все их превращал в эмблемы их частной жизни, их привычек, всего, от чего слишком долго был отстранен, так что, когда мне наконец оказали милость и допустили в этот круг, я все равно чувствовал чуждость их уклада? Как бы то ни было, всякий раз, как подумаю об этой гостиной, которая Сванну казалась такой разностильной (хотя, критикуя ее про себя, он и не думал оспаривать вкусы жены) – ведь по замыслу она представляла собой нечто среднее между оранжереей и мастерской художника, как вся та квартира, в которой он когда-то навещал Одетту, хотя теперь его жена постепенно заменяла в этом беспорядочном нагромождении вещей всякие китайские штучки, объявленные безвкусицей и «просчетами», на изящную мебель в стиле Людовика XIV, обтянутую старинным шелком (не говоря уж о шедеврах, привезенных Сванном с Орлеанской набережной), – в моих воспоминаниях эта разношерстная гостиная, напротив, наделена и стилем, и единством, и неповторимым очарованием, которых не сыщешь ни в ансамблях, дошедших до нас из прошлого в самом что ни на есть сохранном виде, ни в самых живых интерьерах, несущих на себе отпечаток личности владельца; потому что только мы сами можем, уверовав, что некоторые увиденные нами вещи живут своей собственной жизнью, наделить их душой, которую они сохранят и разделят с нами. Все мои представления о том, как Сванны проводят время – время, несомненно, иное, чем то, что существует для прочих людей, – в этой квартире, которая для их повседневной жизни была все равно что тело для души и которая была призвана отражать необыкновенность этой жизни, – все эти мои спутанные представления, всегда равно волнующие и невыразимые, были привязаны то к местам, по которым была расставлена мебель, то к толщине ковров, то к виду из окон, то к передвижениям слуг. После обеда мы садились пить кофе у большого окна в гостиной, залитого солнцем, и г-жа Сванн спрашивала, сколько кусков сахару мне положить, пододвигала обтянутую шелком скамеечку для ног, и дело было не только в том, что эта скамеечка излучала горестное очарование, которым осенило меня когда-то – под розовым боярышником, а потом рядом с лавровой рощей – имя Жильберты, и даже не в том, что от скамеечки веяло неодобрением, по-моему совершенно незаслуженным, которое питали ко мне на первых порах родители моей подруги (причем она, скамеечка, была с ними заодно), и не в том было дело, что я немного боялся поставить ноги на ее беззащитную обивку; главное – та неповторимая душа, что тайно связывала ее с солнечным светом, какой только в два часа дня, и никогда больше, озарял эту тихую гавань, и его золотые волны плескались у наших ног, а из волн выныривали, подобно зачарованным островам, голубоватые диваны и туманные стенные ковры; и всё, вплоть до картины Рубенса над камином, было наделено таким же особенным и мощным очарованием, как зашнурованные ботинки г-на Сванна и его пальто с пелериной, – о, как мне хотелось когда-то носить такое же пальто, а теперь Одетта просила мужа сменить его на что-нибудь поэлегантнее, когда я оказывал Сваннам честь сопровождать их на прогулке. Одетта тоже шла одеваться, несмотря на мои уговоры, что никакое «городское» платье и вполовину не так хорошо, как изумительный крепдешиновый или шелковый капот, тускло-розовый, вишневый, розовый с картин Тьеполо[99], белый, сиреневый, зеленый, красный, желтый – однотонный или с рисунком, в котором г-жа Сванн обедала, а теперь вот собиралась его снять. Когда я говорил, что лучше бы она так и ехала, она смеялась, потешаясь над моим невежеством или наслаждаясь моим комплиментом. Она оправдывалась, говоря, что так много пеньюаров у нее потому, что только в них она себя чувствует уютно, и уходила, чтобы надеть один из тех царственных нарядов, которые всем бросались в глаза, – иногда мне предлагали выбрать, какой туалет мне хотелось бы на ней видеть в этот раз.
Как я гордился в Ботаническом саду, когда мы выходили из экипажа и я шел вперед рядом с г-жой Сванн! Она шагала небрежной походкой, и накидка ее развевалась, а я бросал на нее восхищенные взгляды, на которые она кокетливо отвечала долгими улыбками. Теперь, если мы встречали кого-нибудь из приятелей Жильберты, мальчика или девочку, они издали с нами раскланивались и смотрели на меня с той же завистью, с какой раньше я смотрел на ее друзей, знакомых с ее родителями и участвовавших в той части ее жизни, что протекала вне Елисейских Полей.
Часто в аллеях Булонского леса или Ботанического сада с нами раскланивалась какая-нибудь знатная дама, приятельница Сванна, а он ее не замечал, и тогда жена указывала ему на нее: «Шарль, вы не заметили госпожу де Монморанси?» – и Сванн, улыбаясь сердечной улыбкой, ведь они дружили давным-давно, с неподражаемой элегантностью снимал шляпу и отдавал поклон. Дама иногда останавливалась, довольная, что может оказать г-же Сванн ни к чему не обязывающую любезность, которой Одетта не станет злоупотреблять впоследствии, потому что Сванн приучил ее к сдержанности. Хотя она вполне освоила манеры высшего света, и даже если дама была верхом благородства и элегантности, г-жа Сванн ни в чем ей не уступала; остановившись на минутку с приятельницей мужа, она так непринужденно, так уверенно и с такой учтивостью представляла ей нас с Жильбертой, что невозможно было догадаться, кто здесь важная дама – жена Сванна или аристократическая знакомая. В тот день, когда ездили смотреть на сингалезов, на обратном пути мы заметили немолодую, но всё еще красивую даму, укутанную в темное манто, в маленькой шляпке, завязанной под подбородком двумя лентами; она шла нам навстречу в сопровождении двух спутниц. «О, эта встреча вас заинтересует», – сказал мне Сванн. В трех шагах от нас старая дама нежно и ласково нам заулыбалась. Сванн снял шляпу, г-жа Сванн присела в реверансе и хотела поцеловать руку даме, похожей на портрет Винтерхальтера[100], но та заставила ее подняться и поцеловала. «Полноте, наденьте же шляпу», – пробасила она Сванну, запросто, как близкому другу. «Я представлю вас ее императорскому высочеству», – сказала мне г-жа Сванн. Пока г-жа Сванн беседовала с ее высочеством о прекрасной погоде и о животных, недавно поступивших в Ботанический сад, Сванн ненадолго увлек меня в сторону. «Это принцесса Матильда[101], – сказал он, – та самая, подруга Флобера, Сент-Бёва, Дюма. Подумайте, она племянница Наполеона Первого! К ней сватались Наполеон Третий и русский император. Интересно, верно? Поговорите же с ней. Лишь бы только она не продержала вас на ногах целый час». Потом обратился к принцессе: «Я встретил Тэна[102], он сказал, что ваше высочество с ним в ссоре». – «Он вел себя почище любой совиньи, – отчеканила она своим резким голосом, причем последнее слово в ее устах прозвучало как имя средневекового сеньора[103]. – После статьи, которую он опубликовал об Императоре, я завезла ему карту с „С. П. В.“»[104]. Я удивился, как удивляемся мы, открывая переписку герцогини Орлеанской, урожденной принцессы Палатинской[105]. И в самом деле, принцесса Матильда, одушевляясь столь французскими чувствами, выражала их с резкой прямотой, подобно немке былых времен; эту черту она, вероятно, унаследовала от своей матери-вюртенбуржки. Когда она улыбалась, ее грубоватая, прямо-таки мужская откровенность смягчалась итальянской томностью. И наряд ее был настолько во вкусе Второй империи, что хотя принцесса его носила, вероятно, просто из привычки к модам, которые любила когда-то, но всё же видно было, как она старалась придерживаться исторического правдоподобия в подборе цветов и не разочаровывать тех, кто ожидал от нее намеков на минувшую эпоху. Я шепнул Сванну, не может ли он спросить, была ли она знакома с Мюссе. «Очень мало, месье, – отвечала она с видимым неудовольствием, ведь они со Сванном были близкими друзьями и „месье“ она его величала только для смеху. – Однажды он у меня обедал. Я его пригласила к семи часам. В половине восьмого его всё еще не было, и мы сели за стол. Он является в восемь, здоровается, садится, не разжимает губ и уходит сразу после обеда, так что я голоса его не слышала. Он был мертвецки пьян. Это не внушило мне желания приглашать его в дальнейшем». Мы со Сванном оказались слегка в стороне. «Надеюсь, что наша милая беседа скоро кончится, – сказал он мне, – у меня уже ноги отваливаются. Не знаю, почему моя жена всё никак не закончит разговор. И ведь потом сама будет жаловаться, что устала, а меня так больше просто ноги не держат». В самом деле, г-жа Сванн, которую просветила на этот счет г-жа Бонтан, рассказывала принцессе, что правительство наконец осознало свою неучтивость и решило послать ей приглашение присутствовать послезавтра на трибуне во время визита царя Николая в Дом инвалидов. Но принцесса, вопреки манере держаться, вопреки тому, что окружила себя главным образом людьми искусства и писателями, оставалась в глубине души племянницей Наполеона, и это сквозило во всех ее поступках: «Да, мадам, я получила это письмо нынче утром и тут же отослала его министру обратно; наверно, он его уже получил. Я ему написала, что мне не нужно особого приглашения, чтобы посетить Дом инвалидов. Если правительству угодно меня там видеть, то я пойду не на трибуну, а в нашу крипту, где покоится Император. Для этого мне билет не нужен. У меня есть ключи. Я вхожу туда, когда хочу. Правительству достаточно известить меня, угодно ли ему, чтобы я пришла, или нет. Но если я пойду, то именно туда или вовсе не пойду». В эту минуту с нами поздоровался на ходу какой-то молодой человек, это оказался Блок – я понятия не имел, что они знакомы с г-жой Сванн. На мой вопрос она объяснила, что Блока ей представила г-жа Бонтан и что он чиновник в канцелярии министерства, о чем я понятия не имел. Впрочем, она, должно быть, нечасто с ним встречалась, или ей просто не хотелось называть его по имени, потому что оно казалось ей недостаточно «шикарным»: она сказала, что его зовут г-н Морель. Я заверил ее, что она что-то путает и на самом деле его фамилия Блок. Принцесса одернула тянувшийся за ней шлейф, на который с восхищением глядела г-жа Сванн. «Это просто меха, которые мне прислал русский император, – сказала принцесса, – а поскольку я его скоро увижу, я надела меха, чтобы он видел, что из них получилось удачное манто». – «Говорят, что принц Людовик поступил в российскую армию; вашему высочеству будет его очень недоставать», – заметила г-жа Сванн, не обращая внимания на то, что терпение мужа было на исходе. «И зачем ему это! Я ему так и сказала: „Тебе не нужно идти в армию, у тебя в семье уже был военный!“» – в простоте намекая на Наполеона I. Сванн наконец изнемог. «Мадам, со всем почтением к вашему высочеству, по всей форме прошу позволения откланяться: жена недавно очень болела и я бы не хотел, чтобы она так долго оставалась на ногах». Г-жа Сванн снова присела в реверансе, а принцесса улыбнулась нам небесной улыбкой, словно прилетевшей из прошлого, из ее грациозной юности, из вечеров в Компьене; эта кроткая улыбка, точь-в-точь как в те времена, осветила на мгновение лицо, еще недавно такое брюзгливое, и принцесса удалилась в сопровождении двух своих придворных дам, которые, на манер переводчиц, нянь или сиделок, лишь оттеняли наш разговор незначащими фразами и бесполезными восклицаниями. «Надо бы вам на этой неделе съездить вписать ваше имя в журнал посетителей, – сказала мне г-жа Сванн, – у всех этих royalties, как говорят англичане, загнутых карточек не оставляют, но если вы запишетесь, она вас пригласит».
Иногда в эти последние дни зимы перед прогулкой мы заходили на маленькие выставки, открывавшиеся в те времена; Сванна, известного коллекционера, с особым почтением приветствовали торговцы картинами, устроители этих выставок. Еще стояли холода, но в этих залах уже царила весна и жгучее солнце отбрасывало фиолетовые отблески на розовые Малые Альпы, а Большому каналу придавало темную прозрачность изумруда, и во мне пробуждалась старая мечта уехать на юг, в Венецию. В ненастную погоду мы ехали в концерт или в театр, а потом в «чайный салон». Если г-жа Сванн хотела сказать мне что-нибудь по секрету, чтобы не поняли люди за соседними столиками или даже официанты, она переходила на английский, словно этим языком владели только мы двое. На самом деле английский знали все, только я один его еще не выучил, и мне приходилось напоминать об этом г-же Сванн, чтобы она перестала делать по поводу людей, пивших чай или разносивших его, обидные, как я догадывался, замечания, которые до меня не доходили, зато те, кого они касались, понимали каждое слово.
Однажды на дневном спектакле Жильберта меня глубоко поразила. Это был тот самый день, о котором она мне уже говорила, – годовщина смерти ее деда. Мы с ней должны были вместе с ее гувернанткой идти слушать сцены из оперы, и Жильберта была одета соответствующим образом; как всегда, когда мы куда-нибудь собирались, она держалась беспечно и говорила, что ей все равно, куда идти, лишь бы мне нравилось и родители были довольны. Перед обедом ее мать отвела нас в сторону и сказала, что отцу будет неприятно, если мы поедем в театр в такой день. Мне казалось, что это легко понять. Жильберта осталась невозмутима, но побледнела от гнева, которого не в силах была скрыть, и не сказала ни слова. Когда вернулся г-н Сванн, жена увела его в другой конец гостиной и что-то сказала ему на ухо. Он позвал Жильберту и увел ее в соседнюю комнату. Слышно было, как они разговаривали на повышенных тонах. Мне всё не верилось, что Жильберта, такая покорная, такая ласковая, такая благоразумная, не желает выполнить просьбу отца в такой день, да еще такую пустячную просьбу. Наконец Сванн вышел со словами:
– Ты знаешь, что я думаю. Поступай как хочешь.
Весь обед Жильберта просидела нахмуренная, потом мы пошли к ней в комнату. И вдруг, словно у нее ни прежде, ни теперь не было ни малейших сомнений, она воскликнула: «Два часа! Послушайте, но ведь спектакль начинается в половине третьего». И попросила гувернантку поторопиться.
– Но ведь это не понравится вашему отцу? – спросил я.
– Ничуть не бывало.
– Он ведь опасался, что это будет выглядеть неуместно, ведь сегодня годовщина.
– Какая мне разница, что подумают люди? По-моему, когда речь идет о чувствах, смешно и дико беспокоиться, что скажут другие. Мы чувствуем для себя, а не для окружающих. У мадемуазель мало развлечений, поход в концерт для нее – праздник, и я не буду лишать ее этого праздника в угоду окружающим.
Она взяла шляпку.
– Но, Жильберта, – возразил я, беря ее за руку, – это же не для окружающих, это для вашего отца.
– Надеюсь, вы не собираетесь делать мне замечания? – гневно выкрикнула она, резко вырывая руку.
Милости Сваннов не ограничивались прогулками в Ботанический сад и концертами: они даже приобщили меня к своей дружбе с Берготтом – дружбе, которая в моих глазах придавала им очарование еще в те времена, когда я не знал Жильберты и думал, что ее близость к божественному старцу могла бы связать нас с ней самой пылкой дружбой, вот только у меня не было и быть не могло надежды, что когда-нибудь они возьмут меня с собой осматривать города, которые ему до́роги: ведь в ее глазах я наверняка достоин только презрения. И вот однажды г-жа Сванн пригласила меня на званый обед. Я не знал, кто еще приглашен. В передней, едва войдя, я стал свидетелем происшествия, которое меня смутило и испугало. Г-жа Сванн старательно перенимала обычаи, которые на сезон входят в моду, но, не в силах удержаться надолго, скоро отвергаются (так много лет назад она упоминала о своем «handsome cab»[106], а на приглашениях к обеду указывала, что гости смогут «to meet»[107] какую-нибудь более или менее важную персону. Часто в этих обычаях не было ничего таинственного, и они не требовали никакого особого посвящения. Так, следуя пустячному нововведению тех лет, занесенному из Англии, Одетта заказала мужу визитные карточки, где перед его именем, Шарль Сванн, красовались буквы «М-р». После того как я впервые у них побывал, г-жа Сванн завезла мне карточку с загнутым уголком. Никто еще и никогда не завозил мне визитных карточек; я был так горд, взволнован, признателен, что собрал все свои деньги, заказал роскошную корзину камелий и послал ее г-же Сванн. Я умолял отца, чтобы он тоже завез свою карточку Сваннам, но сперва поскорее заказал новые карточки, где перед его именем было бы напечатано «М-р». Он не исполнил ни одной из моих пылких просьб, я несколько дней был в отчаянии и ломал себе голову над тем, прав отец или не прав. Но с бесполезными буковками «М-р» на карточке всё было по крайней мере ясно. Хуже было с другим обычаем, с которым я столкнулся в день званого обеда, не понимая, что бы это значило. Когда я входил из передней в гостиную, дворецкий вручил мне тонкий и длинный конверт, на котором было написано мое имя. Я удивился, поблагодарил и стал рассматривать конверт. Я понимал, что́ с ним делать, не больше, чем иностранец понимает, что делать с миниатюрными приспособлениями, которые дают гостям на обеде в Китае. Я видел, что конверт запечатан, и боялся показаться нескромным, если сразу его открою, поэтому с понимающим видом сунул его в карман. За несколько дней до того г-жа Сванн написала мне, что обед будет «в узком кругу». Однако за столом оказалось шестнадцать человек, и я понятия не имел, что один из них – Берготт. Г-жа Сванн «назвала» меня (по ее выражению) нескольким гостям и вдруг, сразу после моего и точно так же, как мое, произнесла имя кроткого седовласого певца – словно только нас двоих пригласили на обед и оба мы одинаково должны обрадоваться знакомству. При имени Берготта я содрогнулся, словно в меня выстрелили из пистолета, но инстинктивно поклонился, желая соблюсти приличия; в ответ, возникнув передо мной, словно фокусник, предстающий нам целым и невредимым, в рединготе, покрытом пороховой пылью от выстрелившего пистолета, из которого только что вылетела голубка, мне поклонился довольно молодой и неуклюжий человек, маленького роста, коренастый и близорукий, с красным носом, формой напоминавшим улитку, и с черной бородкой. Я смертельно огорчился: мало того что в пыль развеялся томный старец, от которого ничего не осталось, – развеялась красота величайшего творения, обитавшего по моей воле в священной слабеющей плоти, как в храме, воздвигнутом мною нарочно для этого творения, которому явно не было места в коренастом теле, полном кровеносных сосудов, костей, лимфатических узлов, в теле стоявшего передо мной курносого человечка с черной бородкой. Вдруг оказалось, что весь Берготт, которого я медленно и бережно, каплю за каплей, как сталактит, создавал из прозрачной красоты его книг, – этот самый Берготт ни на что не пригоден, коль скоро я должен пустить в дело похожий на улитку нос и приткнуть куда-нибудь черную бородку; вот так мы обнаруживаем, что найденное нами решение задачи никуда не годится, потому что мы не дочитали до конца условия и не учли, что решение должно сойтись с ответом. От носа и бородки никуда было не деться, и они так мешали мне, что вынуждали полностью перестроить образ Берготта: кроме всего прочего, они подразумевали и беспрестанно источали, навязывали окружающим какую-то напористость, какое-то самодовольство, что было нечестно, потому что качества эти не имели ничего общего с духом его книг, так хорошо мне знакомых и проникнутых такой кроткой и возвышенной мудростью. Исходя из книг, я бы ни за что не додумался до носа-улитки, а нос, которому, судя по всему, это было совершенно все равно, благо он был самодостаточен и упрям, уводил меня прочь от произведений Берготта, превращая своего обладателя в какого-нибудь торопливого инженера вроде тех, которые, когда с ними здороваются, воображают, будто следует ответить «Спасибо, а как ваши?», не дожидаясь, когда у них спросят, как дела, а если им объявят, что с ними душевно рады познакомиться, бросают в ответ: «Я тоже», воображая, что это весьма уместная, благоразумная и современная формула вежливости, ведь она позволяет сэкономить время на ненужных любезностях. Имена, по-видимому, – художники, рисующие не с натуры, а из головы: они создают для нас наброски людей и мест, настолько непохожие на оригиналы, что мы часто изумляемся, обнаружив перед собой вместо воображаемого мира тот, который открывается нашему взгляду (хотя это все равно не то, что есть на самом деле: наши органы чувств умеют добиться сходства не лучше, чем наше воображение, так что их приблизительные, в сущности, зарисовки действительности отличаются от реального мира по меньшей мере так же, как реальный от воображаемого). Но затруднения, которые доставляло мне предварительное знакомство с именем Берготта, были ничтожны по сравнению с тем, как мешало мне знание его книг: ведь я должен был привязать к этим книгам, как к воздушному шару, человека с бородкой, не имея понятия, сумеют ли они подняться в воздух. И все-таки книги, которые я так любил, написал, судя по всему, именно он, потому что, когда г-жа Сванн сочла своим долгом сказать ему, что одна из них мне очень полюбилась, он ничуть не удивился, что она обратилась с этим к нему, а не к другому приглашенному, и явно не счел это недоразумением; впрочем, тело его, уютно расположившееся в сюртуке, надетом в честь всех этих гостей, алкало предстоящего обеда, а внимание его было поглощено другими важными обстоятельствами, поэтому он улыбнулся при упоминании о его книгах, как будто при нем воскресили давно ушедший в прошлое эпизод его жизни, что-то вроде костюма герцога де Гиза, который он много лет назад надевал на костюмированный бал, – и его книги тут же упали в моих глазах, увлекая за собой в падении всё, что пленяло меня в красоте, во вселенной, в жизни, и превратились просто-напросто в заурядное развлечение человека с бородкой. Я себе говорил, что он, вероятно, писал их старательно – но живи он на острове, окруженном отмелями, где полным-полно раковин-жемчужниц, он, быть может, с тем же успехом занялся бы торговлей жемчугом. Я уже не чувствовал в нем обреченности на творчество. А раз так, думалось мне, то что означает оригинальность великих писателей: в самом ли деле это боги, самовластно царящие каждый в своем собственном царстве, или они попросту хитрят, и разница между их книгами не отражает глубокой самобытности каждого, а попросту достигается упорным трудом?
Тем временем пригласили к столу. Рядом со своей тарелкой я обнаружил гвоздику, стебель которой был завернут в серебряную бумагу. Гвоздика смутила меня меньше конверта, врученного мне в передней и уже совершенно мною забытого. Она оказалась для меня полной неожиданностью, но я понял ее смысл, когда увидел, что все гости-мужчины держат такие же гвоздики, лежавшие возле их приборов, и вдевают их в петлички сюртуков. Я поступил так же с непринужденностью вольнодумца в церкви, который не знает службы, но встает, когда все встают, и преклоняет колена чуть позже того, как преклонили колена все остальные. Другой незнакомый обычай, менее эфемерный, понравился мне еще меньше. Рядом с моей тарелкой была маленькая тарелочка, в которой чернело что-то непонятное – я не знал, что это икра. Не имея понятия, что с этим делать, я решил, что есть этого не буду.
Берготт сидел недалеко от меня, я прекрасно его слышал. И я понял, что имел в виду г-н де Норпуа. У него и впрямь был своеобразный голос; мысль поразительно преображает звуки речи, ее выражающей: меняется звонкость дифтонгов, энергия губных звуков. И манера выражаться тоже становится другой. Мне показалось, что говорит он совершенно не так, как пишет, и даже то, что он говорит, отличается от того, что написано в его сочинениях. Но ведь голос раздается из-под маски, под которой мы не можем разглядеть лицо – а стиль являет нам настоящее лицо автора, ничем не прикрытое. И всё же в какие-то минуты, когда в разговоре Берготта проскальзывала его излюбленная манера, которая не одному г-ну де Норпуа казалась неестественной и неприятной, я постепенно начинал отмечать в его словах точные соответствия тем местам в его книгах, где интонация делалась такой поэтической и музыкальной. Значит, сам он чувствовал в том, что говорил, какую-то глубинную красоту, не зависевшую от значения фраз; но человеческая речь (хоть и связана с душой) не в силах выразить душу с тою же полнотой, с какой это делает стиль; поэтому манера говорить у Берготта иной раз чуть ли не опровергала смысл его слов: порой он переходил на монотонное бормотание и, продолжая развивать какой-нибудь образ, нанизывал слова одно на другое почти без промежутка, словно с утомительным однообразием тянул один и тот же звук. Поэтому вычурная, высокопарная и монотонная манера изъясняться свидетельствовала о том, что он в разговоре подобрался к самым вершинам прекрасного; в ней отражалась та самая мощь, которая в его книгах порождала чреду гармонических образов. Поначалу мне было трудно это уловить, ведь то, что он говорил в такие моменты, именно потому, что это был истинный Берготт, было очень мало похоже на Берготта. Это было нагромождение точных мыслей, выпадавших из «берготтовской» манеры, усвоенной множеством журналистов; непохожесть смутно проглядывала в разговоре, словно картина сквозь дымчатое стекло; потому-то, вероятно, любая страница, написанная Берготтом, так резко отличалась от всего, что бы ни сочинили все эти пошлые подражатели, которые то в газетах, то в книгах украшали собственную прозу множеством образов и идей «в духе Берготта». Разница в стиле объяснялась тем, что «настоящий Берготт» был прежде всего драгоценной и подлинной частицей чего-то важного – частицей, которую извлек на свет великий писатель благодаря своему таланту; только к этому и стремился кроткий певец – он вовсе не старался писать «как Берготт». Собственно говоря, это выходило у него само собой, ведь он и был Берготт; в этом смысле каждая новая находка писателя оказывалась маленьким отрывком из Берготта, притаившимся в какой-нибудь вещи и перенесенным оттуда в его сочинения. Все такие находки были узнаваемы, каждая была сродни предыдущим, но всё же оставалась такой же особенной, как вызвавшее ее к жизни открытие, и такой же новой – а значит, отличалась от всего, что было «в духе Берготта», от невнятного обобщения прежних берготтовских находок, уже им описанных и не дававших бездарностям ни малейшего шанса предугадать его следующее открытие. Таковы все великие писатели: красота их фраз непредсказуема, как красота еще незнакомой женщины; она – результат творческого усилия, направленного вовсе не на них самих, а на сторонний предмет, о котором они думают и которого еще никогда не запечатлевали. Сегодняшний мемуарист, желая не слишком подчеркивать, что подражает Сен-Симону, может, на худой конец, начать портрет маршала Виллара[108] такими словами: «То был довольно высокий человек, черноволосый… с лицом живым, подвижным, бросающимся в глаза», но какая цепочка причин и следствий заставит его продолжить в следующей строчке: «…и, право же, несколько безумным»? Настоящее разнообразие – это изобилие невыдуманных и неожиданных черт, это усыпанная голубыми цветами ветвь, ни с того ни с сего вырвавшаяся из весенней изгороди, где, казалось бы, и без нее полно цветов, а чисто формальная имитация разнообразия (хотя то же самое можно было бы сказать о любых других достоинствах стиля) – это пустота и одинаковость, то есть полная противоположность разнообразию; и никакому подражателю не создать иллюзию разнообразия, разве что для тех, кто не умел его разглядеть в трудах великих мастеров.
Кроме того, речь Берготта, наверно, очаровывала бы слушателей, если бы сам он был каким-нибудь любителем декламации, подделывающимся под Берготта, но его манера изъясняться была связана с трудом и усилием его мысли живыми узами, которые ухо слушателя не сразу умело уловить; а еще дело было в том, что мысль Берготта была направлена на действительность, которую он любил, и в его языке чувствовался какой-то оптимизм, какой-то избыток энергии, разочаровывавший тех, кто ждал от него только разговоров о «бесконечной чреде изменчивых обликов» да о «таинственном трепете красоты». И наконец, исключительная новизна всего, что он писал, проявлялась и в разговоре, приводя к тому, что он высказывал крайне изощренные мысли, пропуская всё, что и так понятно, и поэтому у слушателей возникало ощущение, будто он углубляется во второстепенные детали, что он заблуждается, сыплет парадоксами; чаще всего его мысли представлялись собеседникам сбивчивыми, потому что ясными нам всегда кажутся мысли, запутанные не больше и не меньше, чем наши собственные. Впрочем, любая новизна, стремящаяся к отмене привычного шаблона, представлявшегося нам непреложной истиной, любые новые рассуждения, да и любая оригинальная живопись, музыка, всегда будут казаться путаными и утомительными. В их основе лежит чуждая нам риторика, нам чудится, что собеседник говорит сплошными метафорами, и у нас возникает ощущение недостоверности. (В сущности, старые формы высказывания тоже когда-то были трудны для восприятия, пока слушатели не освоились с вселенной, о которой им толковали. Но мы-то уже давно поверили в реальность этой вселенной и ни на какую другую не полагаемся.) И вот когда Берготт говорил, с нашей сегодняшней точки зрения, нечто совсем незатейливое, например, что Котар – декартов поплавок, который силится обрести равновесие[109], или что Бришо «больше даже, чем госпожа Сванн, заботится о своей прическе, потому что озабочен и собственным профилем, и собственной репутацией: ему нужно постоянно быть похожим и на льва, и на философа», – слушатели быстро уставали и мечтали перевести дух, переключившись на что-нибудь более конкретное, как они говорили, имея в виду что-нибудь более привычное. Неузнаваемые речи, вылетавшие из-под маски, которую я видел, явно принадлежали именно писателю, вызывавшему мое восхищение; ничего, что они не вписывались в его книги, как кусочки головоломки, вставленные на свободное место между другими кусочками – просто они лежали в другой плоскости, и надо было перевести их в план письменной речи, и тогда, в один прекрасный день, повторяя сам себе фразы, услышанные от Берготта, я сумею почувствовать в них основу того самого литературного стиля, черты которого замечал раньше в его разговоре, хоть мне и казалось тогда, что между тем и этим нет ничего общего. И еще одно, второстепенное, быть может, обстоятельство: у него была особая, немного слишком тщательная и напряженная манера произносить некоторые слова, некоторые прилагательные, часто мелькавшие у него в разговоре, которые он выговаривал не без пафоса, отчеканивая каждый слог и немного нараспев (например, в слове «облик», которым он постоянно заменял «внешность», возникало множество лишних «б», «л» и «к», словно вылетавших в эти моменты из его разжатых пальцев), и эта манера в точности соответствовала тем прекрасным местам в его прозе, где он выделял, высвечивал эти самые излюбленные им слова, оставляя вокруг них что-то вроде пробелов и выстраивая вокруг них фразу таким образом, что вы просто вынуждены были, чтобы не нарушить ритма, отчеканивать их при чтении. Хотя в разговоре Берготт не проливал света на то, о чем говорил в книгах, где этот свет (так же, как в книгах некоторых других писателей) часто озаряет слова в предложении и заставляет их выглядеть совсем по-другому. Вероятно, он, этот свет, исходит из самых глубин, и лучи его не дотягиваются до наших речей в часы, когда мы раскрываемся перед собеседником и в какой-то мере закрываемся для самих себя. В этом смысле его книги были богаче оттенками и интонациями, чем разговор; его интонация не зависела от красот стиля, и сам автор, скорее всего, ее не замечал, потому что интонация неотделима от самых сокровенных черт нашей индивидуальности. Но в тех местах его книг, где Берготт полностью становился самим собой, эта интонация придавала ритм даже самым незначительным словам, выходившим из-под его пера. Интонация эта не в тексте записана, ничто на нее не указывает, она сама собой добавляется к фразам, их просто нельзя прочесть по-другому, и это – самое неуловимое, но и самое важное, что есть у писателя, именно в интонации проявляется его суть, она расскажет нам о его доброте, несмотря на все жестокости, расскажет о нежности, несмотря на всю эротику.
Некоторые особенности речи, изредка проскальзывавшие у Берготта, не были его собственными: позже, когда я познакомился с его братьями и сестрами, я то и дело улавливал в их разговоре те же самые черты. Нечто грубое, хриплое звучало в последних словах веселой фразы, нечто приглушенное, угасающее в конце печальной. Сванн, знавший Мэтра в детстве, сказал, что тогда уже в голосах у него и у его братьев и сестер слышны были эти семейные, так сказать, модуляции – то вопли неистовой радости, то ропот вялой меланхолии, и когда все дети вместе играли в комнате, будущий писатель лучше всех вел свою партию в их концерте – иной раз оглушительном, иной раз томном. Вообще весь этот шум, который издают живые существа, – явление мимолетное, исчезающее из мира с их смертью. Но с голосами Берготтов было не так. Ведь даже в «Нюрнбергских мейстерзингерах» трудно понять, как это музыкант может придумывать музыку, слушая птичье щебетание[110] – а вот Берготт перенес в свою прозу и закрепил эту манеру застревать на отдельных словах, которые то следуют одно за другим как радостные клики, то сочатся по капле, как горестные вздохи. Фразы в его книгах иногда завершаются длительным нагромождением созвучий, как в последних аккордах оперной увертюры, которая всё никак не может кончиться и по нескольку раз воспроизводит последние такты, пока дирижер не отложит палочку; в этих последних аккордах я позже обнаружил музыкальный эквивалент фонетических труб и валторн семьи Берготтов. Причем, перенеся эти аккорды в книги, он, сам того не замечая, убрал их из своего разговора. С тех пор как он стал писать, оркестр в его голосе навсегда умолк, и позже, когда я с ним познакомился, во всем, что он говорил, уже не слышалось ни труб, ни валторн.
Юные Берготты – будущий писатель, его братья и сестры – ни в чем, по-видимому, не превосходили других молодых людей, которые были тоньше, остроумней и считали Берготтов чересчур шумными и даже немного вульгарными со всеми этими надоедливыми шуточками, характерными для дурацкой претенциозности, принятой у них дома. Но не из интеллектуального превосходства над другими, не из какой-то там особой утонченности рождается гений или хотя бы даже большой талант: его источник – умение все преобразить, перевести в свою тональность. Чтобы нагреть жидкость электрической лампочкой, не нужно искать лампочку поярче – нужно, чтобы ток, от которого она работает, перестал производить свет и начал давать тепло. Чтобы летать по воздуху, не нужно обзаводиться самым мощным на свете автомобилем – нужен такой автомобиль, который с линейного движения по земле переключится на вертикаль и сумеет использовать свою горизонтальную скорость для взлета ввысь. Точно так же гениальные произведения создает не тот, кто живет в самой изысканной среде, кто блистает в разговоре, обладает глубокой культурой, а тот, у кого хватило сил, внезапно перестав жить для себя, превратить себя во что-то вроде зеркала, так чтобы его жизнь, пускай самая что ни на есть заурядная в светском и даже интеллектуальном смысле, в этом зеркале отразилась: ведь гений – это могущество отражения, а не выдающиеся достоинства зрелища, которое он отражает. В день, когда молодой Берготт сумел явить толпе читателей пошлую и малоинтересную болтовню с братьями в гостиной своего детства, – в тот день он вознесся выше друзей дома, более изысканных и более остроумных: пока они разъезжались по домам в прекрасных роллс-ройсах, потихоньку презирая Берготта за вульгарность, он на своем скромном летательном аппарате оторвался наконец от земли и воспарил над их головами.
Другие черты стиля сближали его не с членами семьи, а с некоторыми писателями его времени. Те, кто помладше, уже начинали его отвергать и отрекались от какого бы то ни было интеллектуального родства с ним, а сами то и дело невольно демонстрировали это родство: употребляли его излюбленные наречия и предлоги, строили фразу так же, как он, подхватывали его приглушенную, замедленную интонацию, противостоявшую легкости и выразительности языка у писателей предыдущего поколения. Очень может быть, что эти молодые люди – во всяком случае, некоторые из них, как мы увидим позже – не читали Берготта. Но они впитали ход его мысли, а заодно им передались и новый строй фразы, и новая интонация, неразрывно связанные с оригинальностью мышления. Между прочим, эту связь имеет смысл исследовать подробнее. Берготт никому не был обязан стилем своих книг, но стиль беседы он заимствовал у одного старого друга, великолепного рассказчика, во многом на него повлиявшего; Берготт невольно подражал ему в разговоре, однако этот друг уступал ему в одаренности и не написал ни одной по-настоящему выдающейся книги. Так что, если принимать во внимание исключительно оригинальность в мыслях и в их изложении, Берготт оказывался учеником, писателем второго ряда; но хотя в беседе он испытывал на себе влияние друга, как писатель он оказывался вполне оригинальным творцом. И, желая, возможно, отделить себя от предыдущего поколения, слишком приверженного абстракциям, высокопарным общим местам, Берготт, если хвалил книгу, всегда превозносил и цитировал в ней какой-нибудь образ, какую-нибудь картину, не имеющую рационального истолкования. «Нет-нет, – говорил он, – это хорошо, там эта девушка в оранжевой шали, это в самом деле хорошо», или еще: «Там в одном месте полк проходит по городу, о да, это хорошо!». Что до стиля, тут он был не вполне современен в своих суждениях (и привержен исключительно отечественным авторам: Толстого, Джордж Элиот, Ибсена и Достоевского он терпеть не мог): когда он хотел похвалить стиль, ему постоянно приходило на язык слово «нежный». «Нет, все-таки „Атала“ у Шатобриана мне ближе, чем „Рене“, мне кажется, что „Атала“ как-то нежнее». Он произносил это слово, как врач, которому больной жалуется, что от молока у него живот болит, а тот возражает: «Ну что вы, это очень нежный продукт». И в самом деле, в стиле самого Берготта чувствовалась гармония сродни той, за которую древние воздавали некоторым своим ораторам похвалы, едва ли понятные нам сегодня, потому что мы привыкли к новым языкам, где ценятся эффекты другого рода.
А если при нем восхищались какими-то страницами его книг, он отвечал с застенчивой улыбкой: «Наверно, в этом есть какая-то правда, есть какая-то точность, это небесполезно», но всё это говорилось просто из скромности; так женщина, которой сказали, что у нее прелестное платье или прелестная дочь, отвечает о платье: «Да, в нем удобно», а о дочери: «Да, она славная девочка». Но Берготт был так щедро наделен интуицией строителя, что чувствовал: единственное доказательство полезности и правдивости того, что он выстроил – это радость, которую его создание дает ему самому, прежде всего ему, а уж потом другим. И только много лет спустя, утратив талант, когда ему случалось написать что-то, чем он сам был недоволен, он, желая все-таки опубликовать написанное, вместо того чтобы уничтожить, что было бы правильнее, повторял теперь уже сам себе: «Что ни говори, есть в этом какая-то точность, это небесполезно для моей страны». Так фраза, которую он бормотал когда-то поклонникам, когда хитрил в угоду своей скромности, превратилась в конце концов в тайное средство успокаивать тревоги собственной гордыни. И в тех же словах, которыми Берготт невесть зачем извинялся за совершенство своих первых произведений, он черпал теперь слабенькое утешение, когда сознавал, как посредственны его последние книги.
Непреклонность вкуса, упорное желание не писать никогда ничего такого, про что он сам не мог бы сказать: «да, в этом есть нежность», всё то, из-за чего его годами считали бесплодным, вычурным художником, создателем драгоценных пустячков, было, напротив, секретом его мощи, потому что стиль писателя, так же как характер человека, создается привычкой, и автор, который, не стремясь ни к чему другому, довольствуется радостью самовыражения, навеки ограничивает свой талант; ведь идя на уступки развлечениям, лени, страху перед страданием, мы рисуем свой собственный портрет, придавая ему характер, который уже невозможно исправить, навсегда запечатлеваем черты своих пороков и устанавливаем пределы своим добродетелям.
И всё же, когда в первый раз, в гостях у г-жи Сванн, несмотря на множество соответствий между писателем и человеком, подмеченных мною позже, я не сразу поверил, что это и есть Берготт, автор стольких дивных книг, – я, пожалуй, не так уж и ошибался, потому что ведь и сам он, в сущности, в это не «верил». Не верил потому, что слишком уж трепетал перед светскими знакомыми (хотя не был снобом), перед литераторами, журналистами, которые были гораздо ниже его. Теперь-то, конечно, по одобрению других он уже понимал, что он гений – а по сравнению с этим ни репутация в свете, ни официальная карьера ничего не стоят. Он узнал о собственной гениальности, но сам он в нее не верил, потому что продолжал изображать почтение к посредственным писателям, чтобы на ближайших выборах пройти в Академию, даром что Академия или Сен-Жерменское предместье имеют к частице Вечного Духа, каковой является автор книг Берготта, примерно такое же отношение, как к принципу причинности или к идее Бога. Об этом он тоже знал – так клептоман знает, что воровать нехорошо, да что толку. И человек с бородкой и носом-улиткой хитрил, словно джентльмен, ворующий вилки, лишь бы приблизиться к желанному академическому креслу с помощью герцогини такой-то, располагающей несколькими голосами на выборах, но при этом чтобы его маневров не заметил ни один из тех, кто считает, что добиваться подобных целей – дело неблаговидное. Это удавалось ему лишь наполовину; речи настоящего Берготта явственно чередовались с речами Берготта-эгоиста, честолюбца, только и думающего, как бы поговорить с влиятельными, высокородными или богатыми людьми, чтобы оказаться на виду – а ведь там, где он был самим собой, в своих книгах, он так прекрасно изобразил чистое, как родник, очарование бедняков.
Что до других пороков, на которые намекал г-н де Норпуа, таких как полукровосмесительная любовь, отягощенная нечистоплотностью в денежных делах, бесспорно, эти пороки самым неприличным образом противоречили направлению его последних романов, полных такого неистового, такого мучительного стремления к добру, что любые радости героев были отравлены угрызениями совести и даже на читателя обрушивалось чувство тоски, из-за которого самая кроткая, самая невинная жизнь казалась непосильным бременем, но даже если приписывать эти пороки самому Берготту, они всё же не доказывали, что литература – сплошной обман, а истинная чувствительность – комедия и ничего больше. Подобно тому как в медицине одни и те же болезненные симптомы могут вызываться и повышенным, и пониженным давлением, и чрезмерным, и недостаточным выделением желудочного сока и т. д., точно так же и порок может проистекать не только от недостатка чувствительности, но и от ее избытка. Вероятно, только на человека по-настоящему порочного моральная проблема может обрушиться всей своей тоскливой тяжестью. И решение этой проблемы художник находит не в личной своей жизни, а в литературной, потому что настоящая жизнь для него – литература. Подчас отцы церкви, люди от природы хорошие, добрые, начинали с того, что изучали грехи всех людей и черпали в этом источнике свою личную святость; точно так же великие художники, люди вообще-то дурные, пользуются своими пороками, чтобы постичь и изложить всеобщий моральный закон. Если уж писатели на что-нибудь обрушиваются, то их мишенью чаще всего оказываются пороки (или слабости, смешные или нелепые черточки) той самой среды, в которой они живут, неразумные речи, непристойно легкомысленная жизнь дочери, измены жены или их собственные ошибки – хотя при этом они и не думают ничего менять ни в образе жизни, ни в семейном укладе. Но когда-то этот контраст поражал воображение меньше, чем во времена Берготта, потому что, с одной стороны, по мере того как в общество проникала порча, понятие нравственности поднималось всё на новые высоты, а с другой стороны, теперь публика, как никогда раньше, была осведомлена о частной жизни писателей; и в иные вечера в театре люди кивали друг другу на автора, которым я так восхищался в Комбре, сидевшего в глубине ложи вместе с людьми, чье присутствие казалось ёрническим или душераздирающим комментарием, бесстыдным разоблачением тезиса, который этот автор защищал в своей последней книге. Но из того, что люди рассказывали мне о Берготте, невозможно было понять, хорош он или дурен. Кто-то из его близких приводил доказательства его жестокости, кто-то с ним незнакомый рассказывал трогательную и, разумеется, не подлежавшую разглашению историю о его мягкосердечии. Он жестоко обошелся со своей женой. Но как-то раз, остановившись на ночь в деревенской гостинице, он всю эту ночь просидел у постели какой-то нищенки, которая пыталась утопиться, а уезжая, оставил хозяину много денег, чтобы он не выгонял беднягу и позаботился о ней. Быть может, чем больше за счет человека с бородкой вырастал в Берготте великий писатель, тем глубже его личная жизнь тонула в потоке всех жизней, которые он воображал, и он чувствовал себя вправе освободиться от жизненных обязательств, потому что им на смену пришло обязательство воображать эти другие жизни. Но в то же время он представлял себе чувства других людей так ясно, словно сам их испытывал, и когда ему случалось, хотя бы даже мимоходом, соприкоснуться с чужим несчастьем, он смотрел на него не со своей точки зрения, а глазами страдальца; поэтому он бы ужаснулся, слыша обычные слова тех, кто, видя чужую боль, продолжает думать о своих мелких выгодах. Словом, он возбуждал в окружающих оправданное негодование и неисчерпаемую благодарность.
Этот человек, в сущности, по-настоящему любил только образы, и особенно любил их придумывать и рисовать, чтобы они сквозили из-под слова – как миниатюра со дна ларца. Он рассыпался в благодарностях за какое-нибудь пустяковое подношение, если оно наводило его на мысль, как бы по-новому переплести одни образы с другими, а за какой-нибудь ценный подарок мог вообще не поблагодарить. И если бы ему пришлось защищать себя в суде, он бы невольно выбирал слова, заботясь не о впечатлении, которое они могут произвести на судью, а о тех образах, что за ними стоят и которых судья наверняка не заметит.
В тот первый день, когда я увидел Берготта в гостях у родителей Жильберты, я рассказал ему, что недавно слушал Берма в «Федре»; он заметил, что в сцене, где она застывает, воздев руку на уровне плеч – как раз в этой сцене ей много аплодировали – она сумела с большим искусством и благородством напомнить о двух шедеврах, хотя, быть может, никогда их не видела, – о Геспериде[111], которая делает в точности такой жест на одной метопе в Олимпии, и о прекрасных девах древнего Эрехтейона[112].
– Возможно, она просто угадала, а впрочем, я уверен, что она ходит в музеи. Это любопытно было бы проследить («проследить» было любимым словцом Берготта, которое, словно поддаваясь внушению на расстоянии, повторяло вслед за ним множество молодых людей, никогда с ним не встречавшихся).
– Вы имеете в виду кариатид?[113] – спросил Сванн.
– Нет, нет, – отвечал Берготт, – она обращается к гораздо более древнему искусству, не считая той сцены, где она признается Эноне в своей страсти и делает рукой такое движение, как на стеле Хегесо[114] в Керамике. Я имел в виду кор древнего Эрехтейона[115], и надо признать, что трудно найти что-нибудь более далекое от искусства Расина, но в Федре и без того уже так много всего… пускай будет еще что-то… Да и потом, она так хороша, эта маленькая Федра шестого века до нашей эры: вертикальность руки, кудрявые волосы, такие мраморные, нет-нет, это замечательная находка. В этом куда больше античности, чем во всех книжках, которые в наши дни именуют «античными».
В знаменитом месте одной из своих книг Берготт взывает к этим архаичным статуям, поэтому то, что он говорил сейчас Сванну, было мне вполне понятно и вызывало у меня еще больший интерес к игре Берма. Я пытался вызвать в памяти образ актрисы в этой сцене, где, как я помнил, она поднимает руку на уровень плеча. И я говорил себе: «Вот олимпийская Гесперида, вот сестра одной из великолепных молящихся дев Акрополя; вот что такое высокое искусство». Но чтобы от этих мыслей жест Берма показался мне прекрасней, нужно было бы, чтобы Берготт заронил их в меня до спектакля. Тогда, глядя на позу актрисы, представшей передо мной во плоти, я бы в тот миг, когда зрелище явилось моим глазам во всей своей реальности, попытался извлечь из него понятие архаичной скульптуры. Но от Берма в этой сцене у меня осталось воспоминание, которое уже нельзя было изменить, тонкое, как образ, лишенный той глубокой основы, какая есть у того, что видишь перед собой вот сейчас, – основы, в которой можно порыться, чтобы извлечь что-нибудь и вправду новое; этот образ не поддавался субъективному истолкованию задним числом, впечатление от него уже нельзя было проверить. Г-жа Сванн, желая поучаствовать в разговоре, спросила меня, догадалась ли Жильберта дать мне то, что написал о Федре Берготт. «Дочка у меня такая легкомысленная», – добавила она. Берготт скромно улыбнулся и стал уверять, что это совершенно незначительный набросок. «Но это восхитительное эссе, восхитительная брошюрка», – возразила г-жа Сванн, потому что она хотела показать, что умеет принимать гостей и прочла брошюру, а главное, потому что любила не просто хвалить Берготта, а сравнивать между собой его произведения, наставлять его. И она в самом деле была для него источником вдохновения, хотя и не в том смысле, в каком думала. Но в сущности, изысканность салона г-жи Сванн действительно связана с одной из сторон творчества Берготта – для тех, кто сегодня принадлежит поколению стариков, одно может служить комментарием к другому, и наоборот.