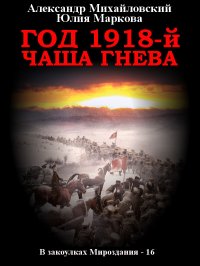Читать онлайн Севастопольский блиц бесплатно
- Все книги автора: Александр Михайловский, Юлия Маркова
Часть 37
09 апреля (28 марта) 1855 год Р.Х., день первый, 05:35. окрестности Севастополя, Сапун-гора.
Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский.
Ожидание доступа в мир Крымской войны заняло у нас даже больше времени, чем стабилизация предыдущего мира Бородинской битвы – с той задачей мы управились за тридцать девять дней, а ждать разрешение доступа на следующий этаж пришлось полтора месяца. И только оказавшись в этом мире и установив точку врезки, мы поняли, почему Небесный отец так долго тянул с разрешением. Порталы открылись аккурат после того, как в Петербурге испустил дух император Николай Первый. А я-то надеялся подлечить этого незаурядного и сильно оболганного человека и порешать с ним все политические и военные вопросы как один ретроград с другим ретроградом. А вот фиг, справляйся как знаешь, без такой заручки. Из этого следует, что Небесному Отцу не нужна стабилизация России на базе императора Николая Первого. Мол, загнал страну в задницу один раз, загонит и еще. Он у нас прекраснодушный рыцарь: верит, что так называемые благородные люди честны и никогда его не предадут. Но управлять Россией – это не планы крепостей чертить, а в друзья к императору, как правило, набивались те, кто собирался торговать его секретами. Одним словом, покойся с миром.
Император Александр Николаевич у нас либерал, причем тоже с эпитетом «прекраснодушный». Это не то чтобы ужасно (бездушный тиран, для которого люди как пешки или иуда с отметиной на лбу были бы гораздо хуже), но этого прекраснодушного либерализма недостаточно для того, чтобы править огромной страной. Хотя, быть может, я к нему несправедлив. По-крупному у него только две ошибки: первая – это похабное, без земли, освобождение крестьян, заложившее под фундамент Империи фугас, который и рванул в 1917 году; вторая – Война за освобождение Болгарии, на которую Император и его министр иностранных дел испрашивали разрешения у каждой европейской собаки. Унижение и поношение имперского достоинства, не виданное нигде ни до, ни после. Я, конечно, понимаю, что над этими двумя деятелями как рок довлело поражение в Крымской войне, показавшей слабость России перед лицом союза нескольких крупных европейских государств, – но кто же Александру Николаевичу доктор – сам виноват в том, что между завершением Крымской и началом русско-турецкой войны развитие Российской империи было пущено на самотек… С Турцией, которую планировалось закидать шапками за два месяца, пришлось воевать почти год; куда уже после этого вступать в войну с назревающей коалицией крупнейших европейских держав, желающих ограничить пределы расширения российского влияния.
Но тут еще ничего не предрешено: ни поражение, ни либеральные язвы нового правления. Но в любом случае, прежде чем давать какие-то советы, учить, как жить внутри России и какую политику проводить в отношении иностранных держав, мы должны решить свою главную задачу и жестко обломать вторгшихся на территорию России иностранных интервентов. Но, в отличие Бородинской битвы (вступать в которую нам требовалось немедленно, прямо с марша), ситуация в Крыму в марте 1855 не была столь напряженной и никому из главных фигурантов не угрожала скорая гибель. Корнилова и Истомина мы уже упустили по независящим от нас обстоятельствам, а Нахимов и Тотлебен в ближайшее время будут живы-здоровы и полностью дееспособны. Поэтому, прежде чем ввязываться в сражение, требовалось хорошенько изучить диспозицию, а также понять, как нанести противнику максимальный ущерб при минимальном задействовании собственных ресурсов. В конце концов, боевые действия в Крыму – это только один из эпизодов военного и политического противостояния между Российской империей и ополчившегося против нее англо-франко-сардинского союза, притом, что все прочие европейские государства придерживаются нейтралитета, дружественного союзникам и недружественного к России.
На разведывательные мероприятия, скрытые поиски, взятие языков и прочее у нас ушел еще месяц, после чего мы определились с началом активных действий, назначив его на второе апреля по григорианскому календарю (то есть на начало второй бомбардировки Севастополя). Первой точкой приложения усилий предстояло стать Сапун-горе[1], поскольку ее вершина господствовала как над франко-британскими осадными позициями, так и над британской базой в Балаклаве. В начале осады, в опасении действий русской армии, которая могла бы попытаться выручить осажденный город, на гребне этой возвышенности англо-французская армия оборудовала траншеи циркумвалационной линии[2]. Первоначально этот рубеж занимал французский обсервационный корпус генерала Боссе, но потом стало ясно, что это была ненужная предосторожность. Главнокомандующий русской армией в Крыму генерал Меньшиков оказался грозен больше по имени, да и его преемник генерал Горчаков из-за отсутствия резервов тоже не был способен ни на какие решительные действия. А все дело в том, что три четверти русской армии, вместо того чтобы спешить в Крым к месту развертывающихся событий, денно и нощно бдят на западной границе, готовясь отразить вторжение Австрии, Пруссии и даже Швеции. В связи с этим французов с циркумвалационной линии убрали, заменив их турками. Все равно от таких союзников при ведении осады пользы было даже чуть меньше, чем никакой.
А турки – это отдельная песня. Сам я с ними прежде дело имел только в мире Смуты, когда мое воинство взяло Крым. Если татар мы тогда по большей части депортировали за Ор-капу (Перекоп), то турецкие гарнизоны были вырезаны до последнего человека, причем резали их не мои ушастые бойцыцы с амазонками, а местные освобожденные из полона кадры. Если хотите знать мое мнение, то германские фашисты по сравнению с турками были просто сопливыми недоучками, ибо не имели в запасе пятисотлетнего опыта совершения самых бесчеловечных зверств. Одним словом, к туркам жалости не было никакой. Если французских и британских языков после допроса, как правило, передавали в мир Содома на пополнение тевтонам, то турецких аскеров и их офицеров ждала участь учебных пособий при подготовке пополнения моей армии. При окончательной экзаменовке на унтер-офицерские должности необходим рукопашный (то есть с применением только холодного оружия) поединок кандидатки с настоящим сильным и свирепым врагом, который изо всех сил будет стремиться ее убить. Выживание оппонента в таком поединке не предусматривается, и поэтому кандидатка должна гарантировано убить его, применяя штатное оружие своего рода войск, а также все те качества, которые вложили в нее неведомые создатели подвида бойцовых ушастых лилиток.
Так вот, турецкие таборы (батальоны) дугой вытянулись вдоль циркумвалационной линии, окружая Севастополь, и только на востоке у Черной речки их сменяла вторая дивизия британцев. Объектом первой атаки я выбрал позицию на гребне возвышенности, через центр которой проходило Лабораторное шоссе. С этой позиции нарезные четырехфунтовки, имевшиеся на вооружении моих пехотных легионов, получат возможность обстреливать как позиции осаждающей Севастополь союзной армии, так и британскую базу в Балаклаве. И если шрапнели у меня вполне классической конструкции, с дальнобойностью до трех с половиной километров, то с недавних пор в чугунные фугасные снаряды улучшенной аэродинамики и дальнобойности заливается производимая «Неумолимым» высокотехнологичная термобарическая взрывчатка, наполовину состоящая из высокобризантного взрывчатого вещества триалинит, а наполовину – из мелкого алюминиевого порошка. Одним словом, незваным на русскую землю гостям мало не покажется.
В полночь по местному времени открылись порталы, и на дело пошли бойцы и бойцыцы разведывательного батальона. Большая часть турок мирно спала в своих палатках, а немногочисленным часовым не помогла даже висящая в зените полная луна. Точнее, она помогала, но совсем не им. В разведывательном батальоне у меня служат дикие амазонские оторвы, в буквальном смысле родившиеся с луком в руках. В открытом сражении они, разумеется, берутся за супермосины и прочий огнестрел, но когда идет тихая и тайная работа, то лук становится незаменим. Щелчки тетив, тихий свист стрел, хрипы умирающих часовых – и, пока в шатрах никто не проснулся (например, для того, чтобы погадить среди ночи), стремительный рывок вперед и отчаянная работа холодным оружием, чтобы сделать спящих мертвыми. Помимо трех таборов, занимавших нужный нам участок гребня Сапун-горы, наши разведчики вырезали еще по километру вправо и влево…
Сразу после того, как стало известно, что предполагаемый плацдарм очищен от присутствия неприятеля, вперед, занимать позиции на плацдарме, двинулся первый пехотный легион. Немного артан, немного рязанских ратников из мира Батыя, приставших к моему воинству, немного освобожденных в Крыму мира Смуты полоняников из числа гребцов на турецких галерах; остальные – бойцовые лилитки, не желающие осваивать кавалерийские премудрости, а потому воюющие в пехоте. К тому же в пехоте нет проблем с мужиками, и ни одна лилитка, если она сама того хочет, не ляжет спать в одиночестве. Вместе с первым легионом на плацдарм отправился весь наш артиллерийский кулак, а также Дима-колдун, заменяющий собой саперный батальон. Сейчас он рьяно изучает магию земли и решил применить полученные знания при создании самовыкапывающихся траншей полного профиля и обвалованных орудийных позиций. Кстати, такие окопы выглядят не выкопанными, а выдавленными в земле, с сохранение травяного покрова, разбросанных то там, то сям камней и прочих особенностей местности, а потому для маскировки нуждаются только в масксетях, препятствующих обнаружению сверху. Таким же способом были выкопаны и могилы для упокоенных турок, которые потом как бы сами по себе самозатянулись землей. На первый раз обошлось без магогенератора, но в дальнейшем он станет тут необходим, потому что собственный запас магической энергии у этого мира (как и везде «наверху») крайне невелик. К восходу солнца, который наступил тут полшестого утра, уже все было готово. Войска заняли назначенные позиции и теперь сидели в окопах или стояли у орудий в ожидании поступления приказа, который перевернет местную историю с ног на голову.
09 апреля (28 марта) 1855 год Р.Х., день первый, 06:05. Севастополь, IV (Мачтовый) бастион.
Временный военный губернатор Севастополя адмирал Павел Степанович Нахимов.
Шел второй день православной Пасхи (а у всех прочих, значит, был понедельник). С самого утра, едва только солнце поднялось над горизонтом, артиллерия французов и англичан открыла по укреплениям Севастополя ураганный огонь, еще более сильный, чем во время первой бомбардировке в октябре, когда погиб адмирал Корнилов. Ядра и бомбы во множестве падали не только на укреплениях, но и вокруг, и даже в самом городе, приводя к гибели множества мирных обывателей. Казалось, на Севастополь извергается внезапно пробудившийся смертоносный вулкан, по дуге опоясывающий русские укрепления[3]. Впрочем, артиллеристы-севастопольцы не остались в долгу и тут же принялись возражать своим англо-французским оппонентам, но в связи с недостаточностью боеприпасов и меньшим количеством орудий на один русский выстрел приходилось три вражеских. Защитники Севастополя на своей земле терпели нужду буквально во всем, в то время как интервенты, вынужденные возить себе все необходимое на кораблях из Портсмута и Марселя, имели возможность не считать ни пороха, ни ядер.
Но время интервентов было уже на исходе. Стоя на бастионе, Нахимов в подзорную трубу наблюдал за позициями противника. И в этот момент адъютант дернул своего начальника за рукав и гаркнул в самое ухо, перекрикивая рев артиллерийской канонады:
– Павел Степанович, гляньте-ка на Сапун-гору, турка-то по своим лупит…
Нахимов перевел окуляры своего прибора туда, куда указывал адъютант. И точно – над гребнем Сапун-горы, почти прямо у самой вершины, вспух едва видимый с такого расстояния ватный клубок артиллерийского выстрела. Устанавливать орудия на гребне Сапун-горы для обстрела Севастополя не имело никакого смысла, потому что расстояние до ближайшей точки русских позиций почти втрое превышает предельную дальнобойность самых лучших орудий. Что за черт?
Впрочем, дальше произошло то, что и должно было произойти. Пятнадцать секунд бешено вращающийся в полете термобарический снаряд улучшенной аэродинамики мчался по пологой баллистической траектории – и наконец столкнулся с землей в сотне шагов позади расположения левофланговой британской батареи на третьей осадной параллели. На данный момент эта батарея была самой ближней к русским позициям и, следовательно, самой опасной. Дальнейшие картинки сменяли друг друга стремительно, как в калейдоскопе: ярчайшая вспышка, как от полупуда магния[4] разом – на ее месте тут же возникла полусфера желто-оранжевого пламени с куполом ударной волны (видимым невооруженным глазом) и разлетающимися во все стороны добела раскаленными искрами. Прошло еще несколько мгновений – и пламя обратилось в неровный косматый клуб грязно-белого дыма, который лениво поплыл по ветру. Неведомое орудие оказалось в два раза дальнобойнее лучших пушек русской армии. Нахимов, зажмурившись от неожиданной яркости взрыва, успел лишь подумать, что это совсем не похоже на взрыв обычной пороховой бомбы (тут будто рвануло сто бомб разом), и тут до четвертого бастиона докатился короткий злой гром, на мгновение заглушивший всю прочую канонаду.
Но то, что произошло всего минуту спустя, ввело в ступор обе стороны. Обращенный к Севастополю склон Сапун-горы опоясался яркими взблесками и клубами порохового дыма от десятков выстрелов. А еще через пятнадцать секунд лавина чудовищных снарядов с неистовой яростью обрушилась на батареи и траншеи осаждающей Севастополь армии, а слитный грохот взрывов совершенно заглушил гремевшую доселе артиллерийскую канонаду. Не прошло и нескольких минут такого избиения, как огонь англо-французских батарей совершенно прекратился, потому что уцелевшие артиллеристы, бросив свои пушки, попрятались по траншеям. Прекратили огонь и русские орудия, а матросы и солдаты, выглядывая из-за бруствера, с удивлением и оторопью наблюдали буйство ярких вспышек и огненных полусфер, разлетающиеся туда-сюда искры и перехлестывающие друг друга ударные волны.
Это буйство неистовой ярости продолжалось четверть часа или около того. Приведя противника к молчанию, неведомые союзники русских еще некоторое время попинали неподвижную англо-французскую тушку и тоже задробили стрельбу. Все, что осталось от только что бушевавшей тут неистовой ярости, это сносимые ветром клубы порохового дыма над гребнем Сапун-горы и грязно-белая пелена на том месте, откуда на Севастополь совсем недавно сотнями летели ядра и бомбы. И наступила тишина, прерываемая лишь стонами раненых и словами молитвы, которой батюшка провожал на тот свет павших в бою русских воинов. Французы и англичане молчали, потому что судорожно пытались сглотнуть и понять, что это вообще было, а русские в затянувшей поле боя грязно-белесой завесе просто не видели, во что стрелять, а потому экономили дефицитные порох и ядра. Каждый снаряд и каждый пороховой заряд приходится везти сюда чуть ли не из самого Петербурга, а потому у севастопольских артиллеристов каждый выстрел должен идти в цель, как учил их еще первый герой севастопольской обороны адмирал Корнилов.
Опустив подзорную трубу, Нахимов потрясенно пробормотал короткую молитву. Стрельба на запредельные дистанции совсем не была ошибкой. Неведомые артиллеристы, окопавшиеся на Сапун-горе, сознательно наводили свои орудия именно на позиции интервентов. Какой точно урон этим обстрелом был нанесен осаждающим, командующий севастопольской обороной не ведал. Но он предполагал, что ущерб, что понесли европейцы в виде испачканных известной субстанцией штанов, оказался значительно большим, чем повреждения, которые получили укрепления и артиллерийские орудия. Слишком недолго бушевала яростная бомбардировка. Адмирал Нахимов видел, что господ коалиционеров только пугнули, заставить прекратить бомбардировку. Если бы обстрел такой плотности и мощности продолжался хотя бы один день до заката, от осаждающей армии остались бы только рожки да ножки.
И еще. Флаг, который развевался над Сапун-горой был, красным, а стало быть, турецким… И мысли в голову по этому поводу лезли совершенно дурацкие. В первую очередь – откуда бы у диких турок могли взяться сверхдальнобойные орудия, кидающие снаряды почти на тридцать кабельтовых, и к ним вдобавок сверхмощные снаряды? Да и вообще, с чего бы туркам стрелять по англичанам с французами? Ведь воюют они на одной стороне.
Впрочем, было понятно, что на ближайшее время англичане с французами оставят Севастополь в покое, занявшись более насущными делами. Союзное командование, заимев непонятного, сильного и беспощадного врага у себя в тылу на господствующей высоте, попытается сначала решить именно эту проблему, и лишь потом вернется к осаде.
Не прошло и нескольких минут, как эта мысль нашла материальное подтверждение. Не в смысле действий англо-французского командования, а в смысле того, что окопавшиеся на Сапун-горе неведомые артиллеристы на этот раз неспешно и методично открыли огонь по палаточным городкам англо-французских воинских частей, разбитых позади позиций за пределами досягаемости русских орудий. Вот тут Нахимов убедился, что эти снаряды имеют просто восхитительное зажигательное действие – просмоленная парусина палаток под воздействием разрывов вспыхивает как бумага. Адмирал еще подумал, а нельзя ли приспособить эти снаряды для поражения вражеских кораблей, – как в британском лагере раздался ужасающий грохот, а в воздух поднялось грибовидное облако пламени, быстро превращающееся в плотный клуб белого дыма. Очевидно, один из снарядов ударил в пороховой погреб, лишив британцев значительной доли огневых припасов. Также попал под раздачу и был разбит единственный паровоз, который англичане приволокли с собой из дому для того, чтобы он возил им по импровизированной железной дороге припасы от пристани в Балаклаве до главного лагеря. Подбить его для неведомых артиллеристов было делом нескольких выстрелов, после чего последовало прямое попадание, оставившее от бедолаги только искореженный остов. Доставалось от обстрела и британской тыловой базе и якорной стоянке в Балаклаве. Куда там точно падали снаряды, Нахимов не видел (обзор перекрывали отроги той же Сапун-горы), но густые клубы черного дыма, вздымающиеся в небеса в той стороне, с четвертого бастиона заметны были хорошо. Великобританцев неведомые пока союзники русских били по самому дорогому – прямо по фаберже, то есть по кораблям.
09 апреля (28 марта) 1855 год Р.Х., день первый, 10:45. Окрестности Севастополя, базовый лагерь британской армии.
Главнокомандующий британским экспедиционным корпусом фельдмаршал Фицрой Джеймс Генри Сомерсет, 1-й барон Реглан.
Лорд Реглан был в шоке. Чудом уцелев во время бомбардировки, он теперь не знал, что ему следует предпринять. В данный момент он с ужасом наблюдал за тем, как британские хирурги, накинув поверх обычной одежды кожаные фартуки как у мясников, сортируют доставляемых санитарами солдат Ее Величества, отделяя живых от мертвых. И ведь подумать только – на многих покойниках ни царапинки, только потеки крови из носа и ушей. По свидетельству санитаров, их так и нашли – сидящими на дне траншеи в обнимку со своими ружьями. Они просто умерли и даже главный хирург британской армии не может сказать, в чем причина их смерти. А вот рядом на расстеленных шинелях лежат другие тела, изломанные и исковерканные, очевидно побывавшие в самом эпицентре кошмара. На них доктора даже не смотрят, потому что лечить эту груду мяса и костей не взялся бы даже сам Господь Бог.
Но британские хирурги не равнодушны к людским страданиям и готовы сражаться со смертью за каждого солдата или офицера Ее Величества, даже несмотря на то, что ужасная антисанитария в английских госпиталях убьет большую часть их пациентов. Что там говорить об условиях на полевом перевязочном пункте, если в Балаклавском госпитале за зимние месяцы британское командование даже не удосужились отремонтировать окна и двери. И вообще в эту эпоху количество солдат, умерших от ран, превышает число убитых наповал, а количество погибших от кишечных инфекций, больше и тех и других вместе взятых. Кишечная палочка косит армии похлеще пуль и ядер, а врачи рассуждают о дурном воздухе и миазмах.
Общее число убитых и раненых пока не подсчитали, но потери наверняка будут как после проигранного сражения. И что хуже всего – неизвестный враг, засевший со своими пушками на вершине Сапун-Горы, артиллерийским огнем сумел полностью разгромить британский лагерь, взорвать запасы пороха, разбить железную дорогу и уничтожить на ней единственный паровоз. У французов от этого обстрела тоже имелись потери, но основной удар пришелся все же по англичанам. Самое главное, что выпущенные с Сапун-горы бомбы огромной разрушительной силы не долетали до Камышовой бухты, где обосновался французский флот, а вот английская якорная стоянка в Балаклаве пострадала изрядно. А ведь она казалась такой безопасной, укрытой от штормов и всяческих напастей… никто ведь не мог предвидеть заранее, что враг сможет тайно втащить на вершину горы множество пушек и нанести по господам коалиционерам внезапный и уничтожающий артиллерийский удар. Самое ужасное заключалось в том, что обстрелу и полному уничтожению подверглись как раз сильнейшие корабли флота Владычицы морей.
В яростном ревущем пламени там, за холмами, в настоящий момент погибают лучшие линкоры Ее Величества: стодвадцатипушечные «Британия», «Трафальгар» и «Королева»; девяностопушечные «Родней» и «Лондон», а также семидесятивосьмипушечный «Беллерофон». Артиллерийский обстрел застал британских моряков врасплох. По свидетельству очевидцев, чудовищные снаряды глубоко вонзались в толстые дубовые борта (у парусных линкоров до метра толщиной) и тут же разрывались с ужасной силой, создавая такие проломы, что в них с легкостью мог бы пройти человек. К тому же адский жар от этих взрывов моментально воспламенял расколотое дерево, создавая очаги пожаров, с которыми бороться оказалось почти невозможно. А уж если снаряд пробивал ослабленный борт или попадал прямо в пушечный порт, взрывался внутри – то тогда ревущее яростное пламя охватывало сразу помещения трюма, превращая их в огненную пещь. В этом неистовом огне вместе с сотнями других храбрых британских моряков одним из первых погиб и командующий флотом в Средиземном море вице-адмирал Эдмунд Лайонс.
Скрипнув зубами в приступе бессильной ярости, лорд Реглан посмотрел на вздымающиеся к небесам клубы угольно-черного дыма. Он находился к вершине Сапун-горы примерно в три раза ближе, чем адмирал Нахимов (около трех километров) и точно знал, что, несмотря на красный цвет знамени, там окопались кто угодно, но только не турки. Турки (настоящие) еще с ночи разбежались по окрестностям, и их ловят храбрые марокканские спаги императора Наполеона Третьего (как самые опытные в этом деле). Пойманные пытаются лепетать в свое оправдание что-то о шайтане, слугах иблиса и прочей нечистой силе – по их словам, именно она одолела поклонников Магомета прошлой ночью. Морщась от отвращения, главнокомандующий британской армией приказал повесить дезертиров и то же самое проделать с теми из них, которые еще будут пойманы. Когда есть возможность пограбить, турки всегда первые, честные британские солдаты за ними не угонятся; а если требуется воевать, то они убегают с поля боя быстрее своего визга, как и случилось в битве под Балаклавой.
Лорд Реглан посмотрел на стоящего рядом генерала Кэмпбелла, временного командира четвертой пехотной дивизии.
– Сэр Джон, – просто сказал он, – я хочу, чтобы ваша дивизия поднялась на эту гору и вышвырнула оттуда тех хулиганов, которые причинили вам столько неприятностей. Их там не должно быть особенно много, так что, думаю, вы управитесь с этим делом за пару часов. Если вы выполните поставленную задачу, то станете постоянным командиром дивизии. Ступайте, я жду от вас только победы!
– Постойте, месье Реглан, – окликнул британского командующего подошедший со стороны французского лагеря, генерал Боске, командующий стоящим по соседству правым флангом[5] французской армии, – дивизия зуавов и конные африканские егеря д`Алонвиля поддержат атаку британских храбрецов, или мы уже не союзники?
Полгода назад, во время Балаклавской операции русской армии, именно Боске со своим обсервационным корпусом вытянул англичан из весьма неприятной ситуации. Если бы не те самые конные егеря д`Алонвиля, Легкая Бригада британской кавалерии, состоявшая из цвета знати, вся без остатка легла бы на том кровавом поле, куда ее загнал как раз лорд Реглан.
– Хорошо, мой дорогой друг, – кивнул британский главнокомандующий, – пусть ваши зуавы и конные стрелки подкрепят атаку британской пехоты. Хотя не думаю, что дело будет трудным: гора выглядит совершенно пустынной, так что думаю, что устроившие этот обстрел русские давно убрались туда, откуда они явились. Теперь меня интересует только то, какой бакшиш (взятка) был заплачен туркам, чтобы те пропустили русских на вершину Сапун-горы…
– Месье Реглан, – с иронией ответил генерал Боске, – тот, кто воевал в Алжире, знает, что если противника не видно, это не всегда означает, что его нет. Пожалуй, я сам, лично, со шпагой в руке возглавлю атаку наших храбрых зуавов…
Дальнейшие события подтвердили правоту генерала Боске. Первыми на неприятность нарвались конные егеря д`Алонвиля и сопровождавшие их в разведке кавалеристы из 4-го легкого драгунского полка британской армии. Этот полк был как раз в числе британских кавалерийских частей, которые были спасены действиями конных африканских егерей во время Балаклавского сражения (поэтому он установил со своими спасителями особые отношения вроде боевого братства). Джентльмены не могли оставаться в лагере в то время, как их спасители рискуют жизнями, и потому добровольно вызвались сопровождать их в походе к вершине Сапун-горы.
Когда зуавы и солдаты Джона Кемпбелла построились в штурмовые колонны[6] и уже были готовы двинуться вперед, кавалеристы пришпорили коней и рассыпным строем поскакали вверх по пологому склону на разведку. Если их обстреляют, они отскочат и разойдутся в стороны, нащупывая фланги вражеской позиции, а если все пройдет без стрельбы, то доскачут до вершины и сорвут вражеский флаг. И все. За скачкой храбрецов, на рысях поднимавшихся в гору, внимательно следили тысячи глаз.
Но все вышло совсем не так, как рассчитывал лорд Реглан. Когда до гребня горы осталось две сотни двойных шагов, навстречу скачущим во весь опор кавалеристам ударили выстрелы, много выстрелов. Однако никакого противника перед собой всадники так и не увидели. (И вправду, попробуй-ка разгляди со спины скачущего коня диких амазонок в камуфляже и с раскрашенными тактическими гримом лицами. И это при том, что выстрел из винтовки не образует обычного в эти времена клуба дыма. Бойцы пехотного легиона со своими репликами винтовки Бердана пока молча наблюдают за полем боя; огонь ведут только вооруженные супермосиными бойцыцы-амазонки особых стрелковых рот, а для них стрельба – это предназначение всей жизни, а не одно из возможных занятий. Стрельба из самозарядного супермосина для таких мастериц одно удовольствие. Только целься и стреляй, целься и стреляй, да не забывай менять пустые магазины на набитые.)
Всадники полетели с коней один за другим, и в этот же момент снова ударили пушки. Пролетев над головами гибнущих от прицельного огня кавалеристов, снаряды описали очень пологую дугу и с небольшим недолетом лопнули ватными пороховыми облачками перед строем британской и французской пехоты, по которой стегнули свинцовые снопы шрапнелей. А за этим – еще и еще. Тем временем ни один британский или французский кавалерист не доскакал до невидимых окопов, и никто из них не смог укрыться за пехотный строй. Все полегли, застреленные амазонками в грудь или в спину при попытке к бегству с этой страшной высоты. И только ржущие от возмущения кони кругами носились по склону, потеряв своих хозяев. Их-то амазонки жалели и старались не задевать. Конь – существо благородное, не то что некоторые двуногие, которые набрались наглости восседать у него на спине.
Пехота вместе с двумя своими предводителями под шквалом шрапнелей шаг за шагом продолжала подниматься на свою Голгофу. Редели ряды, падали раненые и убитые, а Джон Кемпбелл и генерал Боске продолжали двигаться вперед. Вот-вот уцелевшие в этой атаке одним рывком покроют дистанцию до таких заметных и зловредных окопов, после чего переколют назойливых стрелков своими штыками. Но не тут-то было. Навстречу небольшим уже горсткам зуавов и британских пехотинцев в контратаку поднялась волна бойцов самого фантастического вида. Обряженные в буро-зеленые мундиры, многие из бойцов помимо берданок были вооружены любимыми двуручными мечами в человеческий рост. Когда речь идет о рукопашной схватке, да на приволье – винтовка идет за спину, а меч используется для дела. Английские и французские солдаты не ожидали, что их будут рубить двуручными мечами и смутились при виде поднявшихся из окопов рослых фигур, с клинками наизготовку длиной почти в человеческий рост. Впрочем, колебания им не помогли. Почти в упор прозвучал залп из берданок, а несколько мгновений спустя атакующие и контратакующие столкнулись. Раздался лязг и хруст, а также звуки, больше свойственные мясной лавке, когда там пластают топором целиковые бычьи или свиные туши. Впрочем, в самый короткий срок все было кончено. Большая часть атакующих погибла, нескольких человек легионеры взяли в плен, в том числе и обоих генералов, а остальные, прихрамывая и подвывая от ужаса, бросились наутек. Но никому из них не довелось вернуться в свой лагерь и рассказать приятелям, каково это: оказаться в гостях у злой русской сказки. Всех их застрелили снайперши-амазонки, никто не смог убежать настолько далеко, чтобы в него нельзя было попасть из супермосина.
Глядя на то, как легко и просто обороняющиеся разделались с британскими солдатами и зуавами, лорд Реглан осатанел и бросил в мясорубку лучшее, что у него было – гвардейскую дивизию и шотландскую дивизию хайлендеров. Сэр Колин Камбелл, предводитель шотландских горцев и командир гвардейской дивизии Георг Вильям Фредерик Чарльз, герцог Кембриджский, граф Типперари, барон Куллоден под мерный рокот барабанов и заунывное завывание волынок построив своих людей в несколько линий, следующих одна за другой, повели их вверх по склону – на верную смерть. Оба генерала являлись незаурядными военачальниками и понимали, что штурмовая колонна – это явное приглашение противнику обстрелять атакующих шрапнельными гранатами или даже ядрами. Чем реже строй, тем меньше будут потери от артиллерии. Если задание невозможно выполнить, то к этому хотя бы надо стремиться, а погибать следует – маршируя к цели, а не наоборот.
Вслед за гвардией и горцами в гору приготовились тянуть пушки (что было уже откровенной глупостью). Во-первых – тащить пушки вверх по травянистому склону без дороги было сущей каторгой. Во-вторых – никто и не собирался подпускать британскую артиллерию на дистанцию действительного огня, поэтому, едва на батареях началась нездоровая суета, то они оказались разгромлены коротким, но чрезвычайно энергичным артиллерийским налетом. При этом погибло множество артиллеристов, а лорд Реглан полностью отказался от идеи покончить с засевшим на Сапун-горе врагом при помощи артиллерии.
Пока английские полки маршировали навстречу своей судьбе, командующий французской армией генерал Канробер, наблюдая за маневрами англичан, только мысленно крутил пальцем у виска. Лорд Реглан, будто ополоумев от неожиданных неудач, поставил на кон лучшие части своей армии. Атака сильного противника неизвестной численности, с артиллерией и егерями, успевшего хорошо укрепиться на господствующей высоте выглядела предприятием более чем безнадежным. Число жертв пресловутой Атаки Легкой Бригады (уже ставшей синонимом глупости и головотяпства британского командования), сегодня может быть многократно превышено. Да что там «может быть». Потери того осеннего дня уже перекрыты многократно. Прямо со своего командного пункта генерал наблюдал склон, усыпанный телами в красных мундирах английских пехотинцев и красно-синих мундирах зуавов. Такое впечатление, что на склоне этого холма наступил месяц май и в степи зацвели маки и прочие весенние цветы.
«Нет, – решил Канробер, – на этот раз французы не пойдут вслед за своими союзниками». Первоначально эта война в Париже планировалась как легкая прогулка, своего рода карательная экспедиция против обнаглевших дикарей, но упорное сопротивление русских, не желающих дарить врагу победы без боя, заставили заколебаться не только генералов, но и самого императора. Теперь Наполеон требует маленькой ритуальной победы, после которой он с чистой совестью мог бы заключить мир. И кто же виноват, что маленькой ритуальной победой этот человек называет захват Севастополя. А этот город русские не могут позволить себе отдать без самого ожесточенного сражения. Необходимо срочно написать Наполеону письмо, в котором изложить сегодняшнюю диспозицию. И до получения ответа с внятными инструкциями следует избегать неблагоразумных ответных действий.
Тем временем горцы и гвардия на тысячу шагов подошли к месту предыдущей схватки – и тут из вражеских траншей снова защелкали выстрелы. Лорду Реглану опять захотелось протереть глаза. Не было видно никаких клубов белого порохового дыма, как бывает при стрельбе из обычных ружей – только яркие вспышки… и больше ничего. Огонь был направлен исключительно против офицеров. Дети самых богатых, самых знатных, самых влиятельных семей империи (ведь только такие могли купить недешевый офицерский патент в гвардейских полках) навзничь падали на окровавленную траву. Вот первая шеренга одетых в красные мундиры британцев остановилась и дала дружный залп, на мгновение затянувший склон холма белесым пороховым дымом, после чего солдаты принялись перезаряжать свои штуцера.
И тут же из траншей последовал ответный залп – такой же плотный и злой, как у англичан, а за ним еще и еще. Тут уже ни о какой избирательности не могло быть и речи; на склон холма рухнули убитые и раненые, и ряды красномундирных солдат тут же смешались. Мгновенное облегчение лорда Реглана от того, что у противника массовое оружие такое же, как у англичан, сменилось недоумением от непонятной скорострельности неизвестных ружей. Скрывающиеся в траншеях незнакомцы успевали сделать три залпа в то время, как англичане давали только один. Встряхнувшись будто собаки, британские гвардейцы, взяли свои штуцера наизготовку для штыкового боя и быстрым шагом пошли вперед. Стоять на месте и перестреливаться с противником, имеющим тройное преимущество в скорострельности, было бы чистым самоубийством. В дальнейшем залпы из траншей следовали с убийственной частотой, голоногие хайнлендеры в килтах и гвардейцы в штанах выбывали из строя один за другим, а траншея, в которой засел неведомый противник, приближалась невыносимо медленно.
И вот, наконец, шотландцы и гвардия перешагнули через оставшиеся после предыдущей атаки последние трупы британских и французских солдат. Отсюда бруствер траншеи, как и торчащие над ним лица, раскрашенные, будто у леших, черно-зеленой краской, уже видны совершенно отчетливо; но вдруг прямо под ноги солдатам Ее Величества полетели какие-то яйцевидные предметы, много предметов. А потом разом громыхнуло так, что первые ряды британцев оказались полностью сметены, после чего из траншеи с нечленораздельным матерным ревом, мало напоминающим классическое «ура», густо полезли плечистые фигуры в буро-зеленых мундирах, вооруженные кто двуручным мечом, кто алебардой, а кто и берданкой с примкнутым штыком. И начался тот самый ожесточенный рукопашный бой на полное истребление противника, какой бывает только тогда, когда «верные» дерутся с «неверными».
Но британцев было много, целых две дивизии, выстроенных в несколько линий. Истребив первую и вторую линии британского построения, артанские легионеры в упор столкнулись с третьей и четвертой линией. У этих солдат, еще ни разу не стрелявших по врагу, штуцера были заряжены, в результате чего в упорной кровавой схватке с выстрелами в упор потери стали нести обе стороны. Впрочем, чтобы одолеть первый артанский легион, этого было недостаточно. Прошло не более четверти часа, ожесточенного рукопашного боя, и на ногах не осталось ни одного солдата в красных мундирах. И наступила тишина… А потом пришло время санитаров. При этом наблюдавшие снизу британские и французские генералы и офицеры видели, что на носилках с места схватки уносят не только раненых в мундирах буро-зеленого цвета, но и британцев, и даже, кажется, парочку зуавов, каким-то образом выживших с момента первой схватки.
И там, внизу, разгорелся нешуточный спор. Лорд Реглан, надрываясь, требовал, чтобы снова и снова повторять атаки на Сапун-гору и продолжать их столько раз, сколько потребуется для очищения этой горы от присутствия неприятеля. Казалось, весь остаток жизненных сил в этом человеке сосредоточился на мести за свой конфуз. Он кричал, настаивал, требовал, убеждал – но все без толку. Генерал Канробер непоколебимо стоял на своем: мол, без инструкций из Парижа от своего императора он не пожертвует ни одним солдатом, ограничившись мероприятиями самообороны. Все, финита ля комедия.
К тому же куда-то запропастился находившийся при главной квартире турецкий главнокомандующий Омер-паша. Его искали и никак не могли найти – и это наводило на крайне неприятные соображения. Лорд Реглан с полной серьезностью начинал подозревать, что хитрый турок взял русские деньги и приказал своим солдатам открыть дорогу на вершину Сапун-горы. Впрочем, никаких доказательств, свидетельств и прочих юридических штучек у британского главнокомандующего не было. Были некоторые косвенные факты и догадки – а потому все это «вполне вероятно (highly likely), господа». Кстати, генерал Канробер не разделял этой убежденности и говорил, что прежде чем обвинять союзников в предательстве (даже таких бросовых как турки), стоит сначала заполучить хотя бы парочку неопровержимых фактов, доказывающих их измену.
Пятьсот восемьдесят пятый день в мире Содома. Полдень. Заброшенный город в Высоком Лесу, подвалы Башни Терпения.
Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский.
Командующего турецкой армией в Крыму Омера-пашу (в прошлом православного, серба и австрийского подданного Михаила Калласа) мои головорезы из разведбата, как это обычно бывает в таких случаях, еще до утреннего намаза умыкнули вместе с молоденькой русской наложницей прямо из собственного шатра. При этом охрана, оберегающая сон и покой этого предателя собственного народа, не повела даже ухом – что и неудивительно, поскольку захватом командовала Артемида, а уж полог тишины ставить она умеет. Она же у нас настоящая богиня, в конце концов. С недавних пор она воспылала солидарностью к разным страдающим особам своего пола и взяла себе в обычай мстить их обидчикам. Вот и Омер-паша, не самым ласковым образом обращавшийся со своими наложницами, вызвал у нее профессиональный интерес.
Поскольку бывший командующий турецкими войсками в Крыму сам по себе мне неинтересен, то после доставки этого персонажа в мир Содома Артемида получила в его отношении полный карт-бланш. Гнида и паскуда, предатель веры, изменник собственного народа, кровавый палач, с невероятной жестокостью подавивший несколько восстаний в разных концах Османской империи – мне было нужно, чтобы этот персонаж исчез внезапно и бесследно, оставив на своем имени пятно подозрения в сговоре с русским командованием и побеге с желанием начать новую жизнь. Наверняка французские и британские генералы уже вычисляют, какого размера могла быть взятка за пропуск турками русской армии на вершину Сапун-горы.
К тому же нам уже известно, что охрана, обнаружив пропажу своего подопечного, уже успела броситься в бега – и теперь союзное командование разыскивает не только самого генерала, но и его нукеров. Эти несчастные прекрасно понимают, что следствие по делу о пропаже Омера-паши начнется с пытки их, любимых, и пыткой же, по причине смерти подследственных, оно и закончится… Пусть пока побегают, тем более что когда их, в конце концов, поймают и начнут допрашивать, то не поверят ни одному сказанному этими людьми слову. Но это только их проблемы, которые волнуют меня чуть меньше, чем никак. Ну нет у меня, право слово, никакого сочувствия к людям, сделавшим убийство, насилие и грабеж целью своей жизни. Пусть полной мерой получают все что заслужили.
Тем временем в мире Крымской войны все идет нормально: контрбомбардировка прошла успешно, вражеские батареи приведены к молчанию, разгромлен британский базовый лагерь, флот Ее Величества понес большие потери в кораблях и экипажах, а ответные атаки англичан и французов на Сапун-гору отбиты с большим уроном для неприятеля. Это же надо было додуматься – два километра вести штурмовые колонны под непрерывным шрапнельным обстрелом. В результате господа коалиционеры затихли как мыши под веником. Я почти уверен, что все действующие лица этой драмы уже отписали депеши в свои столицы. Лорд Реглан – в Лондон, королеве Виктории и премьеру Палмерстону, Канробер – Наполеону Третьему. И пока не придут ответы с высочайшими инструкциями, командующие союзными армиями будут сидеть на попе ровно, а мы в случае проявления ненужной активности будем устраивать им очередное принуждение к миру. Омар-паша, если бы мы его своевременно не взяли за шкирку, тоже бы сейчас сидел и писал письма султану, визирю и кому еще там положено… Но чего не дано, того не дано; придется этим господам остаться неосведомленными.
Но больше всего эпистол должны были послать из Севастополя: начальник обороны Севастополя адмирал Нахимов – свое, командующий войсками в Крыму генерал Горчаков – свое, начальник Севастопольского гарнизона генерал от кавалерии барон Дмитрий Ерофеевич Остен-Сакен – свое, начальник штаба Севастопольского гарнизона полковник и флигель-адъютант князь Виктор Илларионович Васильчиков – свое. С последним было бы неплохо наладить связь: есть данные, что это «наш человек». В преддверии нашего прихода в мир Крымской войны я поручил любезной Ольге Васильевне перечитать всю литературу по этому периоду, имеющуюся в их полковой библиотеке. И выяснился прелюбопытный факт. О князе Васильчикове очень хорошо (можно сказать, в превосходной степени) отзывался адмирал Нахимов[7]. А Нахимов – это авторитет. В то же время о бароне Остен-Сакене отзывы пренебрежительные, как о балаболе и бездельнике. Впрочем, те, кто эти отзывы оставил, не вызывают у меня такого уважения, как Нахимов. Быть может, это злоязыкие остряки, а может, интриганы и завистники. Генерал Горчаков для меня тоже не авторитет. Да и как может быть авторитетом военачальник, который в ходе этой войны проиграл все свои сражения?
Кстати, французский генерал Боске, который лично повел зуавов в ту безумную атаку, в отличие от Омер-паши, мне чем-то симпатичен, поэтому его, раненого, подобрали на поле боя и засунули в ванну с магической водой. Мало ли в каком случае мне может пригодиться харизматичный и обожаемый в войсках французский генерал.
Немного подумав, я решил все-таки глянуть на Омер-пашу, прежде чем Артемида настрогает его тонкими ломтиками на бефстроганов. Подвалы Башни Терпения – не самое приятное место в нашем Тридевятом царстве. Там вместе с подручными обитает глава нашей контрразведки и уголовной полиции ужасный криминальдиректор герр Курт Шмидт. Там расположены камеры для подследственных и особо неуважаемых военнопленных, а также специально оборудованные комнаты для допросов первой, второй и третьей степени. Одну из таких комнат, в просторечии именуемую пыточным застенком, и арендовала для своих мстительных забав наша дорогая Артемида. Характер у нее в последнее время улучшился, а понятия о добре и зле деформировались в правильную сторону. Однако этих изменений совершенно недостаточно для того, чтобы смерть Омер-паши могла считаться легкой.
И ведь точно. Когда я зашел в «снятую» Артемидой пыточную камеру, необходимая мизансцена и действующие лица были в наличии, но к процессу замучивания насмерть еще не приступали. В небольшом очаге пылал жаркий огонь, на котором докрасна калились палаческие инструменты, необходимые для прижигания и вырывания. Сам Омер-паша – голый, как приготовленная для свежевания свинья, уже висел на дыбе, установленной у противоположной от очага стены. На его покрасневшем, перекошенном от ужаса лице был написан стандартный для таких ситуаций вопрос: «А меня-то за шо?». Помимо Омера-паши, в пыточной находились еще несколько персонажей, известных и не очень. Вон – полуголая мускулистая рабочая лилитка, склонившаяся над свежей порцией дров для очага, вон – Артемида, обряженная в обтягивающий костюмчик черной кожи в стиле садо-мазо, рядом с ней – мисс Зул в аналогичном наряде, только красного цвета, а вон – наша Кобра, которая, присев на краешек стола, меланхолически подравнивает ногти кинжалом просто устрашающих размеров. Вот как раз Кобру я здесь увидеть и не ожидал. Обычно она чужда таких забав, и если кого-то убивает, то делает это прямо на поле боя – как говорится, не отходя от кассы, быстро и гуманно. Чистое мучительство – не в ее стиле.
– Приветствую вас, дамы, – сказал я, закрывая за собой дверь, – вот, пришел посмотреть на вашего пациента, пока он еще в дееспособном состоянии, и удивился, застав здесь Кобру. Неужели наша гроза драконов и заносчивых царских дочерей пристрастилась к инфернальным садистским забавам?
– Ничуть, мой обожаемый командир, – с ироничной усмешкой ответила Кобра, – я здесь по очень важному делу, порученному мне вашей, то есть нашей, Птицей, которая в миру зовется Анной Сергеевной Струмилиной. Так, кажется, выражаются в этом времени? Вот, видите, в уголке сидит скромная девица? Это последняя наложница этого бабуина – так сказать, жертва физического и морального насилия с его стороны. После освобождения выяснилось, что она, как улитка, замкнулась в своей раковине и никак не желает из нее выходить. Птица своими методами пробовала ее растормошить и тоже отступилась. Говорит, что ее душа в испуге заперлась изнутри и никому не открывает. Вот мы с девочками и решили выбить клин клином и показать несчастной, что ее обидчик жестоко наказан.
Я посмотрел туда, куда показала Кобра – и в темном углу, за столом, где обычно сидит писец, записывающий речи пытуемого, увидел умеренно пухлую девушку, скорее даже девочку, лет, наверное, пятнадцати или четырнадцати от роду. Явно не крестьянка и не горожанка: ручки белые, чистые, не знавшие тяжелого домашнего труда, не облегченного кухонными комбайнами и стиральными машинами. Чистая девочка из дворянской или купеческой семьи, где родители, наверное, на ребенка даже голоса не повышали, вдруг попадает в такую жизненную ситуацию, когда ее мир оказался грубо растоптан, а сама она очутилась во власти жестокого похотливого зверя, который видел в ней не человека, а лишь сосуд для излияния своей спермы. Ну что же – как аукнется, так и откликнется. Если с начала у меня еще были сомнения, не прекратить ли это мероприятие самым простым и надежным способом, попросту пристрелив Омер-пашу прямо тут в камере, то теперь я жалею, что мучения таких мерзавцев нельзя сделать вечными…
– Ну что же, скунс, – сказал я, повернувшись к пленнику, – поздравляю – ты выиграл приз. Я человек добрый, и за все твои злые дела: отступничество от веры отцов, предательство собственного народа, жестокие убийства невинных, которые совершались по твоему приказу, а также за насилия над женщинами и девушками – я всего лишь посадил бы тебя на кол. На большее моей фантазии не хватает, я все-таки воин, а не палач вроде тебя. При этом жизнь твоя была бы короткой, а мучения умеренными. Но теперь ты попал в руки настоящих специалистов, точнее, специалисток, ибо женщины – это самые жестокие существа на свете. Если ты их обидел, то можешь быть уверен, что месть их будет ужасна и что даже в могиле они не оставят тебя в покое. Присутствующие тут дамы сумеют сделать так, что жить ты будешь долго, при этом испытывая самые перворазрядные муки. Это тебе воздаяние и наказание за всю твою жизнь, за то, что сменил веру на карьеру, за то, что ради себя, любимого, ради денег, карьеры и положения в бандитском турецком обществе ты был готов воровать, грабить, убивать и насиловать, невзирая ни на число твоих жертв, ни на их беззащитность. И теперь по подвигу тебе и награда, по мощам и елей.
Омер-паша поднял голову и посмотрел на меня мутным взглядом.
– Кто ты такой, урус, – на вполне понятном русском языке сказал он, – что говоришь мне эти слова? Разве ты судья-кази, зачитывающий приговор, а я уже осужденный преступник?
– Одни зовут меня Бичом Божьим и правой рукой архангела Михаила, – сказал я, – другие – Богом священной оборонительной войны, третьи – обожаемым командиром, четвертые – Великим Артанским князем, государем и благодетелем; а все вместе – это тот человек, который идет через миры, устанавливает справедливость, побеждает зло, творит суд и расправу, ибо так повелел мне Господь.
– Плевал я на твоего Господа Христа, урус, – заявил мне Омер-паша и плюнул в мою сторону, – у меня теперь другая вера, и мой господин – это Аллах.
Но плевок Омер-паши не задался. Заклинание Защитного Ветра отбросило харчок обратно, и тот повис у злодея на кончике носа.
– Слабоумный бабуин, – сказал я, – сменив веру ради карьеры, ты лишь показал, что не веришь ни во что, кроме власти силы и денег, и господином твоим по сути является ни кто иной, как Шайтан. С таким господином ты и плюнуть в меня не сможешь, ибо каждый плевок вернется к тебе. У Бога множество разных имен, и сменив одно из них на другое, ты будешь не в силах отвертеться и от посмертного возмездия… Мисс Зул, я вас прошу, – сказал я, повернувшись в сторону означенной особы, – чтобы этот стервец наконец-то почувствовал пытки каждой клеточкой тела. И хоть нам, людям, не придумать такого наказания, чтобы оно было адекватно преступлениям, которые совершил этот человек, но все равно к совершенству необходимо стремиться. Думаю, для начала стоит прижечь раскаленным железом вон тот сморщенный стручок, который бесполезно болтается у этого бабуина внизу живота. Все равно он ему больше не понадобится, а жертве его преступлений, наверное, будет приятно видеть, как уничтожается причинившее ей боль орудие. Так сказать, око за око и зуб за зуб. Но только не перестарайтесь сгоряча, процесс должен быть рассчитан на длительное время…
– Обожаемый командир, – с иронией ответила мисс Зул, – не учили бы вы деммскую аристократку из высших классов тому, как правильно мучать пленников. Не хочу никого обидеть, но в этом деле вы, люди, не более чем дилетанты. Но ничего, я покажу вам, что такое настоящее Высокое Искусство…
И в этот момент внутри моей головы блямкнуло, примерно как от пришедшей на сотовый телефон СМС-ки – и перед внутренним взором появился текст сообщения. Оказалось, что, пока мы тут воевали и разбирались с прочими делами, неугомонная своевольница Лилия улизнула из-под нашего коллективного надзора и инкогнито немного погуляла по Севастополю в своей любимой манере любопытной девочки. Наверняка там, в мире 1855 года, теперь все слегка стоит вверх дном. Лилия у нас такая. И теперь требуется бежать и разбираться с последствиями.
– Так, дамы, – сказал я, прерывая мисс Зул, – только что пришло сообщение, что у меня появились дополнительные крайне неотложные дела… Так что я, пожалуй, пойду. Желаю приятного времяпрепровождения. А ты, скунс, прощай, с тобой мы больше не увидимся, черти в аду тебя уже заждались.
Уже находясь в дверях, я услышал за спиной длинный протяжный нечеловеческий вой, но не обернулся. Это была не пытка, а только ее предчувствие. Несомненно, тот, кто еще совсем недавно назывался Омер-пашой, понял мои слова и, когда Артемида или мисс Зул потянулись за соответствующим инструментом, кончик которого уже рдел от жара углей, он принялся вопить – пока еще не от самой боли, а только от ее ожидания. Ну что ж, он сам выбрал себе такую судьбу.
09 апреля (28 марта) 1855 год Р.Х., день первый, вечер. Севастополь, гошпиталь.
Сестра милосердия Даша Севастопольская (Дарья Лавре́нтьевна Михайлова).
Детство мое и отрочество многие назвали бы безрадостными. С ранних лет я привыкла к тяжелому труду, помогая матери, которая занималась стиркой у людей, ходя из дома в дом. Помню ее вечно красные, опухшие руки, разъеденные мылом… Отец служил матросом, жалование его было маленьким, и, хоть мы с матерью постоянно трудились, денег все равно не хватало. Когда мне было тринадцать лет, мать умерла от пневмонии… Будь я мальчиком, меня с самого рождения непременно записали бы в кантонисты[8], но так как девочки государству российскому не нужны, то я стала заниматься стиркой вместо матери; благодаря хорошему от природы здоровью я могла работать много. Люди, жалея меня, старались дать мне подзаработать, поручая, помимо стирки, и разные другие мелкие дела. Так, во многом себе отказывая, стараясь откладывать часть заработанного, через какое-то время мне удалось купить корову… И сразу стало легче. Я продавала молоко, делала масло и сметану и тоже носила на продажу; все это у меня охотно покупали. Оставалось и нам с отцом…
Я всегда слыла чудачкой – наверное, из-за моей замкнутости (впрочем, робкой меня едва ли можно было назвать). Я привыкла к одиночеству и не особо нуждалась в обществе других людей. Однако это не помешало мне выработать в себе такие добродетели как терпение, трудолюбие и упорство. Гораздо более, чем потребность в общении, меня одолевала другая нужда, не до конца осознаваемая мною. Всю жизнь мне казалось, что я слышу какой-то зов – словно Господь побуждал меня к чему-то. Я смутно догадывалась, что это «что-то» связано с тем, чтобы приносить людям благо. Но до определенного момента я не видела возможностей для исполнения Божьей воли. Каким образом я могла бы помогать людям? Это, напротив, людям казалось, что я нуждаюсь в помощи. Они меня жалели за мою бедность и сиротство… Сама же я не замечала своих лишений. Напротив, я была счастлива оттого, что я здорова, не калека и не убогая. Я всегда доверяла Господу и знала, что он не даст мне пропасть. Я догадывалась, что Он назначил мне какую-то особенную долю, не такую как у других (я вообще думаю, что именно через осознание своей непохожести мы однажды приходим к пониманию своего предназначения). Так что жила я с легким сердцем, не роптала и не впадала в уныние. Коровушка-кормилица не давала нам с отцом голодать, жилье какое-никакое имелось… а что до всего остального, то я об этом и не задумывалась, полагаясь во всем на Господа.
Все изменила начавшаяся Крымская война. В ноябре 1853 году в Синопском сражении погиб мой отец, и я осталась совсем одна на этом свете… Вот тогда-то я и почувствовала всей душой, что вот он – тот момент, когда мне следует приступить к выполнению предначертанного Богом… К этому рвалась моя душа, ежечасно напоминая о том, что я нужна – там, на полях сражений, где бродит Смерть, где льется кровь и где в отчаянье взывают к Небесам раненые и умирающие…
Когда я принимала решение, то меньше всего думала о наградах или благодарности, и уж тем более о том, что скажут о моем поступке люди. Я просто следовала зову своего сердца, я знала, что решение мое угодно Господу, а также то, что в заботе о раненых я обрету истинный смысл своего существования. Помочь! Помочь тем, которые, сраженные, лежат на земле, истекая кровью… Их много, этих воинов, и чаще всего они умирают, не дождавшись помощи, испытывая ужас одиночества, не имея рядом никого, кто мог бы хотя бы подержать за руку в смертный час… В то время как многих из них можно спасти! Ведь часто бывает так, что ранение самом по себе не очень серьезное, но человек умирает от потери крови, потому что некому перевязать его рану… Страшно подумать, сколько мужчин гибнет вот так – лишь потому, что помощь не пришла вовремя…
Я ощущала в себе небывалый прилив сил. Я не советовалась ни с кем и никому не сообщала о своем решении. Самое главное, что Господь одобрял меня – сердце мое наполнялось Его благодатью, и это было подобно крыльям за спиной… Он говорил мне, что, ступив на этот путь, я смогу достигнуть многого.
«Сирота совсем обезумела! – шептались люди, когда я отрезала свою косу, а затем продала все свое имущество и купила лошадь с повозкой, – да и неудивительно: сколько горя-то перенесла, в нужде выросла… Ни родни ведь у нее, у несчастной, ни покровителей…»
Я слышала эти шепотки, но они не задевали меня. Ум мой был ясен и сердце полнилось Господнею любовью… Я точно знала, что следую правильным путем; еще никогда я испытывала от жизни такого удовлетворения.
Враги обступили Севастополь со всех сторон, и только одна дорога продолжала связывать его с Россией. Непрерывно гремела вражья канонада, под ядрами и бомбами погибали не только матросы и солдаты, но и генералы с адмиралами. После каждой бомбардировки на бастионах оказывалось множество раненых, – и тут я появлялась со своей повозкой, перевязывая страждущих и доставляя их в гошпиталь. «Карета горя» – так называли мою повозку обыватели. Но те, кого мне удавалось спасти, дали ей другое название – «колесница надежды». Меня же они часто называли ангелом… ангелом последней надежды. Каждый раз, появляясь перед ними, я видела, как в их глазах загоралась эта надежда… И осознание того, что я могу дарить им ее, давало мне несравнимое ни с чем чувство блаженства и сопричастности к великому милосердию Господа… И я забывала про усталость, и продолжала вывозить раненых, пока не доходила до состояния полного изнеможения. Но Господь восполнял мне силы – и на следующее утро я снова была готова спасать и помогать, и утешать, и подбадривать…
Поначалу мне приходилось прикидываться пареньком – я боялась домогательств. Однако меня очень быстро раскусили… К тому времени, правда, уже все знали меня, и никто не смел меня обидеть. Теперь уже ко мне обращались не «братец», а «сестричка»…
В гошпитале, куда я доставляла раненых, я познакомилась с доктором Пироговым… Он прибыл в Севастополь добровольно, по зову сердца – так же, как и я. Взяв на себя заботу о врачевании раненых, он быстро навел в этом деле порядок, разнеся в пух и прах кое-кого из больших интендантских чинов, тем самым завоевав себе безграничное уважение как у меня, так и у многих других.
Я никогда не забуду, как он был поражен, узнав о том, чем я занимаюсь, о моей «колеснице надежды».
«Неужели вы сами до этого додумались, Дарья? – восклицал он. – Да ведь это же настоящий передвижной перевязочный пункт! Полезнейшее изобретение[9]! Сколько жизней можно спасти с его помощью! Хорошо бы внедрить его повсеместно там, где приходится вести сражения!»
Таким образом, я сразу заслужила его благоволение, и с той поры я старалась не обмануть его ожиданий. Очень скоро я стала его первой помощницей и ассистенткой. Он хвалил меня, говорил, что меня послал ему Господь… Похвала Николая Ивановича стоила очень дорогого, и я старалась. Я многому научилась у этого человека, для меня он воистину был Учителем… Кроме того, он относился ко мне ласково, по-отечески, и я всем сердцем тянулась к нему, отвечая глубокой преданностью и любовью. Иногда, когда в госпитале было поспокойнее, мы с ним вечеряли: за чаем с сушками и вареньем он рассказывал мне разные занимательные истории из своей жизни. А повидать ему пришлось многое…
– Знаете, Дашенька, – говорил он, посмеиваясь, – меня ведь на Кавказе считали кем-то вроде Господа…
– Да что вы, Николай Иваныч? – дивилась я, предвкушая интересный рассказ, – как же так, почему?
– Так вот потому и считали, что для них мои методы лечения были настоящим чудом. Более всего их поражало, что я могу проводить безболезненные операции… А еще то, что мне удавалось справляться с очень тяжелыми ранениями, которые раньше считались безнадежными. Вот и пошла молва, будто я и мертвых воскрешать могу – народ-то наш, сама знаешь, очень склонен верить в добрые чудеса… Вот был такой случай. Как-то принесли ко мне солдатики офицера – тело отдельно, голова отдельно… мда, кхм… и говорят: мол, пришейте голову, Николай Иваныч, вы ж умеете… Командир это наш, говорят, уж больно хороший человек, никак не можно, чтоб, значит, помер… Вылечи, мол, пришей голову обратно… Да… Положили они его передо мной – и смотрят так, знаете, Дашенька, с надеждой на меня – ну точно Всевышнего молят о чуде…
Он помолчал, глядя на огонек масляной лампы. Я молчала. Я любила наблюдать за ним, когда он что-то рассказывал, и никогда не торопила.
– Я им и говорю, – стал он рассказывать дальше, – дескать, невозможно это, голубчики, ведь голова-то оторвана ж, не рука и не нога… Я ведь, говорю, не Господь, мертвых воскрешать не умею… А они смотрят так, словно не верят… словно за последнюю надежду цепляются – будто я сейчас скажу, что пошутил, и возьмусь лечить этого человека… Ну, я руками лишь развел: мол, мне жаль, но увы… Мда… И тут один из них – тоже раненый, бледный весь, кровь течет со лба – как бухнется в ноги мне: мол, попробуй хоть, Николай Иваныч, спаси нашего командира… пришей голову…
Тут доктор забарабанил пальцами по столу; видимо, заново представил себе все то, о чем рассказывал – впечатления, конечно, не из легких. Затем продолжил:
– Мда… и так, значит, он с плачем это выкрикивал: «Пришей голову! Христом-Богом молю – пришей!» – так истерически, с надрывом, что товарищи его вдруг словно опомнились – стали поднимать его да оттаскивать… А он уж рыдает-захлебывается – припадок, значит, нервный с человеком случился… Мда… Вот так-то, война… будь она неладна… Не слишком часто нашему солдатику хорошие офицеры попадаются, по большей части такие, что глаза б мои на них не глядели. Ну да ничего, Дашенька… – Тут он с лукавством взглянул на меня. – Кончится война – и замуж выдадим тебя за хорошего человека! Ты ж у нас ангел: скромна, добродетельна и собою хороша… Ну-ну, не смущайся, я ж как отец тебе это говорю…
В его обществе мне и вправду было уютно и хорошо. Очень строгий со своими подчиненными, ко мне он относился неизменно ласково. Ценил он во мне и такие качества, как хладнокровие и выдержка, а также способность быстро соображать. Словом, я была счастлива считаться его ученицей и названной дочерью…
К нам часто наведывались сердобольные, стремящиеся помочь раненым. Они приносили продукты, махорку, теплые вещи. А иные приходили развлечь наших раненых и болящих, просто поговорить или утешить… Вот и сегодня к нам в гошпиталь пришла ясноглазая девочка с каштановыми кудрями, выбивающимися из-под платка. И вроде русская, и вроде не совсем… непонятно. Я еще подумала, что она, вероятно, из местных балаклавских греков, людей достаточно состоятельных, но не знатных. Все они тоже православные и патриоты общего Отечества; турок и их друзей почитают не более чем Сатану – поэтому я сразу была настроена к этой отроковице благожелательно. Она попросила меня позволить ей «навестить раненых героев». Я была очень тронута этой просьбой и проводила ее в палаты. Я не могла сдержать улыбки и умиления, когда она, такая вся чистенькая и сияющая, в шерстяной безрукавке, надетой на ситцевое розовое платьице, присаживалась на койки к раненым и говорила им слова ободрения с такой милой улыбкой, что было невозможно не ответить ей тем же. И мужчины улыбались ей в ответ. Она же слегка прикасалась к их окровавленным повязкам; милое создание, этим жестом она словно бы хотела взять на себя часть их боли… Однако пациентам как будто и вправду становилось легче после ее прикосновений. Я видела, какими счастливо-удивленными становились их лица после этого, а один солдатик, уже в летах, даже воскликнул: «Дочка, да ты никак чародейка – у меня и рана теперь совсем не болит!»
Видя такое дело, я позволила ей зайти в палату к тяжелораненым, хотя поначалу не собиралась этого делать. Я подумала: кто знает – а вдруг ее улыбка, ясный взгляд и доброе слово помогут этим страдальцам? Ведь даже Николай Иваныч учил меня, что настрой больного очень важен… Что половина дела в успешном выздоровлении зависит от душевного состояния раненого. Что, стало быть, если тот верит в хороший исход, шансы выздороветь сильно увеличиваются, и, наоборот, пребывая в унынии и думая о смерти, человек, вероятнее всего, не сможет оправиться и умрет…
Тяжелораненых у нас было предостаточно – палата, можно сказать, была переполнена. Поскольку с такими ранами их никак не можно было везти хотя бы в Бахчисарай (чтобы, чего доброго, не умерли в пути), Николай Иваныч держал их здесь в надежде на улучшение. Немногие из них действительно выздоравливали, но зато остальные довольно быстро переселялись от нас на кладбище… И сейчас некоторые из них метались в бреду, другие лежали в полубессознательном состоянии, хрипло дыша. Были такие, что громко стонали или принимались время от времени кричать… Многие были только недавно прооперированы; однако это еще не означало непременного успеха, смерть по множеству причин могла приключиться даже после успешной операции. Тем не менее доктор Пирогов старался бороться с Костлявой за каждого человека, который попал в его гошпиталь, независимо от того, солдат ли это или матрос, русский, англичанин, француз или даже турок.
Эта девочка (я почему-то не запомнила ее имени, хотя в самом начале она представилась) подходила не ко всем обитателям этой палаты. Не знаю, что ею руководило, но она, так же как и до этого, присаживалась на койку и улыбалась, что-то тихо говоря, и осторожно прикасалась к бинтам, прикрывающим рану… К сожалению, я не могла все время наблюдать за ней – и ушла, оставив ее в палате тяжелораненых со спокойной душой. Она была очень похожа на ангела, а у меня еще было множество дел… Я была уверена, что ее визит многих подбодрит или хотя бы утешит перед встречей с Господом Нашим Иисусом Христом…
Когда гостья ушла, я не видела, поскольку в то время была занята. Но вечерний обход с доктором открыл совершенно невероятные, удивительные вещи… У многих из тех, чьи ранения были не особо опасными, раны затянулись настолько, что в это было просто невозможно поверить… Доктор с недоуменным видом внимательно осматривал эти раны и время от времени переглядывался со мной, при этом многозначительно хмыкая. Конечно же, визит той девочки не остался для него секретом. Пациенты наперебой рассказывали ему, как им полегчало после прикосновений той маленькой кудесницы. И по гошпиталю пошла гулять легенда об ангеле, по воле Господа спустившегося с небес ради исцеления русских воинов… По мнению других, это была всего лишь святая, наделенная даром исцелять раны прикосновением рук. Но и эти версии были несостоятельными. Святая или ангел должны были все время молиться, а та девочка, чтобы развлечь раненых, болтала о какой-то ерунде. К тому же Николай Иваныч сказал, что не верит в святых или ангелов, разгуливающих среди людей – современная наука, мол, такого не допускает.
Когда же мы зашли в палату тяжелораненых, то тут чудо было налицо, так что Николаю Иванычу пришлось поумерить свои сомнения. Кое-кто из тех, кто был безнадежен и должен был в скорости умереть, чувствовали себя вполне сносно. У этих раненых прошла горячка, из ран перестал течь гной и они стремительно пошли на поправку. У некоторых, только сегодня перенесших операции, быстро спадала опухоль, а места, где кожу разрезал скальпель, заживали едва ли не на глазах. Доктор Пирогов дивился все больше, и все чаще вопросительно поглядывал на меня. Уже потом, едва оказавшись в своем кабинете, он принялся расспрашивать меня о той девочке… Но что я могла ответить? Я даже имя ее вспомнить не могла. И никто из раненых, удивительное дело, не смог вспомнить ничего из того, о чем она с ними говорила.
– Мда… – задумчиво пробормотал Николай Иваныч, – если бы я не имел такого рационального ума, то подумал бы, что это и вправду ангел Господень спустился с небес, чтобы уврачевать этих воинов… Ведь произошло истинное чудо, ни больше ни меньше… Я, право, не знаю, чем еще объяснить тот факт, что даже безнадежные больные стали выздоравливать… Вот бы удалось отыскать эту загадочную юную врачевательницу и поговорить с ней… Ели это, конечно, возможно… Быть может, неспроста никто не может запомнить о чем он разговаривал с этой девицей. Вот есть же, Дашенька, такие знахари, что болезни заговаривают… Может быть, и у нее имеются такие особенные способности… Что если ее пригласить прийти к нам в госпиталь еще раз? Постой-ка…
Тут доктор Пирогов замер и, задумавшись, поднял палец кверху. А потом он поведал мне кое-что интересное. Оказалось, сегодня (а мы-то тут, в гошпитале, и не знали) произошло еще одно чудо, только несколько иного толка. В войну с англо-французской коалицией на нашей стороне неожиданно вмешалась неизвестная сила, чьи войска, состоящие из артиллерии и пехоты, внезапно, каким-то необъяснимым образом, объявились в тылу у коалиционеров на вершине Сапун-горы. Оттуда сегодня утром они бомбардировали английские и французские батареи, заставив их прийти к молчанию, а потом отбили несколько атак на свои позиции, в результате чего склоны Сапун-горы оказались сплошь засыпаны трупами в британских и французских мундирах.
Николай Иваныч говорил, а я вдруг мимолетом пожалела этих несчастных людей, которые умирали на склонах Сапун-горы без малейшей врачебной помощи. Но доктор Пирогов не обратил на мою грусть ни малейшего внимания. Сейчас его одолевали совсем другие мысли.
– А что если эта девочка как-то связана с этими… которые на Сапун-горе… – наконец сказал Николай Иваныч, – а что если она одна из них? Конечно же, такое тоже может быть… почему бы и нет…
Доктор Пирогов посмотрел на меня задумчиво, а затем, отвернувшись к окну, за которым сгущался вечер, погрузился в новые размышления.
09 апреля (28 марта) 1855 год Р.Х., день первый, поздний вечер. Севастополь, штаб гарнизона.
Исполняющий дела начальника штаба севастопольского гарнизона князь Виктор Илларионович Васильчиков вздохнул и отошел от окна. Вместе с ночной темнотой на израненный Севастополь опустилась непривычная тишина. Не слышно обычного громыхания канонады ночных беспокоящих обстрелов, не рвутся в городе шальные бомбы, не звонят на церквах колокола, сзывая народ на тушение пожаров. Господа коалиционеры ведут себя тихо, будто воды в рот набрали, ибо тот, кто засел на вершине Сапун-горы вместе со своей артиллерией, весьма грозен и наказывает союзников мощными огневыми ударами даже за единичные пушечные выстрелы. Особенно впечатляюще разрывы чудовищных бомб смотрятся в ночной темноте. На мгновение ночь превращается в день, а все вокруг начинает отбрасывать длинные угольно-черные тени – картина невиданная, похожая на преддверие Апокалипсиса. И только потом, как небесный гром, до русских позиций докатывается грохот разрыва. И тогда непроизвольно крестятся даже видавшие виды солдаты двадцатого года службы, ибо мнится, что явленная им мощь – это только отголосок совсем уж невообразимого могущества.
Князь сегодня самолично наблюдал лихорадочные атаки англо-французских войск на эту злосчастную для них вершину, в одночасье ставшую господствующей над местностью высотой с установленными на ней батареями противника. Французские и английские войска стройными колоннами и линиями уходили вверх по склону, а обратно из них не вернулся ни один человек. Те, что смогли под шквальным ружейно-артиллерийским огнем дойти почти до вершины, были истреблены в отчаянной штыковой контратаке людьми, одетыми в буро-зеленые мундиры, не принадлежащие ни одной известной армии из всех стран мира. В те же цвет были окрашены и пушки неизвестной конструкции, что делало их почти незаметными на фоне деревьев и кустов. Первоначально князь думал, что огонь по французам и англичанам ведут огромные пушки из числа тех, что с трудом возможно уволочь дюжиной лошадей, запряженных цугом – ибо для того, чтобы дать взрыв нужной силы, необходима бомба, вмещающая не менее пуда пороха. Но нет; в подзорную трубу было видно, что орудия эти совсем небольшие и расчеты после выстрела своими силами с легкостью выкатывают их обратно на позиции. Парадокс, однако…
Еще князь с самого утра чувствовал в груди какое-то непонятное томление. Некоторое время до того он испытывал лишь горечь и чувство безнадежности. Он вынужден был честно признаться себе, что еще с начала этой войны стало ясно, что русские генералы по большей части оказались самой неудачной дрянью, какую только можно придумать, все сражения успешно проигрываются, враг торжествует, а начальники только и умеют сочинять оправдания, почему Бог не даровал им победы. К тому же интенданты повсеместно воруют – да так, что потом и крысам на прокорм не остается, – из-за чего в войсках не хватает самого необходимого, от продовольствия до пороха и припасов. При этом раненые в гошпиталях мрут как мухи, потому что страдальцев много, а докторов и медицинских служителей мало, из-за чего те выбиваются из сил – притом, что у них тоже не хватает самых необходимых вещей.
Так вот – на фоне этой безнадеги, которая заставляет опустить руки самого деятельного человека, сегодня у князя Васильчикова вдруг появилось ощущение, что где-то поблизости находится настоящий командующий, который преодолеет череду сплошных неудач и превратит почти проигранную кампанию в блистательную победу. Очень странно… Неслышимый высокий звук фанфары, зовущий героев под священные алые знамена, впервые прозвучал в тот момент, когда неизвестная артиллерия с вершины Сапун-горы открыла огонь по англо-французским батареям, и этот звук и посейчас стоит у него в ушах. Едва князь прикрывал глаза, перед ним проступали образы тяжело шагающих под красными знаменами железнобоких непобедимых легионов, солдаты которых в коробках когорт шли ровными рядами, уставив перед собой сабельные штыки новеньких винтовок. За ними, бряцая амуницией, сплошной рекой двигались поэскадронно уланские и рейтарские полки. Следом за пехотой и кавалерией везли огромные орудия, один снаряд которых сметает с поля боя целые полки, за ними лязгали броней огромные боевые чудовища, а в воздухе проносились стремительные стальные птицы, больше всего похожие на наконечник копья… и слова песни, громыхающей будто прямо с небес: «Пусть ярость благородная вскипает как волна, идет война народная, священная война…»[10]
Тряхнув головой, князь отогнал наваждение. Поддаваться таким мыслям было преждевременно, ведь до сей поры так и не удалось выяснить, кто такие эти люди, засевшие на вершине Сапун-горы, и чего они хотят за свою помощь. А у князя уже была возможность убедиться в том, что эта помощь будет действенна. Несмотря на все старания господ коалиционеров выбить неведомого противника с вершины, красный флаг по-прежнему развевается над этой высотой, господствующей над окружающей местностью, а все их атаки отбиты с большими потерями. Но тем не менее главные вопросы остаются без ответа. Кто он, тот таинственный государь, который привел сюда, в Крым, свои полки? С какой целью он это сделал и можно ли считать, что враг англо-французской коалиции является другом Российской Империи? Как могло случиться, что никто и ничего не ведал вплоть до того самого момента, когда на французских и английских батареях стали рваться бомбы? К этим трем главным вопросам можно было бы добавить десяток второстепенных, но князь подозревал, что если найдется ответ на первый вопрос, то и остальные карты откроются сами собой.
Но в любом случае обо всем, что произошло этим днем, следовало немедленно отписать государю-императору. Ведь даже тупой бездельник Остен-Сакен, носа не кажущий ни в город, ни на бастионы, сидит сейчас, скорее всего, и марает бумагу, составляя донесение (точнее, донос) на высочайшее имя…
Чиркнув фосфорной спичкой, князь зажег масляную Аргандову лампу, шедевр нынешней промышленности и науки в деле персонального освещения. Лампа была сложна в устройстве, стоила немалых денег, но при этом давала яркий равномерный свет, чем весьма облегчала в темное время суток процессы чтения и письма. Но не успел князь вывести на листе первые строки своего послания, как прямо у него в комнате раздалось деликатное покашливание. Князь обомлел, и сидел неподвижно, не спеша обернуться. Не то чтобы он испугался, но все же появление посторонних в с запертом изнутри на засов помещении вызвало бы оторопь у любого. И Васильчиков, пока еще ему не пришлось встретиться глаза в глаза с незваными гостями, лихорадочно пытался найти объяснение столь странному происшествию. Впрочем, какие-либо объяснения его разум давать отказывался.
А тем временем за его спиной раздался мужской голос:
– Добрый вечер, Виктор Илларионович, вы не пожертвуете нам некую толику своего драгоценного времени для весьма занимательного разговора?
И только тогда князь Васильчиков решился поднять голову и обернуться. Компанию, которую он узрел, можно было охарактеризовать как престранную. Впереди всех стоял мужчина неопределенных лет в военной форме того самого буро-зеленого цвета, что наблюдался у войск, захвативших вершину Сапун-горы. Четыре звездочки на погонах обозначали звание штабс-капитана – не самое высокое в армии, по большей части соответствующее ротному командиру, – да только вот такое жесткое и властное выражение лица не могло иметь место даже у генерала или фельдмаршала; такое обычно бывает у человека, уверенного в своей правоте и безграничной власти. Тут на ум приходил скорее суверенный монарх, над которым есть только Бог, и более никого. На поясе у «штабс-капитана» – что за диво! – с одной стороны висел старинный (быть может, даже древнегреческий) меч в потертых ножнах, с другой – большой револьвер или пистолет в новенькой кобуре. И было совершенно понятно, что именно он – предводитель над всеми остальными… а также возникало непроизвольное убеждение, что он гораздо больше, чем просто человек.
Спутники неожиданного гостя, стоящие на полшага позади, были не менее занимательны. Ошую (по левую руку) от штабс-капитана стоял коренастый отрок – в такой же форме, как у штабс-капитана, но без погон. Вместо меча у отрока имел место кинжал, который уравновешивался кобурой с пистолетом поменьше. Одесную (по правую руку) от предводителя находился священник в немыслимом одеянии, в котором буро-зеленые тона смешивались с черными. Помимо его внушительного вида (как и подобает священнослужителям) о сане этого человека красноречиво свидетельствовал большой серебряный крест, висящий на цепочке поверх одежд, а также крестик поменьше, что красовался на головном уборе – там, где у нормального офицера обычно присутствует кокарда. Но было в нем и еще что-то… Васильчиков вгляделся – и обнаружил, что, если чуть прищурить глаза и повернуть голову так, чтобы лампа не слепила взор, можно заметить бледно-голубое сияние, нимбом окружающее голову странного священника. Это было чудно и, конечно же, наполняло некоторым трепетом… Князь был верующий человек, хотя и не фанатик; и осознание того, КТО может вот так просто заглянуть на огонек к простому смертному, проняло его до самых печенок.
Но самой интересной в этой компании была женщина – и на ней князь непроизвольно задержал свой взгляд. Таких дам – сильных, уверенных в себе, полных осознания своей значимости, и в то же время сохранивших свою первозданную женственность и привлекательность – ему прежде встречать не доводилось… Более того, он даже не мог предположить, что такие бывают! Темноволосая, по-мужски стриженная (что, удивительное дело, ее совсем не портило), она была облачена в такую же военную форму, как и у «штабс-капитана», но с погонами старшего унтер-офицера. Впрочем, погоны этой дамы князь Васильчиков пока воспринимал как чистой воды профанацию, ибо не бывает женщин-унтеров. Вот не бывает – и все! Также не бывает и того, чтобы у унтера на поясе в ножнах немалой художественной и ювелирной ценности висел старинный меч, по форме больше всего напоминающий турецкий ятаган. За такой раритет тот же Британский музей отдаст немереные тысячи золотых гиней – лишь бы разместить это сокровище в своей витрине. И самое главное – поза незнакомки, гордый поворот головы, взгляд и прочее говорили князю, что перед ним стоит особа как минимум равная ему по положению в обществе. Вот только что это за общество, черт побери? Оно, должно быть, достаточно высокоразвитое и образованное, но в то же время какое-то не такое… Не может быть в правильном обществе у дамы такого жесткого уверенного взгляда (без свойственной женщинам хитринки и без этого их лукавства), да и свой мундир эта дама носит отнюдь не как машкерадный костюм – нет, это ее привычная одежда на каждый день, уж в этом сомневаться не приходиться.
Все это время, пока князь Васильчиков разглядывал визитеров, те его не торопили, давая ему привыкнуть к себе и сделать какие-то выводы. Проявлять такт и выдержку в подобной ситуации им, очевидно, было не впервой.
Наконец князь кивнул своим мыслям и произнес с возможно большим равнодушием:
– И вам тоже здравствовать, господа хорошие; вы уж простите, не знаю как вас там по имени-отчеству…
«Штабс-капитан» был донельзя любезен.
– В таком случае позвольте представить себя и своих спутников, – сказал он. – Я Сергей Сергеевич Серегин, капитан спецназа главного разведывательного управления генерального штаба – в одной ипостаси, Великий князь Артанский – в другой, а также бог священной оборонительной войны, исполняющий обязанности Архангела Михаила – в третьей…
– Постойте, постойте, Сергей Сергеевич! – удивленно воскликнул, князь Васильчиков, – как это так, что это вы называете себя богом?! Вы, наверное, шутите?!
Сказал – и осекся. Бог не бог, а божественные способности у этого… Серегина явно имелись. А то как же иначе эта странная компания могла очутиться в запертой изнутри комнате – да так ловко, что он сам не замечал их присутствия до тех пор, пока «штабс-капитан» не соизволил привлечь его внимание?
Васильчикову пришло в голову, что, очевидно, его гость и прежде не раз попадал в подобные ситуации – и он с интересом ожидал, что тот ответит.
– Верительных грамот, значит, хотите, Виктор Илларионович? – хмыкнул необычный гость. – Поскольку в Небесной Канцелярии справок на бумаге с печатью не выдают, то, как говорил известный персонаж (вам, впрочем, незнакомый): «усы, лапы и хвост – вот мои документы». Так что за неимением прочих свидетельств могу предъявить вот это…
С этими словами «штабс-капитан» взялся за рукоять своего меча – и прежде, чем князь Васильчиков успел что-нибудь сказать или сделать, выдвинул клинок из ножен примерно на ладонь. Большего и не требовалось, потому что от обнажившейся части меча комнату залил первозданный бело-голубой свет – такой яркий, что в глазах заплясали зайчики. У князя Васильчикова захватило дух и он испытал желание немедленно протереть глаза; впрочем, чудес было так много, что стоило уже начать к ним привыкать.
– А теперь, Виктор Илларионович, представьте себе, – сказал Серегин, задвигая клинок обратно, – что этот меч под гром орудийных залпов обнажен во время яростной битвы с напавшим на Русь супостатом. Именно с напавшим. Я ведь работаю богом ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ войны, а не какой-либо еще. Так что можете не беспокоиться – в этой войне я всецело на стороне России, а у ее врагов проблемы только начинаются.
Все это Серегин сказал таким убедительным тоном, что князь Васильчиков, наконец, поверил, причем во все и сразу. Подумалось, что теперь-то уж точно все будет хорошо, враг будет разбит, победа будет за нами, а там, Бог даст, и Константинополь, наконец, получится отвоевать…
– Ну что ж… коли так, – проговорил князь, внимательно вглядываясь в каждого из визитеров, – то вы, Сергей Сергеевич, даже и не представляете, насколько вы вовремя. А то мы уже изнемогаем в этой борьбе, а силы супостатов только нарастают…
– Увы, Виктор Илларионович, – ответил Серегин, – я все прекрасно представляю. Ведь и мой родной мир тоже прошел через эту войну, и должен сказать, что поражение в ней серьезно подкосило Российское государство. Увы, это так. Но прежде чем поговорить об этом серьезно, позвольте представить вам моих спутников. Вот этого вьюноша зовут Дмитрий Абраменко, для своих – Дима-Колдун. Вы не смотрите, что этот мальчик так молод. Он талантливый маг-исследователь и один из ценнейших членов моей команды…
– Постойте, постойте, – замахал руками Васильчиков, – я опять ничего не понимаю. Сергей Сергеевич, поясните, пожалуйста, как сочетается ваш меч, Господне благословение и магия с колдовством, которые, как вы говорите, практикует этот молодой человек? Что-то тут не сходится. Ведь колдовство любого рода – богопротивное занятие…
– Во-первых, Виктор Илларионович, – сказал Серегин, – не волнуйтесь. У нас на это есть Высочайшее разрешение. Только выписывал его не государь-император, а Творец Всего Сущего. Главное условие – не творить зла, поэтому для нас под запретом только заклинания магии смерти. Во-вторых, магия и колдовство – это не одно и то же. Маги используют энергию межмирового эфира, силу стихий или живой природы – ту, которой она сама, в меру своей щедрости, делится с окружающим миром. На самом деле это самый ничтожный источник, потому что энергии у живого всегда в недостатке и делиться ему, как правило, нечем. Колдуны, не имея доступа к обильным внешним источникам, вынуждены либо использовать свои внутренние резервы, то есть тратить на создание заклинаний собственное здоровье, либо отбирать эту жизненную энергию от других. Либо у большого количества людей и понемножку, либо от малого и всю без остатка… Но как бы там ни было, не творить зла при этом невозможно. Маг, конечно, тоже может заработать себе вечное проклятие, но у него хотя бы есть возможность этого не делать, а колдун обречен на это своей сущностью. Впрочем, у нас просто не было другого выхода: путешествовать между мирами и открывать проходы для других способны только маги или боги, третьего не дано.
– О, Господи, – вздохнул князь Васильчиков, потирая лоб, – как все это сложно! Но я постараюсь запомнить. И, кстати, Сергей Сергеевич, надеюсь, два других ваших спутника не боги и не маги?
– Напрасно надеетесь, Виктор Илларионович, – сказал Серегин, – отец Александр – это голос Творца. Именно через него мы получаем задания и инструкции, и именно отец Александр дает нам советы свыше, когда мы попадаем в трудные ситуации. Кстати, поскольку верна прямая теорема, то верна и обратная. Через отца Александра Творец слышит нас гораздо лучше, чем прочих людей во всех обитаемых мирах Мироздания. Если вы исповедуетесь отцу Александру, то считайте, что исповедовались самому Творцу. Впрочем, иногда, когда разговор ему особенно интересен, Творец через отца Александра участвует и в обычных беседах. Не так ли, честный отче?
– Да, – подтвердил отец Александр; и князь Васильчиков непроизвольно вздрогнул, услышав характерные погромыхивающие нотки в его голосе, – это действительно так. Но есть мнение, что вводную беседу необходимо побыстрее прекратить и, наконец представив Виктору Илларионовичу Нику Константиновну, приступить непосредственно к обсуждению будущих совместных действий. Князь Васильчиков далеко не дурак, он вас прекрасно понял и без дополнительных объяснений.
– Действительно, – сказал Серегин, – если у вас, Виктор Илларионович, нет возражений против этого предложения, то давайте так и поступим.
– Я согласен, Сергей Сергеевич, – кивнул князь Васильчиков, очень впечатленный громоподобным Божьим гласом, – а то, право, неудобно – я хочу обратиться к даме и не знаю, как ее зовут…
– В миру эту даму зовут Ника Константиновна Зайко, – ответил Серегин, – для своих она сержант Кобра, а амазонки у меня на службе кличут ее Темной Звездой. По военной специальности она – снайпер, сверхметкий стрелок, по магической квалификации – боевой маг огня, причем из сильнейших. Трехглавый дракон ей просто на один зуб. Можете верить, можете нет, но она сама по себе мощнейшее оружие.
– Да уж нет… – сказал князь, с почтением косясь на только что представленную «даму», – я вам поверю сразу, без доказательств. Только вот, будьте любезны, проясните еще один вопрос. Вы сказали, что являетесь Великим князем, но я не припомню в Бархатной книге князей Серегиных, не говоря уже и о том, что титул Великого князя может носить только ближайший родственник Дома Романовых…
– Да что вы! – несколько картинно замахал руками Серегин, – и не претендую на такую честь. Просто для меня это не титул, а должность. Есть в одном из миров Великое княжество Артанское, жители которого позвали меня с дружиною на трон – чтобы я защитил их и оборонил, а также построил в их княжестве украсно украшенную счастливую жизнь…
– И велика ли была у вас дружина? – стараясь казаться безразличным, спросил князь Васильчиков.
– Достаточно велика, – подтвердил Серегин, – двенадцать тысяч первоклассной конницы. Но это тогда, а сейчас к ним добавились тридцать тысяч пехоты и двадцать тысяч обучающихся резервистов.
– Ого! – сказал повеселевший князь Васильчиков, уже почти преодолевший изумление и скованность, – раз так, то французам и англичанам теперь уж точно несдобровать.
– Да, это так, – кивнул Серегин, – но на этом хорошие новости для вас заканчиваются и начинаются плохие. Дело в том, что этот исторический эпизод – когда Россию вынудили воевать практически против всей Европы – далеко не случаен. Обидой самовлюбленного болвана Наполеона Третьего причины этой войны не исчерпываются. Скорее, это только повод. Те закулисные силы, которые в Европах возводят на трон королей и разжигают войны, решили, что Россия сама по себе представляет их планам экзистенциальную[11] угрозу, а потому по возможности она должна быть усечена и даже уничтожена. Поэтому мало накостылять армии вторжения так, чтобы она убралась подальше, поджав хвост; нет, надо сделать так, чтобы в следующий раз ваша Россия самостоятельно смогла справиться с задачей противостояния всей Европе…
– Но постойте, Сергей Сергеевич! – снова воскликнул князь Васильчиков, – разве вы не собираетесь…
– Собираемся, еще как собираемся, Сергей Илларионович, – поспешил заверить своего собеседника в обратном добрейший Серегин. – Но дело в том, что без принятия Государем Императором особых политических и экономических мер вся оказанная нами помощь принесет лишь временное облегчение. Но в первую очередь необходимо, чтобы Александр Николаевич первым получил всю возможную информацию о том, что произошло сегодня в Севастополе, и об истинной подоплеке событий. Более того, мы хотим, чтобы эта информация поступила к царю именно из вашего рапорта, а для того приглашаем вас в небольшую экскурсию по моим владениям и местам дислокации моих вооруженных сил – чтобы вы видели, что у нас все честно и без обмана, и что моя армия не состоит из присутствующих здесь людей. Кроме всего прочего, мы обязуемся вернуть вас сюда еще до рассвета, чтобы вы, собравшись с мыслями, смогли написать Государю самый правдивый и полный рапорт о своих приключениях. Ну что, вы согласны или нам требуется обратиться к следующей кандидатуре в нашем списке?
– Разумеется, я согласен, Сергей Сергеевич! – вскинул голову Васильчиков, – ради того, чтобы добыть победу в этой войне, я согласен даже расписаться кровью в договоре с Князем Тьмы, а вы всего лишь предлагаете мне выполнить Волю Господню… Вот сейчас только соберусь, и мы пойдем.
10 апреля (29 марта) 1855 год Р.Х., день второй, ранее утро. Севастополь, штаб гарнизона.
За окном светало. Бледнели на небе звезды, а ночная мгла уступала место розовому буйству утренней зари, розовоперстой Эос. Минувшая ночь для исполняющего дела начальника штаба севастопольского гарнизона полковника Васильчикова, казалось, слилась в один сплошной сумбур; да и не ночь это была на самом деле, а скачки между разными мирами, где был то день, то вечер, то утро. В основном его водили по разным вотчинам князя Серегина, а также показывали места, где стоит войско, сколько его там и как оно вооружено.
В первую очередь они попали на вершину Сапун-горы, где укрепился первый пехотный легион. Там Сергей Сергеевич показал ему рослых мускулистых крепышей, меньшая часть из которых бдела на постах, а большая часть воинов спала, завернувшись в особые самоподогревающиеся плащи. Завтра будет новый день и, возможно, новый бой. Также ему показали пушки. Ничего с виду особенного, четырехфунтовки, как четырехфунтовки; но эти орудия были нарезными и казнозарядными, то есть для середины девятнадцатого века являлись последним писком моды в военном деле. Но даже пушки меркли перед выложенными в готовности к стрельбе ящиками со снарядами, удлиненными и обтекаемыми – так называемые «снаряды улучшенной аэродинамики». У Артанского князя действительно имелась отличная артиллерия, и, сидя тут, на вершине Сапун-горы, он являлся единственным хозяином положения в Севастополе и его окрестностях.
Потом, сделав всего один шаг, они перенеслись с Сапун-горы февраля 1855 года на нее же, но в 1606 году. Достаточно было одного только взгляда для того, чтобы понять, что мир тут уже совсем другой. Севастополя внизу не было и в помине, зато на поверхности вод Северной бухты, занимая их почти наполовину, плавало огромное морское чудище, издали напоминающее помесь дохлого кита с не менее дохлой черепахой. Серегин назвал это порождение мрака «Неумолимым» и сказал, что никакое это не чудовище, а просто порождение сумрачного гения мастеров одной далекой отсюда во времени пространстве звездной империи. Мол, когда его подобрали, он был хлам хламом, только на разделку, но теперь, когда этот корабль немного подшаманили, его боеготовность выросла с двух процентов примерно до сорока. Если такой натравить на Британию, то там выживут только крысы, а в соседней Франции не останется ни одного целого окошка; тем же, кто живет к англичанам поближе, и вовсе не поздоровится… Немного помолчав, Серегин добавил, что, конечно же, он не собирается применять такой ужас в середине девятнадцатого века – мол, не настолько уж люди там и провинились, чтобы пугать их до смерти эдакой громилой. Этот молоток предназначен для особо тяжелых случаев – в высших мирах, там, где наглость и жадность людей больше, чем их же желание жить.
Еще Серегин немного рассказал о том, как он разбирался со смутьянами, чуть было не пустившими в распыл Российское государство в начале семнадцатого века. Да уж, на что император Николай Павлович был тяжелый человек, до Серегина ему очень далеко. Смутьянов просто поубивали под корень или выслали в такие места Мироздания, откуда они никогда не сумеют вернуться в родной мир. И Александру Николаевичу совершенно не стоит переживать по поводу того, что Божий посланец попытается оттягать у него трон. Здесь хитрющие бояре надеялись привязать к Московскому государству царя со своим войском, на которое не надо тратиться из казны – а он от этого трона ловко увильнул, оставив интриганов ни с чем. Правит, мол, сейчас на Москве царь-заместитель, Михаил Скопин-Шуйский, который после трех лет отсутствия званого на царствование Серегина станет настоящим царем. Он и Артанским-то князем стал только потому, что там сменщика еще следовало найти и воспитать, и только потом передавать ему трон. И вообще, правильное воспитание царского наследника – вопрос для России крайне болезненный, но этот разговор (если дойдет до того дело) Серегин будет вести с самим государем-императором. А для князя Васильчикова это политика не его масштаба.
Там же, в мире Смуты, князя Васильчикова представили княгине Артанской, в девичестве Волконской. Если Серегин был князем в первом поколении, то княгиня была прирожденная, выросшая во дворцах и особняках. Но тоже, как ни странно, там, в своем мире, она служила в армии и носила звание штурм-капитана. Весьма милая оказалась дама, но Васильчиков поймал себя на мысли, что, хоть они с Елизаветой Дмитриевной и из одного круга, все же он бы не смог взять такую особу в жены и жить с ней, как это полагается по закону. Уж слишком она независимая и свободная, в первую очередь интересующаяся только полетами, и лишь потом мужем и сыном. Серегин к такому относится спокойно – видимо, у них там такое в порядке вещей, а вот он бы не смог. Не то воспитание. От возможности «по-быстрому» прокатиться в ближний космос князь Васильчиков со всей вежливостью отказался, после чего они с Серегиным и его свитой перенеслись в весенние степи Крыма того же года, где в ожидании приказа на выступление дислоцировался кавалерийский корпус артанской армии.
Вот тут-то князю Васильчикову и довелось нечаянно сронить челюсть на молодую степную траву. Этот кавалерийский корпус почти весь поголовно оказался бабским, причем бабы были нечеловеческого вида, рослые (на голову выше среднего обычного мужчины), мускулистые, длиннорукие и со странными острыми ушами, отличающими их от обычных людей. Вроде бы эта порода женщин специально была создана для войны, и именно поэтому из них комплектуются самые ударные войска. Еще бы: в сабельной схватке им, должно быть, нет равных, ибо благодаря длинным мускулистым рукам и тяжелым кавалерийским палашам их удары обладают непревзойденной сокрушающей силой. А еще Великий князь Серегин предупредил, что все воины в его армии, вне зависимости от пола, звания и возраста, имеют достоинство, приравненное к дворянскому, ибо носят мечи или кинжалы, которые являются как бы частью его собственного меча Бога Войны. Любой, кто задумает их обидеть или оскорбить, жестоко об этом пожалеет, ибо их клятва Верности носит обоюдный характер. Но это так, к слову, потому что князь Васильчиков, оценив стати этих баб и девиц, пришел к выводу, что они сами обидят неприятного им человека, а потом еще догонят и добавят (если будет за что).
Из мира Смуты они разом перепрыгнули – нет, не в Артанию, где в тот момент шел декабрь 562 года и смотреть в заснеженной степи было нечего (разве что на ревущие и переливающиеся всеми цветами радуги днепровские пороги), а прямо в мир Содома, на главную базу и штаб-квартиру воинства князя Серегина, никак не привязанную к Артанскому княжеству как к таковому. Вон там князю Васильчикову пришлось удивляться в очередной раз, ибо он никак не ожидал встречи с такими историческими личностями, как Велизарий и Прокопий Кесарийский. Потом ему показали парк танкового полка, заставленный находящейся в полной готовности боевой техникой, а также показали фонтан, являющийся источником магической мощи этого места.
Самым последним делом, уже перед возвращением домой, князя Васильчикова познакомили с худой и сухой как палка дамой в белых одеждах, которую Серегин представил как капитана медицинской службы Галину Петровну Максимову. Эта дама безапелляционно заявила Виктору Илларионовичу, что здесь и сейчас у них простаивает хорошо оборудованный госпиталь, ибо свои потери в этой войне меньше смешных, а от предыдущей все раненые уже вылечились. Поэтому раненых из Севастополя следует перевезти сюда для того, чтобы быстро и качественно вернуть в строй. Мол, мертвых не оживляем, а все остальное возможно. Немного подумав, князь Васильчиков согласился, ибо, когда он вошел в купальню, где стояли ванны, наполняемые волшебной водой, у него даже волосы зашевелились от ощущения обтекающей все тело силы. По крайней мере, раненым от этого вреда точно не будет, а польза может произойти великая.
И уже потом князя Васильчикова, полного впечатлений, вернули из мира Содома в родимые апартаменты… Вот теперь он, взявшись за перо, сможет написать подробнейший рапорт на высочайшее имя. При этом не стоит печалиться о том, что другие деятели отправят свои письма раньше. Великий князь Серегин обещал взять фельдкурьера вместе с готовым посланием, и, пока остальные будут месить пыль Российских дорог, доставить его вместе с конем прямо к дверям Зимнего дворца.
10 апреля (29 марта) 1855 год Р.Х., день второй, полдень. Севастополь, гошпиталь.
Главный хирург Николай Иванович Пирогов.
Я только успел позавтракать и уже собирался совершать обход, как в госпитале начался непривычный переполох. Я услышал топот по коридору, возбужденные разговоры… С чего бы это с утра пораньше? Необъявленное перемирие на линии осады продолжалось, господа коалиционеры хорошо выучили вчерашний урок и не желали, чтобы строгий учитель снова подверг их порке. Стало быть, новая партия раненых не ожидалась, гостей также сегодня не предвиделось… Но ведь явно же кто-то пожаловал – уж не благодетель ли наш Виктор Илларионович? Как-то не вовремя. Я совершаю обход в строго определенное время – это важно, и он, конечно же, об этом осведомлен… Ладно, кто бы это ни заявился – им придется подождать, пока я завершу необходимые дела. Но встретить-то их надо…
Я накинул халат и едва успел взяться за ручку двери, как та сама распахнулась и внутрь впорхнула Дашенька. Она была очень взволнована.
– Николай Иваныч! Там их высокоблагородие Виктор Илларионович пожаловали… Грозный…
– Ну так что же? – удивленно ответил я. – Он часто бывает здесь, что ты так беспокоишься? И вообще, что за переполох?
– Так ведь, Николай Иваныч, он там не один! – воскликнула девица. – С ним цельная комиссия…
– Поди-ка ж ты… – Я в недоумении покачал головой. – Комиссия, говоришь? Кто ж такие и откуда?
– Я не знаю, Николай Иваныч, я с ними еще не говаривала, – хлопая глазами, заговорила Даша, – я их в окно увидала. А там сейчас Наталья, медсестричка – встречает их, значит… Ох, Николай Иваныч…
Она прикрыла рот рукой и принялась качать головой, выражая крайнюю озабоченность.
– Что такое, Даша? – Я строго посмотрел на нее. – Говори уж толком – что за люди с князем Васильчиковым заявились? Ну, полно уж туману напускать!
– Ну так люди-то странные… – вполголоса заговорила она. – Будто бы ненашенские…
– Тьфу ты Господи! Да что значит ненашенские? Ты уж говори быстрей – чтоб знать мне примерно, к чему готовиться…
– Так непохожи они на обычных-то людей… – пролепетала Даша.
– Да как же так непохожи? – Я в недоумении развел руками. – Что ж, у них рога на голове или хвосты петушиные сзади приделаны?
– Хвостов нет, Николай Иваныч… – помотала головой Даша, – а вот все ж не такие они, как мы… Не знаю даже, как вам объяснить… Не такие, и все… А главный у них – такой… грозный. И с князем запросто, по-свойски, а Виктор Илларионыч-то и не серчает… Называет Сергеем Сергеевичем и вельми с ним ласков.
Да, и вправду странность… Флигель-адъютант[12] императора князь Васильчиков, с самого своего прибытия в Севастополь покровительствовавший нашему госпиталю – лицо очень важное, с ним ничего не мог сделать даже не любивший его бывший главнокомандующий князь Меншиков, и чтобы с ним по-свойски – это надо быть как минимум императорских кровей. Даже приятельствующий с ним адмирал Нахимов в разговоре соблюдает этикет, а то ведь тоже немаленький человек…
– Ладно, Дарьюшка… – со вздохом ласково сказал я, – ничего-то ты мне вразумительного сказать не можешь. Пойду сам посмотрю, что за таинственных гостей привел к нам добрейший Виктор Илларионович.
Я вышел, запер свой кабинет и в сопровождении Даши направился по коридору ко входу – туда, где уже собрался едва ли не весь персонал нашего гошпиталя.
Первое, что я отметил – это то, что гости терпеливо дожидались меня, не делая попыток самостоятельно пройти внутрь здания. Вместе с Виктором Илларионовичем они стояли перед входом в гошпиталь, окруженные небольшой толпой. В основном это был наши сестры милосердия, помогающие им сердобольные вдовы и прочие служители; поодаль наблюдалось несколько любопытствующих выздоравливающих. Что ж поделать – зрелищ тут мало, а на этих посетителей поглядеть явно стоило… Их было всего четверо. Даша, как оказалось, совершенно точно охарактеризовала их как «ненашенских». Именно это слово и пришло мне на ум при первом взгляде на них. Их одежда, манера двигаться и разговаривать, их прически и выражение лиц – все говорило о том, что люди эти прибыли очень издалека… но при этом в них проглядывало и что-то «нашенское», чисто русское… Будто люди, которые очень долго жили за границей, а потом решили снова вернуться в Россию. Кроме того, все они разговаривали именно на русском языке, правда, на очень странном русском языке, коротком и рубленом, к тому же изобилующем непонятными мне словечками явно иностранного происхождения.
Кто из этих четверых главный, я понял сразу. Это был коротко стриженый мужчина с жестким волевым лицом, одетый в буро-зеленую явно военную форму неизвестного мне покроя. По важному виду и по тому, как он держал себя с князем Васильчиковым, его можно было принять за иностранного генерала, прибывшего в наш город по служебным делам, если бы не погоны обыкновенного русского штабс-капитана на его плечах. Ни в какой другой армии мира, насколько я знаю, подобные знаки различия не используются. И в то же время, когда этот «штабс-капитан» стоял рядом с князем Васильчиковым, нельзя было так сразу понять, кто из них двоих главнее.
Также мое внимание привлекла присутствующая в этой компании женщина – чрезвычайно самоуверенная и важная; даже сквозь толстые стекла очков было заметно, какой пронзительный у нее взгляд. Одежда ее была не менее странна. Белый халат с развевающимися полами, накинутый поверх буро-зеленой, как бы не форменной одежды – такой же, как на «штабс-капитане», который уж точно был военным до мозга костей. Странное дело – на каком-то интуитивном уровне я почувствовал что-то родственное с ней… Словно она была моей коллегой. Но это же абсурд: женщин-хирургов не бывает! Как, впрочем, не бывает и женщин, одетых в военную форму – если, конечно, эти дамы и девицы не принадлежат к императорской фамилии и не одеты в машкерадные мундиры подшефных им полков… Впрочем, что-то мне подсказывало, что очень скоро мои представления о том, что бывает и чего не бывает, будут сильно поколеблены.
На фоне этих двоих третий член их компании, молодой мужчина кавказской наружности, одетый так же как дама в очках, выглядел почти нормально. Дело портил только этот его странный белый халат. Но вот та особа, которая стояла рядом с ним… Она вызвала у меня желание остановиться и протереть глаза. Это была очень низенькая, можно сказать, субтильная девушка, также в больших очках, одетая в неизменный для этой компании белый халат и шапочку – причем все это на ней сидело так, словно она – ребенок, нарядившийся для маскарада. Она действительно напоминала девочку, которая очень хочет быть похожей на кого-то из старших: например, вон на ту даму, которая о чем-то негромко разговаривает с Виктором Илларионовичем… Но ведь не может же быть, чтобы этот очень серьезный человек привел в наш госпиталь ребенка… Да уж, чудно!
Все эти соображения промелькнули в моей голове за одно мгновение, а потом князь Васильчиков, прокашлявшись, обратился ко мне:
– Утро доброе, Николай Иваныч… Принимай, так сказать, делегацию… Вот это – господин Серегин, Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский, можно сказать, наш новый союзник… Это – госпожа Максимова, Галина Петровна… это – господин Аласания, Петр Михайлович… а это…
Когда очередь дошла до маленькой девушки-девочки в белом халате, князь Васильчиков немного замялся, и тут эта особа сама подсказала ему, что говорить.
– А это пресветлая госпожа Лилия, собственной персоной, – нежным голоском произнесла она, сделав книксен, – прошу вас любить меня и жаловать.
И тут Даша, вынырнув из-за моей спины, обомлела и тихо воскликнула:
– Да ведь это же она, Николай Иваныч… Та самая девочка-целительница! А…
В этот момент госпожа Лилия бросила на Дашу всего один пристальный взгляд из-под стекол очков – и та осеклась и покраснела.
– Вот так-то лучше, – без всякого шутовства негромко сказала девушка-девочка, подходя прямо ко мне, – не надо нам тут лишнего шума. И так мой приемный папочка вчера тут так пошумел, что французы с англичанами еще неделю икать будут. И не удивляйтесь, Николай Иванович, вчера это действительно была я. – Она мило, но как-то холодно улыбнулась мне и похлопала ресницами. – Помогла кому смогла – на быструю руку, без самого необходимого… – Тут она нахмурилась и тон ее слегка изменился. – Пришла в ужас от условий, Асклепий вас побери… И вот сегодня привела к вам Галину Петровну – разбираться, как вы дошли до жизни такой. Скажу вам как коллега коллеге: для нынешних времен у вас чуть ли не образцовое лечебное заведение, а вообще ужас-ужас-ужас. Пылища, грязища, микробы по палатам стадами ходят.
Только тут я подумал, что, первое мое впечатление, пожалуй, было обманчивым. Машкерадом тут является облик девушки-девочки, а вот то, что сидит у этой «девицы» внутри, пожалуй, будет постарше меня самого. И вообще – чтобы вести серьезный разговор, следует разогнать любопытных и остаться с гостями наедине.
– А ну-ка все разошлись по своим местам! – велел я подчиненным. – А то собрались как на базаре. А вы, больные, живо по палатам! Нечего тут любопытничать, и без вас справимся!
Как по мановению волшебной палочки, толпа вокруг нас рассосалась.
– И кто же вы такая на самом деле, пресветлая госпожа Лилия? – тихо спросил я у странной девушки-девочки, когда наши кумушки-медсестры и сердобольные вдовицы отошли за пределы слышимости. – Неужели вы ангел, ниспосланный нам, грешным, для вразумления и поучения?
– Я отнюдь не ангел, милейший Николай Иванович! – насмешливо хмыкнула та, блеснув стеклами огромных очков. – Я Лилия, дочь Афродиты, богиня первой юношеской любви и по совместительству – ваша коллега-доктор! Возня с телячьими отроческими чувствами для меня обязанность, а медицина – любимое дело, как говорят англичане, «хобби».
Все это было сказано с таким серьезным видом, что у меня не возникло никакого желания рассмеяться над шуткою про «богиню». А так я лишь слегка улыбнулся, весьма озадаченный тем, что они все, включая и Васильчикова, вели себя так, словно эта Лилия сказала совершенно очевидную вещь.
Тем временем Лилия вздохнула и продолжила:
– К сожалению, даже боги не могут делать всего что захотят, а вынуждены выполнять предписанное судьбой. И не смотрите вы на меня так, как Пан на новые ворота – лет мне так с тысячу или поболее; а все оттого, что родилась я тогда, когда дядюшка уже отправил наше семейство в изгнание, а потому у вас тут, в верхних мирах, почти не известна. И не обращайте внимания на мой внешний вид, просто моя должность на Олимпе требует, чтобы богиня подростковой любви выглядела как нечто среднее между девушкой и девочкой. И не берите в голову всякие глупости – зла, как бывший папенька, я не творю, разврат, как маменька, не проповедую, дядюшка, в отличие от всего прочего семейства, меня любит, так что воспринимайте меня такой, какая я есть…
Преодолевая растерянность, я все же счел своим долгом сказать этой маленькой «богине»:
– Должен признать, госпожа Лилия, что после вашего визита многим нашим раненым изрядно полегчало, а некоторые и вовсе будто вернулись с того света… Это очень похоже на чудо… И мои пациенты желают снова вас увидеть…
– Ну и чудненько! – звонко сказала «богиня», радостно похлопав в ладоши (ну снова чисто дитя, как будто только что не разговаривала со мной подобно взрослой умудренной даме). – Хотели – и вот я снова тут! Только теперь, уважаемый Николай Иваныч, мой визит вполне официальный, в составе компетентной комиссии, и мы не ограничимся наложением рук; мы, любезный доктор, осмотрим, с вашего позволения, этот госпиталь на предмет того, что тут можно улучшить, что изменить, а что и необходимо искоренить… Словом, показывайте нам, что тут у вас есть… А мы уж, не извольте беспокоиться, поможем вам навести тут идеальный порядок…
Сказать, что я был ошарашен столь дерзкой и совсем не характерной для ребенка речью – значит ничего не сказать. Это что же?! Эта, с позволения сказать, богиня подростковой любви будет отдавать распоряжения мне, заведующему военным госпиталем?! Да что она вообще понимает в медицине? Мало иметь особый талант и так называемую «легкую руку», к ним необходимо обладать систематическим медицинским образованием, в противном случае она не доктор, а лишь действующий по наитию знахарь…
В замешательстве, на мгновение утратив дар речи, я поднял глаза на господина Серегина, который, несомненно, являлся самым главным начальником.
– Да вы не обижайтесь, Николай Иванович, юношеский максимализм, который так и прет из нашей Лилии – это издержки ее видимого возраста! – добродушно сказал он, одновременно строго посмотрев на «богиню». – Простите, ради Бога. Она иногда путает свои ипостаси, но это не со зла. Что, однако, ее не оправдывает. Лилия! – обратился он к ней. – Немедленно извинись перед доктором Пироговым! То, что тебе было дано от рождения в виде особого таланта, доктор постигал упорной учебой, и не всегда его учили истинам, попадались в учебном материале и заблуждения. Но он в них не виновен. Важно то, что он своей деятельностью опроверг множество таких заблуждений и уже собственных учеников учил более правильным вещам, чем учили его. И если он чего-то еще не знает, то в этом его беда, а не вина, и мы эту беду должны исправить. Понятно?
– Простите меня великодушно, доктор… – Лилия с покаянным видом подошла ко мне и склонила голову. – Я была не права… Я не подумала, что могу вас обидеть… Пусть я и богиня, но я не совершенна. Совершенен только дядюшка, вы еще зовете его Всевышним и Творцом…
И в этот момент ее громадные очки соскочили с кончика носа, упали на пол и разбились вдребезги. Лилия подняла с пола пустую оправу, осмотрела со всех сторон и со вздохом снова нацепила на нос, а потом, присев на корточки, поводила рукой над разлетевшимися по полу осколками – и, что за диво? – кусочки стекла поднялись в воздух маленьким вихорьком и заполнили предназначенное для стекол место в оправе. Раздался легкий щелчок – и вот уже мельчайшие осколки будто срослись меж собой, снова образовав стекла очков! Что за фокус?! Или не фокус?!
– Да что же, черт побери, происходит? – пробормотал я. – Я отказываюсь что-либо понимать… Даша! Скажи – ты что-нибудь понимаешь? Что это было? Фокус, да?!
Верная Даша тут же очутилась около меня и, успокаивающе гладя по руке, сказала:
– Николай Иваныч, миленький, не волнуйтесь! Давайте сперва послушайте, что вам скажут эти господа…
Слово взял господин Серегин.
– Дорогой Николай Иванович! – негромко заговорил он. – Еще раз приношу извинения за доставленные вам неприятные минуты; это моя вина, мне следовало сразу пояснить, кто мы и откуда и с какой целью мы посетили ваш госпиталь. Должен сказать, что все мы, так же как и вы сами, русские люди, только происходим из другого мира, опережающего ваш на полторы сотни лет с гаком. Там у нас и вы, и эта война давно же стали историей, одной из болевых ее точек, которая до сих пор саднит в нашей душе. И вот когда Господь дал нам возможность вернуться и, пройдя с армией через века, исправить самые тяжкие ошибки, мы с радость согласились – и вот мы конно, людно и оружно, здесь, где коалиция европейских держав объявила войну России. Все, что касается войны, стратегии, политики и прочего, мы посредством участия Виктора Илларионовича уже передали на рассмотрение государю-императору, но при этом мы никак не можем не коснуться вещей в общем-то, не главных, но таких, от которых зависят жизни тысяч и миллионов людей…
– Ой, Господи! – вздохнула вцепившаяся в мой локоть Дарья, – страсти-то какие, Николай Иваныч!
А мне и верилось и не верилось. Вроде и похоже было, а вроде и брали меня сомнения. С другой стороны, разве не побили наши гости-союзники англичан и французов, да так, что те и привстать сейчас не могут? Побили, да еще как! Заходившие ко мне в гошпиталь знакомцы из числа офицеров рассказывали, как вверх по склону Сапун-горы уходили блистающие новеньким оружием полки, а обратно уже никто не возвращался. Все остались там, побитые небольшим вроде бы отрядом, укрепившимся на вершине горы. Но все же… сомнительно. Медицина – это вовсе не военное дело…
– Сергей Сергеевич, – сказал я, – мне пока непонятно, какую такую особую помощь вы нам собираетесь оказать, и в чем она может заключаться?
Но вместо Серегина заговорила госпожа Максимова. Мне, по правде говоря, было несколько неуютно общаться с ней. В наше время женщины занимаются только кухней, детьми и ходят в церковь, но, видимо, ТАМ им принадлежит как минимум полмира – настолько самоуверенным и авторитетным был весь ее вид.
– Как ваш коллега-врач, – безапелляционно заявила она мне, – могу вас заверить, что мы можем оказать очень существенную помощь в вашей работе. Должна сказать, что там, откуда мы родом, очень хорошо известно о ваших заслугах перед врачебной наукой. Вам удалось оставить о себе немеркнущую славу как о великом гении медицины, облагодетельствовавшем человечество многими полезными открытиями. И не только. Вы снискали репутацию честного и бескомпромиссного человека, пресекающего всяческий непорядок. Вы ничем ни разу не запятнали себя, Николай Иванович, и это вызывает к вам глубокое уважение. Но поскольку наша осведомленность в вопросе медицинской науки не идет ни в какое сравнение с вашей, позвольте помочь вам в вашем нелегком благородном труде – в деле спасения человеческих жизней…
Закончив эту фразу, госпожа Максимова непроизвольно закашлялась… Несмотря на излитые на мою голову дифирамбы, мне не понравилось то, каким тоном были сказаны все эти слова. Спасительница и благодетельница из двадцать первого века, если я правильно понял слова про сто пятьдесят лет с хвостиком, пришла учить нас, сирых и убогих, погрязших в дикости и невежестве девятнадцатого века… Да чем она лучше тех германских профессоров, которые, приезжая к нам, между делом поучают наших студентов об отсталости и общей дикости русского народа и в то же время не забывают считать свое немаленькое жалование, что они получают от той самой отсталой Российской Империи. Господин Серегин и та же Лилия показались мне гораздо честнее. Серегин борется с врагами России и старается сделать так, что бы их было как можно меньше, Лилия по-бабски жалеет раненых солдатиков и своими знахарско-колдовскими методами старается облегчить их положение… а вот госпожа Максимова, уверенная в своей исключительности – это вещь в себе, и, надо сказать пренеприятная вещь. Ведь когда я достиг определенного положения в науке, то думал, что больше никогда не услышу нудных нотаций в свой адрес, но сегодня во мне воскресли самые неприятные воспоминания студенческих времен…
И тут Лилия весело и озорно подмигнула мне левым глазом (и я догадался, что кашель у госпожи Максимовой не совсем естественного происхождения), а слово вместо своей временно недееспособной начальницы взял господин Аласания. Вот это был учтивый молодой человек.
– Уважаемый Николай Иванович, – сказал он, прижав ладонь к сердцу и отвесив в мою сторону легкий поклон, – я хоть и не ваш коллега-хирург, а обычный терапевт, но должен вам сказать, что в настоящий момент мир находится на пороге грандиозных открытий. Если в настоящее вам время никого особенно не волнует наличие микроорганизмов (в том числе патогенных и болезнетворных) в больницах и операционных, то уже через двадцать лет с этими незваными гостями медицинских учреждений будут беспощадно бороться. Помещения палат, операционных и даже коридоров, будут мыть хлорной и карболовой водой, перевязочные материалы и хирургические инструменты будут стерилизовать в автоклавах при высоких температурах и давлениях, а раны, места разрезов и кожу вокруг операционного поля будут обрабатывать спиртовыми растворами йода, бриллиантовой зелени, а также некоторых трав, которые замедляют размножение бактерий и при этом не опасны для человеческого организма. Думаю, что если мы посвятим вас в эти обыденные для нас и неизвестные для вас знания, то ваши пациенты от этого только выиграют.
– Хорошо, господа, – сказал я, – учиться новым знаниям никогда не вредно. Но позвольте узнать, каким образом вы все собираетесь организовать?
– Давайте сделаем так, – коротко сказал господин Серегин, сейчас мы обойдем ваш госпиталь и посмотрим, что необходимо сделать, чтобы условия в нем соответствовали хотя бы стандартам начала двадцатого века. Больше с первого раза сразу вряд ли получится. А пока у вас будут вестись все необходимые работы, мы предлагаем вам перевести раненых к нам, в так называемое Тридевятое Царство, расположенное в мире до начала времен. Разумеется, прежде чем вы примете такое решение, вам будет дана возможность осмотреть наш госпиталь и составить о нем свое мнение… Ну как, Николай Иванович? Вы согласны поводить нас по вашему госпиталю, показать операционные и решить, что необходимо сделать для того, чтобы улучшить сферу применения ваших величайших талантов?
После слов этого удивительного человека я совершенно успокоился и пришел в себя. У него, у этого Серегина, тоже был очевидный талант, заключавшийся в том, чтобы нравиться людям и убеждать их делать что-то что для их же пользы. Да и приглашение в их госпиталь в каком-то тридевятом Царстве не оставило меня равнодушным. Конечно же, мне было любопытно глянуть на то, как там у них поставлена медицина…
– Ну что ж, – сказал я, – собственно, помощь такого рода, как вы говорите, нам бы не помешала. Пойдемте за мной… Я вам все покажу.
И тут маленькая дерзкая богиня Лилия, о которой я уж и забыл, вдруг подала голос:
– Так вы меня прощаете, доктор?
Она сделала умильную мордашку и жалобно смотрела на меня. Даже думать не хотелось, что ей очень много лет и что она на самом деле не человек… точнее, не совсем человек. Ох ты ж Господи… Голова кругом, еще потом предстоит над всем этим поразмыслить… Впрочем, я больше не сердился на нее и сказал ей об этом, получив в ответ самую очаровательную улыбку и воздушный поцелуй.
Я вел «комиссию» по коридорам, попутно рассказывая об особенностях нашей работы. При этом я заметил, что госпожа Максимова как-то скептически кривит губы, разглядывая стены, потолки, заглядывая в палаты. Мне это не нравилось. Но я старался не придавать этому особого значения и поддерживал разговор с милейшим господином Серегиным, лицо которого все время хранило приветливое и заинтересованное выражение, не меняясь ни на секунду. А вот господин Аласания вел себя совсем не так, как его начальница. Он как будто прикидывал, где, чего и сколько надо сделать, чтобы улучшить нашу работу…
Наконец мы достигли моей операционной, которой я очень гордился. Здесь у меня все блестело и сверкало, так как я заставлял служителей, сердобольных вдов и сестер милосердия по несколько раз в день проводить там уборку. Здесь было чисто и светло, стоял операционный стол, а также шкафы с необходимыми инструментами.
Естественно, демонстрируя операционную, я даже не сомневался, что у гостей она не вызовет никаких нареканий. Каково же было мое изумление, когда госпожа Максимова, обведя своим острым взглядом стены, пол, потолок, а также все, что здесь находилось, произнесла: «Мдааа уж…» – с таким выражением, точно вместо отличной операционной она узрела грязную конюшню. Естественно, это ее «мда уж» задело меня до глубины души – и я, не выдержав столь уничижительного отношения, решил наконец высказаться:
– Мадам Максимова, простите, могу ли я узнать, что означает это ваше «мда уж»? – обратился я к ней, едва сдерживая негодование. – Если вам что-то не нравится, извольте сказать мне об этом прямо! Крайне неприятно, знаете ли, слышать это ваше «мда уж», выражающее пренебрежение ко всему тому, что мне удалось создать здесь ценой титанических усилий! Вы думаете, легко было привести это здание в порядок? Легко было сделать здесь ремонт и оборудовать всем необходимым? Мне порой приходилось стены лбом прошибать, чтобы здесь могло существовать полноценное лечебное учреждение! Я денно и нощно забочусь о том, чтобы в нормальных условиях спасти как можно больше человеческих жизней – и теперь вынужден слышать это ваше презрительное «мда уж»?! я не позволю – слышите! Не позволю вам дискредитировать мой госпиталь! Немедленно объясните, что вы имеете в виду этим «мда уж»!
Я был раздражен. Во мне кипело возмущение, и я даже не замечал, что надвигаюсь на эту женщину, которая испуганно пятится от меня. Совершенно точно, она не ожидала от меня ничего подобного… Наконец я замолчал – и вдруг увидел, что глаза у нее очень виноватые, но вместе с тем в них сквозит восхищение. Все присутствующие молчали – видимо, для них моя эмоциональная тирада тоже стала неожиданностью. Впрочем, Серегина, как мне показалось, в какой-то степени эта ситуация забавляла. И сейчас все взгляды были прикованы к мадам Максимовой, в ожидании того, каким образом она будет обороняться от моих нападок.
– Пп…простите, Николай Иванович… ради Бога… – пролепетала она; ее грудь вздымалась, она нервно поправляла дужку очков, при этом часто моргая. – Я совсем не хотела вас обидеть… поверьте… Я вас очень уважаю и восхищаюсь вами… Я лишь имела в виду, что тут, в операционной, далеко до стерильности… микробы, знаете ли…
– Что? – вскричал я. – Какие микробы? В моей операционной идеальная чистота – я, к вашему сведению, врач, а не мясник! Что вы себе позволяете… это возмутительно…
И тут я обратил внимание, что все они смотрят на меня как-то странно. Я остановил взгляд на господине Серегине.
– Видите ли, Николай Иванович… – прокашлявшись, сказал он, – дело в том, что госпожа Максимова у нас инициированный Маг Жизни. Не очень сильный, и талант ее заключается больше в диагностике, чем в лечении, но она видит причины болезней. То, что для вас представляется идеальной чистотой, для нее выглядит как непролазная грязь, полная врагов человеческого здоровья. Должен вам повторить, что там, откуда мы прибыли и куда, собственно, стремимся вернуться, наука ушла очень далеко вперед. Было сделано множество открытий, и, в частности были обнаружены мельчайшие организмы, не видимые глазу, но при этом весьма опасные, особенно для тех, кто имеет ранения. Эти микроорганизмы попадают в рану и, размножаясь в ней, вызывают воспаление и далее нагноение, что в большинстве случаев приводит к печальному итогу и сводит на нет всю успешность проведенной операции. Вам это очень хорошо знакомо, не правда ли? Словом, выживаемость в таких условиях, когда в операционной не может быть достигнута стерильность – это лотерея: кто-то выживет, кто-то умрет от заражения. И это не ваша вина. Я признаю, что вы делаете все возможное и даже больше для того, чтобы спасти наибольшее количество людей. Но если при этом создать стерильность – выживаемость оперируемых повысится в разы! Причем добиться этого совсем не сложно, уверяю вас. Поэтому вы, дорогой Николай Иванович, неправильно истолковали слова нашей замечательной Галины Петровны. Говоря «мда уж», она совершенно не осуждала вас! Просто, глядя, так сказать, со своей колокольни, она замечала то, чему вы не придаете значения. Только и всего. Она совершенно не хотела вас обидеть…
– Я, правда, не хотела, Николай Иванович! – воскликнула госпожа Максимова. – Я вас уважаю и даже обожаю! Вы – величайший гений своего времени, и мне очень досадно, что у меня получилось так нелепо вас обидеть. Простите меня!
И тут уже мне стало неловко.
– Я прощаю, Галина Петровна… – сказал я. – Я был слишком вспыльчив – простите и вы меня.
Обстановка разрядилась. После этого я стал общаться с визитерами гораздо более непринужденно. Все их пожелания относительно госпиталя я принял к сведению и решил, что заняться этими «усовершенствованиями» следует как можно скорее. Князь Васильчиков пообещал, что непременно поможет со всеми необходимыми материалами. А пока будут проходить мероприятия по очистке и стерилизации помещений гошпиталя, раненых, как предлагал господин Серегин, следует перевести к ним в Тридевятое царство. Ибо наука будущего неумолима. Я понял так, что после того состояния, до которого мы дошли в дни осады, обычной очистки и стерилизации будет недостаточно. Еще где-то месяц помещения гошпиталя должны будут стоять пустыми, чтобы так называемый микробный фон на прилегающих территориях упал до обычных величин. Но прежде чем хоть один мой пациент отправится неведомо куда, я сам побываю в этом самом Тридевятом Царстве и посмотрю на все своими глазами. Уж очень мне интересно, бывает ли на самом деле Магия Жизни и что она из себя представляет.
Тогда же и там же. Даша Севастопольская
Ох, ну и денек был! Я даже устала удивляться. А каково было Николаю Иванычу… Ему пришлось изрядно перенервничать. Но, слава Богу, день этот завершился, и завершился вполне благополучно. Многое прояснилось, многое встало на свои места. А главное, к нам пришла убежденность, что отныне на страже интересов Российской Империи стоит могучая сила, которая является порождением другого мира и по воле Всевышнего пришла к нам на помощь в трудный час. Так, значит, те, кто посетил нас сегодня, тоже происходят из России – но из другой России, шагнувшей на полторы сотни лет вперед… Чудны дела твои, Господи! Воистину не оставляешь ты милостью Своей державу нашу…
Я долго не могла заснуть, прокручивая в голове этот день. Помимо всего остального, у меня была и еще одна причина для размышлений… Сегодня, когда все увлеклись обсуждением планов по усовершенствованию работы гошпиталя, ко мне вдруг подошла Лилия. По правде говоря, я ее стала чуток побаиваться после того как выяснилось, что она никакая не девочка, а самая что ни на есть богиня. Я, в отличие от доктора, сразу в это поверила. Мне батя когда-то сказывал про богов про эллинских, вот и Лилия, выходит, как раз из них… Ну, то есть я, конечно, понимаю, что есть Всевышний, и он главный; но почему не может быть таких созданий, которые не такие могущественные как он, но все ж бессмертные и могут творить разные чудеса… Если бы не моя личная встреча с Лилией, я бы сочла такие мысли богохульными и долго бы молилась, чтобы Господь простил меня. Ну а так, пожалуй, никакого греха в моих рассуждениях не было; а тем более те, с которыми Лилия пришла сегодня, заявили, что они тут, в нашем мире, оказались по Божьей воле…
Ну так вот. Лилия подошла ко мне незаметно и тронула за руку, я аж вздрогнула.
– Идем-ка отойдем, поговорить надо… – прошептала она.
Я не решилась отказать ей, да и интересно мне стало. И вот мы вышли в коридор, и тут она мне тихо так, глядя в глаза, говорит:
– Дашка! Слышь, что скажу. Да внимательно слушай-то… это важно.
– Да, я очень внимательно слушаю… – пролепетала я, склоняясь к ней поближе.
– Значит так, подруга… – тихо заговорила она, и в голосе ее было нечто такое, что я поняла: это и вправду очень важно. – Скоро к тебе начнет подкатывать некий молодчик. Хорош он собою да пригож вполне – но ты не вздумай поддаться, если не хочешь остаться несчастной! Ты поняла меня?
– Да, я поняла… А почему…
– Я объясню почему, – сказала Лилия, продолжая смотреть на меня этим своим невозможным взглядом исподлобья, – несмотря на смазливую мордашку, человек этот страдает алкогольной зависимостью. Пьяница он, понимаешь? Свой порок он, правда, искусно скрывает. Но дело даже не в этом. А в том, что вовсе не любовь будет руководить им, когда он сделает тебе предложение руки и сердца. Он позарится на твои деньги – на ту тысячу, которую обещал тебе император в случае замужества. Да нет, – усмехнулась девочка-богиня, – конечно, твои сиськи ему тоже нравятся, но, поверь, это совсем не тот человек, который будет тебе надежной опорой. Наоборот, это он будет искать в тебе поддержку – и ты, добрая душа, не откажешь в этом своему супругу… Но скажи мне – разве ты не достойна настоящей мужской любви, заботы и трепетной нежности? Разве ты, такая молодая и красивая, обладающая всеми добродетелями, заслуживаешь того, чтобы тобой понукал пьяница? Ни детей ты с ним не родишь, ни дома не построишь, а тысячу свою быстро профукаешь… Нет, не заслуживаешь ты такой доли; никто из женщин этого не заслуживает. Просто есть дуры, а есть те, кого вовремя предупредили… Ясно тебе?
– Ясно… – кивнула я, совершенно ошарашенная услышанным; впрочем, поверила я ей безоговорочно.
– Хорошо… – произнесла она. – Так, значит, ты поняла, что тебе нужно сделать, когда ты увидишь перед собой русый чуб и шальные голубые глаза?
– Да… поняла… – робко кивнула я, – я буду держаться от него подальше…
– Молодец! – сказала Лилия. – А я тебе в свою очередь могу пообещать, что устрою твою судьбу наилучшим образом. Ты хоть и вышла из нужного возраста, но наивна еще, будто дитя. А потому, так уж и быть, найду я тебе мужа – надежного как скала, который польстится не на твои большие сиськи, а на твою большую душу…
И она озорно подмигнула мне.
– Правда? И как ты это сделаешь? – недоверчиво спросила я.
– Секрет! – тихонько рассмеялась она. – Богиня я или нет?
И тут мне захотелось ее обнять. Она, наверное, прочла это желание в моих глазах – и обняла меня первая. И в этот момент ко мне пришла твердая и окончательная уверенность, что я непременно буду счастлива…
10 апреля (28 марта) 1855 год Р.Х., день второй, вечер. окрестности Севастополя, штаб французской армии в Крыму.
Присутствуют:
Командующий французской армией в Крыму – дивизионный генерал Франсуа Канробер;
Представитель императора Наполеона III – дивизионный генерал Адольф Ниель;
Начальник инженерных частей в Крыму – бригадный генерал Мишель Бизо;
Командующий левым флангом (I корпус) – дивизионный генерал Жан-Жак Пелисье;
Командующий правым флангом (II корпус) – дивизионный генерал Патрис де Мак-Магон.
Командующий французской экспедиционной армией был мрачен, как будто только что его приговорили к смертной казни через гильотинирование.
– Итак, месье генералы, – открыл совещание Франсуа Канробер, – должен вам сказать, что пришел ответ из Парижа на мою вчерашнюю телеграмму. Император не поддержал предложенную мною выжидательную тактику. Ему нужна победа и только победа, триумф от захвата Севастополя закроет все наши неудачи. И в то же время он совершенно не желает, чтобы мы влипли здесь в какое-нибудь невыполнимое дело и погибли вместе с армией. Риск неудачи должен быть полностью исключен. Требования, противоречащие друг другу, ибо риск на войне неизбежен, а в наших условиях особенно…
Немного помолчав, командующий армией добавил, обращаясь к Адольфу Ниелю:
– Месье Ниель, вы тут у нас как бы представитель Императора… но Его Величество сейчас в Париже, в Тюильри, где все хорошо и цветут каштаны, а вы вместе с нами здесь, под Севастополем. И, в отличие от Императора, вы прекрасно знаете, что в ответ на каждый выстрел нашей пушки по Севастополю с вершины Сапун-горы прилетает с десяток вражеских бомб, которые разносят вдребезги всю батарею. Заметьте, только в ответ. Тот, кто засел на вершине этой горы, явно не горит желанием убивать всех французов до последнего, он всего лишь принуждает нас к миру с русскими…
– Месье Канробер… – Генерал Ниель нервно прошелся туда-сюда по шатру, – а почему вы решили, что на вершине горы засели не русские, а кто-то еще? Мне кажется, не стоит множить сущности и считать, что у нас два разных противника, в то время когда он только один…
– Месье Ниель, – вздохнул командующий армией, – если бы там находились русские, то они посыпали бы нас своими бомбами до исчерпания возимого боезапаса, а потом попытались бы прорваться обратно в Севастополь. Наши артиллеристы уже несколько раз воспринимали молчание батарей на горе как признак исчерпания запаса снарядов, но всякий раз попытки возобновления бомбардировки Севастополя приводили только к уничтожающим все огневым налетам. Примерно так же в средние века вели себя командиры наемных армий, которые совершали только те действия, на которые подписали контракт, и ничего более.
– Наемники, говорите… – хмыкнул генерал Ниель, – вы себе представляете, месье Канробер, в какую кругленькую сумму должно было обойтись формирование и экипировка такого отряда, численностью не меньше, чем несколько тысяч пехотинцев, и около сотни артиллерийских орудий?
– Орудий такой дальнобойности и бомб такой мощности, – зло бросил генерал Пелисье, – между прочим, нет больше ни в одной армии мира! Мы не в состоянии бороться с этой напастью, поскольку для того, чтобы обстреливать цели на вершине горы, наши пушки потребуется подтянуть к вражеским батареям примерно на километр или даже ближе. Пока мы будем пытаться решить эту задачу, наших артиллеристов будут расстреливать как на полигоне. Да и потом. Наша артиллерия с легкостью разрушает возвышающиеся над землей укрепления русских: бастионы, куртины, редуты и люнеты; но как, простите, прикажете справляться с противником, который полностью зарылся в траншеи, выставив на поверхность только стволы орудий и винтовок? Вот еще одно доказательство, что на вершине горы сидят не русская армия, а кто-то другой. Совсем другая тактика ведения боевых действий, другая военная форма и другое оружие. При отражении вчерашних атак британской пехоты в подзорную трубу достоверно было видно, что обороняющиеся заряжают свои винтовки с казенной части, чем и добиваются невиданной скорострельности.
– Винтовки Дрейзе, – тяжело вздохнул генерал Ниель. – Проклятые пруссаки, только у них есть на вооружении такая дрянь. Эти казнозарядные винтовки ненадежные, капризные, требующие тщательного ухода, их спусковые механизмы игольчатого типа часто ломаются, но при этом их скорострельность примерно в два раза выше нашего штуцера Тувинена. И пушки тоже наверняка прусские – какое-нибудь новшество, придуманное на нашу голову месье Круппом и отправленное в Россию для войсковых испытаний.
– В таком случае, – веско сказал генерал Пелисье, – проще предположить, что пруссаки послали на эту войну не только оружие, но и своих солдат, или как минимум офицеров. Им не привыкать наемничать, кроме того, и прежде они посылали своих офицеров для стажировки в составе русской кавказской армии. К тому же таким офицерам очень легко маскироваться. Кто отличит немца из Пруссии, служащего в русской армии по найму, от почти такого же немца из Прибалтики, который является подданным русского царя? Тем и объясняется другая тактика: что именно таким образом собираются воевать пруссаки в новых условиях, когда артиллерия становится способной разрушать любые надземные укрепления, а скорострельные винтовки косят атакующих, не позволяя им сойтись врукопашную.
Немного помолчав, Пелисье посмотрел на генерала Ниеля и добавил:
– Адольф, я сказал все это для того, чтобы развить вашу мысль о русском происхождении людей, занявших вершину Сапун-горы. Но на самом деле это не имеет отношения к реальности. Пруссаки они, русские или кто-нибудь еще – эти люди не приходили на вершину этой горы так, как это делают обычные смертные. Дело в том, что как только стало понятно, что гору занял неприятель, мы послали отряды с целью блокировать врагу все возможные пути подвоза пороха и продовольствия. Так вот: наши солдаты, обследуя склоны горы, так и не сумели найти там ни одного места, где наверх могли бы подняться несколько тысяч солдат и до сотни пушек со своими упряжками. На том месте непременно должна была остаться настоящая дорога с колеями, разбитыми колесами орудий… но мы не обнаружили ровным счетом ничего. Эти солдаты, кто бы они ни были, просто появились ниоткуда на вершине Сапун-горы вместе со своими пушками… или перелетели по воздуху. – Он обвел присутствующих хмурым взглядом. – Да-да, именно так, как бы абсурдно это ни звучало. И в связи с этим я думаю, что нашему императору Наполеону тоже следует поберечься… Ведь в следующий раз несколько тысяч грубых незнакомцев могут появиться не здесь, на окраине цивилизованного мира, а где-нибудь в саду Тюильри, в ста шагах от места пребывания императора и императрицы…
На несколько мгновений повисла напряженная тишина.
– Так вы считаете, – наконец сказал генерал Мак-Магон, – что наши мероприятия по блокированию вершины горы можно считать бесполезными?
– Да, Патрис, – веско ответил генерал Пелисье, – я так считаю. Ни к чему, кроме распыления резервов, эта тактика не приводит, а припасы и все необходимое на вершину горы неизвестный нам противник доставляет все тем же путем, каким туда уже попали войска и пушки. Они могут сидеть там вечно, полностью сорвав нам кампанию в Крыму, а могут уже завтра убрать оттуда своих головорезов; но это решать не нам. Все зависит от их взаимоотношений с русскими, а точнее, от того, какие условия неизвестный нам хозяин этой частной армии выставил молодому русскому императору: только финансовые или же еще и политические…
– Дорогой Жан-Жак, – проворчал генерал Канробер, – так вы все-таки настаиваете на версии о наемниках?
– Я, черт возьми, дорогой Франсуа, ни на чем не настаиваю, – проворчал в ответ генерал Пелисье, – это лишь одна из версий, которая может иметь отношение к реальности, а может и не иметь. Мы не знаем о нашем новом противнике ничего, кроме того, что он способен наказать нас жестокой бомбардировкой в случае нарушения нами необъявленного перемирия, на котором он настаивает таким оригинальным образом. Еще нам известно, что на свои позиции на Сапун-горе эти войска не пришли по суше и не приплыли по морю. Они там просто ПОЯВИЛИСЬ – каким-то образом, который лежит за пределами наших представлений о возможном и невозможном. Мы даже не знаем, все чудеса нам были явлены или же самые крупные козыри пока остаются в колоде у неведомого игрока.
После этих слов в шатре вновь воцарилась тягостная тишина. Французские генералы просто не понимали, как можно бороться с противником, который абсолютно непредсказуем и превосходит господ коалиционеров на две головы с технической точки зрения. Им неизвестны ни национальная принадлежность армии, занявшей Сапун-гору, ни поставленные перед ней задачи, ни даже ее пределы возможного в совершении военных операций.
– В первую очередь, – проскрипел генерал Ниель, – необходимо укрепить тыловые позиции нашего лагеря, ведь мы совершенно открыты в сторону склонов Сапун-горы. Мишель (генерал Бизо), отложите в сторону все остальные дела и немедленно займитесь этой задачей.
– Укрепить лагерь с тыла, конечно же, надо, – сказал генерал Пелисье, – но только в том случае, если это вообще имеет смысл. Если наш новый враг способен внезапно появляться в любой точке местности, то наши укрепления для него ничего не значат. Ибо если он захочет атаковать, то всегда сумеет напасть на нас изнутри.
Генерал Ниель замысловато выругался.
– Вы намекаете, – сказал он, – что наш неизвестный враг еще и знается с нечистой силой?
Генерал Пелисье пожал плечами.
– Сказать честно, – сказал он, – я не верю в нечистую силу. Совсем. Этот господин истреблял наших солдат бомбами и пулями, а не заклинаниями и легионами демонов. Мы тут с вами не сражаемся за веру, как некогда рыцари-крестоносцы, не сражаемся за милую Францию с ордами захватчиков, а занимаемся политикой в интересах нашего императора Наполеона Третьего, а это, черт побери, довольно грязное дело. Ну почему тысячи французских солдат должны гибнуть в войне, которая не принесет Франции никакой добычи, только потому, что прошлый русский император, сейчас уже покойный, назвал нашего Наполеона дорогим другом, а не дорогим братом? Это я к тому, что ровно с тем же успехом наш неожиданный противник может быть связан не с Князем Тьмы, а с Творцом всего сущего, или вообще с каким-нибудь безумным изобретателем, который придумал, как перемещаться по земле, не оставляя следов…
– Ну, это просто, – хмыкнул генерал Мак-Магон, – достаточно двигать войска не одной колонной, а широким фронтом вразбивку и так же, по одной, везти пушки. Трава сейчас молодая – поднимется быстро…
– Дорогой Патрис, – с надеждой спросил генерал Канробер, – вы точно уверены в том, что сказали? Ведь если мы на основании ваших слов предпримем ошибочные действия, то результат может быть воистину ужасным.
Мак-Магон подумал и тряхнул головой.
– Нет, дорогой Франсуа, – сказал он, – на сто процентов не уверен. Считай, что это моя догадка, а не утверждение. Ведь мы знаем чрезвычайно мало…
– Но достаточно, – продолжил генерал Канробер, – для того, чтобы понимать, что до тех пор, пока мы не стреляем по Севастополю, в нас с вершины Сапун-горы тоже не летят те чудовищные бомбы. Также мы знаем, что если бы наш новый враг захотел нашей гибели, то непременно бы этого добился. Для этого достаточно вести обстрел не в течение получаса, а как минимум один световой день, от рассвета до заката.
– Мы погибнем, – сказал генерал Пелисье, – если артиллерия с Сапун-горы сумеет дотянуться до Камышовой бухты – так же как она уже дотянулась до Балаклавы. Сейчас англичане потеряли все свои корабли, припасы и тыловые учреждения и стали чрезвычайно зависеть от нашей благосклонности. В случае если погибнет и наш флот, всей кампании будет грозить катастрофа и вместо унижения России получится нечто противоположное: унизятся те, кто составил против нее коалицию, а Россия в очередной раз возвысится, как это было во времена похода императора Наполеона Первого на Москву…
– Чтобы этого не случилось, – сказал генерал Канробер, – мы должны действовать с чрезвычайной осмотрительностью. Во-первых – нам нужно знать, что обо всем этом говорят внутри Севастополя. Во-вторых – мы должны вступить в переговоры с теми, кто занял Сапун-гору, и выяснить, каковы их официальные планы по нашему поводу и нельзя ли с ними договориться в прямо противоположном направлении. Наш император так же не беден. Я бы предпочел ради победы тратить золото, чем жизни французских солдат. Пока же будут идти эти переговоры, наши разведчики должны облазить на этой горушке каждую щелочку и установить самые уязвимые места нашего противника. А окончательное решение мы примем потом, когда станет ясно, есть ли у нас шанс победить врага одним стремительным натиском.